Паскаль Пьер Протопоп Аввакум и начало Раскола
© С. С. Толстой (наследники), 2011
© Е. М. Юхименко, вступит, ст., 2011
© Знак, 2011
* * *
«Прекрасная книга французского ученого»
Так охарактеризовал работу Пьера Паскаля «Протопоп Аввакум и начало раскола: Религиозный кризис XVII века в России» представитель первой волны русской эмиграции, крупный славист, занимавшийся сходной проблематикой, С. А. Зеньковский[1]. Написанное на обширном документальном материале, в том числе архивном, содержащее глубокое осмысление духовного состояния русского общества и причин раскола в русской церкви, фундаментальное исследование П. Паскаля, опубликованное в Париже в 1938 г.[2], составило эпоху в изучении религиозных проблем XVII в. и раннего старообрядчества. Этот труд хорошо известен специалистам, вошел он и в отечественную историографию (см. работы В. И. Малышева, А. Н. Робинсона, Н. С. Демковой, Н. В. Понырко, Н. Ю. Бубнова, А. Т. Шашкова). И все же из-за практической недоступности иностранных изданий и отсутствия перевода на русский язык книга П. Паскаля не заняла в отечественной науке достойного ее места. Более того, пронизанная единой концепцией, отличающаяся глубоким сочувствием к участникам исторической драмы, написанная хорошим языком, работа французского ученого по своему общественному звучанию выходит за рамки исключительно научного обихода и, без сомнения, представляет большой интерес – даже спустя более полувека с момента выхода – для всех интересующихся российской историей, религиозным конфликтом середины XVII в. и его трагическими последствиями, дающими о себе знать даже сегодня.
Обращение Пьера Паскаля к теме протопопа Аввакума стало переломным моментом в удивительной, полной приключений биографии выдающегося слависта[3].
Пьер Паскаль родился 22 июля 1890 г. в семье, буржуазность которой, по его же собственным словам, не нравилась ему уже в детстве. К этим же юным годам восходит и любовь будущего ученого к русскому языку (интерес мальчика был столь очевиден, что его отец, учитель латинского языка Шарль Паскаль, нанял мальчику частного учителя). Вместе с русскими газетами Пьеру попалась в руки листовка: влияние революционных идей предопределило его жизнь на несколько десятилетий. В 1910 г. Паскаль, тогда студент Эколь Нормаль, впервые приехал в Россию. Эту поездку он предпринял по совету специалиста по П. А. Чаадаеву аббата Шарля Кене, который был учеником аббата Порталя, основавшего в Париже центр по изучению России и перспектив соединения церквей (христианский социализм аббата Порталя сыграл значительную роль в формировании личности Паскаля: истинный католик, он серьезно увлекся идеей соединения церквей). Во время своей второй поездки в 1911 г. Паскаль работал в Публичной библиотеке в Петербурге над дипломной работой «Жозеф де Местр и Россия» вместе со своими учеными соотечественниками Андре Мазоном, писавшим диссертацию о Гончарове, и Андре Лиронделем, занимавшимся творчеством А. К. Толстого. Тогда же П. Паскаль познакомился с Н. И. Кареевым и А. А. Шахматовым и стал членом Французского института в Петербурге. По возвращении во Францию и сдаче конкурсных экзаменов по филологии, открывавших доступ к государственной службе, и выпускного экзамена в Школе восточных языков, Паскаль вынужден был отбывать воинскую повинность, с началом войны он попал на фронт. После ранений его прикомандировали к Генеральному штабу в качестве переводчика. В апреле 1916 г. послали в Петербург во французскую военную миссию. Эта поездка затянулась на 17 лет.
П. Паскаль. Москва. 1917 г. Личный архив Micheline и Roch Pascal
Паскаль предчувствовал революционный взрыв. Он вел активную переписку со своими единомышленниками по соединению церквей, разделял их намерение (идея аббата Порталя была поддержана даже премьер-министром Франции Ж. Клемансо) послать в Петербург с этими целями делегацию, в состав которой должен был войти и Паскаль. Неудачей этих планов объясняются отказ Паскаля вернуться во Францию в октябре 1918 г., его сближение с большевиками и участие в создании группы французских и английских коммунистов в Москве (сентябрь 1918 г.). «Русский дневник», который вел на протяжении десяти лет француз, решившийся остаться в стране, способной, по его тогдашним воззрениям, воплотить идеал человечества, поражает своей искренностью и дает возможность проследить все перипетии идейных взглядов и духовной жизни автора[4]. В Церкви Паскаль видит ту общую почву, на которой, по его мнению, можно примирить два противоборствующих мира – старый и новый. В сентябре 1918 г. Паскаль ежедневно бывает у обедни во французском костеле св. Людовика на Малой Лубянке, следит за ходом Поместного собора Русской Православной Церкви, посещает философско-религиозные собрания, где знакомится с Андреем Белым, и с грустью записывает в своем дневнике: «Я последователь социалистического учения, оно прекрасно и истинно, пока не отрицает христианства; я христианин, не отрицающий социализма. Зря социализм так пылок в отрицании, ведь он и сам еще не вполне знает, что он такое»[5].
Паскаль был полностью погружен в бурный водоворот российской революционной жизни. Он восхищался Лениным, приветствовал ограничение гражданских свобод. Посещая тюрьмы и лагеря, включая Соловки, не видел очевидного. Любовь к России стала причиной того ослепления, которое на несколько лет охватило Паскаля. Издатель его дневников Жорж Нива отмечал: «Он жил в стране, которую любил… (…) В его дневнике встречаются молитвенные обращения: “О русский народ, ты ищешь блага, а тебя обманывают везде и всегда”. (…) Читая “Русский дневник”, отдаешь себе отчет в том, что в России и в коммунизме Паскаль обрел “большую семью”. Его восторг безграничен»[6].
Паскаль принимал активное участие в воплощении революционных идеалов. Работал в Народном комиссариате иностранных дел секретарем наркома Г. В. Чичерина, присутствовал при основании Третьего Интернационала, вел ежедневные радиопередачи на французском языке; активно пропагандировал советское государство в московской и левой французской печати. В 1921 г. Паскаль женился на Евгении Александровне Русаковой, дочери русского социалиста-эмигранта, который жил в Марселе и был выслан из Франции в 1918 г.; она служила секретарем-машинисткой в Коминтерне. В 1922 г. Паскаль в качестве переводчика участвовал в работе советской делегации на международных конференциях в Генуе, Гааге и Лозанне.
Однако с этого времени Паскаля начинают одолевать все более нарастающие сомнения относительно своих идеалов, постепенно он отходит от активной агитационно-пропагандистской работы, возобновляет свои поездки по России, а в 1925 г. покидает Коминтерн и поступает на должность научного сотрудника в Институт Маркса – Энгельса, которым руководил бывший меньшевик Д. Б. Рязанов. Как замечает Ж. Нива, «в этой тихой пристани для бывших энтузиастов Паскаль работает во Французском кабинете, разбирая архив Гракха Бабефа»[7].
П. Паскаль. Москва. 1929 г. Личный архив Micheline и Roch Pascal
Именно здесь в его руки попадает издание Жития протопопа Аввакума[8]. О своем незабываемом впечатлении от личности автора, живых, ярких картин русской жизни и языка этого памятника Пьер Паскаль позднее напишет в предисловии к своей монографии.
Интерес к религиозным катаклизмам русского XVII века для человека, стремившегося понять Россию, ее историю и современность, вполне объясним, однако эта тема привлекла Пьера Паскаля не только и не столько как предмет идеологической ретроспекции или конфессионального осмысления, но как объект научного исследования. Протопоп Аввакум вернул Паскаля на оставленное им ученое поприще. Получивший хорошее университетское образование, но отброшенный войной от начала традиционной преподавательской карьеры (русская кафедра, созданная для него в университете Лиона, пустовала)[9], Паскаль со свойственной ему увлеченностью целиком отдался изучению захватившей его темы. Исследовательскую работу Паскаля отличал подлинный профессионализм: основательное штудирование литературы вопроса он соединил с работой в архивах, с выявлением и изучением документальных и повествовательных источников. Им были обследованы фонды современного Российского государственного архива древних актов, Отдела рукописей Государственного Исторического музея, ряд провинциальных хранилищ.
Анкета Центрального архивного управления РСФСР, заполненная П. Паскалем. Москва. 29 октября 1930 г. РГАДА
Заявление П. Паскаля заведующему Древлехранилищем о продлении срока разрешения на занятия в читальном зале. Москва. 30 октября 1931 г. РГАДА
Пропуск П. Паскаля для посещения читального зала Древлехранилища. Москва. 5 декабря 1930 г. РГАДА
Лист записи выдачи П. Паскалю архивных материалов. Москва. 26 апреля – 19 июня 1931 г. РГАДА
В архиве РГАДА сохранилось начатое 7 декабря 1930 г. «Дело о занятиях Паскаля Петра Карловича в читальном зале Древлехранилища»[10]. Оно включает 6 документов 1930–1931 гг. 29 октября 1930 г. П. Паскаль собственноручно заполнил машинописную «Анкету для лиц, подающих заявления о разрешении занятий над архивными материалами»[11]. Здесь он указал: партийная принадлежность – беспартийный, место службы и должность – Институт Маркса и Энгельса, научный сотрудник; ранее в архиве не занимался, научных трудов нет, тема занятий – «Экономико-социальное положение Верхнего Поволжья в XVII в.», по материалам писцовых книг, цель работы – докторская диссертация в Парижском Университете, адрес – Леонтьевский пер., д. 16, кв. 25. В деле имеется пропуск[12], выданный Паскалю 5 декабря 1930 г. для входа в читальный зал сроком на два месяца (в дальнейшем ученому приходилось неоднократно писать заявления на продление срока)[13]. Кроме того, в дело подшиты два важных для нас документа – «Листы записи выдачи занимающемуся материалов» с перечнем шифров дел, расписками П. Паскаля в получении и пометами о возврате. Первый лист[14] включает 27 записей с 7 декабря 1930 по 26 апреля 1931 г. о выдаче исследователю 40 дел из фондов Сибирского приказа, Поместного приказа (переписные и писцовые книги), Московского и Белгородского столов, «Портфелей Миллера», Приказа тайных дел. Второй лист[15] вели с 26 апреля по 19 июня 1931 г.; в нем 20 записей о выдаче 27 дел в основном из архива Сибирского приказа, а также из Госархива и Приказных дел старых лет. По всей видимости, листы записи выдачи материалов сохранились в деле не полностью, поскольку, судя по одному из заявлений П. Паскаля, в архиве он работал по крайней мере до конца 1931 г. Таким образом, благодаря сохранившейся служебной документации мы можем убедиться, какой большой объем архивных материалов был выявлен и изучен П. Паскалем всего лишь за полгода работы.
Стремясь лучше постичь предмет своих научных штудий, Пьер Паскаль совершил несколько путешествий по местам, связанным с историей и деятелями старообрядчества, побывал в Переславле-Залесском, Ростове, Романове, Ярославле, Костроме, Юрьевце-Повольском и, конечно, Нижнем Новгороде. В Москве часто посещал Рогожское кладбище и даже близко познакомился с сыном священника.
В 1933 г. Паскалю с женой удалось выехать во Францию. Кроме воспоминаний о бурно прожитых в России годах он увез из Москвы большой научный архив и библиотеку. Через несколько лет Паскаль был допущен к государственной службе, в 1936 г. получил назначение в Лилль, в 1937 – в Школу восточных языков в Париже. В 1938 г. было опубликовано его исследование «Аввакум и начало раскола: Религиозный кризис XVII века в России», за которое автор был удостоен степени доктора славяноведения «с наивысшим отличием».
Свою любовь к России и русской культуре Пьер Паскаль пронес через всю жизнь. Во Франции он тесно общался с кругами русской эмиграции. Возобновил свое давнее близкое знакомство с Н. А. Бердяевым. В доме Паскалей в Нейи, пригороде Парижа, бывали А. М. Ремизов и Б. К. Зайцев. Ученого справедливо считают олицетворением французского «славянофильства» XX в.[16]
П. Паскаль. Франция. 1950-е гг. Личный архив Micheline и Roch Pascal
П. Паскаль читает газету «Русская мысль» в своем кабинете в квартире Neuilly, 6 на rue du General Cordonnier. Париж. 1970-е гг. Личный архив Micheline и Roch Pascal
С 1950 г. до выхода на пенсию в 1960 г. Паскаль возглавлял в Сорбонне кафедру русского языка и литературы. Ему принадлежит заслуга создания во Франции целой школы славистов, точнее «русистов»; среди его многочисленных учеников были Н. П. Полторацкий, Жорж Нива, Никита Струве. Научные труды Пьера Паскаля общеизвестны и общепризнанны. Основная часть его работ посвящена истории религии в России и во Франции XVII века. Выдержал девять переизданий его краткий курс истории России (1946). Обширна переводческая деятельность: тонкий знаток двух языков, ученый перевел на французский Житие и Пятую челобитную протопопа Аввакума, «Девгениево деяние», древнерусскую версию «Иудейской войны» Иосифа Флавия, «Хождение Богородицы по мукам», сочинения Достоевского, Толстого, Короленко, Ремизова.
Пьер Паскаль умер 1 июля 1983 г. В его лице, как отметил В. Водов, «французская славистика потеряла последнего знатока России в целом, ее языка, литературы, истории, быта в самом широком значении этого слова, на протяжении ее тысячелетнего существования»[17].
* * *
Исследование о протопопе Аввакуме и русском расколе середины XVII в. – одно из лучших в научном наследии Пьера Паскаля. Первое издание книги вышло в 1938 г.[18] Второе, почти без изменений (добавлено новое предисловие, уточнены некоторые сноски и сделано несколько небольших добавлений), было осуществлено четверть века спустя, в 1963 г.[19]
Этот труд до сих пор сохранил свою научную ценность.
Единственным предшественником П. Паскаля как исследователя жизни и творчества протопопа Аввакума в целом (заметим, что и после Паскаля, несмотря на постоянный интерес к протопопу Аввакуму и его сочинениям, такого обобщающего труда не появилось) был А. К. Бороздин, в 1898 г. выпустивший книгу «Протопоп Аввакум. Очерк из истории умственной жизни русского общества в XVII в.»[20]. Знаток истории старообрядчества П. С. Смирнов опубликовал весьма критическую рецензию на работу А. К. Бороздина. Он указал на недостаточно глубокое с источниковедческой точки зрения изучение письменных памятников, вышедших из-под пера протопопа, которые – «прежде всего примечательнейшие литературные памятники, а вместе с тем в них не только обрисована жизнь самого Аввакума, как деятеля на различных поприщах, но и с беспримерною полнотою, прямо как в зеркале, отразилась первоначальная жизнь раскола с ее главными и второстепенными внутренними вопросами»[21]. Из неполноты анализа источников вытекает, по мнению рецензента, и неполнота в изображении личности Аввакума и его деятельности: «Где здесь портрет этого протопопа-богатыря, где целостная характеристика этого замечательнейшего человека, владевшего несокрушимым здоровьем, железною волей и редкими душевными дарованиями? Читая автобиографию Аввакума и многочисленные его писания, все это видишь ясно, видишь именно целостный и живой образ»[22]. С точки зрения П. С. Смирнова, в книге А. К. Бороздина протопоп Аввакум недостаточно полно охарактеризован как пастырь и «расколоучитель», а такие его ипостаси, как проповедник, отец и глава семейства, совсем обойдены молчанием.
Книга П. Паскаля свободна от подобных недостатков. Важнейшую услугу оказал французскому ученому и всем последующим исследователям творчества Аввакума сам П. С. Смирнов, подготовивший академическое издание сочинений протопопа Аввакума[23]. Кроме того, французский исследователь, несмотря на существовавшие тогда трудности, обратился к архивному материалу. Работая в фондах, ныне хранящихся в Отделе рукописей Государственного исторического музея и Российском государственном архиве древних актов, П. Паскаль разыскал важные документальные материалы, освещающие многие эпизоды биографии протопопа и сопутствующие им обстоятельства; обнаружил новые источники по истории раннего старообрядчества, для уточнения имен и воссоздания полной картины событий обратился даже к писцовым книгам.
П. Паскаль на основании сравнительного изучения максимально полного круга документальных и литературных источников написал самую полную биографию «мятежного протопопа», воссоздал все обстоятельства его нелегкой судьбы, выяснил обстоятельства написания многих произведений. Заметим, что, хотя за последние десятилетия разысканиями отечественных ученых был введен в научный оборот ряд новых документов и неизвестных ранее сочинений, проясняющих некоторые биографические подробности[24], однако принципиального обновления источниковой базы не произошло.
Книга построена по хронологическому принципу: повествование следует за биографией протопопа, при этом автор не только последовательно восстанавливает внешнюю жизненную канву, но также уделяет пристальное внимание внутреннему миру своего главного героя. Начальные главы даже имеют названия: «Аввакум. Как создавался человек», «Аввакум-священник. Как создавался пастырь». Ярким примером может служить глава II, в которой на основе разбросанных в разных сочинениях обмолвок самого Аввакума, исследований и мемуарных источников, рисующих провинциальный быт, в том числе сельского духовенства, а также личных впечатлений от поездки по родным аввакумовским местам показано, как, вопреки всем трудностям и благодаря теплой вере, выкристаллизовывалась эта недюжинная натура. П. Паскаль, в частности, тонко подмечает, что евангельская фраза, высказанная Аввакумом в качестве совета ученикам: «Будьте кротки как голуби и мудры как змеи», могла иметь для него и очень личное содержание, связанное с конкретными жизненными обстоятельствами и воспоминаниями детства – его увлечением голубями и необходимостью обезопасить себя от обитавших в окрестностях Григорова змей.
Исследователем воссоздан образ целостной и многогранной личности протопопа Аввакума: его любовь к матери, к верной Марковне и детям, его пастырские труды и интерес к книжной премудрости, мужество и непоколебимая стойкость в борьбе против церковных нововведений, трогательное повиновение духовному отцу иноку Епифанию и ревностная забота о своих духовных чадах, отношения с соузниками и догматические споры с ними.
Пьера Паскаля как ученого отличал широкий подход к истории[25], что особенно ярко и наглядно проявилось в его первом исследовании, в котором религиозный конфликт 1650-х гг. показан на фоне всей русской истории XVII в. Совершенно справедливо и обоснованно Паскаль видит истоки церковного раскола в событиях Смутного времени: «моральная и материальная катастрофа, пережитая страной, вызвала потребность в реформах». На преодоление последствий Смуты в материальной и духовной жизни России были направлены усилия церковных и светских властей. И здесь, по мнению П. Паскаля, проявились два разных понимания христианства, различно представляющих соотношение жизни мирской и небесной: согласно одной точке зрения, все земное должно быть подчинено делу спасения, другая же позиция старалась примирить небо и землю. Эти две тенденции, ненадолго объединившиеся в деятельности боголюбцев, затем переросли в открытый конфликт. Французский ученый отрицает широко бытовавшие в литературе XIX в. тенденциозные мнения об «обрядоверии» старообрядцев, их «косности» и «невежестве»; показывает, что первые староверческие учители были столь же образованны, как и их оппоненты.
Книгу П. Паскаля отличает научная добросовестность и объективность. Питая искреннее сочувствие к преследуемым старообрядцам, восхищаясь стойкостью и героизмом протопопа Аввакума, он отмечает и его неуступчивость, которая придала церковному конфликту особую остроту. Работа французского ученого дает пример глубоко продуманного и строго научного освещения самых трагических событий в истории Русской православной церкви, она лишена того полемического подтекста, который иногда скрыто, а иногда слишком явственно просматривается в современных научных исследованиях данной проблематики.
Чрезвычайно ценными в монографии являются также типологические сравнения религиозной жизни России и Франции в XVII в., показывающие общие истоки и общие принципы конфессиональных реформ. Пьер Паскаль замечает, что желание провести христианские принципы в широкие массы народа зачастую наталкивается на человеческую слабость и противодействие властей. Св. Франциск и Олье из Сен-Жермена были такой же жертвой своих прихожан, как протопопы Иван Неронов, Аввакум и Даниил. В деятельности западнорусских монахов – поборников «внешней» мудрости и образованности, определивших направление развития русской церкви после реформ патриарха Никона, Паскаль усматривает параллель с деятельностью ряда католических объединений, стремившихся в союзе с миром достичь лучшего будущего (иезуиты, Викентий Поль, Содружество сестер Царицы Небесной). Некоторые черты сходства отмечает ученый между старообрядцами и янсенистами. Эти сравнения, отражающие широкую эрудицию автора и его глубокие знания по истории религии, позволяют представить религиозную драму России не в узких национальных рамках, а на фоне религиозных исканий других направлений христианства. Книга Пьера Паскаля давно и по праву входит в золотой фонд зарубежной славистики, издание ее перевода на русский язык не только сделает это фундаментальное исследование широко доступным для отечественных научных и общественных кругов, но также явится данью памяти ученому, так горячо любившему Россию.
* * *
Большой интерес представляют обстоятельства появления перевода книги П. Паскаля на русский язык. Он был выполнен по изданию 1938 г. известным переводчиком с английского и французского языков Сергеем Сергеевичем Толстым (24.08.1897, Великобритания – 18.09.1974, Москва). В Государственном музее Л. Н. Толстого хранится черновик перевода ряда глав[26]. Полная авторизованная машинопись перевода, составляющая два объемных переплетенных тома (986 листов), находится в книжном собрании Покровского старообрядческого кафедрального храма, что на Рогожском кладбище в Москве (ныне: книгохранилище при Митрополии Русской Православной Старообрядческой Церкви)[27]. Перевод не датирован, но ряд косвенных соображений заставляет отнести его к концу 1950-х гг. По всей видимости, этот громадный переводческий труд был выполнен не по заказу издательства (об этом свидетельствует и то, что сохранившаяся машинопись не несет на себе никаких следов необходимой редактуры и подготовки к печати), а, скорее всего, по просьбе рогожских старообрядцев.
С. С. Толстой. 1967 г. Государственный музей Л. Н. Толстого
К сожалению, нам не удалось выявить документальных материалов об обстоятельствах появления данного перевода, однако некоторые факты биографии С. С. Толстого представляются в этой связи крайне важными.
Внук Льва Толстого и сын его старшего сына Сергея Львовича вторым браком (с 1927 по 1957 г.)[28] был женат на дочери близкого друга Л. Н. Толстого, женатого на его внучатой племяннице Л. Н. Оболенской, автора воспоминаний «Двенадцать лет около Толстого» Хрисанфа Николаевича Абрикосова (1877–1957) – Вере Хрисанфовне (1906–1957). Она происходила из многочисленной семьи известных московских предпринимателей в области кондитерского производства Абрикосовых. К этой же семье принадлежал и ответственный секретарь и управляющий делами старообрядческой архиепископии Московской и всея Руси Кирилл Александрович Абрикосов. Родоначальник этой династии московский 1-й гильдии купец Алексей Иванович Абрикосов (1824–1904) имел 17 детей. Старший сын Николай был женат на Вере Николаевне Кандинской, их сын Хрисанф Николаевич был отцом Веры Хрисанфовны, в замужестве Толстой. Кирилл Александрович Абрикосов – внук А. И. Абрикосова, его отцом был младший сын основателя династии – Александр, женатый на Глафире Петровне Смирновой. Таким образом, В. Х. Толстая приходилась К. А. Абрикосову племянницей и в то же время была его ровесницей[29].
К. А. Абрикосов (2.03.1894–9.09.1972) не скрывал своей принадлежности к известному купеческому роду. Г. А. Мариничева, с 1944 г. работавшая в архиепископии машинисткой и секретарем, вспоминала о своем первом знакомстве с К. А. Абрикосовым: «Кирилл Александрович очень словоохотливо рассказал мне о себе, что он происходит из семьи известных фабрикантов-кондитеров Абрикосовых, что его ближайшие родственники стали крупными знаменитостями: один – известный артист, другой – известный врач-паталогоанатом, третий – талантливейший конструктор и т. д. О себе он сообщил, что по образованию он юрист и присоединиться к старообрядчеству его побудила книга И. А. Кириллова „Правда старой веры”, что теперь он трудится на посту ответственного секретаря Архиепископии и старается помочь наладить ее деятельность»[30].
В этой беседе К. А. Абрикосов упомянул артиста Вахтанговского театра Андрея Львовича Абрикосова, врача, подписывавшего акт вскрытия тела В. И. Ленина, Алексея Ивановича Абрикосова и единственного в этом талантливом семействе конструктора – создателя теории воздушно-реактивного двигателя Бориса Сергеевича Стечкина (1891–1969), который был мужем двоюродной сестры В. Х. Толстой Ирины Николаевны Стечкиной, урожденной Шиловой, 1898–1958 (ее матерью была родная сестра Хрисанфа Николаевича Абрикосова Вера Николаевна, вышедшая замуж за Николая Александровича Шилова (1872–1930), ставшего основателем физической химии в России). То, что ответственный секретарь старообрядческой архиепископии назвал в числе своих ближайших родственников Б. С. Стечкина, после войны получившего всеобщую известность (в 1946 г. удостоен Сталинской, в 1957 г. Ленинской государственных премий), свидетельствует об общении этих двух ветвей Абрикосовского рода и, следовательно, позволяет предположить, что именно он мог воспользоваться своими семейными связями и найти квалифицированного переводчика для такой чрезвычайно сложной – по теме и по языку – работы, как перевод книги П. Паскаля.
Священник Покровского кафедрального собора Сергей Тимофеевич Кленов, настоятель собора о. Василий Филиппович Королев и ответственный секретарь Архиепископии Кирилл Александрович Абрикосов (слева направо). 1950-е гг. Книгохранилище Митрополии РПСЦ
Думается, подобное начинание можно рассматривать в русле того подъема и заметного оживления церковной жизни, которые царили в Рогожском поселке в первые послевоенные годы, причем, по свидетельству той же мемуаристки, открывшиеся в связи с благосклонным вниманием властей возможности особенно вдохновляли ответственного секретаря Архиепископии. Г. А. Мариничева вспоминала о той их первой встрече: «Далее он рассказал о широких планах Архиепископии. Правительство разрешило издание старообрядческого календаря; далее будут издаваться журналы, или ежемесячные, или ежегодник; в скором времени будут открыты пастырские курсы; скоро старообрядцам вернут единоверческий храм (…); поставлен вопрос о ликвидации прядильной фабрики, соседство с которой опасно для Покровского храма в пожарном отношении, и т. д., и т. п. Я верила и не верила. И хорошо, что не полностью верила: слишком тяжело было бы разочаровываться. Из всех этих планов впоследствии осуществилось только два: издание старообрядческих календарей (причем с перерывом с 1950 по 1955 год) и снос в 1945 году с территории храма прядильной фабрики»[31]. В 1956 г. вышел в свет редчайший для своего времени альбом церковной тематики: «Древние иконы старообрядческого кафедрального Покровского собора при Рогожском кладбище в Москве», в редколлегию которого помимо протоиерея В. Ф. Королева и знатока иконописи М. И. Тюлина входил и К. А. Абрикосов. Вне зависимости от того, задумывалось ли издание перевода книги Паскаля и этот проект остался неосуществленным, или перевод был сделан для «внутренних нужд» рогожского старообрядчества, обратиться с просьбой о выполнении такой большой и трудной работы, имевшей весьма туманные перспективы опубликования, можно было только к близкому родственнику или хорошему знакомому.
Возможно, С. С. Толстого и самого в силу личных обстоятельств интересовала книга П. Паскаля. Влияние великого деда сказалось не только в приверженности Сергея Сергеевича к педагогике (он стал кандидатом педагогических наук (1946), доцентом МГИМО), но и в его религиозно-философских исканиях. В небольшом архиве С. С. Толстого в Государственном музее Л. Н. Толстого сохранились его сочинения религиозно-философского характера (в том числе «О логосе»), материалы к ним, включая сделанные им конспекты и выписки из книг разных авторов. Подтверждаемая Н. П. Пузиным дружба С. С. Толстого с владельцем издательства (до 1917 г.), переводчиком, по матери внуком А. И. Абрикосова Георгием Адольфовичем Леманом[32] (1887–1968) вводила его в круг религиозных мыслителей 1960-х гг., а через друга Г. А. Лемана поэта А. А. Солодовникова, возможно, и в религиозно-философский кружок, сложившийся вокруг Н. Е. Пестова[33].
Черновая рукопись перевода книги П. Паскаля «Протопоп Аввакум и начало раскола». Автограф С. С. Толстого. Государственный музей Л. Н. Толстого
Вполне возможно, что именно этими духовными исканиями объясняется интерес С. С. Толстого к старообрядчеству.
Архиепископ Московский и всея Руси Флавиан (1952–1960). Частное собрание Л. И. Вольфсона
В архиве митрополии В. В. Боченковым было обнаружено недатированное письмо С. С. Толстого старообрядческому архиепископу Флавиану (Слесареву) (1879–1960, архиепископ Московский и всея Руси с 12 марта 1952), из текста которого можно заключить, что его автор присоединился к старообрядческой церкви. Он испрашивает «архипастырского благословения и молитв» и упоминает о своем деде, Л. Н. Толстом, «много сделавшем для нашей старообрядческой церкви»[34]. Вполне может быть, что, как на К. А. Абрикосова оказала сильнейшее влияние книга И. А. Кириллова «Правда старой веры», так и на С. С. Толстого чтение и перевод книги П. Паскаля «Протопоп Аввакум и начало раскола».
Документальная находка подтверждает устное сообщение Н. П. Пузина о том, что С. С. Толстой в декабре 1957 или январе 1958 г. присоединился к старообрядчеству (по сведениям того же источника, ранее он был посвящен в сан дьякона и причислен к церкви Покрова, что в Левшине)[35].
Примечательно, что полный экземпляр машинописи перевода первоначально находился в библиотеке известного своими глубокими книжными познаниями и библиофильством архиепископа Флавиана, после смерти которого в 1960 г. он поступил в книгохранилище Митрополии РПСЦ[36].
Таким образом, вне зависимости от того, что непосредственно инициировало обращение С. С. Толстого к книге П. Паскаля – просьба К. А. Абрикосова или появившееся после присоединения к старообрядчеству желание самого переводчика ознакомить с этим трудом более широкий круг читателей, – перевод следует датировать концом 1950-х гг.
* * *
Перевод С. С. Толстого, выполненный по первому изданию книги П. Паскаля, был положен в основу данного издания. Однако мы сочли необходимым внести в него – с оговорками – несколько добавлений содержательного характера, сделанных автором во втором издании книги: в частности, предисловие к новому изданию, два абзаца, добавленные к первому предисловию, заключительные абзацы второй главы и заключения (перевод выполнен В. В. Боченковым). Незначительные уточнения, сделанные П. Паскалем в ссылках на литературу и источники, внесены нами без оговорок.
Поскольку перевод книги П. Паскаля, взятый для настоящего издания, не готовился к печати, то оказалось необходимым провести большую работу по его научному редактированию. Прежде всего он был сверен с изданием, в ходе чего были устранены вкравшиеся в машинопись опечатки, как технические (в ссылках на литературу), так и смысловые (например, «соседние голуби» вместо «соседские голуби»; «успокоился в небесных селениях» вместо «упокоился в небесных селениях»). По первоисточникам, в том числе рукописным, были выверены цитаты, многие из которых, за неимением у переводчика необходимых книг и недоступностью рукописей, оказались в обратном переводе с французского. Это касалось и обширных фрагментов текста, и отдельных фраз, являющихся яркими приметами образного языка старообрядческих авторов XVII в. К примеру, фраза из письма дьякона Федора «Несть царь, братие, но рожок антихристов» была переведена: «Нет, братия мои, это не царь, это рог антихристов»; знаменитая «баба поселянка», к которой протопоп Аввакум отсылал дьякона Федора, стала просто «крестьянкой». В послании сыну Максиму дьякон Федор писал о том, что плоть Исуса Христа три дня лежала во гробе и не истлела без души: Бог «давал тлителю-тому, сиречь смерти-той, зубы вотневать, да оскомина на зубы пала, не могла згрысть»; в переводе оказалось: «Он позволил зубам смерти коснуться Себя, но зубы ее коснулись слишком зеленого плода, и она отступила».
В некоторых местах следовало приблизить к оригиналу не только прямую цитату, но и изложение источника. К примеру, пришлось исправить фразу, описывающую реакцию боголюбцев на «Память» патриарха Никона 1653 г.: «Поэтому-то сердца леденели и колени дрожали»; в Житии протопопа Аввакума она звучала иначе: «сердце озябло и ноги задрожали». В Житии Феодора Ртищева о Спиридоне Потемкине говорилось: «Вся дни живота своего над книгами просидел», что было переведено: «Он просто чах, сидя целые дни над книгами». Аввакум проповедовал, по его же собственным словам, «по улицам и по стогнам градским» (переведено: «на улицах и в слободах»).
Таким образом, в результате этой обширной и трудоемкой сверки со страниц книги вновь зазвучали неповторимая, страстная речь протопопа Аввакума и подлинные слова его современников.
Пришлось исправить перевод слов, относящихся к специальной лексике и конкретным историческим реалиям, причем многое приходилось сверять также по первоисточникам, в том числе рукописным.
К первоначальному виду были приведены некоторые имена, которые в переводе С. С. Толстого вслед за Паскалем приняли западную огласовку: Антон – Антоний (Подольский), Денис – Дионисий (Зобниновский), Корней – Корнилий, Захар – Захарий, Бенедикт – Венедикт, Акундин – Акиндин, Гиацинт – Иоакинф.
Поскольку речь идет об издании научной монографии П. Паскаля, мы сочли необходимым в соответствии с источниками восстановить исходный вариант названий и понятий, которые были прекрасно известны автору – знатоку русской жизни XVII в. и лишь вследствие перевода на французский и обратного на русский оказались искаженными. Так, в переводе было: «Кружок (братство) друзей Божиих» – восстановлено: «кружок боголюбцев»; «подземная темница» – «земляная тюрьма», «сановник» – «боярин»: «писарь» – «подъячий»; «капиталист» – «купец»; «цепи» – «вериги»; (зимой носил) «баранью шкуру» – «бараний тулуп»; «потушить свет» – «погасить свечу»; «окунать ребенка в купель» – «погружать ребенка в купель»; «Уезд Кудьмы» и «стан потусторонней Кудьмы» – «Закудемский стан»; «бритые морды» – «брадобритцы»; «игрецы на зурне» – «рожечники»; «школьная псалтырь» – «учебная Псалтырь»; «отцы Ветхого завета» – «праотцы» (о рядах иконостаса); «форт» – «острог»; «зеленщик» – «огородник» (ростовец Федор Голицын); «похищение Павла Коломенского» – «извержение из сана»; «старшие монахи» – «соборные старцы»; «общая комната» – «горница»; «Ковровая слобода» – «Барашевская слобода»; «привратник» – «сторож» (Благовещенского собора Андрей Самойлов); «пекарь» – «калачник» (Дмитрий Киприанов): «говорить слова церковной службы» – «говорить келейное правило» (об исцелении Епифания после второй казни, по Житию Аввакума); секли «пятихвостым кнутом» – «в пять плетей» (Житие боярыни Морозовой).
Были приведены в соответствие с общепринятыми названия ряда произведений: «О просветительном огне» Антония Подольского (было: «О просвещающем огне»), «Об образех» (было: «О чести св. икон»); «На иконоборцы и на вся злыя ереси» (было: «Против врагов святых икон и всяких зловредных ересей, появившихся в наше время»); «Беседы св. Иоанна Златоуста на послания св. апостола Павла и Деяния апостолов» (было: «Проповеди св. Иоанна Златоуста о посланиях св. апостола Павла и Деяниях апостолов»), «Перло многоценное» (было: «Жемчужина духовная»), «Поучение архиереям, священноинокам и мирским иереям и всему священному чину» (было: «Поучение епископам, инокам и священникам белого духовенства и всему духовному чину») патриарха Иосифа, Проскинитарий Арсения Суханова (было: «Путешествие»), «Прение Панагиота с Азимитом» (было: «Спор»), «Христианоопасный щит веры» старца Авраамия (было: «Щит веры против нападок еретиков»), «Книга на крестоборную ересь» протопопа Аввакума (было: «Книга об иконоборческой ереси»).
По мере необходимости в специальных примечаниях (через *) нами были сделаны отсылки к литературе последних десятилетий (даны с указанием Прим. ред.). Выверен и приведен в соответствие с современными требованиями список литературы и источников (сохранен авторский принцип отсылок); составлен новый указатель имен.
Искренне благодарю сотрудников Митрополии Русской Православной Старообрядческой Церкви В. В. Боченкова и В. В. Волкова, сотрудников Российского государственного архива древних актов Е. Е. Лыкову и А. И. Гамаюнова, сотрудника Государственного музея Л. Н. Толстого Ю. Д. Ядовкер, оказавших помощь в ходе работы над этим изданием, а также Жака Катто и О. С. Данилову, благодаря которым удалось разыскать фотографии П. Паскаля и получить любезное разрешение на их публикацию у владелицы – Мишлен Паскаль, вдовы племянника П. Паскаля Рока Паскаля.
Е. М. ЮхименкоПредисловие ко второму изданию[37]
Предлагаемый труд – точное воспроизведение книги, изданной в 1938 году стараниями Центра изучения России «Истина» и Института славистики Парижского университета.
Он был подготовлен автором главным образом на основании сочинений протопопа Аввакума, увидевших свет в академической издании 1927 года, оригинальных сочинений, собранных Субботиным в «Материалах…», и Барсковым в «Памятниках первых лет старообрядчества», уже опубликованных документов или обнаруженных в архивах.
Иными словами, труд не переделывался, даже спустя двадцать пять лет. Он смог только обогатиться, благодаря работам, опубликованным после 1938 года, об Аввакуме или начале раскола, или новым текстам, оказавшимся в распоряжении автора.
Аввакум сегодня расценивается в СССР как классик, величайший писатель древнерусской литературы. Под этим определением он стал объектом многочисленных исследований в журнале, издающемся с 1932 года – «Труды отдела древнерусской литературы» Института русской литературы Академии наук, а также в некоторых других журналах. Затрагивая такие темы, как стиль и словоупотребление в «Житии», литературные принципы автобиографии в «Житии» протопопа Аввакума и Епифания, «Житие» как образец демократической литературы, древнерусская литература в творчестве Аввакума, творчество Аввакума и общественные движения конца XVII века, идея равенства у Аввакума, социальные условия первых раскольников, Аввакум и Епифаний, эти исследования не могли добавить что-либо новое к настоящему труду. Их стоило лишь упомянуть.
Второй том академического издания, который должен был содержать неполные или сомнительные тексты Аввакума, до сих пор не издан. Напротив, в Москве в июне 1960 года под редакцией Н. К. Гудзия издали книгу в 480 страниц, тиражом 30 000 экземпляров, озаглавленную «Житие протопопа Аввакума, написанное им самим, и другие его сочинения». Заслуга ее, в частности, в том, что в книгу вошло полдюжины текстов, до сей поры неизвестных.
Большая часть этих текстов была выявлена и подготовлена к печати сначала Вл. Малышевым, который с 1934 года посвятил себя поискам древних рукописей и в особенности – тех, где содержатся сведения об Аввакуме. Благодаря ему количество рукописей, в которых упоминается «Житие», выросло до сорока четырех; в сборнике конца XVIII или начала XIX века он выявил позднюю переработку «Жития», в которой в сокращении используются три подлинных списка, содержатся также сведения, предоставленные из других сочинений Аввакума, и которая содержит новые данные, происходящие, согласно Малышеву, из четвертого подлинного списка. Эта «рукопись Прянишникова» была издана в приложении к изданию Гудзия 1960 года, стр. 305–343.
Благодаря В. И. Малышеву в научный оборот была введена челобитная протопопа Аввакума царю Алексею Михайловичу, датируемая январем 1665 года, два письма, написанные в мае 1665 года – своей семье и Авраамию[38] (1951, 3, стр. 261–263), одно письмо к некой Ксении Артемьевне Болотовой из Нижнего Новгорода, прежде неизвестное, и еще одно – царевне Ирине Михайловне, оба отправленные из Пустозерска, дату их трудно определить[39].
В дополнении учтены новые тексты, опубликованные в издании Гудзия 1960 года или других.
Предисловие
I
Дело было в Москве около 1928 г. Я выполнял функции «научного работника» в институте, достоинства которого для меня имели двоякое значение: во-первых, там имелась богатая библиотека и, во-вторых, во главе института стоял человек с широкими взглядами. После того, как я на протяжении двух или трех часов занимался приведением в порядок документов, связанных с Бабефом[40], я спускался в подвал и там стал изучать литературные богатства, имевшие, по моему мнению, гораздо большее значение, чем те литературные материалы, которые были открыты для общего пользования.
Однажды я натолкнулся на брошюру, опубликованную в 1916 г. Академией наук под заглавием: «Житие протопопа Аввакума, написанное им самим». Я начал читать эту книгу, и с самого начала она меня захватила. После почти интернационального языка современных журналов и книг я столкнулся с чистым и сочным русским языком, языком, на котором говорил весь русский народ до Петра Великого и на котором еще до сих пор говорят крестьяне. Вместо сухой социологии, которая заменяла живую историю человечества сухими схемами, передо мной живо вырисовывался московский XVII век. Каким он представлялся мне разнообразным, то удивительно далеким, то столь близким двадцатому веку! И передо мной вырисовывалась еще душа исключительного человека с глубоким чувством совести, несокрушимая вплоть до самой смерти. В нем, в этом гениальном человеке, обитала еще удивительная духовная свобода, питаемая глубокой верой в Провидение и постоянным погружением в сверхчувственный мир.
Мне захотелось перевести житие на французский язык. Это заставило меня начать выяснять ряд исторических, географических, богослужебных и других вопросов. Я просмотрел издания текста жития: один только Барсков в своих «Памятниках» взял на себя труд дать соответствующий комментарий в хронологической части, а также и в уточнении собственных имен («Памятники первых лет русского старообрядчества»). Затем я перешел к выяснению личности автора: я прочел два единственных посвященных ему издания: популярную брошюру В. Мякотина[41] и ученый труд А. Бороздина[42]. Отсюда я очень скоро перешел к другим сочинениям, которые Академия наук только что объединила в один большой том[43]. Но нужно было погрузиться в историю происхождения так называемого раскола. И тут я убедился, что полемических сочинений имеется бесчисленное множество.
Однако они не имели прочного научного обоснования. Объяснения расколу искали в разнообразных поспешных выводах, нередко игнорировавших его истинную сущность. Единственная современная, широко использующая источники «История русского раскола» П. С. Смирнова[44] охватывает, правда, целых два века, но оставляет в тени начало движения. Кроме того, эта книга по существу представляет собой лишь пособие для будущих миссионеров. Кроме того, имелось богато документированное исследование того же Смирнова «Внутренние вопросы в расколе в XVII веке»[45] и три солидных тома Каптерева: «Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович»[46]. Но первая книга касалась догматических расхождений и разделений внутри старообрядчества, а вторая, дав очерк «кружка ревнителей», в котором будущие старообрядцы и будущий патриарх одно время сотрудничали на благо церкви, внезапно обрывала повествование и переходила к другим темам. Обе книги представлялись мне предвзятыми и обнаруживали недостаточное знакомство с расколом.
Вслед за этим мне представилось, что настоящая история начала раскола остается до сего времени ненаписанной. Я углубился в источники. Девять томов «Материалов» Субботина[47] сразу выявили передо мной героические фигуры, измученные души, трогательные и волнующие сцены. Я прочел другие жития: инока Епифания, боярыни Морозовой и ее соузниц, симпатичного деятеля того времени Ртищева. Аввакум представился мне в окружении своей среды. Изо всех этих материалов, а также и из других полных или обрывочных материалов, нельзя ли было бы извлечь канву подлинной и полной истории?
Произошла революция, и стало возможным более полно подтвердить это документами[48]. Статья Никольского о периоде ссылки протопопа в Тобольске[49] позволила мне увидеть, какие сокровища таятся в московском архиве, где наряду с другими, менее ценными материалами, собраны главные фонды трех прежних собраний: бывших царских Министерства юстиции и Министерства иностранных дел, а также и Государственного архива (Древлехранилища). На протяжении долгих месяцев я проводил всю вторую половину дня на Девичьем Поле, в маленьком зале, где до сих пор сохраняется тот стол, за которым Сергей Соловьев день за днем работал над своей монументальной «Историей России». В писцовых книгах, которые столь объемисты, что их надо рассматривать стоя, я разбирал одно за другим имена современников Аввакума, его духовных детей, а также имена князей, составителей разных книг, рассматривал иконы и богослужебные книги, полные описания тех мест, где он страдал и умер: Окладниковой слободы на Мезени и Пустозерска на Печоре. Затем, руководствуясь превосходным «Описанием документов и бумаг, хранящихся в Министерстве юстиции», я начал развертывать невероятные свитки рукописей длиной в несколько метров и шириной от 10 до 15 см. Это были склеенные отчеты воевод, приказные грамоты, путевые, допросы и ответы обвиняемых, прошения, указы о назначениях и смещениях; и тут я черпал бесчисленное множество фактов, бытовых подробностей и тысячи других полезных сведений. Для документов и рукописей Сибирского приказа существует замечательный аналитический каталог Оглоблина, который, впрочем, не всегда раскрывает содержание папок, толщиной иной раз в 1000 листов. Не просматривая материалов, в значительной мере разрозненных Никольским, я рассмотрел около 30 других томов, и там мне посчастливилось найти отчеты Пашкова во время его экспедиции с Енисея на Амур, наряду со специальным отчетом, в котором он оправдывается за те страдания, которые он заставил пережить Аввакума. С помощью этих документов удалось в значительной мере уточнить и проверить даты жития Аввакума. В архивных фондах Архива Министерства иностранных дел я нашел и прочел переписку мезенского и пустозерского воевод, надеясь найти отчет о сожжении Аввакума и трех его соратников. Я его не нашел, но сколько мне удалось найти документов о юродивом во Христе Киприане, о соловецких узниках и еще других! Однако мне не удалось получить описания Государственного архива в силу того, как мне сказали, что материал этот слишком громоздок и весь является рукописным. Именно там хранятся документы Тайного приказа, лишь малая часть которых является к настоящему времени опубликованной. В частности, мне не удалось найти два письма царя Алексея к Аввакуму, которые в свое время видели Гиббенет[50] и Бартенев[51]; однако мне пришлось более или менее случайно натолкнуться на автографы «тишайшего» царя.
В одной из зал Исторического музея имеется малозаметная дверь; узкая и крутая лестница, на которую открывается эта дверь, ведет в Отдел рукописей. Там, в тишине, лишь редко нарушаемой иностранными учеными, покоятся 500 греческих рукописей, привезенных с Афона Арсением Сухановым, древние славянские рукописи, свитки и книги Патриаршего приказа, а также московские старопечатные издания XVI и XVII веков; к этим богатствам бывшей Синодальной библиотеки присоединены Хлудовское и Уваровское собрания.
В книге записей поставлений в духовный сан я нашел много знакомых имен; в других документах я увидел воспоминания епископа Александра, в которых он выражает свои сомнения по поводу новых книг, далее я прочел сборник проповедей Спиридона Потемкина, являвшегося самым ученым из старообрядцев; я списал «Ответ православных» – этот свод верований старообрядчества, составленный диаконом Федором, являвшимся ближайшим сподвижником Аввакума. Этот «Ответ» упоминается в Житии, но остается до сих пор неизданным. Даже в том небольшом числе свитков – около 1200 – которые составляют последние остатки Патриаршего архива, я заметил несколько текстов, мимо которых прошел Субботин, может быть, вследствие трудностей разбора рукописей; наконец, натолкнулся на одно показание старца Ефрема Потемкина. Это черновик, написанный каким-то пьяным писцом!
Я продолжал свои розыски в тех местах, в которых все они побывали: в московских церквах и монастырях, в северных монастырях, затерянных среди березовых лесов, в Сергиевом Посаде, в Переславле с его Даниловским монастырем, где Неронов скончал свои дни; я посетил Ростов, вольный город ремесленников, где Иона распорядился об аресте первых несогласных; и я предпринял путешествие по исторически знаменитой Верхней Волге, где на берегах виднеются то скромные деревушки, то ярко освещенные города, то высокие, столь любимые русскими высокие колокольни, то многоцветные купола. Я посетил город Романов, где пребывал поп Лазарь, таинственную Толгу, Ярославль и Кострому, где игумен и протопоп подверглись оскорблениям черни, дивный Юрьевец, откуда Аввакум был изгнан; и, наконец, Нижний – тот город, где сходятся Север и Юг, Восток и Запад, город-крепость и город-ярмарку, где сталкивалось такое огромное количество интересов и идей.
Этот Нижегородский край, колыбель религиозного возрождения XVII века, я объездил вдоль и поперек. Я останавливался в Вельдеманове, где родился Никон, и я объехал вслед за юным Аввакумом ближайшие от его родного Григорова поселения: Княгинино и Лысково. Я видел Волгу, столь таинственную на заре, на поверхности которой застыли лодки рыбаков на стерлядь, и я снова видел ее всю сверкавшую в лучах заходящего солнца. Там, на другом берегу возвышался все еще величественный Макарьевский монастырь, а за ним без конца и края тянулись вдоль по Керженцу леса и болота. Я знал, что передо мной Фиваида старообрядчества. Охотно поехал бы я и на Ангару, где я стал бы искать следы деятельности жестокого Пашкова, и столь же охотно предпринял бы я и путешествие на Мезень и на Печору, где, может быть, натолкнулся бы на следы тайных вестников пустозерских отцов.
Увы! Эта работа была предпринята слишком поздно. Всего-навсего десять лет длился золотой век в истории старой веры. С 1906 по 1917 год можно было рыться в архивах, публиковать тексты, готовить издания; сами старообрядцы переиздавали книги, основали Институт, собирали свои древности. Сколько ценных материалов увидело свет в течение этих десяти лет в «Чтениях Общества истории и древностей российских при Московском университете», «Летописях занятий Археографической комиссии», «Христианском чтении», «Русском архиве», «Древней и новой России», в многочисленных книгах и журналах, но главным образом, благодаря изданиям, которые стремились к истине, были объективными, оригинальными, отображая историю русской церкви семнадцатого века! Новая свобода способствовала появлению талантов. После Голубинского и Белокурова, П. Смирнова, С. Смирнова, Заозерского, Яковлева, Барскова, Дружинина, Бахрушина на русской сцене заявили о новом витке развития более молодые ученые. Ранее монастырские книгохранилища не собирали много исследователей, а появлявшиеся труды зачастую были искусственны или испорчены официальными предрассудками. Старообрядчество не изучали, а обличали. Старообрядческие алтари на Рогожском кладбище были опечатаны. После 1917 года прошлое России, за исключением технической, экономической или общественной его стороны, было вначале подвергнуто подозрению, затем, с 1927 года, запрету. В архивах я работал не по теме «Аввакум и раскол», но «Экономика Верхней Волги». Когда в библиотеке Московского университета я попросил том «Богословского вестника», мне ответили, что этот журнал выдается лишь для «антирелигиозной работы». Рукописи, интересовавшие меня, лежали в куче, прозябая, пылясь, в часовне Румянцевского музея; знаменитый «Пустозерский сборник», содержащий автографы узников, был недоступен, запертый в шкаф Дружинина, но под печатью Академии наук; публикация «Памятников истории старообрядчества» после первого тома, появившегося в 1927 году, была прикрыта. Далекий от того, чтобы наслаждаться содействием, которое бы намного облегчило работу, я мог рассчитывать только на собственные силы. В архивах же, кроме заведующего читальным залом, я не видел других служащих. Нужные книги вынужден был искать в частных собраниях или у букинистов, которые были счастливы избавиться от них[52].
II
Та самая проблема, от которой историк в начале своего исследования должен отстраниться, по окончании пройденного пути становится, однако, вполне законной: что же такое раскол?
Объясняется ли он невежеством, рутинерством, тупым традиционализмом Аввакума и его сторонников, как это с самого начала утверждали апологеты официальной церкви, подобно Славинецкому, Димитрию Ростовскому и другим? Никоим образом, ибо Аввакум и его друзья не уступали ни в какой степени Никону и его сторонникам; они принципиально не возражали против исправления книг и улучшения обрядов; они были нисколько не более фанатичны в смысле удержания греко-русской традиции, чем Никон в смысле насаждения новогреческой практики.
Объясняется ли раскол личными ненавистями и распрями, как это утверждал, вместе с другими, епископ Макарий в своей «Истории раскола»[53]? Но чувство ненависти, охватившее с самого начала столь многих, не могло быть личным и безусловно должно было иметь общие причины.
Объясняется ли раскол пороком, вообще присущим русскому народу, преувеличенным обрядоверием, как полагали более объективные историки, типа Каптерева?
В какой-то мере конфликт действительно разразился в связи с формой крестного знамения и числом поклонов, и он безусловно затянулся в связи с другими обрядовыми новшествами: смешение понятия догмата и обряда в обоих лагерях прямо бросается в глаза. Но уже в предшествующие века, не вызывая подобных последствий, шли споры об аллилуие, о крестном знамении, о движении крестных ходов посолонь или иначе, равно как и о богослужебных текстах и книгах. И когда в XIX веке русские власти пошли на единоверие, раскол продолжался. Очевидно, стало быть, что русский народ за спорами об обрядах чувствовал что-то глубоко подлинное.
Учитывая всю недостаточность этих объяснений, далекие от религии авторы к середине XIX века стали выдвигать другое объяснение: раскол, по их мнению, являлся не чем иным, как протестом местных общин против центрального государственного аппарата, стремившегося подчинить себе окраины; раскол – это также бунт демократии против рабства; таким образом, это прежде всего явление социального порядка. Такого мнения придерживались Щапов, Аристов и Абрамов. Верно, в волнениях 1682 г., а затем и в оппозиции Петру Великому раскол действительно сыграл свою роль, проявляясь, впрочем, в силу чисто религиозных мотивов. Однако в начале раскола тщетно было бы искать для его зарождения других причин, кроме чисто религиозных. В восстании Степана Разина раскол не играет никакой роли. Враги самодержавия, Герцен и Огарев, на короткое время усмотрели в расколе союзную им силу, но вскоре же они в нем обманулись. Старообрядцы противопоставляли притязаниям власти свободу личности: это обитало в недрах человеческой души, которая противопоставляла Молоху – государству свое непреклонное извечное non possumus – «не можем». Старообрядцы хотели воздавать Богу Божие, а отнюдь не вмешиваться в экономические, социальные или политические конфликты своего времени.
Поскольку все эти объяснения сущности раскола оказались несостоятельными, пришлось приписать расколу чисто религиозные причины. В 1898 г. П. Смирнов так это и признает. «Протест возник на чисто религиозной почве без всякой примеси каких бы то ни было элементов, чуждых области веры»[54]. Но он придает чрезмерное значение эсхатологическому моменту. Безусловно, старообрядцы в связи с падением церкви были склонны ждать скорого пришествия антихриста; но в этом они нисколько не отличались от своих современников. Следовательно, не здесь приходится искать религиозных причин раскола.
Для того, чтобы разгадать эту причину, надо подняться выше. Отчасти в изучении кружка боголюбцев ее понял Каптерев. Но он не увидел, что усматривает лишь этап движения, начавшегося значительно раньше. Он не обратился достаточно близко к кружку ревнителей благочестия, чтобы усмотреть их связи с ревнителями Печатного двора. Он не подумал о том, что самая биография некоторых из них возводит нас к тем годам, которые непосредственно следуют за Смутным временем.
В самом деле, искать причины глубокого разрыва, произошедшего в русском обществе, следует в самом Смутном времени. Моральная и материальная катастрофа, пережитая всей страной, вызвала потребность в реформах. Но потребности различны. С одной стороны, появляется желание видеть внешний порядок как в церкви, так и в государстве, что связано с регламентацией и исправлением книг и обрядов, желание отделить сакральное от мирского; с другой стороны, возникает потребность внутреннего совершенствования, как нравственного, так и религиозного. Отсюда возникает первая тенденция: стремление к знанию, к изучению чужеземных обычаев, стремление к власти. С другой стороны, рождается и вторая тенденция: более народная, самобытная, более специфически русская и даже провинциальная. Эти тенденции могут сосуществовать; они должны взаимно восполнять друг друга; лишь немногие исторические деятели принадлежат исключительно к одной из группировок. На короткое время в «кружке ревнителей» под руководством такого исключительного деятеля, как Стефан Вонифатьев, обе тенденции объединяются. Тем не менее двойственная тенденция продолжается.
Скрытый до поры до времени конфликт наконец проявляется в 1653 году. Этому способствует ряд факторов: и появление подозрительных греков; и выступление на сцену гордых своей чужеземной наукой малороссов; и властный и жестокий характер Никона; и неуступчивость его противников; и колебания царя; и некоторое смешение обрядов с тем, что под ними скрывается.
После того как две тенденции столкнулись, обе они, утверждая себя, в то же время дошли до преувеличения: это были два разных понимания христианства. С одной стороны утверждалось, что нынешняя жизнь ничто по сравнению с жизнью вечной; что Бог требует как от человека, так и от общества всего и что, следовательно, все должно быть подчинено делу спасения. С другой стороны господствовало желание примирить небо и землю; да, Богу принадлежит церковь, но нам принадлежат радости земного мира: наука для удовлетворения духовных запросов; «комедийное действо» для удовлетворения похоти очес; политика для желания властвовать. Одни столь же равнодушны к благам мира сего, как другие безразличны к райским радостям. Здесь трезвящиеся и аскеты; там люди чувственные и свободомыслящие. В XVII веке рядовой москвич перестает заниматься спасением своей души и только стремится развлекаться. Старообрядцы чувствуют, что они защищают Крест Христов против тех, кто «опустошает» его; защищают истинную религию от тех, кто хочет свести ее к минимуму. Двуперстие и вопрос о поклонах являлись лишь внешними предлогами для разрыва; двуперстие было лишь символом истинной религии. Конфликт становится неизбежным. Существуют две церкви. Естественно, что царь становится на сторону более уступчивой, архиереи повинуются ему; в 1666 году собор утверждает раскол.
Вслед за этим начинают быстро развиваться опасные тенденции, свойственные каждой партии; с одной стороны, политика начинает доминировать над религией; с другой стороны – наблюдается отрицание авторитета. Тут мы видим обмирщение самой церкви и оскудение веры; там – отказ от признания видимой церкви, ожидание антихриста, отчаяние и самосожжения. Еще до окончания XVII века процесс заканчивается: с одной стороны – государственная Церковь – одно лишь тело, от которого уже отлетает душа; с другой стороны – верующие без Церкви, находящиеся в стеснениях и разделениях.
Тут выявляются многочисленные деятели и религиозные фигуры. Фон – это огромный русский народ со всеми своими внутренними побуждениями и реакциями. В общем, он жаждет новых и лучших веяний, но отвечает протестами на невозможные требования чрезмерных ревнителей, одновременно склоняясь скорее в сторону своих братьев, страдальцев за Евангелие, чем в сторону политиканов-преследователей. На этом фоне выступают: Наседка, смелый печатник, Иоаким, воинственный патриарх, сомневающийся епископ Александр, Епифаний, благочестивый монах, Морозова и Урусова, Авраамий, Феоктист и десятки других. На самом переднем плане – царь Алексей и его духовник, Неронов и Федор. Впереди же всех Аввакум и Никон.
В развертывающейся религиозной драме Никон играет решающую, но кратковременную роль. В 1658 г. он удаляется. Начиная с 1666 г. он влачит жалкое существование в ссылке. Религиозная драма занимает в его жизни лишь малое место. Никон ведь разделял с царем управление страной и решал вместе с ним и гражданские, и военные, и дипломатические вопросы. Можно написать его биографию, не уделяя проведенной им церковной реформе более главы. Об Аввакуме, если не говорить о церковной реформе, просто нечего было бы писать.
Аввакум не пережил Смутного времени, но он является наследником его стремлений. Еще пока он живет в приходе, сердце его бьется в унисон с московскими ревнителями; тут он становится их доверенным, потом, в столице, в ожидании обрушивающегося на него первого удара он делается их сотрудником. Его характер к этому времени уже оформился, но лишь по возвращении из Сибири, когда уже полностью обозначился разрыв между поклонниками новшеств и старой верой, он выступает как вполне зрелый организатор борьбы за старую веру. Как его достоинства, так и сама историческая необходимость выдвигает его в первые ряды: он становится публицистом, критиком, духовным учителем, наконец, главой Церкви. Его твердость в преследованиях скоро выдвигает его в положение учителя церкви, пророка, мученика. Он исчезает с исторического горизонта и уже фактически не может поддержать единства веры, но светлый облик его до наших дней парит как над поповцами, так и над беспоповцами.
Подобного рода понимание заставило меня расширить рамки работы. Мог ли я написать книгу «Аввакум, его жизнь и труды»? Это была бы монография, где Аввакум, как человек и писатель, оказался бы выхваченным из среды. Пришлось бы работать над его языком и стилем почти столько же, сколько и над его участием в религиозном движении того времени. Такая, более узкая тема была бы законной, если бы мы имели хорошую историю происхождения раскола. И еще вставал вопрос, как сочетать биографию Аввакума с составленным им самим Житием?
Если Аввакум и раскол неотделимы, необходимо было рассматривать их вместе. Моей задачей и явилось дать насколько возможно точное и обстоятельное изложение истории начала раскола, наряду с возможно разносторонней характеристикой Аввакума. Отсюда и вытекает заглавие моей работы.
Для историка-систематика трудность заключалась бы в том, чтобы охарактеризовать эволюцию личности различных персонажей, сохраняя за каждым его удельный вес. Мне кажется, что если ограничиться в определенных рамках последовательным описанием фактов, то трудность в значительной мере снимается: люди и события сами становятся на свои места.
Русские авторы обычно больше заинтересованы в том, чтобы критиковать определенные идеи или излагать свои доктрины, чем в том, чтобы относиться с должным уважением к индивидуальности описываемых ими личностей. Я, со своей стороны, пытался выработать в себе душу москвитянина; пытался скорее понимать, чем судить; коротко сказать, как можно меньше проявлять самого себя. Я хотел бы непосредственно начертать перед глазами читателя верования, чувствования и поступки изображаемых мною лиц.
Указывая спорные моменты и пытаясь разобраться в них, я в большей степени старался выявить производимое ими тогда впечатление, чем решать вопросы принципиально.
Русские авторы любят охватывать памятники с птичьего полета; мне хотелось, скорее, исчерпывающим образом их рассмотреть. Русские авторы охватывают широкие горизонты и охотно считают десятилетиями; они забывают о расстояниях, а ведь путешествие от Амура в Москву длилось целый год или полтора! Это способствует путанице в освещении фактов и препятствует установлению надлежащей перспективы. Мне, с другой стороны, хотелось следовать год за годом, месяц за месяцем, почти что неделя за неделей за ходом реформ, реакцией на них верующих, передвижениями действующих лиц, за тем, как они проповедовали, что они писали и что переживали. Конечно, этот идеал далеко мной не достигнут; может быть, новые архивные розыски позволят ближе к нему подойти. Но уже сейчас несомненно, что хронологическая канва, полученная с помощью этого метода, устанавливает или по меньшей мере предуказывает дотоле неведомые отношения, освещает развитие событий, а также позволяет исправить определенные ошибки. Указывая на источники, я не счел нужным выявлять ошибки моих предшественников; осведомленный читатель разберется в них сам.
III
Это очень скорбная повесть, ибо она говорит о разделении церкви, об отторжении одной из ее частей, без сомнения лучшей, и о подчинении требованиям века сего другой части, безусловно более многочисленной. Она констатирует неудачу попытки реформы. Откуда происходит эта неудача?
Программа, выставленная боголюбцами в 1640–1650 годах, была, несомненно, весьма смело задумана. Речь шла не о чем ином, как о превращении Московского государства в искренне-принимаемое, подлинно-органичное христианское общество, что должно было касаться как внутренней политики, так и индивидуального поведения жителей.
А какое провозглашалось христианство! Христианство чисто монашеской строгости, которое для большинства русских мало согласовывалось с народными традициями и даже с простыми требованиями жизни. Наряду с настоящими пороками, оно запрещало всякое развлечение и всякие удовольствия. Вместо того, чтобы приспособить строгий Студийский устав к возможностям верующих мирян, это христианство предписывало и военным, и крестьянам, в сущности, всему населению, пребывание в церкви от четырех до пяти часов в день.
Эта программа была, кроме того, противоречивой и опасной! Подчеркивая своеобразные черты московской Церкви и строго изолируя верных от всякого религиозного соприкосновения с иноверцами, она предусматривала широкое использование книг, изданных на Юге и на Западе, книг, проникнутых духом латинства. Изменяя с дотоле невиданной смелостью богослужебные книги, она открывала дверь для еще более смелых исправлений. Изменяя характер текстов и обрядов, она рисковала вызвать в церкви целую революцию.
Намерения были безусловно прекрасные. Имелось в виду исправить грамматические ошибки, согласовать каноны и действующую практику, подвергнуть тщательному критическому разбору чудеса, прежде чем включать их в официально признанное житие, изгнать из храмов тех, которые делали из богослужения развлечение и вводили в пение непристойную какофонию, поднять в глазах всех значение священника, требовать строгого подчинения церковным канонам. Но связывалось ли это с той наивной и немного детской интерпретацией естественного и сверхъестественного, священного и мирского, с той глубокой доверчивостью к Богу и человеку, которые характеризовали религиозное чувство, на вид как будто облеченное грубо-материальными формами? Все это в сущности сводилось к разделению двух планов сознания, дотоле смешанных в народном сознании: сферы духовного и светского, церковного и гражданского обихода, наконец, даже сферы вечного и временного. Очищая, регулируя и рационализируя религию, можно было удалить ее от повседневной жизни. Правда, религию делали регулирующей силой этой жизни, но после того, как было сделано определенное разделение, нельзя уже было предсказать, какая из двух сфер будет иметь перевес.
Охватывая взором эти страницы истории, невольно делаешь сравнение. Запад тоже имел свое смутное время, свои религиозные войны, за которыми последовало невероятное крушение устоев общественной и частной жизни. Если мы будем рассматривать Францию, которая была больше всего задета этими событиями, то аналогии являются удивительными: низшее духовенство, пребывающее в кабаках, невежественное, жадное и развратное; церковные службы, совершаемые ускоренным темпом и часто небрежно, проповедь была оставлена, церкви служили светским сборищам, они были завалены разными инструментами, нередко превращались в залы для танцев, в места любовных свиданий; во время церковной службы там не прекращалась болтовня; поселяне не знали даже, что есть заповеди Господни, кощунствовали, верили в заговоры и заклинания; в общем, они жили и умирали как животные; гражданские власти, начиная от короля и кончая последним сержантом, насмехались над священными предметами…
Реакция была та же. «Все эти ужасные вещи обусловлены скандальным состоянием церкви. Необходима реформа порядков и нравов», – так говорили лучшие умы того времени. Ришелье, ближайший приближенный Людовика XIII, как Филарет при Михаиле Романове, думает больше о государстве, чем о церкви; его цель – надлежащая организация; надо бороться с ересью, восстановить порядок. Но и в это время, и ранее священники и миряне, вдохновляемые одной только верой, ищут внутреннего освящения как общественной, так и личной жизни. К числу этих лиц относятся: Цезарь де Бюс, Берюлль, принадлежащий к ордену ораториан, Бокузэн, принадлежащий к Шартрскому ордену, мать Акария, епископ де Сурдис, св. Франциск Сальский, св. Жанна Шантальская, Себастьян Заме, иезуит отец П. Коттон, отшельник отец Иван, отец Бурдуаз, нищенствующий священник Клод Бернар, доктор Андрэ Дюваль, девица Легра, Сольминихак, Ренти, кардинал Франсуа Ларошфуко и множество других. Вопрос ставился о том, чтобы поднять нравственное состояние пастырей, воспитать в семинариях достойное священство, возродить приходскую жизнь, послать на места миссии, очистить веру, преследовать не только дурные нравы, но и то, что их вызывает: ярмарки, шутов, всевозможные развлечения, где священное путалось со светским. Коротко сказать, задача заключалась в том, чтобы вновь обрести добродетели первохристианской Церкви и вернуться к традициям святых отцов. Какое удивительное совпадение с идеалом лучших москвичей того времени!
Отчасти и благочестие как на Западе, так и в России питается теми же источниками: св. Дионисием Ареопагитом, отцами-пустынниками, Иоанном Златоустом, «Лествицей» св. Иоанна Лествичника, Аввой Дорофеем, учением о значении краткой и долгой молитвы, строгими постами, требованием, чтобы даже миряне полностью вычитывали службы. Дар слез ценится латинянами XVII века не меньше, чем прямыми учениками сирийско-византийских мистиков.
Для того чтобы более плодотворно работать над этим великим делом возрождения церкви, многие верующие объединяются в Общество поклонения Святым Тайнам. От этого Общества исходят самые плодотворные начинания. Оно имеет свои отделения в провинциальных городах, друзей, занимающих высокие посты как в Церкви, так и в государстве. Однако действует это Общество независимо от церковных и светских властей, а возможно, и без их ведома. Приблизительно также действует в Москве и кружок боголюбцев.
Но задача насадить в мире христианство является чрезвычайно трудной. Столь смелая реформа наталкивается на людскую слабость и на противодействие властей. Св. Франциск в Вэлей, Олье в Сен-Жермене являются такой же жертвой своих прихожан, как Неронов, Аввакум и Даниил в своих селах на Волге.
Среди ревнителей благочестия выступают разные характеры и типы. Одни стремятся к почти монашескому совершенству. Если большинство не достигает этого идеала, тем хуже. Они, видимо, оставлены Богом. Эта школа Порт-Рояля, матери Анжелики и Ордена Отшельниц. Они похожи, как родные братья, на суровых ревнителей Москвы, на будущих старообрядцев. Перед нами встает св. Киран, который всегда молится босой и с обнаженными ногами, эти непрерывные поклоны, эти слезные молитвы, эти кровавые и пламенные покаяния, это мнение, что «нет науки, какой бы она ни была возвышенной (включая богословие), которая не вредила бы человеку, если он не стремится к любви», этот трепет перед суровым Божеством, более близким к идее Иеговы, чем к евангельскому Доброму Пастырю, это одноголосое пение без всяких музыкальных украшений, эти схватки с демонами, но также и чувство близости Божества, что подтверждается постоянными чудесами, эта гордость своей правотой христианина перед гражданскими властями. Все это очень похоже на то, что совершается в далеком Московском государстве.
Другие соразмеряют свои требования с возможностями, открытыми для большинства. Они принимают мир со всеми его треволнениями и красотами, принимают искусство, литературу, театр, увлечение политикой. Объединившись с миром, они сотрудничают с ним в стремлении достичь лучшего будущего. В центре этого движения находятся иезуиты. Однако они не одни, сюда примыкают также св. Винсент де-Поль и Содружество Сестер Царицы Небесной, которые унаследовали духовное богатство св. Франциска Сальского. В Москве их место занимают Никон и его сторонники.
Между этими двумя направлениями нет резкого разрыва: многие отказываются решительно примкнуть туда или сюда. Очень долго в церкви продолжает господствовать более строгая практика, наряду с более свободной. Достаточно вспомнить в середине XIX века священника Арского, который воспрещал какие бы то ни было развлечения. Самое большое зло вытекает из внешних обстоятельств: из честолюбия и соперничества отдельных лиц, и особенно из того, что группа Порт-Рояля приняла янсенистскую точку зрения на благодать. Трактат «Августинус» высказывает богословское мнение, дотоле неведомое простецам, но более или менее уже намеченное в практике ригористов, именно что падшая человеческая природа является до конца испорченной. Но это мнение еще не является окончательным: пять основных его положений отвергаются самим Арно. Сперва все сводится к фактам и поведению христианина, потом к вопросу о подчинении: Порт-Рояль восстает против Рима. Такая же картина и в Москве: разрыв происходит сперва в связи с обрядами и отношением к грекам; потом возникает вопрос канонического порядка: подчинение патриарху и царю.
Во Франции, как и в России, раскол осуществляется не сразу. Начинается дело с янсенистов, которые были твердыми и последовательными христианами. Паскаль, например, или Николай Павильон, были ли они раскольниками? На некоторое время во французской церкви устанавливается мир, как и в России после ухода Никона.
Тут наблюдается еще одна интересная черта сходства: янсенисты, чтобы заинтересовать широкие круги, используют для распространения своих богословских мнений общенародный язык: они оказываются «самыми лучшими грамотеями» во Франции; старообрядцы первыми начинают писать по-русски, а не по-славянски, в большом количестве создают различные сочинения, челобитные, письма, жития и трактаты. И у тех, и у других большую роль играют женщины. Янсенисты, сперва близкие к епископату, затем начинают опираться на городских священников, во главе старообрядцев стоят протопопы.
Но уже с самого начала различия намечаются все резче: архиепископ Перефикс в 1664 г. говорил о монахинях Порт-Рояля, что они «чисты, как ангелы, и горды, как демоны»; приблизительно то же самое говорит митрополит Питирим о боярыне Морозовой. Усиленная полемика вызывает взаимное недоброжелательство, несправедливые упреки, а наряду с этим – словопрение. Идут бесконечные споры – пока еще между единоверцами. Затем наступает разделение, и одна часть церкви решается жить без церковной власти. Ставится вопрос о таинствах. Благочестивый Гамон, не сомневаясь в действенности таинств, считает их необязательными: необязательно даже и крещение. «Нам достаточно обратиться к Исповеднику сердца – Господу Иисусу Христу, и Он отпустит нам грехи». В случае нужды «все верные могут стать царственным священством Христовым».
Янсенизм засыхает, превращаясь в рационализм, или расплывается в индивидуалистическую и беспорядочную мистику. Он, невольно, устремляется как раз в обратном направлении желаемой цели; он способствует потрясению христианского мира. Старая вера могла бы подчинять русскую вольницу более строгим верованиям, религиозным обычаям и нравственным требованиям. Увы! Она делится на бесконечное количество подразделений, из которых некоторые носят рационалистический, а другие мистический характер. Между конвульсиями Сен-Мэдара и кружениями хлыстов имеется очевидное сходство.
Осталась ли чистой и неповрежденной сама Галликанская церковь? От нее отошли многие глубоко верующие христиане, настолько же увеличилось количество христиан поверхностных. Но самое главное, что светские власти, вооружившись не столько на борьбу за догмат, сколько против непреклонных христиан, буквально «задавили ее своими щедротами». Удивительный расцвет духовной жизни первых шести десятилетий века, – эта эпоха святых – сменилась эрой «великого короля»: парадной религией, где отсутствовала глубина. Затем наступил XVIII век с епископами-«философами»: наконец, пришел Талейран. Религия, говорилось в это время, хороша для народа, но не для просвещенных умов. Сколько раз Франция стояла на грани цезарепапизма! Россия, начиная с Петра Великого, вступила в него. Итак, неудача реформы, если она и была различной, была и тут и там одинакового характера.
Если во Франции можно было наблюдать разрыв между разумом и верой, а позже между народом и верой, то не потому ли это, что первые реформаторы, в целях очищения религии, вырыли слишком глубокий ров между священным и мирским? Изгнать из храма Нотр-Дам-дю-Пор в Клермоне безобразный маскарад так называемых «невинных» означало вернуть храм Богу, но вместе с тем и отдалить людей от Бога. Запретить в Марселе «прощенную неделю», вследствие связанных с нею попоек, означало не что иное, как помешать христианам в начале поста взаимно прощать друг другу грехи, а это означало порвать древнюю связь с другими церквами, в первую очередь связь с русской церковью; и это также вызывало ожесточение сердец. И так везде. Сначала светское начало смирилось. Но затем, когда оно начало протестовать, то духовенство, представлявшее собой как бы отдельное сословие, оказалось без влияния на широкие массы. А когда успехи наук вызвали к жизни новую философию, то богословие, укрывшееся в своей собственной области, уже не смогло направлять их. Когда экономические отношения усложнились, то заповедей индивидуальной морали оказалось недостаточно. Затем уже встала проблема вернуть людям церковь, которая как бы отвлеклась от жизни, вернуть ее во все области этой жизни, во все слои населения.
Почему результаты этой неудачи оказались менее трагичными во Франции, чем в России?
Во Франции усилия ревнителей сосредоточились в солидно организованных учреждениях: в Ордене «Посещения Богородицей св. Елисаветы», в Оратории, Ордене св. Сульпиция, в семинариях, а также в больницах и колледжах, наконец, в Миссионерском ордене. Когда наступил период религиозной сухости, эти учреждения остались со своими традициями, своим уставом, созданным их основателем. В любой подходящий момент они были готовы снова расцвести. В России ничего подобного не было: никоновские справщики, в такой же мере как их предшественники, нимало не создавали грамотных богослужебных книг; и те и другие оставляли проблему исправления богослужебных книг фактически без решения. Дионисий и Неронов, приобретая учеников, не питают мысли о создании семинарии; нет человека, который мог бы создать ядро большой реформы монастырей. Ничего нет готового, нет базы для будущего сопротивления, для будущего возобновления работы. Отсюда вытекает абсолютное бессилие, а отнюдь не относительная слабость церкви, поставленной перед лицом враждебных ей сил.
Это бессилие русской Церкви вытекает в еще большей степени из ее национальной изоляции. Против всех начинаний государственной власти Галликанская церковь имела прибежище: авторитет святого Римского Престола. Даже те, кто давали термину «галликанский» наиболее схизматический характер, предусматривали право обращения к Вселенскому Собору. И, соответственно, даже при «Божественном праве» Людовика XIV или под сапогом Наполеона мы ни разу не видели эту церковь полностью подчиненной. Напротив, русская церковь, отделенная не только от Рима, но и от Византии, представляла собой церковь сиротствующую, предоставленную всем прихотям ее опекунов.
Это сопоставление не стоило бы и делать, если бы оно представляло лишь внешний интерес. Нет, более того, оно может дать материал для тех, кто наблюдает великие идейные движения, кто следит за историей религии, за сдвигами религиозной психологии. Меня же эта аналогия задевает с другой стороны. Она показывает, насколько, в сущности, едино христианство на Востоке и на Западе. Несмотря на отсутствие контактов, несмотря на невежество и отрицательные тенденции, болезни, подлежащие лечению, одни и те же. Те же и стремления, и средства к достижению цели.
Просто волнует внутренняя близость между католиками и этими православными XVII века. Она выявляется во всем, вплоть до деталей, выражения мысли, обычаев, выявляется в тысяче черт, которые я не могу даже и перечислить. Надеюсь, что эти предварительные замечания достигнут того, что читатель будет с правильной снисходительностью и с симпатией следить за страданиями и злоключениями этих бедных людей доброй воли: протопопа Аввакума и его друзей.
* * *
Я хотел бы выразить благодарность русским как ученым, так и обычным людям, которые, насколько позволяли обстоятельства, великодушно помогали мне – своими знаниями или личными книгами. Увы, величайшей неблагодарностью с моей стороны было бы их назвать![55]
И напротив, я счастлив выразить благодарность г. Полю Буайе, открывшему передо мной Библиотеку Школы восточных языков, гг. Жюлю Легра и Раулю Лабри, чья дружба оказалась для меня незаменимой, и особенно г. Андре Мазону, который непрестанно, почти ежедневно поддерживал меня, интересуясь моей работой, ее публикацией. Национальный научный фонд позволил мне довести ее до стадии редактуры. Этот труд, возможно, не увидел бы свет без отца П. Дюмона и Поля Буайе, которые пожелали принять его: первый в собрание Центра изучения России «Истина», второй – в библиотеку Французского института в Ленинграде[56].
Предуведомление
Все даты приводятся по юлианскому стилю: он отстает от григорианского на 10 дней, если речь идет о XVII веке.
Библиографические ссылки, приводимые в низу страниц, дополнены в алфавитном порядке в конце книги.
Согласно замыслу автора, к настоящему изданию сделан в качестве дополнения перевод «Жития протопопа Аввакума, написанного им самим», опубликованный с предисловием к нему и комментариями[57].[1]
Глава I Русская церковь после Смутного времени. Стремление к реформе
I Материальные и моральные последствия Смутного времени
Со времени татарского нашествия Россия не переживала потрясений, подобных эпохе Смутного времени. Вслед за борьбой боярских партий за трон вскоре пошли народные восстания против бояр, усугубившиеся внутренними мятежами и вторжениями чужеземцев. Вся страна от южных границ до крупных городов на Севере, от Пскова и Новгорода до Урала, попала в этот водоворот. Оказались затронутыми все социальные группировки либо как действующие лица, либо как жертвы событий. Кризис, начавшийся смертью царя Федора 7 января 1598 года, продолжался еще в течение долгого времени после избрания царем Михаила Романова в 1613 году. С самого начала события приняли форму всеобщего крушения государства, церкви, нравов и бытовых устоев, что сопровождалось ужасающей материальной разрухой. Всеобщность катастрофы поражала человеческие умы, ставила проблемы перед мыслителями и налагала на сознательных людей[58] определенные обязанности. Теперь трудно представить себе, в каком опустошении находилась в то время большая часть Руси.
В западной и центральной частях Руси, уже много перенесших в связи с политикой Ивана Грозного в последней трети XVI столетия, население катастрофически редело. Затем удар был нанесен Поморью, бывшему еще недавно в полном расцвете своих сил; там тоже после отрядов Лисовского и Сапеги крестьяне еще долго твердили, говоря о пустопорожних землях: «Пустошь, бывшее селение такое-то». Там, где прошли поляки и казаки, очень часто оставалось не более четверти прежнего количества обитаемых дворов и обработанных земель. У богатого Троице-Сергиева монастыря, владения которого простирались на 196 000 гектаров земли, охватывая 60 самых разнообразных областей[59] и который обладал более чем кто-нибудь другой средствами для поддержания этих владений, в 1614–1616 годах[60] насчитывалось не более 1,8 % пахотной земли вместо 37,3 % пахотной земли, имевшейся в 1592–1594 гг. Фактически, от прежних пахотных земель почти ничего не осталось. И сколько было при этом разоренных деревень и убитых крестьянских семейств! Во время голода 1601–1603 гг. в Москве на трех кладбищах («скуделницах») было погребено 127 000 трупов крестьян, сбежавших из деревень, не считая умерших горожан, которых обычно хоронили вокруг четырехсот московских церквей[61].
В истории городов и монастырей эти годы характеризуются ужасными разрушениями и убийствами. По словам одного летописца, в Угличе было сожжено 12 монастырей, 150 церквей, 12 000 домов и было убито, повешено и утоплено 40 000 человек[62]. В Спасо-Прилуцком монастыре[63] 18 декабря 1612 года было убито 200 человек, из них 59 монахов, которых сожгли в самой трапезной; в феврале 1614 года татары, посланные на защиту остатков монастыря, опустошили его, а в 1619 году он сгорел дотла[64].
В ночь на 24 сентября 1612 года на Вологду нападают «поляки, литовцы, черкесы[65], казаки и русские отряды»: они убивают жителей города, оскверняют церкви, поджигают город и его окрестности. Теперь, как пишет архиепископ Сильвестр, Вологда представляет собой не что иное, как дымящиеся угли. Все это произошло из-за небрежности местного правителя Одоевского. Слишком поздно приезжает на место воевода Образцов со своей ратью; никто не повинуется, стоит сплошной грабеж. Вообще, все происходит из-за пьянства: пьянство воевод погубило Вологду[66].
Разруха и избиения приняли еще более ужасающий характер из-за сопутствующих им обстоятельств: «русские разбойники» присоединялись к внешним врагам для нападения на своих же русских собратьев; поголовно везде наблюдалось аморальное поведение даже тех, которым надлежало служить примером; наблюдалось неслыханное распространение всех пороков: вероломства, лицемерия, продажности, подлости, невоздержанности, сластолюбия, себялюбия, всеобщей ненависти и скупости. Чувствовалось какое-то непостижимое сцепление преступлений и бедствий. Шли дикие казни по примеру совершавшихся Иваном Грозным или вроде умерщвления его юного сына Димитрия по приказу Годунова, и вместе с тем по всей Руси о невинно пролитой крови царило жуткое молчание; господствовал отвратительный, гнусный террор, при котором отец боялся разговаривать с сыном, а брат с братом; распространялось пристрастие к иностранным обычаям, склонность к роскоши и пиршествам даже у купцов и крестьян; вскоре наступил голод; везде распространено было лихоимство сильных мира сего, жадность торговцев, особенно зерном и порохом, лекарей; сами русские были чужды друг другу; шла гражданская война и совершались вторжения иностранцев; повсеместно распространялось презрение к церковным заповедям; святыня же осквернялась еретиками.
Неслыханная вещь: сама вера в Святой Руси, с гордостью провозгласившей себя преемницей Рима и Византии, была подорвана. Был такой момент, когда налицо было четыре патриарха: Иов, свергнутый Лжедмитрием; Игнатий, изгнанный после падения узурпатора; Филарет, вначале принятый царем Василием; наконец, Гермоген, законным образом принявший власть![67]
Церковь оказалась во власти политических интриг. Храмы служили конюшнями для лошадей; перед алтарями кормили собак; блудницы пользовались священными сосудами для обмываний; иконы осквернялись; монахинь заставляли есть мясо во время поста; священники подвергались оскорблениям и пыткам, а верующие, изгнанные в необитаемые места, умирали без исповеди.
Царь, и особенно царица, которая предалась латинской ереси[68], угрожали самому православию. А потом поляки заняли Москву и самый Кремль. В часы своего досуга священник Иван Савельевич Наседка, бывший свидетелем этих печальных картин и впоследствии возвратившийся в Троице-Сергиев монастырь для служения в монастырской церкви, предоставленной в распоряжение жителей взамен разрушенных приходских церквей, размышлял так: «Некогда латиняне отошли от православия, а затем все страны Запада впали в лютерскую ересь. Православие умерло и у нас на Руси, покоренной еретиками». И он в отчаянии плакал[69].
Авраамий Палицын, келарь Троице-Сергиевого монастыря, писал в 1615 году: «Не было никогда еще таких бедствий и никогда не будет»[70].
II Религиозное пробуждение: необходимость моральной реформы. Ненависть к латинству, недоверие по отношению к другим православным (русским, проживающим на Западе и Юге, к грекам). Возвышение Московского Православия
Русский народ во всех своих бедствиях всегда чувствовал карающую десницу Божию. И во время всех этих страданий народ, осознавая с ясностью свою вину, чувствовал, как его ныне карает Господь. Раз вся страна переживала такое испытание, значит она заслужила это за бесчисленные грехи некоторых людей, за грехи мирские, грехи всего общества. Не было невиновных, у каждого было в чем раскаиваться, было в чем исправляться. Это убеждение находило свое подтверждение у восторженной души народа в видениях и небесных предостережениях.
В ночь на 12 октября 1606 года один московский мещанин видел следующее. В Московском Успенском соборе Матерь Божия обратилась к своему Сыну со следующими словами: «Сжалься над русским народом, ибо многие из них жаждут покаяться». А Сын ее отвечает: «Нет, слишком много печалят они меня своими развращенными нравами: осквернили они церковь Мою праздными разговорами, они ругаются, обрезают друг другу бороды, впадают в содомский грех, нарушают законы, воруют». Пресвятая Дева вместе со св. Иоанном Крестителем и со всеми святыми продолжают умолять Христа. Но Христос не соглашается выполнить их просьбу. «Нет больше правды ни у царя, ни у патриарха, нет ее и в церковных порядках и нет ее совсем у моего народа». Наконец, Христос уступает настоятельным просьбам: «Я пощажу их, если только они покаются». Об этом видении московский мещанин доложил протопопу Терентию, вслед за чем была объявлена неделя поста и молитв[71].
Это видение было настолько нелестно для гражданских и церковных властей, что их нельзя заподозрить в том, что они его выдумали. Оно выражает переживания народа в целом: жажду справедливости и милости в таком океане зла.
Мы видим, как в эти годы появляются праведники, отшельники и затворники, вокруг которых собираются толпы взволнованных людей, жаждавших наставления.
В большом Борисоглебском монастыре близ Ростова Иринарх, сын простого крестьянина из пригорода, надевает на себя все новые вериги по мере того, как бедствия все больше и дольше довлеют над Русью, но в 1608 году он покидает свою келью и идет «говорить правду» царю Василию. Своими добродетелями он внушает уважение Сапеге и полякам, которые не осмеливаются трогать его монастырь. Он благословляет на подвиг спасителей страны Скопина-Шуйского, Минина и Пожарского, а впоследствии – Лыкова. Он таинственно появляется на горизонте истории в горестное для страны время и исчезает вместе с ним в 1616 году[72]. Рядом с ним мы видим появление целого сонма праведников. Тут – в Ростове – Тихон, Александр, Пимен и Корнилий, в Переславле – Дионисий, на Клязьме возникает по почину неизвестного праведника скит святого Георгия, в Вологде – появляется Галактион. Последний, будучи сыном боярина Бельского, казненного по приказу Ивана Грозного, скитался в течение долгого времени, занимаясь сапожничеством, потом пришел в Вологду проповедовать обновление нравов; он был убит поляками во время резни 1613 года, которая и была им предсказана. В критические времена Русь, подобно Израилю, имела своих пророков. Все они вели один и тот же образ жизни, скитаясь в веригах, нередко они привязывали себя к стене своей кельи, не прикасались ни к мясу, ни к рыбе, ни к маслу, но они принимали множество людей, приходивших к ним с душой, полной скорби[73]. В те времена многие создают для себя монастыри и скиты: с 1598 по 1618 год в «Истории российской иерархии» таковых зарегистрировано 48, за двадцать лет их создалось столько же, сколько за предыдущие сорок шесть лет[74]. Таким образом, в глубине народной души повсеместно проявлялось стремление к моральному и религиозному обновлению, которое было вызвано страхами и ужасами Смутного времени.
Другим чувством, которому суждено было укорениться в эти годы, было чувство ненависти и сознание непреодолимой пропасти между православными и латинянами. Прежняя ненависть, унаследованная еще от греков, вспыхнувшая снова позже в результате неудачной попытки соединения церквей митрополита Исидора после Флорентийского собора, сначала не выходила из официальных кругов, но уже Брестская уния в 1596 году усугубила положение вещей: западная и южная Русь, подчиненная Польше, в основном перешла под власть папы, с постепенно латинизируемой литургией и с постепенно уменьшающимся количеством православных иерархов; в то же время низшее духовенство терпело там массу притеснений; православные пытались мстить за это заимствованием у протестантов их нового антикатолического арсенала: Рим был объявлен Вавилоном Священного Писания, а папа был назван антихристом[75]. Все это узнавалось через выходцев с Запада и из книг; и слухи о тех опасностях, которым подвергалась вера за границей, распространялись широко. В 1601 году Мартин, иезуит, сопровождавший Сапегу в Москву, с горестью констатирует: «Русские питают неумолимую ненависть к католикам, они полны предубеждений против папы, упорно придерживаются их и не желают дать себя переубедить»[76]. Но теперь уже все население городов и деревень было в ужасном негодовании: даже в Москве была пролита христианская кровь; эти латиняне, поляки и литовцы, – были настоящие «язычники»! Иначе их и не называли. Их соучастника беглого монаха-расстригу Отрепьева принимали за посланца антихриста. Булочник Федор, когда его вели на казнь, бросил этот самый упрек толпе: «Се прияли есте образ антихристов и поклонистеся посланному от сатаны»[77].
Слово «латинянин», более чем когда бы то ни было, стало синонимом национального и религиозного врага[78].
Между тем, эти литовцы или белорусы, или эти запорожские казаки, которые называли себя православными и которые, вместе с поляками, грабили монастыри и оскверняли церкви, также не могли быть истинными христианами. Это ведь именно они впоследствии, как они сами признались, с 1612 по 1614 год разграбили все Поморье вплоть до Архангельска и Олонца: «Опустошители нашей истинной православной веры, – они надругались над Крестом Христовым»[79].
В 1618 году 20 000 казаков сопровождали Владислава, сына польского короля, в его поездке в Москву. Все эти люди были довольно равнодушны к религии, во всяком случае очень далеки от характерного для Москвы глубокого благочестия. Их нравы вызывали негодование. Поэтому очень легко было заподозрить их в латинизме. Все то, что шло с Юга и Запада, надолго останется у русского народа под подозрением[80].
Но лжепатриарх Игнатий, ставленник Лжедмитрия и его приспешников, которого считали переодетым униатом, был грек. Какое своевременное напоминание о падении греков, соблазненных Римом[81], наказанных гибелью Константинополя и с тех пор обесчещенных, продажных, оскверненных своей зависимостью от нехристей! Существовавшее уже около столетия мнение о них ныне подтверждалось печальной действительностью.
Таким образом, русские могли рассчитывать только на самих себя: только в Москве существовала незапятнанная, чистая вера. В других местах везде, даже у их братьев по крови и вероисповеданию, православие было загрязнено ересью. Москва, со своим патриаршим престолом, воздвигнутым в 1589 году и уже освященным двумя мучениками, Иовом и Гермогеном, была третьим и последним Римом, «превосходя по благочестию все древние империи» а царь ее был «единственным во всем мире» христианским властителем[82]. И, однако, именно эта Москва чуть было не погибла и была так сурово наказана Провидением!
Таковы были переживания, волновавшие русский народ в конце эпохи Смутного времени и начале царствования Михаила Федоровича. Естественно, что после пронесшейся бури льстившая самолюбию русских идея о превосходстве московского благочестия должна была одержать верх над стремлением к покаянию и реформе. Народ видел необходимость возрождения, но по причине человеческой слабости он не имел воли заставить себя пойти по этому пути. Но толчок был дан. Несколько избранников взяли на себя выполнение священного долга, однако даже и у них оказались свои собственные своеобразные внутренние настроения. Они пошли в значительной степени своим путем, не считаясь с толпой; противостояли народным обычаям и нравам, либо приписывали народу слишком возвышенные идеалы. Это и явилось причиной разногласий между массой верующих и лучшей частью духовенства, а затем должен был неизбежно наступить разлад и в среде самих сторонников реформы.
Первый период (1616–1633): Филарет и Дионисий
I Дионисий из Троицкого монастыря и исправление церковных книг
Троице-Сергиев монастырь, расположенный в 60 верстах севернее столицы, проявил себя в самые тяжелые минуты как оплот православия и борьбы за национальную независимость против захватчиков, а впоследствии и как вдохновитель отрядов, несших народу освобождение. Как только миновала опасность, он оказался, под руководством своего архимандрита Дионисия, главным оплотом церковной реформы.
Дионисий из деревни Зобнино является одним из самых симпатичных деятелей своей эпохи[83]. Он родился во Ржеве, в Верхнем Поволжье, в крестьянской семье; его отец был избран старшиной Ямской слободы в Старице. Его воспитали старицкие монахи, он был в течение шести лет священником в посаде этого города и являлся одним из первых сельских священников, которые были призваны сыграть большую роль в XVII веке. После смерти жены и двух сыновей он поступает в монастырь. Благодаря своим способностям и добродетелям, он вскоре был поставлен в архимандриты и проявил в этой должности определенную смелость, оказав, несмотря на приказ царя Димитрия, горячий прием впавшему в немилость патриарху Иову. История предназначала ему политическую роль, к которой он отнюдь не был предназначен в силу скромности и мягкости своего характера: новый патриарх Гермоген оставляет его в Москве в качестве своего помощника. Он не отказывается от этого поста, успокаивает брожение в массах, подает советы царю, но всегда с трудом покидает свою келью и службу в соборе. Наконец, в 1610 году ему вверяют обитель преподобного Сергия. Тут он восстанавливает развалины после 16-месячной осады, оказывает приют беглецам, кормит голодных и, что самое главное, пишет послания в разные крупные города, призывая жителей к защите веры и родины. Это апогей его гражданской деятельности.
Но у него были и другие стремления. Как только обстоятельства позволили, он принялся за дело, огромное значение которого он, несомненно, предвидел: обновление Церкви. Обрушиться непосредственно на весь верующий народ было нереальным. Для того, чтобы воздействовать даже на монахов, которые в разгар самой осады предавались пьянству и разврату, на бояр, всегда готовых к грызне между собой, притом невежественных и грубых, для всего этого нужна была другая рука, чем та, которая была у него. Мягкому и снисходительному пастырю легче было исправлять книги, чем людей.
Еще раньше Дионисий нашел в богатой библиотеке Свято-Троицкого монастыря рукописи Максима Грека, ученого монаха с Афона, которого пригласили для перевода Толковой Псалтыри, испорченной еретиками-жидовствующими, и которому поручили потом пересмотреть Триодь, Толковое Евангелие, Пролог, Праздничную Минею и Апостол. Вскоре его обвинили в дискредитации русских святых, празднования которым отмечались согласно древним книгам, и осудили его как еретика; его заключили в тюрьму и, в конце концов, он умер в Троицком монастыре 21 января 1556 года[84]. Дионисий считал себя его учеником. Его писания были запрещены, однако он все же показывал их монахам. Он решил продолжать дело Максима Грека.
Самой необходимой книгой для богослужения, которой пользовались почти ежедневно, была книга, содержавшая чин трех литургий с главными молитвами, чин крещения, погребения и различных чинопоследований, именуемая то Служебником, то Требником. Она существовала в рукописном виде, конечно, в очень большом количестве экземпляров, относившихся к различным эпохам; рукописи эти сильно отличались одна от другой и содержанием – одни состояли из 89 глав, другие из 141 главы и даже из 159 глав – и формулировками молитвословий различных обрядов. В 1602 году эта книга была впервые напечатана. Тогда удовлетвори лись перепечаткой одного полноценного экземпляра XVI века, не интересуясь сопоставлением одной рукописи с другой.
Осенью 1615 года встал вопрос о переиздании Служебника-Требника. Авраамий Палицын, келарь Троицкого монастыря, находился в это время в столице по денежным делам монастыря; он добился того, чтобы переиздание этой книги было связано и с некоторым упорядочением существовавшего в ней хаоса, с тем, чтобы церковь получила действительно тщательно проверенную книгу. Он пользовался достаточным авторитетом и ему удалось также добиться того, чтобы выполнение этой задачи было доверено его монастырю; по его просьбе Дионисий поспешил направить в Москву самых просвещенных мужей из своего ближайшего окружения: монаха Арсения Глухого и священника Ивана Наседку. Более того, он вынес решение, чтобы вся работа по пересмотру книги производилась в Троицком монастыре особой комиссией под руководством архимандрита Дионисия; об этом гласил специальный указ царя от 8 ноября 1616 года[85]. Из того, что нам известно, видно, что во всем этом деле Палицын и Наседка выступали по прямому поручению Дионисия.
Справщики сравнивали издание 1602 года с более чем 20 славянскими рукописями, иногда 150– и 200-летней давности, среди которых был один верный экземпляр известного Служебника, переведенного с греческого в 1397 году митрополитом Киприаном. Так как царь требовал от них быстроты выполнения поручения, то они трудились «без преувеличения восемнадцать месяцев днем и ночью»[86]. В своей работе они проявили большое усердие и проверили, кроме Служебника-Требника, много и других богослужебных книг. Наконец, к весне 1618 года они представили свои поправки. В них были некоторые сокращения и изменения.
В молитве освящения воды накануне Богоявления в издании 1602 года было написано: «Сам и ныне, Владыко, освятив воду сию Духом Твоим Святым и огнем». Слов «и огнем» не было в наиболее древних рукописях; они появились только в XVI веке, сначала они были введены скромно, вставленными на полях или над строкой и только позже появились в самом тексте; их, якобы, не было в греческих книгах. Отрицание этих слов исходило, конечно, от греческого епископа из Елассона, Арсения, нашедшего убежище в России и получившего затем суздальский епископский престол. Эта вставка в тексте была залита чернилами.
Были также упразднены две молитвы, которыми священник перед служением отпускал себе свои собственные грехи: они были неподобающим образом заимствованы из обрядов исповеди (то были слова, обращенные исповедником к своему духовнику, причем они были из второго лица переведены в первое); до конца XVI века они в указанном месте не встречались.
Много изменений было внесено в формулировки молитв. Справщики заметили, что некоторые молитвы, обращенные к одному лицу Святой Троицы, заканчивались словами, относящимися ко всем трем лицам: «И Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу». Нельзя ли было подразумевать под этим, что Отец, Сын и Святой Дух представляют собою одно лицо? Это была савеллианская ересь, смешивавшая лица Святой Троицы. Ведь писали же в конце молитв, обращенных к Сыну: «Тебе бо подобает всяка слава, честь и поклоняние со Безначалным Ти Отцем и со Пресвятым Благим и Животворящим Ти Духом»[87]. В других местах, согласно другим формулировкам, можно было бы подумать, что Святая Дева была матерью Бога Отца, либо что воплотился Бог Отец. Все это было исправлено и в Служебнике-Требнике, и в других книгах, в Псалтыри и особенно в Уставе, который был доставлен головщиком хора Троицкого монастыря Логгином.
Справщики всюду находили бесчисленное количество ошибок в знаках препинания и в окончаниях слов. Эти ошибки, как будто простительные с внешней стороны, в сущности угрожали самому православию: они внушали то манихейское учение, разделяющее Сына Божия от Сына Пресвятой Девы Марии, то ересь Ария с ее тремя сущностями в Святой Троице, то, в других местах, они смешивали две природы во Христе или вводили ересь Пирра, Сергия и Павла, преданную анафеме шестым Вселенским собором при Константине Брадатом, иными словами, они намекали на монофелитство.
Во всей этой критике чувствовался подлинный грамматист и логик, каким был Арсений Глухой: он изучил у св. Иоанна Дамаскина разделение на восемь частей речи, сам составил краткую грамматику, составил элементарное пособие для разговора и письма и немало этим гордился. Чувствовался в этой работе и такой тонкий богослов, каким был Наседка, и такой знаток богослужения и любитель прекрасных и благолепных обрядов, каким был архимандрит Дионисий, у них у всех были свои духовные запросы, которые не вполне совпадали с наивной религиозностью того времени – как верующих, так даже и большей части духовенства.
На соборе, собравшемся 4 июля 1618 года, по требованию Дионисия, для обсуждения предлагаемых исправлений, произошла дискуссия, которая приняла необыкновенно ожесточенный характер. Самые сильные нападки исходили от монашеской братии самого Троицкого монастыря, от екклесиарха Филарета, иеромонаха Филиппа, пономаря Маркела, от того самого справщика Логгина, которого до этого подвергли критике за правленный им Устав, а также от Дорофея, канонарха Новоспасского монастыря, и от Авраамия, архимандрита Чудова монастыря.
Не приходится говорить о зависти духовенства Москвы по отношению к Троицкому монастырю, потому что главные обвинители были именно из этого монастыря; нельзя также говорить о простых личных ссорах духовенства внутри Троицкого монастыря, так как эти споры и диспуты не могли определить характер собора в целом, на котором присутствовали даже «миряне, сведущие в божественных Писаниях»; нельзя говорить тут и о простом невежестве, потому что по крайней мере Филарет, Логгин, Дорофей, Авраамий в силу самого характера своего служения были хорошо знакомы с церковными книгами. В общем, можно сказать, что это собрание отразило некоторую среднюю линию в русской церкви: оно сочло слишком смелым и дерзновенным трогать, ради требований логики или словесности, тексты, освященные одновременно и обычаем, и самым фактом того, что книги были напечатаны. Одна напечатанная книга пользовалась бóльшим авторитетом, чем большое число рукописей с различными разночтениями.
Спор коснулся особенно слов «и огнем», которые были связаны с видимым и выразительным действием: во время освящения воды служащий священник опускал в сосуд горящие свечи. Этому обряду приписывали символическое значение; его связывали с текстом Священного Писания – Лк. 3: 16: «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Исключить эту формулу означало исключить также и почитаемый обычай. Исключить же ее хотели потому, что эта формула не встречалась в древних греческих книгах! В 1618 году имел место конфликт между требованиями разума и традицией, между точкой зрения, с одной стороны, передовых людей того времени, которые стремились вернуть церковь к одному определенному истоку, который считался чистым, а именно к Греции, и, с другой стороны, между общим чувством верующих, которые считали, что русская церковь, наоборот, имела право развиваться, обогащаться и изменять свои книги применительно к условиям своей жизни. Это последнее было чувством большинства, и оно победило: Дионисий и его соратники были осуждены, по-видимому, единогласно; и царь утвердил приговор[88]. Особенно жестоко поступили с архимандритом. Он был приговорен к покаянию, заключавшемуся в тысяче поклонов в день, его мучили голодом, жаждой, окуривали, подставляли его и его учеников под удары и оскорбления озверелой толпы. По-видимому, булочники и пирожники особенно обозлились на новых еретиков, которые говорили «долой огонь». Даже в отношении Дионисия, известного и почитаемого человека, народ стал на сторону Собора и древней практики.
Помог ревнителям чистоты Иерусалимский патриарх Феофан. Приехав в Москву в апреле 1619 года по делам своей церкви он заинтересовался своими братьями учеными-богословами и добился смягчения их участи и пересмотра их дела.
Вопрос об огне продолжал, однако, и далее волновать образованных людей Москвы. Подъячий Антоний Подольский, который хвастался тем, что лучше всех на Руси знал грамматику и диалектику, уже к тому времени составил длинный трактат «О просветительном огне», в котором он упрекал справщиков за то, что они отрицали «благодать Святого Духа, снизошедшую на апостолов в огненных языках»[89]. Наседка ответил ему трактатом из тридцати пяти глав, обвиняя его в ряде последовательных тезисов в том, что он изобрел новое крещение огнем, что он «оплевал древние греческие и русские рукописи» с тем, чтобы верить лишь печатной книге, что он возвел огонь в четвертое лицо Троицы, что он выдумал «просветительный огонь», о котором никто никогда не слышал, что он из гордости захотел изведать неисповедимые тайны, что он приписал материальному началу свойство освящать воды и тому подобные ереси. Арсений Глухой написал в порядке самозащиты послание протоиерею Ивану Лукьяновичу и речь к Салтыкову: он сваливал всю ответственность за это на своих собратий – архимандрита и «вероломную лисицу» Наседку. Дионисий со своей стороны составил весьма достойную речь, сугубо оправдательную, с приведением текстов из Священного Писания и святых отцов, на которые ссылались его противники; речь его заканчивалась следующими положениями: мы должны опасаться 1) отделения от святых отцов; 2) сближения в чем бы то ни было с латинянами; 3) утверждать что-либо о прикасаемости и познаваемости Святого Духа.
Вот в чем в таком случае состояла ересь латинян: если вода освящается Святым Духом как таковым, а равно и Святым Духом Огнем, то, значит, имеется два Святых Духа, из которых первый исходит от Отца, а Второй от Сына.
Когда в конце июня отец царя, Филарет, митрополит Ростовский, находившийся до тех пор в плену у поляков, прибыл, чтобы занять пост патриарха, который для него берегли в течение семи лет, дело справщиков приняло уже неотложный характер. 2 июля был созван новый собор. В течение более чем восьми часов задавали вопросы одному только Дионисию. Он был, также как и его сподвижники, полностью оправдан и торжественно восстановлен в должности архимандрита. Однако Филарет не спешил принять исправления: в новом издании Требника, изданного в 1623 году, слова «и огнем» были сохранены с упоминанием на полях «впредь до решения собора». И только после того, как патриархи Александрийский и Иерусалимский прислали свое письменное свидетельство о том, что этих слов ни в одной греческой книге не было, со своим мнением по данному вопросу, а также прислали удостоверенный ими текст молитв на освящение воды, 9 декабря 1625 года Филарет предписал изъять повсеместно Служебники, дабы ликвидировать в них осужденное место. Но он ничего не изменил в обряде погружения свечей. Что касается священнической молитвы об отпущении самому себе грехов перед началом службы, то она сохранилась во всех Служебниках вплоть до 1652 года[90]. Таким образом отдали должное людям, у которых были правильные намерения и которые незаслуженно претерпели страдания, но патриарх Филарет вместе с тем понял, что самым главным в то время было нечто другое, а не исправление книг.
II Филарет отвергает латинство, подавляет свободомыслие, опровергает протестантское учение, критикует «литовские» книги, но терпит влияние протестантов
Филарет не был ученым; он был боярином, которого сделали церковным деятелем помимо его воли. Он был не очень заинтересован в перестановке запятых или в выявлении той или другой ереси, что многие вычитывали в плохо составленных фразах; перед ним стояло иное, были вместе со всей массой верующих две общие задачи: защитить православие от внешних нападок и восстановить порядок в церкви.
Выстрадав в Польше восемь долгих лет, Филарет вынес из плена острую ненависть к католичеству и глубокое недоверие ко всему тому, что могло бы перенестись в Москву из области латинства. Благодаря ему чувство озлобления, порожденное или оживленное эпохой Смутного времени, перерождается уже в определенные действия, которые потом становится трудно ввести в определенные берега без острого столкновения с общественным мнением.
Раньше для католиков, желающих принять православие, существовало правило: они должны были быть миропомазаны. В начале XVII века, из-за ненависти жителей России ко всему польскому, они вынуждены были, подобно язычникам и мусульманам и вопреки всем церковным канонам, заново креститься. Однако в 1620 году митрополит Иона разрешил присоединить к православной церкви двух поляков без нового крещения. Филарет упрекнул его за то, что он это сделал в отношении людей, «сущих, аки псов, и ведомых врагов Божиих». Иона напрасно ссылался на 95-е правило 6-го Вселенского собора и на Ответы Нифонта Кириаку[91] – основные руководящие правила церковного устава: невзирая на это, он был запрещен как еретик и 16 октября предстал перед Собором, который и ввел новый порядок крещения латинян. Было указано, что латиняне заимствовали все свои ереси у евреев, монтанистов, манихеев, евномиан, ариан, василиан. К этому они прибавили и ряд своих собственных ересей, как, например, учение о чистилище и новый календарь. Были приведены также 26 пунктов, перечисленные в трактате «О фрязех и прочих латинах»[92]. В результате католиков объявили злейшими и свирепейшими из всех еретиков, существовавших в поднебесной; их крещение было признано не таинством, а осквернением. «Деяния» Собора, составленные в таких выражениях, утвержденные потом Ионой (раскаявшимся 4 декабря 1620 года) и позднее частично вставленные в Требник 1639 года, действовали вплоть до 1667 года[93].
Даже у православных, подданных Польско-Литовского государства, Филарет заметил ужаснейшие непорядки: в одной и той же семье один придерживается православной христианской веры, другой католической, третий лютеранской, другие – кальвинисты, анабаптисты, ариане и все они вместе едят и пьют за одним столом, соединяются браком, а некоторые из них даже молятся вместе… Многие из них во время службы в ектениях молятся за папу и называют себя униатами. Такова была та картина, которую патриарх нарисовал перед новым собором, собравшимся 16 декабря 1620 года для того, чтобы доказать необходимость принятия особых мер по отношению к так называемым православным белорусам. Было решено опросить их об их вероисповедании и крещении и крестить заново тех, которых не крестили троекратным погружением в купели согласно преданию апостолов, заставить отречься от латинской ереси тех, которых крестил униатский священник, а всех остальных заставить после недельного поста подтвердить свою правую веру во время исповеди[94].
Чтобы уничтожить всякое подозрение относительно влияния латинян, было упразднено положение Требников 1602 и 1616 годов, согласно которому разрешалось, в случае болезни, погружать ребенка в купель до шеи и затем правой рукой обливать его голову водой три раза. Те, которые получили такое ложное крещение, должны были снова быть крещены полным погружением в купель[95].
Но безбожие Запада угрожало православию и со многих других сторон. Страны, граничившие с Московским государством, переходя от XVI к XVII веку, являлись поистине центром всех ересей: к лютеранству добавился кальвинизм, затем появились «моравские братья», потом «польские братья», и на этой истерзанной почве зародились учения, уводящие от должного поклонения святыне, и даже учения, доходящие до чистого деизма. Одни отвергали иконы и посты, другие Святое Причастие, третьи Божественность Христа, первородный грех и крещение. Социн и его ученики презирали Ветхий Завет и считали Христа лишь человеком необыкновенной мудрости, правда, достойным определенного поклонения. Будный, не отвергая полностью откровения, отвергал Новый Завет. Иоанн Зоммер доходил до отрицания бессмертия души[96]. Все были охвачены прозелитизмом и обращали свои взоры на Восток. Еще в 1562 году в Несвиже Симон Будный опубликовал свой Катехизис «для простых людей языка русского». Далее возникает уже целая типография, созданная в 1625 году в Стокгольме Густавом-Адольфом, который издает на русском языке краткий лютеранский катехизис с молитвами (1628)[97]. Социниане были не менее активны: был снова найден русский перевод Нового Завета, сделанный в 1581 году в Хорошеве на Волыни, составленный всецело в их духе, согласно польскому варианту[98]. Позднее у них в Радове создался свой «арианский Рим», синод, гимназия, в которой училась тысяча учащихся, типография, в то же время их польский Катехизис (1605), тщательно составленный богословом В. Шмальцем, не нуждался в переводе для того, чтобы его поняли русские молодые дворяне юго-западной Руси. Был такой момент, когда в лице Лжедмитрия Первого они на Руси надеялись иметь своего человека: последний имел в качестве воспитателя, а потом близкого советника Матвея Твердохлеба, который был одним из их проповедников. Новое арианство, очевидно, пустило в нем глубокие корни. 7 ноября 1605 года к нему в Москву направили, в глубокой тайне, целую миссию из ариан, которая оставалась в Москве в течение нескольких месяцев[99]. Нам неизвестно, насколько эта миссия была успешна, но это был еще один удобный случай, по крайней мере для некоторых москвитян, познакомиться с новыми учениями.
Иностранцев-протестантов, обосновавшихся в Москве, было много. В столице они занимали целый квартал на юго-востоке, называвшийся Немецкой слободой. В 1601 году, с разрешения Бориса Годунова, они воздвигли там лютеранскую кирху[100]. У них были там свои пасторы и свои школы. В 1610 году и слобода, и церковь были разграблены и сожжены. Но вскоре после того, как был восстановлен порядок, иностранные колонии образовались снова, на этот раз в самом центре Белого города: в переписи 1621 года там зарегистрировано жилище «немецкого попа» и его помощника. В 1624 году появился и английский пастор. В 1626 году церковь сгорела, но она была снова построена за городской чертой, а в Белом городе образовалась вторая община, на Покровке; она охватывала тех, кого называли новыми немцами, главным образом, военных, взятых на царскую службу царем Михаилом. В 1629 году проживающие в Москве англичане и голландцы приобретают свою церковь, также в Белом городе. Немного позднее путешественник Олеарий насчитает в Москве около тысячи лютеран и кальвинистов[101]. Среди этих иностранцев некоторые пользовались влиянием: то были придворные врачи, офицеры, толмачи в Посольском приказе, купцы, нередко выполнявшие официальные миссии. У многих из них была русская прислуга, которая понемногу отвыкала от православных обычаев.
Кроме того, во время войн многие москвитяне различных сословий сталкивались с неправославными, друзьями и недругами, в образе мышления и жизни которых было мало общего со старым русским благочестием. И в результате не один москвитянин попал под влияние этой проповеди свободы мышления и поведения. Самые выдающиеся умы того времени чувствовали почти неотразимое влечение к иноземной культуре. В 1602 и 1603 годах восемнадцать молодых людей были направлены Борисом Годуновым в Англию, Францию и в Любек; они поехали туда для изучения языков; однако с 1613 по 1622 год непрерывно предпринимались энергичные шаги для их возвращения на родину, но, несмотря на неоднократные требования царских послов и обещания о помиловании, ни один из них не возвратился. Иные из них быстро забывали и свою страну, и цель своей миссии, и свою религию[102].
В то время даже в Москве имелась группа людей, которых больше не удовлетворяли ни обычаи, ни вера их предков. В их души вкрались сомнения и беспокойства эпохи. Ими ставились под сомнение установленные истины, они начали увлекаться богословскими дискуссиями, допускать большую свободу мысли. Они стыдились простоты своего языка, выдумывали по-ученому мудреные слова, без конца удлиняли малоосмысленные фразы, составляли рифмы, силлабические стихи в польском духе. С друзьями начинали уже переписываться в изысканном стиле, состязаясь в вежливости, расточая разные похвалы и уснащая речь эпитетами. В то же самое время возникает и свободное отношение к прежним православным устоям: Москва приобретает своих вольнодумцев и распутников.
Князь Семен Шаховской, в молодости военный, держался довольно неустойчивых политических убеждений: он служит царю Василию Шуйскому, потом переходит на сторону тушинцев, затем к шведам, после этого к Сигизмунду и, наконец, присоединяется к царю Михаилу, получая от всех этих правителей почести или владения.
Из этой жизни, полной приключений, он выносит знание латинских виршей, вкус к спорам, страсть к перу и антипатию к сдерживающим началам старины. Вопреки церковным уставам, в 1619 году он уже в четвертый раз сочетается браком. Тем не менее он выступает против Хворостинина, своего двоюродного брата, скептика в отношении 6-го Вселенского собора, осудившего монофелитов. Он составляет историю убийства царевича Димитрия, пишет письмо шаху Аббасу, убеждая его принять крещение, далее сочиняет речь о московском пожаре 1626 года, службу в честь святой Софии, службу московским и всея Руси святителям, пишет послания своим друзьям, даже автобиографию. В течение всей своей долгой жизни он писал и спорил и был вынужден постоянно страдать из-за своей неосторожности, отсутствия конформизма, отхода от общепринятых мнений[103].
Шаховской всегда считал себя православным в полном смысле слова. Но не таков был князь Хворостинин, который выступал против него скорее с оскорблениями, чем с аргументами, защищая слишком смелые убеждения. Этот надменный и темпераментный молодой человек, очутившийся в восемнадцать дет при блестящем и развращенном дворе Лжедмитрия Первого, не смог устоять перед соблазном. Пошатнувшись в своей вере, он высмеивал православие и презрительно относился к соблюдению постов и христианских обычаев. Отправленный впоследствии на покаяние в Иосифо-Волоколамский монастырь, он старался – неизвестно, искренне или нет – показать себя приверженцем старых нравов; он храбро и усердно, как верноподданный, участвовал в войне с поляками. Но когда-то пробудившиеся в его сознании сомнения никогда его не покидали; у него были латинские книги; в частных беседах он позволял себе критиковать Соборы, он уверял, что «нечего молиться, что не будет воскресения мертвых», он отрицал необходимость поста и почитание святых. Он даже не разрешал своим слугам ходить в церковь. Сам он провел Страстную неделю 1622 года в попойках и кутежах; в Пасхальную ночь он все еще пил и не явился ни к заутрене, ни к обедне. Жизнь в Москве казалась ему пошлой и неинтересной: «Люди глупы, не с кем слова сказать – на полях у них много ржи, а живут они во лжи!» – добавлял он в рифму, так как, по примеру польских литераторов, любил рифмованные стихи. Он презирал своих соотечественников и почти уже продал свои имения, чтобы бежать в Литву с дипломатической миссией, как вдруг один из его крепостных донес на него. На сей раз его сослали на Север, в Кирилло-Белозерский монастырь, где его заставили соблюдать все правила. Выпустили его оттуда только после того, как он дал подписку, что отрекается от своих заблуждений. У нас осталось от него, кроме достопримечательной хроники Смутного времени, много богословских статей, из которых можно отметить трактат против еретиков[104], написанный и в стихах, и в прозе.
После знатных вельмож мы перейдем к более мелким дворянам; упомянем об Андрее Палицыне, двоюродном брате благочестивого келаря Троицкого монастыря. Он, в свою очередь, тоже во время Смуты служил и изменял многим господам; это продолжалось вплоть до того, как царь Михаил назначил его в 1629 году воеводой Мангазеи, очень важного в то время центра в Сибири. В этой отдаленной местности, соприкасаясь с ссыльными черкесами и поляками, он сбросил с себя всякую маску приличий: он курил – большой позор в то время! – и заставлял курить других; у него не было духовника, он сам кадил свои иконы, приобщался святых таин не постившись. Не лишенный изобретательности и литераторского таланта, нахватавшись западных наук, умея разговаривать по-польски, интересуясь географией, он вместе с тем занимался колдовством, верил колдунам, систематически напивался и без стыда предавался противоестественным порокам. Такое поведение он сочетал и с соответствующим «богословием»: Иисус Христос окончательно освободил человечество от греха; с момента Воскресения в аду никого больше не осталось; еретикам и святотатцам не угрожают никакие муки; духовенство вовсе не является необходимым посредником между Богом и людьми[105].
В Иван-городе богатый русский купец Филипп «не придает никакого значения иконам и считает постом лишь полный отказ даже от хлеба и воды, что, конечно, позволяет ему вовсе не соблюдать пост»[106].
Несколько таких характерных примеров показывают, какое влияние оказало на москвитян различных кругов неожиданное открытие, что на Западе господствует не одно католичество, а также и протестантство или социнианизм[107]. Об этой опасности было донесено патриарху. Среди иноверцев, говорилось в послании, корыстно перешедших в нашу православную веру, имеются такие, которые потом, подобно псам, возвращаются к своей блевотине; среди наших единоверцев и соотечественников имеются такие, которые от нашей веры перешли к лютерству и кальвинскому учению и, без малейшего стыда перед Христом Богом, едят мясо во время поста, не крестясь смотрят в наших домах на иконы и даже проклинают их[108].
При всяком проявлении ереси Филарет подавлял ее. Но, в то время как он систематически преследовал влияние католиков вплоть до их религиозных истоков[109], он никогда не принимал радикальных мер против влияния протестантов. Проведение антипольской политики вынуждало Россию увеличить уступки Швеции; под эту категорию подходили: создание торговых предприятий в Пскове, возникших там, несмотря на увещания архиепископа, которого в дальнейшем отстранили; открытие Шведской миссии в Москве и открытие шведской церкви в Москве. Дошло даже до того, что Швеции выдавали карельских крестьян, которые убегали со шведских земель, дабы спасти для себя свою православную веру[110]. Позже целые полки и военные инструкторы набирались в Швеции и в Северной Германии. Для того, чтобы побороть протестантскую ересь, казалось достаточным использовать старые сочинения, направленные против иконоборцев. Когда-то Максим Грек написал об этом трактат[111], «Книгу о единой истинной православной вере», напечатанную в 1588 году в Остроге, которая была направлена преимущественно против латинян, но в ее последней части опровергались и точки зрения лютеран, кальвинистов и ариан в отношении церкви, икон и святых мощей[112]; наконец, в 1602 году в Вильно появился трактат из двенадцати глав «О образах, кресте, почитании святых, о посте, исповеди и святом причастии, а также и о молитве за усопших». Помимо Ария и Юлиана Отступника там были указаны по именам Виклиф, Гус, Лютер, Кальвин, Сервет, Бландрата, Лелий Социн, Франсуа Давиди, Будный и Чехович[113]. Этим двум работам, хорошо составленным и опирающимся на Священное Писание и святых отцов, суждено было иметь необыкновенный успех в Московском государстве.
Трактат «Об образех» был, несомненно, использован автором работы «На иконоборцы и на вся злыя ереси»[114]. Он был переведен с югозападно-русского языка на московский язык неким священником Стефаном из Новгорода и использован Иваном Наседкой, бывшим сотрудником архимандрита Дионисия. Этот эрудированный священник, а также энергичный и плодовитый писатель очень скоро вышел из немилости и был выделен патриархом Филаретом, вслед за чем призван в Кремль в качестве члена клира Благовещенского собора. К концу 1621 года его приставили к миссии, направлявшейся в Данию от имени царя просить руки племянницы короля Христиана IV. Четырехмесячное пребывание в протестантской стране дало ему возможность сделать много очень любопытных наблюдений над их отношением к лютеранской религии, над их церковными установлениями, поведением в церкви, над семейной и общественной жизнью. Возможно, именно там он достал «Катехизис» Будного, изучил его и исписал его поля критическими замечаниями. Вооружившись таким образом, к двенадцати главам старого трактата «Об образех» он добавил тридцать пять глав; одни были, по крайней мере частично, заимствованы из уже существующих текстов: его собственного трактата из тридцати пяти глав против Антония Подольского, «Книги о вере» 1588 года, постановления Собора 1620 года; другие были его собственного сочинения. Вероятно, в 1623 году им было закончено и новое полемическое сочинение «Изложение известно от Божественных Писаний Старого Закона и Новыя Благодати на окаянные и злоименные люторы». Здесь Наседка использовал свои огромные знания греческих писателей, литературы, появившейся в Московском государстве (в том числе и «Просветителя» Иосифа Волоцкого и славянского перевода «Иудейской войны» Иосифа Флавия), а также большое количество русских изданий, появившихся на Западе. Не удовлетворяясь защитой православия, он нападал на протестантов, которые не уважают свои собственные церкви, на их священников, которые женятся по два и три раза и продолжают после этого служить. Сам Лютер был гордец, исправлял творения древних святых, как будто бы в течение тысячи пятисот лет все они были либо слепы, либо безумны[115].
«Изложение на люторы» имело огромный успех. До нас дошли пятнадцать списков книги, появившихся в XVII веке[116]; эта работа послужила основой для известной «Кирилловой книги». Наседка, несомненно в награду за эту «умную и полезную книгу», как называл ее рецензент Савва, был назначен ключарем Успенского собора, иными словами, он был сделан помощником настоятеля первой церкви столицы[117]. Вскоре снова прибегли к его способностям.
Если религиозные москвитяне питали подозрения в отношении православия русских, подчиненных Польше, то они, тем не менее, не могли противостоять всему блеску литературного и научного расцвета братств Запада и Юга. Первые, проводя борьбу с униатами, воссоздали православное богословие, открыли школы, организовали типографии, опубликовали более или менее оригинальные труды. Во всем этом, конечно, можно было угадать влияние латинян, но в эпоху, когда лишь слишком заметно было, чего не хватало великорусской Церкви, нельзя было не преклониться перед таким превосходством. Поэтому охотно принимали ученых мужей Запада, а также и их книги. Их принимали, не подвергая особой критике.
В 1623 и 1624 годах большое впечатление произвели появившиеся в эти годы «Беседы святого Иоанна Златоуста на Послания святого апостола Павла и Деяния Апостолов»[118] – два огромных тома, переведенных и напечатанных благодаря трудам Киево-Печерской лавры. В следующем году в Москве приняли с уважением их главного редактора – Памву Берынду. В июне 1625 года в Москву прибыл его сотрудник, протоиерей Зизаний, привезший с собой «Толковый Апокалипсис». Он написал на своем родном языке «Катехизис», и этот большой труд в 395 листов был встречен восторженно; он был переведен на русский язык меньше чем за месяц. Некоторые выражения в этой книге были, однако, вымараны. Автор, очевидно, протестовал, так как были организованы особые беседы между ним и московскими богословами. Последние обнаружили в «Катехизисе» новые ошибки и ереси латинян, причем в таком большом количестве и настолько значительные, что «Катехизис» не был допущен к обращению. Но он, тем не менее, продолжал распространяться в широких кругах, так как в настоящее время известно около ста его рукописных экземпляров[119]. Это было первое в Москве систематическое изложение московской православной веры. Он удовлетворял насущным нуждам того времени.
Бывший учитель школы братств во Львове и Вильно, Кирилл Транквиллион Ставровецкий, составил «Учительное Евангелие», напечатанное в Рахманове в 1619 году. То был сборник проповедей для воскресных дней и праздников, из которого можно было почерпнуть еще и материал для чтения дома. Эта книга, написанная в новом для того времени стиле, была только что осуждена епископами Западной Руси, а автор только что перешел в униатство. В этот момент в Москву прибыло большое количество экземпляров этой книги. Ее представили на обсуждение сведущим людям, среди которых был также и Наседка. Последние насчитали в книге около ста проявлений ереси, и 1 декабря 1627 года царь и патриарх издали приказ о повсеместном изъятии и сожжении всех книг Транквиллиона. С тех пор началось преследование так называемых «литовских книг»: многочисленными указами запрещалось ввозить эти книги, покупать их, держать у себя дома и хранить их в церквах, кроме тех случаев, когда они были абсолютно необходимы для богослужения. И все же «Учительное Евангелие» не переставали переписывать и распространять: в отдаленной Вологде в июле 1625 года архиепископ Маркел донес на целую группу почитателей еретика Кирилла. Эти «литовские» книги продолжали проникать в Московское государство различными нелегальными путями; вслед за чем, через некоторое время, их официально перепечатывали[120].
С одной стороны, защищали православие от всех внешних опасностей: от протестантов и рационалистов; теперь же имелось исчерпывающее опровержение, отвечавшее почти всем потребностям, с солидными доводами, притом очень убедительно написанное; ненавистному католичеству доступ на русскую землю был окончательно закрыт. С другой стороны, интересы политики требовали широкого представительства и свободного обращения протестантства на всей территории несмотря на полицейские меры, в силу потребности в образовании, неизбежно через иностранные книги просачивались и различные католические учения.
III Филарет – правитель Руси; аппарат управления и финансовая служба патриархии
После обеспечения защиты против внешней опасности патриарх Филарет очень ясно представлял себе вторую задачу эпохи: восстановление порядка в Церкви. Для него это была, прежде всего, задача организации церковного управления.
Сверху согласие между церковью и государством было обеспечено счастливым стечением обстоятельств и оригинальным двоедержавием, состоявшим из рассудительного и авторитетного иерарха и монарха, его родного сына, мягкого и покладистого. С общего согласия, например, они возобновляют запрет завещать монастырям земельные владения[121]. В отношении провинции, однако, определенно поднимался вопрос о разделении власти: в 1621 году воеводы и гражданские власти в Рязани предупреждаются о том, что они не должны вмешиваться в дела духовенства, не судить дела, подлежащие юрисдикции архиепископа. Такой же приказ повторился и в 1628 году; подобные же указы, по всей вероятности, были изданы и в других воеводствах[122].
Филарет занимается, главным образом, организацией епархиального управления. Он задумал его по типу приказов, или министерств, царя. Как у царя имелись собственные владения, так и у него была своя патриаршая вотчина. Она была необыкновенных размеров, охватывая более сорока городов и простираясь от Мезени на Ледовитом океане до Путивля на границе Украины, от Брянска на западе до Вятки на востоке. Она включала города первостепенного значения, такие как Владимир, Кострома, Нижний Новгород. Позже, в XIX веке, патриаршая область была разделена на шестнадцать епархий. В мае 1625 года патриарх заставил царя особой грамотой закрепить свою юридическую власть над церквами, монастырями и церковными владениями этой огромной территории с правом судить проживавшее там население по всем делам, за исключением уголовных, и собирать все подати и оброки, какие ему будут угодны[123].
Для осуществления своей власти, которая представляла собой почти суверенное владычество, у Филарета было три своих патриарших «приказа». Один, называемый Дворцовым, был создан для управления недвижимым имуществом и населением, в том числе и домом патриарха. Другой, называемый Казенным, был организован для собирания различных податей, накладываемых на духовенство и мирян, и с этой целью вел учет приходов, дворов и земель. Этот приказ, или разряд, ассигновал нужные средства на расходы и занимался общим финансовым учетом. Третий, и наиболее важный приказ назывался Судным приказом (или, чаще, Судным разрядом) и занимался чисто церковными делами, наблюдая за дисциплиной, и судил во всех случаях как белое, так и черное духовенство; мирян же судил в исключительных случаях. Через головы епископов он фактически распространял свою компетенцию над всей русской церковью. Начальниками этих трех министерств были миряне: то были два боярина в Судном и Казенном приказах и дворецкий в Дворцовом; лишь казначей обычно являлся монахом. Дьяки и подьячие занимались письменной работой, а десятники и боярские сыны направлялись на места для сбора податей, также как и для выполнения специальных поручений. Все они были миряне. Вся эта бюрократия была занята, главным образом, вопросами материального порядка, финансовыми или полицейскими[124].
Филарет узаконивает и определяет размер податей. Каждый двор священника, дьякона, пономаря или просфирни вносит определенную сумму в патриаршую казну; то же самое производится в отношении земель, лугов, рыболовных тоней, пчельников, стоящих на церковной земле мельниц; опять то же самое в отношении дворов мирян, владельцев земли, будь то зажиточных или бедных, или даже вдов. Эту установленную дань все вносят обязательно, не считая особых сборов, вносимых при различных обстоятельствах «десятникам» и патриаршим дьякам. Статьи патриарших доходов были самые разнообразные: тут были и сборы за венчание и за запись новорожденных; было и особое обложение на грамоты, санкционирующие строительство новых церквей (столько-то на каждый престол), за разрешение служить священникам-вдовцам, за разрешение переходить на новый приход всем служащим церкви, начиная от священников и кончая просфирнями, и другие. Существовала точная тарифная сетка[125].
Некоторые из этих сборов взимаются на месте поповскими старостами или заказчиками (агентами), являвшимися во всей этой организации единственными избранными лицами из среды духовенства. Они должны были наблюдать за тем, чтобы без уплаты предусмотренного налога не благословлялись браки, не совершались погребения, ни даже перемещения пономарей или просфирен[126]. Статьи прихода заносятся в списки особых книг с указанием имен, дат и суммы, доставленной в Москву, наряду с ежегодной определенной данью к Рождеству[127]. Горе тому, чьи книги окажутся в беспорядке, или тому, у кого окажется недостаток по сравнению с предшествующими взносами, горе особенно тому, кто просто поскряжничает и утаит что-то в надежде, что это скроется через чаевые патриаршим писарям: он испробует тогда «правежа»; каждое утро, пока не будет полностью внесена требуемая сумма, его будут избивать на площади розгами.
В глазах патриарха и его чиновников, а также и городских властей, священник отнюдь не являлся посланцем Бога, облеченным сверхчеловеческими полномочиями: он был всего-навсего разновидностью мужика, которого можно было и сечь, и бить[128].
Таким образом, патриаршая область была снабжена сильным административным аппаратом, который в дальнейшем в основных чертах позаимствуют и другие. В качестве главы Церкви Филарет являлся для управления других епархий, правда, юридически не четко выраженным, но неоспоримым авторитетом. Если он, несмотря на решение собора 1589 года, мало интересуется созданием на Волге, например в Нижнем, новых епархий, что уменьшало сферу его непосредственного владычества, то он уже без колебаний отрезает от Вологодской епархии огромную территорию, с целью создания в 1620 году особой епархии для Сибири. Эта мера напрашивалась сама собой: на восток от Урала непрерывно возрастало количество поселенцев, включавших царских служащих, купцов, землепашцев и других, и все они жаловались на недостаток священников; правда, церкви строились, но в них нельзя было служить обедню из-за отсутствия освященных епископом антиминсов. Первый архиепископ Тобольский, Киприан, был наделен чрезвычайными полномочиями для восстановления христианского порядка среди весьма диких, чисто колониальных нравов в этих областях[129]. Его преемник, Макарий, даже получил в 1625 году особую привилегию – с ним по всем гражданским вопросам уголовного порядка должны были совещаться воеводы, в то время как из их компетенции были изъяты вопросы церковного характера[130].
Патриарх, занятый вопросами устроения духовенства и внешнего порядка, должен был интересоваться также и богослужением. Он реорганизует Печатный двор, перенесенный в 1620 году из Кремля в специальное здание; функции справщика были теперь отделены от функций печатника и считались особо почетными; исполнение этих функций доверено было таким ученым людям, как Антоний Крылов и Арсений Глухой[131], в то время как богословы, подобные Илье, игумену Богоявленского монастыря, и Наседке, осуществляли общее руководство над этими изданиями. Важная задача этого периода заключалась в том, чтобы ликвидировать существующие расхождения между рукописями и печатными книгами и снабдить все приходы единообразными богослужебными текстами; этого думали добиться путем обращения к первоисточникам, то есть путем сопоставления древних славянских и даже греческих оригиналов с имеющимися книгами. Но что делать, когда в патриаршей библиотеке в 1631 г. было всего-навсего пять греческих рукописей плюс один Требник, напечатанный в Венеции? В результате единственными исправленными книгами оказались следующие: Требник (в 1624 и 1625 годах), Служебник (в 1627 году), Псалтырь (в 1627 году)[132] и Устав (в 1632 и 1633 годах)[133]. То были книги добросовестно, обдуманно и тщательно изданные, но цель была далеко еще не достигнута[134].
Поведение духовенства и верующих часто оставляло желать много лучшего. В феврале 1622 г. в послании архиепископу Киприану Филарет пространно жалуется на постыдные нравы сибиряков: они не соблюдают постов, они без стыда сожительствуют с некрещеными мусульманками, они женятся на близких родственницах, отдают за деньги своих жен; привозят женщин из России для продажи, а священники благословляют новые союзы; монахи и монахини сожительствуют с мирянами и ничем от них не отличаются, а сам архиепископ бездеятелен! Патриарх резко порицает его за это[135]; однако спустя пять лет мы видим этого самого Киприана на втором по значению – митрополичьем – престоле Руси, именно в Новгороде. А каково его поведение здесь?
Он обременяет духовенство тяжелыми налогами – шесть рублей за посвящение в священники, три рубля – за посвящение в дьяконы – огромные суммы для того времени. Далее, он освобождает из тюрьмы и восстанавливает в правах настоятеля одного монастыря, заключенного за убийство двух дворян, использует для личной выгоды деньги и драгоценности архиепископской казны, конфискует и раздает своим родственникам владения купечества, по своей собственной прихоти вносит изменения в богослужение, разрешает разводы и повторные браки разведенных, разоряет своих и царских крестьян, заставляет избивать их кнутом без всякого основания, присваивает себе незаслуженные почести и титул государя, занимается совместно со Швецией контрабандой, избивает палками царских слуг, осмеивает послания Филарета[136]. Все это не мешает ему господствовать в Новгороде с 1627 года до своей смерти, 17 декабря 1634 года[137].
Вот что происходило в его огромной епархии, которая простиралась вплоть до Белого моря: приходы в приморской Лапландии, а также в вотчине Соловецкого монастыря отказываются подчиняться посланцам митрополита; расстриженные монахини выходят замуж и рожают детей, так же, вне закона, рожают вдовы и девушки; среди мирян многие сожительствуют с женщинами вне брака, а другие, покинув свою первую супругу и детей, без благословения Церкви, содержат других женщин. И это продолжается в течение десяти лет и более, в то время как их жены сожительствуют с другими мужчинами и имеют от них детей. А священники этих областей служат без разрешения, не представляют и не посылают на подпись свои ставленые грамоты и держатся свободно в отношении браков[138].
Возможно, что обвинения, направленные против Киприана, и были преувеличены, и, конечно, всякого трудно было заставить уважать законы Церкви и предписания нравственности в отдаленных провинциях Крайнего Севера или во вновь завоеванных провинциях Сибири. Однако нельзя сказать ничего в защиту другого иерарха – Иосифа Курцевича. Этот бывший епископ Владимира Волынского, довольно позорно оставивший свой престол и в 1625 году прибывший в Москву, был в августе 1626 года назначен архиепископом Суздальским. Находясь там и действуя во главе своих слуг и приближенных, которые прибыли с ним вместе с Юга, он фактически тратил все время на разорение своей епархии, грабил мест ные кожевенные заводы, убивал и вешал купечество, насиловал девушек, а во время постов отчаянно кутил у себя дома со своими любовницами. Все это получило полную огласку, и в 1630 году о нем донесли царю. Но патриарх взял виновного под свою защиту[139].
Таким образом, отнюдь не создается впечатления, чтобы Филарет, который усердно поддерживал внешний порядок, прилагал бы сколь-нибудь значительные усилия для возрождения религиозного чувства и для настоящего исправления нравов.
После приезда патриарха Феофана в 1619 году единственным большим духовно значительным событием на Руси было обретение Ризы Господней, подаренной Руси шахом Аббасом. Оно было отмечено многими чудесами. Вскоре Риза Господня была торжественно установлена в Успенском соборе, что было сделано по особому указу от 26 марта 1625 года[140]. Эти два события послужили особенным подтверждением представления об исключительной мировой миссии Руси.
Правда, патриарх жестоко наказывал за определенные аморальные проступки, которые могли повлечь за собой политические последствия: один дворянин из Брянска, который имел от своих крепостных семь незаконнорожденных детей, ссылается в Николо-Корельский монастырь[141]; патриарший стольник Матвей Кольцов за такое же преступление – прелюбодеяние – заковывается в цепи и ссылается в другой монастырь[142]. Монахам, пьяницам и беглецам с Соловков, посылается особое предупреждение[143]. Но это не те меры, которыми можно было бы повлиять на все население. Во всяком случае, при Филарете не замечается никакой тенденции к нравственной строгости. Царь присутствует на «медвежьей потехе»[144]; у себя при дворе он держит цимбалистов. На его свадьбе, состоявшейся в 1626 году, присутствуют шуты, гусляры и музыканты, играющие на домре; и все это, несмотря на существующий запрет этого Церковью[145]. Что касается достопримечательной реформы большого Покровского монастыря в Суздале в 1631 г., то она представляется изолированным явлением, причем не очень понятно, кто же являлся ее инициаторами[146].
IV Религиозное движение в скитах и монастырях: «семинария» Троицкого монастыря
Движение за религиозное и нравственное обновление, начавшееся в разгар Смутного времени, продолжается вне стен различных канцелярий и сосредоточивается вокруг нескольких избранных людей.
С 1619 по 1633 год организуется еще около сорока скитов и монастырей[147]. В 1620 году в Воломе возле Устюга начинает вести отшельнический образ жизни некий Симон: потом он был убит крестьянами-повстанцами, которые были недовольны его увещаниями[148]. Боярин Михаил Салтыков в 1621 году организовал на Днепре в 10 верстах от Дорогобужа Бизюков монастырь, которому предстояло большое и исполненное треволнений будущее[149]. Преосвященному Варлааму, архиепископу Вологодскому и Великопермскому, была адресована следующая челобитная «убогого» монаха Марка, постриженного в Ильинском монастыре: «Есть, государь, в Вологоцком уезде, в Заднем селе Белавинское озеро и на том озере остров. Умилосердися, государь преосвященный Варлам, архиепископ вологоцкий и великопермьский, пожалуй меня, нищево царского богомолца и своево святительсково, благослови, государь, на том острову келейцу поставить и потерпети Бога ради. Государь, смилуйся, пожалуй». В июне 1630 года ему было прислано письмо с соответствующим благословением[150]. Вскоре вокруг келии монаха Марка обосновались еще и другие монахи, которые хотели вести более уединенный и постнический образ жизни, а равно и миряне, уставшие от мира и стремящиеся к духовному совершенствованию. Таким образом появилась новая Белавинская пустынь.
Но эти монастыри были не только для монахов. Иногда в них имелось больше мирян, так называемых складников. Это были либо простые крестьяне, либо другие люди низших сословий, которые за небольшую вносимую ими сумму денег или в обмен на взнос натурой могли пользоваться духовными и материальными преимуществами данной общины. Они обязаны были нести послушания и работать, но они имели право питаться от монастыря и жить там со своими семьями. Что это было такое, монастырь или рабочая артель? Трудно сказать. Иногда на месте имелся только один монах, единственный грамотный человек, единственный священник, а может быть, даже и не имеющий священного сана: если он почему-либо исчезал, то оставались только крестьяне. Во всяком случае, с религиозной жизнью сочетается интенсивная хозяйственная деятельность. Работают как и прежде, но отныне защищенные от взимания налогов и ростовщиков, и работают больше уже не на себя, а на святого – покровителя этого места. Нет особого аскетизма, – но с самого начала этой новой жизни молитва становится более горячей, а повседневная жизнь – освященной[151]. На Севере и Востоке этих отшельничеств появляется очень много: мы видим в каждом несколько изб, скромную деревянную церковь, тяжелым трудом, с помощью гари отвоеванные поля, а вокруг – темный лес, усеянный болотами, лес, который порой кормит их, а порой и губит.
То были благословенные обители для избранных душ, проводивших дни свои в труде, размышлениях и бедности, вдали от городской суеты и городских новин. В этих скитах выковывался тип крепких и сильных людей, способных говорить власть имущим всю правду в глаза. Иоаким, ученик Иринарха Ростовского, поселяется в Шартоме, недалеко от Шуи, пишет иконы и бесплатно раздает их: их считают чудотворными; многие рассказывают о связанных с ними видениях. Он подвергает резкой критике недостойного архиепископа Иосифа Курцевича, которого все боятся. За это он ссылается на Соловки, но в 1634 году его отзывают оттуда в Суздаль. Затем его чтят как святого[152].
Противоположностью этих уединений, или скитов, с их типичным русским скромным бытом и трезвым подходом к жизни, являлись настоящие монастыри, вполне организованные общества, с игуменом или архимандритом во главе, с различными должностными лицами начиная от келаря и кончая управителями монастырских владений, с послушниками, с дарителями-мирянами, с потоками богомольцев и странников, с зимними и летними церквами, с монастырскими зданиями, с библиотекой, с погребами и складами, обладающие хорошим снабжением, с гостиницами, с высокими воротами и стенами, с дарованными им торговыми правами, с подворьями в Москве и в других местах. Эти монастыри представляли собой могущественные центры, где бился пульс всей страны; у них были благочестивые высокие покровители; монастыри эти богаты, но их значение с религиозной точки зрения далеко не одинаковое. Многие из них, возможно большая часть, предоставляли каждому монаху свободно распоряжаться своим имуществом: в них были, если настоятель монастыря слаб или недостаточно добродетелен, среди братии пьяницы, развратники, гордецы, интриганы, клеветники; но зато в этих же монастырях воспитывались деятели духовной науки и подвижники веры, способные защищать веру и обновлять духовную жизнь.
Таким монастырем был в особенности Троице-Сергиев монастырь. Дионисий возвратился к исполнению своих обязанностей настоятеля этого монастыря сейчас же после того, как улеглась непредвиденная буря, вызванная его попыткой исправить книги. Но он понимал свои обязанности в широком смысле слова, действуя, как воистину ревностный пастырь. Он отнюдь не забывал о доходах монастыря, сильно пострадавшего из-за войны и хищений, совершенных в его отсутствие; он требовал возвращения крестьян, незаконно «уведенных» к другим владельцам; он также старался не допускать несправедливостей и злоупотреблений, в которых были, по-видимому, повинны экономы Троице-Сергиева монастыря[153]. Его можно видеть и на судебном процессе против монахов Спасо-Прилуцкого монастыря, который велся им из-за мельницы, которая была испорчена этими монахами с помощью колдуна[154]. Однако большую часть своей энергии он отдавал духовному самосовершенствованию, что было областью, уже непосредственно зависевшей от него самого.
Уже в течение долгого времени церковным пением управлял головщик Логгин. Гордясь своим голосом и своими музыкальными способностями, он позволял себе украшать священные песнопения различными фиоритурами, из-за которых нередко ускользал смысл. Ему доставляло удовольствие сочинять на один и тот же стих от пяти до десяти мелодий: слова были для него лишь повод для музыкального сочинительства. У него были ученики, например, его племянник Максим, который умел исполнять одно и то же песнопение на семнадцать разных ладов. Логгин не был первым встречным: будучи образованным и гордым человеком, он позволял себе резко отвергать доводы архимандрита. Дионисий, со свойственной ему мягкостью, напрасно цитировал ему святого Павла: «Буду петь духом, но буду петь и умом (…) Если вы языком произносите неудобовразумительные слова, то как узнать, что вы говорите?» (1 Кор. 14: 15, 9). «Человек, который не понимает того, что сам говорит, подобен псу, который лает на ветер». Логгин никак не сдавался. Тогда Дионисий побеждал его примером: он начинал сам петь, приятным голосом, и священные слова, произносимые его голосом, отчетливо доносились в самые отдаленные места храма.
Уставщик Филарет спорил с ним о самом богослужении. Дионисий следил за тем, чтобы каждая служба совершалась в свое время, согласно уставу и без спешки. Однако, кроме того, он ввел при исполнении воскресных и праздничных служб определенные, дотоле не применявшиеся молитвы, возгласы, поучительные чтения, догматики и стихиры, которые ранее не входили в обиход Троицы. Он хотел, чтобы основные песнопения исполнялись скрупулезно и без отступления от канонов. Филарет обвинял его в новшествах. Монахи же упрекали Дионисия в том, что он затягивал ирмосы. Но Дионисий продолжал вкладывать в святое дело все свое рвение: всегда готовый облегчить людям исполнение их обязанностей, он не уступал в отношении Божественной службы: для Бога нет предела красоте! Он строил и восстанавливал церкви, делая это в самом монастыре, в его окрестностях, во всех его владениях. Бедным церквам он сам раздавал книги, кадила, сосуды, облачения, иконы. Для этой цели он содержал целый штат иконописцев, переписчиков, чеканщиков, золотых дел мастеров. Он был счастлив, когда вместо какой-нибудь медной или оловянной чаши, благодаря его энергии, появлялась чаша серебряная. Но там, где роскошь была недостижима, он требовал хотя бы соблюдения приличий.
Несмотря на всю мягкость своего характера, он считал, что необходимо добиться определенного минимума нравственности, достигая этого, если потребуется, хотя бы путем принуждения. Например, в одном монастыре, переданном Троице под начало для вразумления, крестьяне продавали монахам водку; когда все увещевания и угрозы оказались безуспешными, Дионисий прибег к вмешательству царя и патриарха[155].
Но главным образом Дионисий занимался воспитанием своих учеников. Он любил в своих личных покоях принимать тех, в которых он угадывал будущих ревнителей веры. Это были послушники или молодые монахи, как например Дорофей, преждевременно умерший в 1614 году, про удивительные аскетические подвиги которого ходили рассказы, или Порфирий, который впоследствии стал архимандритом Рождественского монастыря во Владимире; далее священники окрестных мест, как Наседка; был тут и еще один больной – слуга княгини Ирины Мстиславской Булат Леонтьев, который в 1624 году стучится в дверь к архимандриту, получает от его руки помазанием святого елея исцеление, остается в течение шести лет возле него и позже, под именем Симона Азарьина, пишет с большим талантом ряд благочестивых работ, в частности Житие своего учителя; еще был тут и простой деревенский житель, страстно стремившийся к духовным подвигам и совершенству, в дальнейшем преследуемый за правду – не кто иной, как Иван Неронов, о котором будут в дальнейшем так много говорить. Одни только приходили и уходили, другие оставались его настоящими верными учениками. Всем в какой-то степени шли на пользу светлый пример и уроки почтенного архимандрита. Всем он прививал любовь к добру, вкус к чтению, внушал апостольское рвение и мысль о необходимости церковной реформы[156].
Создается впечатление, что Дионисий, после неудачи с исправлением церковных книг, не веря в возможность воздействия на массы верующих, избрал себе другой путь: сначала подготовить достойное своей задачи духовенство. Его келья была родом семинарии, духовным зерном, откуда должно было пойти многое на пользу Церкви.
Второй период (1633–1645): Иван Неронов, Капитон и справщики
I Годы учения Неронова; в Троице – у Дионисия; в Лыскове – у Анании
Среди скитов, появившихся в Смутное время, было, в частности, отшельническое общежитие Спаса-на-Ломе, на Малой Саре, в Вологодском воеводстве[157]. Основатель его Игнатий, монах из Спасо-Прилуцкого монастыря, умер 28 декабря 1591 г., овеянный славой праведной жизни[158]. Как обычно, вокруг священного места поселилось несколько крестьянских семейств[159].
В 1591 году, если верить преданию, в одном из этих семейств и родился Иван Неронов, или Иван Миронович[160]. Его родители были простые крестьяне, и он вырос без всякого образования; его молодые годы протекали в обычном сельскохозяйственном труде, менявшемся в зависимости от времени года: летом и весной он работал в поле; после Петрова дня начинался сенокос на лугах или на болотах; затем шел сбор ягод и грибов; потом охота, рубка леса, его перевозка и распилка. То была тяжелая жизнь, чреватая опасностями, чуждая всякой изнеженности; жизнь, закаляющая тело и дух. На Ломе же жизнь носила более возвышенный характер, была одухотворенной. Это объяснялось наличием здесь скита, праведный основатель которого только что покинул эту землю. Вероятно, влияние его на этого молодого человека было огромно, а дух времени, безотчетное подсознательное стремление к реформе, очевидно, проникли и в эти места, иначе нельзя было бы понять того религиозного рвения, которое появилось у него, когда он покинул свою родную деревню.
Печальные последствия Смутного времени заставили Неронова уединиться. В декабре 1613 года отряды казаков и черкесов, преследуемые войсками нового царя, распространились по Северу, разоряя и сжигая беззащитные местности[161]. Однажды они наводнили район Вологды, разграбили и подожгли дом, где жил Неронов. Из многочисленных обитателей этого дома одни погибли в огне, другие разбежались. Иван бежал со своим маленьким другом Ефимом, бежал, естественно, в ближайший город, в самую Вологду, верст за 60 от своего дома. Это было 6 января, в день Крещения, время разгула, гулянок и ряженых, обычаев испокон веков осуждаемых Церковью. Юный поселянин, у которого глубокая христианская вера укрепилась под влиянием событий, которые только что повергли его родных к близких в скорбь и нищету, увидел толпу людей, наряженных в дьявольские маски, некоторые из которых были уже в зрелом возрасте, увидел, как они бегали и бесновались в непристойных играх. Когда они выходили из одного большого дома, он попросил объяснить ему, что все это значит. Ему ответили: «Архиереев дом, и сии суть освященнии от него причетницы церковнии и прочии того архиерейскаго дому служители». Не будучи в состоянии сдержать свое негодование, он закричал во всеуслышание: «Не мню, дабы сей дом архиереев был, ибо архиереи поставлени суть от Бога пасти стадо Христово и учити люди Божия, еже огребатися всякаго зла и ошаятися бесовских игралищ». И он продолжал говорить еще в этом же духе. Веселящиеся же, как только прошло их первое изумление, накинулись вовсю на этого гостя, пришедшего не в пору. И под их ударами он продолжал обличать их[162]. Такова была прелюдия к деятельности реформатора русской Церкви.
Его оставили в покое, думая, что он уже мертв; Неронов пришел в себя к полуночи; несмотря на все, он был горд своим подвигом; он спасся из города благодаря милости Господней. На большой дороге он нашел своего товарища, который покинул его среди всей этой сумятицы. Вот они уже, наконец, возле Устюга, где они приняты певчим одной сельской церкви, неким честным человеком, по имени Тит. Он занимается их образованием. Ефим, возможно, более молодой, оказывается очень способным и, овладев элементарной грамотой и началами Закона Божия, возвращается к себе. А у Ивана ничего не выходит, как он ни старается, ни утомляет своих глаз над букварем, заливаясь слезами вместе со своим учителем, моля Господа помочь ему разобраться в Священном Писании. Наконец, через полтора года на него находит, неожиданно, просветление[163], и он наверстывает потерянное время, читает Часослов и Псалтырь и покидает гостеприимного Тита. Но он не собирается зарыть свой талант, приобретенный такой дорогой ценой, в родном местечке. Он хочет учиться еще и действовать. Он уходит из дома куда глаза глядят, доходит до Волги и приходит в большое село Никольское-Соболево[164], немного ниже Юрьевца. Там он поселяется у одного священника по имени Иван, своим усердием в церкви настолько располагает его к себе, что тот отдает ему руку своей дочери Евдокии[165]. Тут сразу же он фактически становится, без посвящения в духовный сан, церковнослужителем: начинает служить в церкви в качестве чтеца и певца. Ему достаточно этих скромных функций для того, чтобы начать проявлять себя духовным руководителем – к чему он чувствует такую потребность. Когда он видит, как местные священники и другие клирики пьянствуют и ведут распутный образ жизни, он не перестает обличать их. И, очевидно, его обличения являются очень резкими и очень частыми, а строгость его представляется чрезмерной, потому что враги его пишут на него донос по всем правилам, направляя его патриарху Филарету.
Под этим доносом подписываются его тесть и несколько мирян. Неронову, лишенному всякой поддержки, без единомышленников, окруженному грубостью людей той эпохи, находящемуся под постоянной угрозой быть убитым за малейшую провинность, остается одно: он предоставляет Господу судить злодеев, а сам исчезает, не предупредив об этом никого, кроме своей жены. Так как Никольское было подвластно Троице-Сергиевому монастырю[166], Неронов туда и направился. Разве не туда же стекались и паломники со всей Руси? Молодой человек отправился к святому Сергию и его ученику святому Никону просить помочь ему. Он молился, стоя перед церковью Св. Троицы, с такими горячими слезами, что один из служителей монастыря, проходивший мимо, сжалился над ним и повел его к себе в келью. Иван поведал ему о своих трудностях и чаяниях. На следующий день после всенощной его покровитель повел его к архимандриту, который всегда был готов помочь всякой скорбящей душе. Таким образом Неронов и был принят в ученики Дионисия.
В эти годы, 1619–1625[167], Троице-Сергиев монастырь являлся своего рода центром религии и культуры возрождающегося Московского государства. Из двухсот монахов, находившихся там, правда, не все были примерными, но было достаточно и ярких индивидуальностей, и там Неронов получил возможность общаться с самыми замечательными людьми своей эпохи.
Келарь Авраамий Палицын заканчивал в это время свою историю Смутного времени[168]; его последователь Александр Булатников повествовал о подвигах своего бывшего учителя Елеазара, праведного основателя Анзерского скита. Этот Александр, крупный землевладелец и влиятельный деятель, все время ездил взад и вперед от московского подворья в Троицкий монастырь, а также и в Соловки[169]. Антоний Крылов, один из справщиков 1616 года, был монастырским библиотекарем[170]. Впрочем, не исключается возможность, что это место тогда уже было занято Иоасафом Кириаковым, сыном протоиерея, который был и сам протоиереем в Балахне на Волге, возле Нижнего. В этой библиотеке было семьсот с лишним томов[171]. Благодаря этой библиотеке Герман Тулупов, земляк архимандрита Дионисия, бывший священник Старицкого прихода, мог выполнить ту огромную задачу, которую он себе поставил: написать жития святых на все дни года (Четьи Минеи). В житии царевича Димитрия он не преминул показать, что Господь покарал Россию, послав ей самозванца Гришку Отрепьева «с тем, чтобы она отреклась от всех своих грехов»[172].
Возможно, Неронов там и познакомился с Симоном Азарьиным[173]; возможно, что он и помогал Наседке в составлении «Изложения на люторы»[174]. В Троицком монастыре сталкивались люди различных сословий, из различных мест, с самым разнообразным прошлым. Там было живо воспоминание о страшной каре Господней над Русью; и там тоже можно было убедиться в том, что реформа была необходима везде, причем надо было начать с высшего духовенства: ведь в это самое время пришлось уволить за склоки казначея Иосифа Панина[175], и в то же время некий «эконом», которому бдительность Дионисия мешала заниматься своими корыстными делами, взял и ударил в храме по лицу своего настоятеля, и даже осмелился запереть его на четыре дня в келье[176].
Но Неронов жил, в основном, в тесном контакте и дружбе со своим учителем, постоянно читая книги Священного Писания и неутомимо мо лясь во время келейных служений и ночных бдений[177]. Нам известно, что Дионисий питал особое почтительное чувство к святому Иоанну Златоусту и отдавал переписывать его труды для распространения[178]. Бывший сельский священник любил великого архиепископа, красноречие которого иногда звучало революционно, дабы напомнить богатым и власть имущим о существовании бесчисленных бедных в Константинополе. Несомненно, что именно под его влиянием Неронов, который был знаком с нищетой народа, увлекся проповедями, собранными греческой и славянской богословской ученостью в сборниках «Златоуст» и «Маргарит», «Златая матица» и «Перло многоценное».
Несомненно, что у Неронова именно под влиянием Дионисия окончательно сложилось мнение о необходимости реформы: в быту искоренить пережитки язычества и пороков; в церкви – восстановить достоинство и благолепие богослужения путем соблюдения уставов, правильного церковного пения и наблюдения за благоговейным поведением верующих. Самое же главное: нужно было создать духовенство, которое было бы на высоте своего положения. По всем этим пунктам у юноши были уже свои соображения, которые он начал претворять в жизнь: в силу своих знаний, опыта и морального авторитета Дионисию выпало на долю укрепить эти настроения, уточнить соответствующие мысли и превратить их в своего рода программу действий.
Есть все основания думать, что во время своих бесед они еще говорили и о необходимости исправления церковных книг, об их унификации, о сопоставлении их с греческими оригиналами; но недавняя неудача, постигшая справщиков в этом направлении, не позволяла рассматривать этот вопрос как неотложную задачу, а кроме того, молодой провинциал, без особого образования, жаждущий к тому же скорее действовать, и не мог так глубоко интересоваться этой проблемой. Но из уроков своего учителя Неронов вынес сознание того, что подобные мероприятия действительно нужны. Об этом ему пришлось особенно вспомнить позже, в конце своей жизни.
Дионисий довольно долго держал у себя своего любимца; потом, убедившись в его высоких качествах и в его горячем усердии, он написал патриарху письмо, где с похвалой отзывался о юноше и поручил ему же доставить это письмо. Филарет направил Неронова в Никольское-Соболево, на этот раз в должности дьякона; он снабдил его специальным посланием, направленным против клеветнических доносов; Неронову дано было право заключать их авторов в тюрьму вплоть до полного удовлетворения и возмещения убытков. Они, конечно, имели право отрекаться от своих злых дел и просить помилования. Неронов, со своей стороны, прощал их и добивался для них помилования. Только когда эти священники являлись в церковь для исполнения своих обязанностей в пьяном виде, он, на основании архиерейского распоряжения, выталкивал их из алтаря и выгонял из церкви и сам правил службу и наставлял народ[179]. Спустя год после второй поездки в Москву, он вернулся на место поставленным во священники и после этого его требования стали еще более жесткими.
Однако, то ли потому, что в Никольском духовенство было неисправимо и развращено, то ли потому, что сам Неронов не пользовался достаточным авторитетом там, где его раньше знали как простого мирянина, принятого из жалости, – он не добился никаких реальных результатов: нападать на него не смели, но никто и не думал исправляться. И однажды, будучи по природе скитальцем, он забрал свою жену и покинул Никольское. Он дошел до Лыскова, или, во всяком случае, до тамошних мест. Путешествие было тяжелое: они прошли двести пятьдесят верст; но если спуститься дальше вниз по Волге, то там, в селе Кирикове, жил один праведник по имени Анания.
Этот Анания, о котором нам известно очень мало, несомненно, был замечательным человеком: у него был проницательный ум, он был очень просвещен в отношении Ветхого и Нового Завета и превосходно толковал Писание; с другой стороны, деятельный и великодушный, он приглашал к столу каждого странника; любил, когда нужно подать добрый совет; его жена Мелания была тоже очень гостеприимной и обладала большим умом[180].
Почти в это же самое время один крестьянский юноша, который бежал из родительского дома в Макарьев монастырь по ту сторону Волги, часто переправлялся через реку для того, чтобы побеседовать с достойным пастырем; этот молодой человек был Никита – будущий патриарх Никон[181].
Итак, Неронов был принят Ананией, он помогал Анании проводить церковные службы и учился у Анании понимать божественные тайны Священного Писания. Он довольно долго прожил в доме Анании, подружился с его старшим сыном Петром, затем, получив благословение Анании, снова отправился в путь по Московскому государству. Теперь он при обрел определенный круг знаний, твердо решившись пойти по пути священнослужения, чувствуя морально и духовно твердую почву под ногами; по-прежнему полный энергии, он направился в столицу всей этой области: Нижний Новгород.
II Нижний Новгород
В этот период Нижний Новгород, центр огромного района, был одним из главных городов всей Руси. Раньше он являлся только аванпостом славянской колонизации в татарской и финской стране. Только что, в эпоху Смутного времени, он выдержал осады мордвы. Его Кремль, расположенный на высоком холме, его неприступные стены, четырнадцать башен и трое ворот свидетельствовали об этих героических днях. Нижний Новгород был административным центром: в нем находились разные воеводские приказы и казенные склады, предназначенные для хранения оброка и дани, собранных у полупокоренных инородцев, гостиничные хоромы, обычно свободные, но в которые, в случае осады, царские служащие и купцы могли поместить свои семьи и свое добро; тут же были палаты воеводы и его главных дьяков; в городе было два собора и три монастыря.
Но в основном Нижний Новгород был известен как первостепенный торговый центр. По Оке осуществлялось сообщение с Рязанщиной, житницей Руси в то время, а далее и с Коломной и Москвой; в том же направлении, но сушей, Нижний Новгород сообщался со столицей через Муром, Владимир и Суздаль, которые были соответственно центрами и лесной, и металлургической промышленности; по Волге же можно было в короткое время попасть и в Ярославль, а оттуда на Север, в Вологду и Архангельск, а это означало торговлю с голландскими и английскими купцами – там можно было купить европейские товары: металлы, ткани, предметы роскоши; зимой прокладывался санный путь вдоль правого берега Волги, который переходил потом на левую сторону реки и через Кострому достигал Ярославля. Спускаясь вниз по реке, через недавно завоеванную Казань, можно было с запада доехать до Хлынова на Вятке, до Перми на Каме, а оттуда и до Урала и необъятной Сибири: до месторождений каменной соли, до мест, изобиловавших пушниной. На юге Волга поворачивала на Астрахань, откуда была дорога в Персию или Бухару, на Терек и в Грузию; то были страны, где можно было приобрести морскую соль, шелка, дамасскую сталь, ковры, рыбу, икру.
Этими различными путями Нижний, в свою очередь, отправлял в обмен в различные места пшеницу и лен, доставляемые с недавно распаханных плодородных земель Курмыша, Арзамаса, Алатыря, Темникова; также мясо, кожу, масло – продукты животноводства, процветавшего в поймах всех протекавших тут рек; отсюда же отправлялся мед и воск диких пчел, бобровый мех, домотканое крестьянское полотно, многочисленные кустарные изделия. Весной и осенью 1635 года два каравана выгрузили в речном порту Нижнего по 100 000 тонн рыбы и 16 000 тонн соли; осенью 1636 года один только караван, пришедший с юга, привез 39 000 тонн рыбы и 13 000 тонн соли. Каждый день на рынке в Нижнем продавали от 500 до 800 возов пшеницы и других товаров, а иногда дело доходило и до 1000 или 1500 возов.
Эта торговля велась множеством купцов. Были оптовики, у которых имелись свои баржи, были приказчики на местах и торговые агенты в других центрах. Некоторые вели торговлю от имени московских и ярославских купцов. Например, в Нижнем был представитель Строгановых, крупных уральских предпринимателей. Были тут также и иностранцы – англичане и, главным образом, представители восточных стран: персы, армяне и другие. Но большинство из них были мелкие лавочники, владельцы одной только лавки, или даже занимающие угол лавки, или носящие какой-нибудь лоток на рынке; много было и бедных ремесленников, которые в присутствии покупателей производили и продавали продукты своего труда, как это практикуется еще и теперь на восточных базарах. Переписи того времени говорят о том, что там было более ста различных ремесел: больше всего было плотников и кузнецов, которые совместно делали мелкие гребные суда, последние, в свою очередь, оснащались канатчиками; изобиловали также и сапожники, портные и кожевники, работавшие на город и деревню; мясники, булочники, пирожники, калашники; последние принадлежали уже к более высокому рангу, не говоря уже о кабатчиках, в заведениях которых рекой лились брага, квас и водка, продажа которых была источником больших доходов для казны. Вся эта торговля проходила на площадях собственно города: и в Верхнем городе, возвышавшемся над рекой у Кремля, и в Нижнем городе, расположенном ниже. Каждый из этих посадов был окружен рвом и изгородью с воротами и башнями.
Нижний город, расположенный вблизи реки и верфей[182], возле царских амбаров для хранения соли и рыбы, а также амбаров патриарха и крупных купцов, был самым оживленным и процветающим кварталом города. Но и весь город Нижний в целом с конца XVI века находился в процессе почти непрерывного роста и развития. Этому способствовал факт переселения сюда части населения из центра обедневшей Московии. Сюда шли люди, боявшиеся рабства, изнуренные под бременем налогов; и они нередко оседали здесь на пути к свободным и плодородным землям Востока.
Благодаря своей сравнительной отдаленности от центральной части страны, Нижний сравнительно мало пострадал в эпоху Смутного времени, а жизнестойкость этого города проявлялась в его особой способности быстро залечивать полученные раны. После больших событий в начале века и двух колоссальных пожаров, происшедших в 1617 и 1618 годах, из которых один уничтожил 720 дворов, 365 лавок и сараев, а другой – 293 двора и 360 лавок, в Нижнем осталось только 1088 дворов (из них 494 двора бедняков, которые не в состоянии были платить налоги); 320 дворов были абсолютно заброшены. Но уже в 1620–1622 годах число пустых дворов сократилось до 7, а число бедняцких дворов уменьшилось до 345; других стало 862 вместо 594; всего было 1207 хозяйств. Но развитие Нижнего на этом не остановилось, в 1664 г. там было уже 1407 богатых дворов. О развитии торговли можно судить по доходам с пошлин, полученных с продажи съестных припасов и с кабаков: в 1634 году – 18 511 и 7340 рублей, а в 1640 году – 25 087 и 10 041 рубль. Эти цифры позволяют отнести Нижний к числу крупнейших городов тогдашней Великороссии: в 1634 г. только Москва, Казань и Ярославль вносили больше в государственную казну; Вологда, Кострома и Устюг вносили меньше.
Но Верхний и Нижний города не представляли собой весь Нижний. Там были еще предместья, так называемые слободы, как, например, Ямская слобода, Благовещенская слобода и на другом берегу Оки – Кунавино, где жили самые бедные люди: рыбаки, паромщики, торговцы мхом, который шел на конопаченье лодок. В Стрелецкой слободе жили 500 военных со своими семьями, не считая 209 немцев и литовцев, или поляков, отбывающих службу у царя; они жили в особом квартале; было там еще и 91 черкас, или малоросс, около 50 пушкарей, сторожей ворот, а также других служилых людей, входивших в состав местного гарнизона. Наконец, на двух противоположных концах этого широко раскинувшегося поселения высилось два монастыря – Благовещенский, который охранял подступы к Оке, и Печерский на Волге. Последний стоял на расстоянии семи верст от города, по направлению на восток[183].
Сколько жителей могло быть в таком обширном центре? Десять ли тысяч или двадцать? На этот вопрос ответить трудно. Торговля и навигация обеспечивали работой не только постоянных жителей города, но также и большое количество сезонных рабочих, приходивших сюда из окрестностей: кормщиков, грузчиков, возчиков. Поэтому в городе и было такое текучее население. После вскрытия реки весной сразу формировались караваны и отправлялись вниз по Волге в сопровождении нескольких царских кораблей, вооруженных пушками для отражения нападений разбойников. И можно себе представить, какое оживление царило на пристанях, на Нижнем торгу, а также и в кабаках, когда эти суда возвращались осенью, нагруженные товарами! Как весело там жили в это время! Цены на продукты были баснословно дешевые: курица стоила 1 копейку, полтора десятка яиц – одну копейку, за 12 или 15 копеек можно было купить целого барана[184]. Некоторые несчастные проигрывали все свои заработки, пропивали последнюю копейку, даже последнюю пару штанов, они готовы были продать самую свою душу; другие наживали себе целое состояние. Все предавались опасным для души и грубым развлечениям, которые шли целый год, приуроченные к различным датам. Церковь считала эти увеселения языческим или дьявольским наваждением, но против них не принималось особых мер. Духовенство снисходительно относилось к грешникам. Но, несмотря на это, многие храмы пустовали.
Приток иностранцев отнюдь не способствовал укреплению добрых старых нравов: Олеарий видел в Нижнем лютеранскую общину, организованную издавна. Эта община состояла примерно из 100 человек, у нее был свой пастор и свой храм. Вместе с шотландскими офицерами, солдатами, голландскими купцами, пленными поляками, литовцами и казаками[185] тут были и татары-мусульмане.
В Печерском монастыре всегда находилось какое-нибудь духовное лицо, впавшее в немилость: какой-нибудь иерарх или священник, украинец или балканец, монах из Киева Феофан[186], митрополит Фессалоникийский Паисий со своей свитой из греков[187], лжеархиепископ Крижановский[188]. Нижний был воистину большим городом, со смешанным населением, религией и моральными устоями приспособленческого характера[189].
Однако нижегородцы умели в случае необходимости проявить и нужную энергию. В каждом посаде был свой выбранный староста, иными словами, тут уже была налицо активная общественная жизнь. Состояние форпоста сравнительно молодого Московского государства, занятое недавно их городом, особое положение среди еще и теперь не вполне ассимилировавшегося многонационального населения, продолжавшего оставаться языческим, – оба эти фактора не позволяли Нижнему застывать в состоянии покоя. Ничего нет удивительного в том, что Нижний, относительно не пострадавший от разрухи в стране, довольно отдаленный от центра (что и позволило ему сохранить некоторую автономию), вынужденный защищать и продолжать русскую и христианскую колонизацию на Восток, оказался в это время руководящим и передовым центром Руси. Ведь именно здесь в 1610 году зародилось национально-освободительное движение, начавшееся под руководством мясника Минина, и здесь же позже появляется целая плеяда религиозных реформаторов.
III Неронов, священник церкви Воскресения в Нижнем
В Нижнем возле Никольских ворот в Кремле была Воскресенская церковь, которая уже в течение многих лет была заброшена, находилась в полном запустении, даже без колоколов. Эта церковь была в таком жалком состоянии, что в 1621 году переписчики даже не посчитали нужным инвентаризировать ее[190]. Неронов поселился у этой церкви и начал регулярно служить в ней вечерню и заутреню. Чтобы созывать верующих на богослужение, он бил, как это делали в старину, в деревянную колотушку. Он читал верующим священные книги, разъяснял простым языком их содержание: каждое слово он объяснял простым и доходчивым языком, так чтобы его слушатели, люди без образования, могли понять и запомнить все. Всем были полезны его наставления, всех трогала его забота о спасении душ и его смирение. Ибо после того, как он кончал свои поучения, он низко кланялся верующим, до самой земли, и со слезами просил их заботиться о спасении своей души и никогда не забывать о том, чему он их учил, вечно хранить его слова в душе и делиться всем сказанным с членами своей семьи, а равно и с другими людьми, чтобы поддержать друг друга на пути спасения. После службы он обходил улицы города и рынки, нося с собой книгу великого просветителя Иоанна Златоуста «Маргарит», и многие слушали Божественные Писания и сладкогласные словеса святителя Иоанна.
Это воистину апостольское служение произвело сильное впечатление. Люди привыкли лишь издали следить за малопонятными обрядами в церкви; священник, правда, был таинственным посредником между людьми и Богом, но по выходе из церкви он становился таким же простым человеком, как и все, да и сам он нисколько не считал себя обязанным подавать пример особого поведения. В храме (вынесем за скобки неполад ки, о которых мы уже говорили) не было никакого непосредственного общения между священнослужителем и верующими: Божественная Литургия была слишком духовно-величественна, чтобы осмелиться соединять ее со слабым лепетом рядового священника. Отсутствие проповеди в московской церкви объяснялось не только невежеством или недостаточным образованием и ленью духовной – то были второстепенные и побочные причины; истинная же причина заключалась в глубочайшем благоговейном уважении к литургии, в сознании невозможности соединять слово Божие со словами смертных. Это казалось недостойным. Но тогда нужно было бы обучать религии вне церкви или, по крайней мере, служить церковные службы на понятном языке так, чтобы до верующих все доходило. Но этого ничего не было. Поэтому религия приняла формальный и сухой характер, без всякого отношения к жизни и нравам эпохи. Когда священник, сняв облачение, выходил из церкви, он смешивался со всей остальной массой; иной раз шел пить в кабак, торговал в лавке, занимался хозяйством, совсем не думая о своей пастве.
И вот появляется новый священник из церкви Воскресения, которого никто не назначал и который поэтому может порвать со всеми прежними традициями. Он совершает церковную службу без пышности, но с достоинством и без всякой спешки. После окончания службы он обращается непосредственно к бедным людям, поучая их непосредственно на их живом и образном языке, разъясняет им учение апостолов, Евангелие и «Отче наш» просто, без своих собственных изобретений, читая фразу за фразой, объясняя ее и увязывая все с реальной повседневной жизнью. Но он не ограничивается только этим: он продолжает поучать народ и за стенами церкви. Он ходит, неустанно проповедуя слово Божие, предлагая слушателям религию, прочувствованную и продуманную, в которой соединены в органическое единство нравственность, догматика и обряд; он бросает драгоценный жемчуг св. Иоанна Златоуста не свиньям, а толпе несчастных, бессознательно алчущих живой и настоящей веры. Эти люди поражались встречей со священником нового типа, совсем не похожим на остальных, и жадно внимали его словам. Неронов, в полном соответствии с русской гомилетической традицией, столь высоко чтущей св. Иоанна Златоуста, больше всего любил говорить простым, естественным языком великого архиепископа: он горел желанием внушить людям свой духовный восторг. Его паства думала, что проповеди неутомимого заступника несчастных и грешных написаны были специально для них: как много было общего между византийскими плебеями IV века и ремесленниками, рабочими, кормщиками и лавочниками крупного волжского порта! В пяти проповедях о Лазаре и богатом было так много утешений для тех бедняков, кому ежедневно приходилось столько выносить от богатых.
Проповеди Неронова пользовались большой популярностью. Подаяния потекли рекой. Сначала надо было воздать дань Богу: Неронов приобрел священные сосуды и колокола для церкви. Он также произвел ремонт церкви. Вокруг нее он построил деревянные кельи для монахинь, которые там поселились, проводя время «в непрестанном посте и молитве». Авторитет Неронова возрос: его приходили слушать бедные из соседних деревень; потом стали приходить и зажиточные люди со своими женами и детьми. Отдав дань Господу, Неронов начал думать и о людях; на помощь нищим и странникам потекли еще и еще подаяния. Неронов оказывал им приют. Он кормил их, следил за тем, чтобы никого не обделяли. Какой-нибудь служитель церкви читал им Священное Писание, а Неронов объяснял его содержание. Каждый день за стол садилось сто и более того человек. Его жена Евдокия, в свою очередь, обслуживала женщин и девушек.
Вокруг Неронова образовалось ядро учеников его последователей: многие подражали его добродетелям, некоторые не выходили из его дома, другие приводили к нему своих детей, чтобы он их наставлял. Неронов безвозмездно обучал молодых и старых, которые скоро, благодаря молитвам и усердию их учителя, стали понимать содержание Священного Писания. Естественно, что люди, видя его добродетельную и благочестивую жизнь, стали приводить к нему на исцеление одержимых. Неронов оставлял их у себя, окружал их заботами, молился за них днем и ночью, водил их в церковь, окроплял святой водой – вплоть до их исцеления.
Церковь, которая до этого времени была в заброшенном состоянии, «без певчих», стала теперь центром христианской проповеди: монахини, нищие, путники, учащиеся, больные, получавшие материальную помощь благодаря подаяниям более богатых верующих, просвещенные Нероновым, – все восхваляли Господа. Это был своего рода монастырь, братия которого, без монашеских обетов, время от времени сменялась; точнее, это был образцовый приход.
Духовное рвение нового священника вскоре возбудило подозрение у его собратьев – священников городских приходов, и особенно у духовных властей, у архимандрита Печерского монастыря и у настоятеля Преображенского собора. Будучи требовательным по отношению к верующим, Неронов должен был быть безжалостным по отношению к пастырям. Реформу церкви можно было осуществить, только начав ее сверху. Неронов начал беспощадно упрекать церковную верхушку за ее небрежность, бездеятельность, а чаще и за еще более тяжкие грехи. Последствия такого поведения Неронова не заставили долго себя ждать. Архимандрит добился его заключения в тюрьму. Он сделал это тем более охотно, что Неронов и его самого во многом обличал. Его заковали в цепи, но тотчас же освободили, то ли благодаря хитрости его учеников, то ли под их давлением.
К несчастью, он вскоре рассорился с гражданскими властями. С начала 1631 года московское правительство готовилось отомстить Польше за перемирие 1618 года, срок которого истекал в 1633 году. Из Швеции, Германии и Дании были признаны на московскую службу офицеры и солдаты, у Голландии было куплено оружие и порох, от короля Англии было получено 5 тысяч сабель и 2000 солдат[191]. Этот наплыв в Россию тысяч иноземцев протестантского вероисповедания не мог не обеспокоить Неронова. С другой стороны, эти военные приготовления несли народу новое и очень тяжелое бремя: специальный налог на содержание иностранных полков, призыв по одному мужчине, притом снаряженного и снабженного продовольствием, от 40 дворов, – все это означало увеличение прежних налогов. Будучи подлинно смелым пастырем, Неронов выступил выразителем народного недовольства. К тому же подготовка к такому походу, без всякого повода к тому со стороны Польши, была проявлением явной несправедливости. И вот 31 января 1632 года мы видим священника Ивана, сосланного на покаяние в отдаленный Николо-Корельский монастырь, расположенный у устья Двины, в 35 верстах к северу от Архангельска. В Житии написано, что Неронов перед этим приезжал в Москву и разгневал царя Михаила и его отца, заклиная их не проливать христианскую кровь в походе, обреченном на неуспех; в указе патриарха[192] Неронов назван «спесивым и безумным» человеком, который вызывает в народе беспокойства и беспорядки, к тому же учит народ, не имея на то разрешения, обличает священников, называя их еретиками. Конечно, по всей совокупности этих «грехов», которые на него взвалили, ему вынесли очень строгий приговор: его, закованного в цепи, затворили в пекарне, а в церковь его пускали только в сопровождении верного и испытанного монаха, опасаясь, как бы он опять не взбудоражил народ своим безрассудным учением. Ему было разрешено причаститься только перед смертью; к концу года власти должны были представить отчет о его поведении и о состоянии его рассудка. Вот как патриарх и его приказ вознаградили истинного апостола: они выдали его за сумасшедшего!
Неронов прострадал на Крайнем Севере два года и рисковал пробыть там еще дольше, так как вместо того, чтобы «исправляться», он постоянно упрекал монахов и самого настоятеля, которые непрерывно предавались пьянству. Но смерть Филарета, последовавшая 1 октября 1633 года, изменила многое: недостойные фавориты получили кару за свои проступки, а такие праведные священники, как Неронов, были выпущены на сво боду[193]. После этого он снова получил дорогой его сердцу приход. Вскоре тут убедились, что его настроение осталось тем же и что образ его жизни не изменился.
С незапамятных времен одним из больших развлечений русского народа были скоморохи. Они ходили по городам и деревням с лютнями и гуслями, гудками и барабанами, отбивая чечетку, с веселым, разнообразным репертуаром, с песнями, прибаутками, играли и плясали; они выступали и на площадях, и в частных домах, и на вечеринках и свадьбах, куда их приглашали развлекать гостей то князья, то простые крестьяне. Иногда они давали настоящие драматические представления, выступая в масках и сопровождая игру мимикой, гримасами и кривляньем: это были комедии, весьма рискованного характера, или сатиры, сопровождаемые шутками, которые в этот беззастенчивый век должны были быть, вероятно, иной раз весьма грязными, чтобы вызвать у людей смех. Кроме того, среди них были танцовщики на канате. Часто у труппы были один или даже несколько обученных медведей, которые были научены подражать определенным знакомым типам: пьянице, судье, хромому, какой-нибудь моднице, которая любуется собой в зеркало, или женщине, ласкающей своего возлюбленного; все это происходило под звуки музыкальных инструментов и в сопровождении разных крепких словечек вожатого медведя. В комедиях скоморохов эти медведи были настоящими артистами, носившими имена: Михайлы Ивановича для мужского персонажа и Марьи Ивановны для женского. Это зрелище развлекало царей и бояр не менее, чем их придворных: хотя скоморохи сейчас и выродились, но и по сей день можно иногда видеть, как они развлекают людей на бульварах Москвы.
Скоморохи появились до распространения христианства, их циничные шутки являлись оскорблением для нравственности; их веселая музыка шокировала слух аскетов; их опасные трюки иногда кончались смертью акробата. Этого было достаточно, чтобы православная Церковь возобновила против них грозные анафемы, которые в свое время применялись против подобных забавников греческим духовенством. Начиная с XI века скоморохов начали преследовать; однако они продолжали процветать как ни в чем не бывало. По этому вопросу существовало постоянное расхождение между мнением народа и требованиями пастырей. В разгаре XVI века Стоглавому собору пришлось осудить шутов, комедиантов, гусляров и исполнителей сатанинских песен, которые имели обык новение возглавлять свадебные шествия, и просить царя объявить войну этим шутам, которые, объединяясь группами в 60–70 и 100 человек, ходили по деревням, устраивали попойки, деморализовали и грабили верующих[194]. Епископы намеренно смешивали разбойников со скоморохами; крестьяне же, со своей стороны, в представлениях этих скоморохов находили отвлечение от своего тяжелого труда, а в их острых сатирах нередко обретали видимость мести за понесенные обиды.
Но развлечение и мщение – не христианские чувства. Неронов, будучи глубоко сознательным пастырем и верным хранителем церковного учения, открыто выступал против шутов и вожатых медведей. Их в Нижнем было очень много; у нас имеются сведения, подтверждающие это. Он стал проповедовать среди зрителей, восстанавливая их против этих шутов, а затем принялся непосредственно за самих скоморохов, действуя как словами, так и действиями: он разбивал на части их гусли и цимбалы, а скоморохи, исполненные гнева и ярости, нападали на служителя Божия, так что ему много пришлось пострадать от этих слуг сатанинских; все же некоторые, видя его терпение и неутомимое рвение, оставляли свою дурную жизнь, каялись и возвращались в лоно святой Церкви. Иной раз, особенно накануне Рождества и Крещения, Неронов предпринимал настоящие карательные экспедиции: со своими учениками он ходил по улицам и вступал в настоящий бой со скоморохами, ломая дьявольские орудия увеселения. Неронов и его друзья возвращались домой окровавленные, полумертвые, но раны их были для них радостью; они ощущали их как трофеи победы. Собравшись затем в церкви ко всенощной, они просили Бога, чтобы он исполнил их молитву победить врага; и молитва их бывала услышана.
К сожалению, скоморохи имели влиятельного покровителя в лице воеводы Василия Шереметева. Этот любезный и приятный боярин, который устроил такой блистательный прием голштинским послам и показался им столь высокообразованным человеком[195], конечно, с удовольствием допустил бы некоторые изменения западного характера в московские нравы; но он вполне удовлетворился формальной религией своего времени и не считал нужным вливать в нее новый дух строгости и искренности, ибо он меньше всего хотел нарушать общественный порядок. Для такого «просвещенного» человека, который был сам любителем игрищ, строгость Неронова и его учеников казалась только клерикальным фанатизмом. Кстати, не впутывался ли этот поп слишком смело в дела, которые его не касались, прося помилования для виновных, заступаясь, как он только мог, за тех, кто находился под властью воеводы?
Неронов брал на себя снова дело прежних епископов первохристианской Церкви: выступая против властей, он становился защитником угнетенных и слабых. И тем самым он без слов утверждал право критики или прямого воздействия священства, облеченного высшим моральным авторитетом, на государственные власти. Шереметев потребовал, чтобы к нему привели этого человека, мешавшего народным радостям и увеселениям, и в правеже подверг его избиению. Под ударами Неронов безмолвствовал, как бесчувственный, и читал книгу великого вселенского святителя святого Иоанна Златоуста «Маргарит» – книгу, которую он всегда носил с собою. В тюрьме, закованный в цепи, он непрерывно воспевал хвалу Богу и читал вечерню, утреню и полуночницу. И множество народа, обходя бдительность его стражи, посещало его в темнице и оставалось там с утра до вечера, слушая его пение и поучения. В тюрьме он оставался 40 дней и был освобожден только по особому приказу из Москвы. Все это дело происходило между 1634 и 1636 годами[196].
IV Челобитная 1636 г.
Эти периоды в тюрьме или на положении кающегося лишь на короткое время прерывали апостольскую деятельность пламенного реформатора. Каждый раз он возвращался к своему делу со все большей и большей решимостью. Далеко не все его собратья-священники находились в состоянии маразма: среди них были люди, которое, как и он, понимали требования эпохи и лишь ждали авторитетного голоса, чтобы последовать за ним. К числу своих учеников-мирян Неронов скоро смог присоединить и нескольких благожелателей из духовенства. Он мечтал об этом, но это казалось ему трудно осуществимым идеалом. Многие священники, соперничая с ним, пытались «извлечь из глубин своего сердца всю сладость поучений Божественного Писания», так характеризует он деятельность некоторых своих собратьев. По-видимому, они начинали, подобно ему, вступать в прямую духовную связь со своими прихожанами, начинали произносить проповеди. Он отнюдь не покидал их в их трудах, но, напротив, поощрял их, работал над их душами, а, может быть, и пользовался для себя тем хорошим, что в них было. Нам приходится лишь представлять себе при свете воображения те встречи, которые, может быть, происходили между всеми этими представителями духовенства, те мысли о современном положении Руси, которыми они обменивались, те планы, которые они обсуждали, чтобы улучшить состояние православной Церкви и утишить праведный гнев Божий.
Среди них были Симеон Трофимов, настоятель церкви Успения на Ильинской горе, выборный благочинный нижегородского духовенства, следовательно, важное и влиятельное лицо; был его брат Андрей из храма св. Сергия в маленьком монастыре в предместье Петушково, был Мелетий Емельянов из церкви Николы в торгу, и его брат Тит из Происхожденской церкви; был Онуфрий Климентов из Большого Вознесения; был Василий Никитин из церкви св. Георгия, в которой еще в 1621 г. не служили; был Трифон Алексеев от Казанской Божией Матери, и всех их возглавлял Иван Неронов, продолжавший быть настоятелем церкви Воскресения[197]. Из примерно тридцати приходов Верхнего города и Нижнего города было представлено 9; от кремлевских церквей не было ни одного священника. Многие из этих священников, по-видимому, были молодыми, другие были уже зрелого возраста: мы найдем в дальнейшем, через 17 лет, Симеона в Москве[198]; Мелетий вскоре стал служить в Никольской церкви[199]; Онуфрий в 1646 году украсил серебром и золотом крест, находившийся в той же самой Вознесенской церкви[200]; Василий, вдохнувший, по-видимому, новую жизнь в ранее запустелый храм, выстроил его заново из камня после 1647 года, а сам в 1653 году под именем Варнавы принял монашеский сан в Печерском монастыре; в этом монастыре мы находим его еще в 1661 году[201]; в дальнейшем Тит принял там монашеские обеты в 1645 году под именем Тихона[202]. Умер он в 1660 году архимандритом Данилова монастыря в Переславле Залесском[203]. Таким образом, перед нами предстает кружок энергичных людей, преданных своему делу и тесно связанных между собою, – причем некоторые были связаны даже узами родства, – людей, близких народу, но исполненных решимости вести народ к желаемой ими цели и исправлять его жизнь и нравы.
Была предпринята конкретная попытка осуществить реформы. Представители кружка направились к представителю патриарха Василию Тимофеевичу Потапову: вопрос ставился о том, чтобы сделать обязательным во всех церквах, начиная с соборных, чтение часов перед обедней; этого требовало предание св. отцов и каноны Стоглава[204]. Потапов принял соответствующие меры. Но высшие иерархи замолчали это дело, а что касается настоятелей церквей, которые попытались ввести этот порядок, то прихожане возмутились, говоря: «Таво не повелось у нас и в соборных церьквах, а ты де затеваешь новыя уставы и, коли де так годно, и ты де привези указ с Москвы, чтоб по всем церьквам так творили»[205].
Ревнители решили обратиться к Москве. Момент был очень благоприятный. Конечно, на верхах существовало определенное увлечение западными новшествами: невзирая на Стоглав, продолжали стричь бороду, очень ценили пришедшие из Германии гравюры с печатными текстами[206], переводили в Посольском приказе «Космографию» Меркатора[207], некоторые бояре изучали латинский язык[208], юный царевич и его товарищи иногда носили немецкое платье[209]. Но тут произошли перемены: вместо государственного деятеля на посту патриарха его место занял иерарх, мало интересовавшийся политикой, но благочестивый и исключительно преданный благу церкви. То был прежний псковский архиепископ Иоасаф. Одним из первых его действий было решение сослать, а затем и подвергнуть суду недостойного суздальского архиепископа Иосифа Курцевича[210]. Для того чтобы обслужить в религиозном отношении Сибирь, он, невзирая на пассивное противодействие духовенства, направил туда из Вологды и Москвы архимандрита, протопопа, 11 белых священников и 6 монахов, которые все были добрых нравов, хорошими духовными отцами, послушными канонам и преданиям; и при том они были непьющие[211]. Он не побоялся обратиться с самым суровым порицанием к игуменье Покровского монастыря в Суздале, в монастыре которой монахини, большею частью благородного происхождения, жили распутно и даже ро жали детей[212]. В самом Нижнем религиозные настроения были в это время очень сильны, что, по-видимому, обусловливалось видениями Петра Гладкова, основателя скита Оранское Поле, расположенного приблизительно в пятидесяти верстах от города. Сама жизнь Петра Гладкова была связана с целым рядом чудес[213].
От имени своих друзей Неронов составил челобитную о непорядках в церкви и о лжи в отношении самого христианства. В этой челобитной он подробно, простым народным языком, перечислял все злоупотребления и пороки как народа, так и духовенства[214]. Челобитная была составлена, впрочем, в отношении литературного оформления довольно небрежно.
Протопопы не выполняют своего долга, говорилось там, не зачитывают приказов царя и патриарха, не преследуют пьянства, не поучают свою паству.
Священники предаются лени и пьянству, они служат, не считаясь с канонами, в пять или шесть голосов зараз; даже в соборных храмах они пропускают чтение часов, а обедни без часов – это птицы без крыльев. Во время Великого поста, особенно святого времени, они лгут Богу, воспевая ночью «Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохранитися нам…», и это в тот самый момент, когда солнце уже встает!
Во время литургии и в самый торжественный ее момент они не могут установить в церкви порядка и тишины. Разные жулики и негодники с шумом ходят по церкви, по шесть и более, ругаются, бранятся, дерутся; одни говорят, что их продали в рабство и просят деньги на выкуп; другие делают вид, что они отшельники, показывают свои черные одеяния, свои власяницы и собирают деньги на построение храмов, которых на самом деле никто не собирается строить: часто потом их встречают вместе с разными пьяницами; иные делают вид, что они сошли с ума, а потом видишь их в полном здравом уме; еще другие со стоном валяются по земле и показывают искусственные раны, где якобы можно видеть и кровь, и гной. Слышны одни крики и причитания. Нет возможности сосредоточиться! Настоятели подбирают молодых и неженатых пономарей; разрешают детям играть на клиросах… Какие это пастыри? Это волки в овечьей шкуре.
Из-за этих беспорядков души смущаются, а вера гибнет. Народ, предоставленный самому себе, привыкает жить, как ему захочется; и заблуждающееся стадо без пастыря бродит как попало. Народ упорно предается всяким языческим и дьявольским обычаям. На Рождество делают из коры быков, покрывают их всякими сукнами и шелками, подвешивают им колокольчики, надевают маски с гривами, прицепляют к себе хвосты и бегают толпами по улицам, испуская дикие крики, как у животных, с плясками и с диким пением и с непристойными телодвижениями. На Пасхальной неделе предаются своим гнусным делам не только поводыри медведей и скоморохи, но для народа ставятся еще качели на площадях и там люди убиваются. Приходит хорошая погода, наступает Вознесение, и вот мужчины и женщины выходят из стен города, идут в Печерский монастырь: там предаются дикому пьянству и тут же играют комедию скоморохи и ученые медведи. В следующий четверг, седьмой после Пасхи (семик), идут на кладбище, отведенное для умерших без покаяния: там женщины и девушки вместе сходятся под березами, поклоняются деревьям, приносят им в дар и приношение пироги, разные кушанья и яйца, вслед за чем пускаются в дьявольский хоровод; потом сами садятся, чтобы съесть свои приношения; наконец, по двое они подходят к березе, делают себе венки из веток и целуются, говоря, что они теперь нареченные сестры. В понедельник после Пятидесятницы в подгородной слободе Высокая происходят те же дела, разница только та, что сначала они обвивают себе головы венками, а потом кладут их на воду. На Иванов день в поле зажигают большие костры и всю ночь до самого восхода солнца женщины и девушки через них прыгают. Такие игрища повторяются каждый вечер до Петрова дня. Приходят из деревень, и тут совершаются и убийства, и всякого рода бесчинства. В этих дьявольских увеселениях принимают участие и старые, и молодые. Происходят также и чудовищные побоища, во время которых многие бывают убитыми и умирают без покаяния. Так оскверняются христианские праздники. Но и на протяжении всего года церковные каноны и уставы тоже презираются: на рынках продают удавленину, едят утятину, гусятину, тетеревов и зайцев, которых православный есть не должен; позорно ругаются, не жалея ни отца, ни матери.
В заключение ревнители умоляют патриарха, представителя Бога на земле и хранителя душ и телес, восстановить в Церкви древнее благочестие. Таким образом, хотя и в плане обличения, челобитная содержит в себе обширный план реформ. Здесь нет подхода ученого или честолюбца, задумавшего многое: челобитная не касается ни догматов, ни богослужебных книг, ни церковного распорядка; она не исходит из каких-либо отвлеченных принципов или широких проектов реформы Церкви; она исходит из традиций русского благочестия и лишь подразумевает необходимость выполнения канонов Стоглава 1551 года, нигде не цитируя их. Перед нами пожелание и увещание лучших приходских священников того времени. Впрочем, эти пожелания могут быть классифицированы по трем основным пунктам: богослужение, нравы и состояние духовенства.
С точки зрения чисто богослужебной, русская Церковь уже давно страдала от недуга, от которого она не оправилась и поныне[215]. После того как в течение долгих веков она придерживалась древнего константинопольского обряда, пересмотренного в XI веке патриархом Алексеем Студитом и сформулированного в славянском варианте св. Феодосием Печерским, она в начале XV века, следуя практике афонских монастырей, Константинополя и южных славян, ввела иной богослужебный распорядок, который был распространен в христианских общинах Палестины, Александрии и Антиохии, именно богослужебный распорядок Иерусалимский, или св. Саввы[216]. Надо сказать, что первый устав был коротким, он не знал на протяжении года ни ночного бдения, ни очень долгих молитв; второй устав, напротив, предусматривал для кануна воскресения и праздников чрезвычайно длинные службы. Переход от одного устава к другому произошел, по всей вероятности, под влиянием митрополита Киприана, без всяких затруднений, но вскоре убедились в том, что новый Типикон, если он и подходил к строю больших монастырей, был почти неприменим в приходских церквах: если соблюдать устав полностью, то народ проводил бы все время в церкви. Поскольку церковные власти не занимались вопросом об этих трудностях, верующие и священники решили прибегнуть к собственному своеобразному решению. Не решаясь ничего выкидывать из обряда, решили выполнять различные компоненты службы одновременно: в то время как служащий священник произносил возгласы, диакон читал ектении, чтец поспешно читал положенное, а хор тут же пел стихиры или иные песнопения, во время часов каноны Октоиха, Минеи и Триоди, то есть каноны и празднику, святым, и воспоминаемому событию, вместо того чтобы читаться последовательно, читались одновременно[217]. Первый час начинался еще до окончания предшествующей службы; часто бывало так, что один чтец находится на третьем часе, а другой уже перешел на шестой. Спешат обогнать друг друга; каждый стремится как можно скорее кончить положенное ему чтение. Таким образом, справлялись со службой целиком и полностью при минимальной затрате времени. Считалось, что долг выполнен, вслед за чем и духовенство, и прихожане могли отдаться своим занятиям или предаться светским удовольствиям. Но божественная служба, таким образом, превращалась в невероятную какофонию, в четыре-пять или шесть голосов, в которой при всем самом настойчивом желании невозможно было разобрать ни смысла, ни даже отдельных слов. Благочестивые души глубоко огорчались таким положением. Стоглавый собор и митрополит Макарий в 1551 году уже осудили эту практику[218]; Домострой свидетельствует, впрочем, что она вошла и в частный быт при домашней молитве[219]. Вслед за этим мы не видим, чтобы кто-либо возвышал свой голос против этих порядков, и так продолжалось вплоть до Смутного времени: патриарх Гермоген, получивший ряд писем и устных высказываний от глубоко возмущенных верующих, выразил осуждение как виновным священникам, так и мирянам, толкавшим духовенство на это: как при подобном неблагоговейном поведении можно было надеяться освободиться от тяжких несчастий, постигших родину[220].
Конфликт, возникший между требованиями, выдвигаемыми церковными книгами, и повседневной жизнью, был очень серьезным, так как в нем сталкивались, с одной стороны, усердные священники и, с другой стороны, – требовательные в отношении продолжительности службы прихожане. Решить вопрос можно было только путем компромисса. Священники Нижнего Новгорода, которые заботились лишь об одном – не солгать Богу, готовы отдать всю свою жизнь за правильное исполнение устава: они утверждали, что все службы должны совершаться целиком и полностью без того, чтобы одна перекрывала другую. И это положение они строго проводили в жизнь. Положение их было нелегкое. Однако единогласное пение с этого времени становится одним из основных положений реформаторов. В общих чертах можно сказать, что они прежде всего жаждали благолепия в церквах, любили длинные и торжественные службы, глубоко чувствовали всю красоту богослужения.
Другим характерным отличием их деятельности была ожесточенная борьба против всего того, что оскорбляло чувство христианина в окружающей жизни. Периодически совершаемые празднества русского народа были связаны с язычеством; более того, в соответствующих песнях даже прямо упоминались языческие боги. Ученые звери вызывали смех у зрителей всевозможными непристойными повадками. Побоища и драки нередко приводили к смерти, причем умирающий уходил из жизни без исповеди. И вот мы видим, что этим злым языческим обычаям объявляется отчаянная война, причем используются все способы, даже и насильственные, тем более, что уже имелись соответствующие решения власти. Начинается борьба и против пьянства и противоестественных пороков. Строго осуществляются древние каноны, требующие в таких случаях покаяния, и вместе с тем обращаются к Ветхому Завету, где воспрещается стричь бороду и есть мясо нечистых животных.
Наконец, для ревнителей является совершенно ясным, что реформа должна начинаться с приходского духовенства. Ведь именно приходское духовенство находится в теснейшем общении с народом. Если это духовенство не будет подавать народу пример христианской жизни, где же народ найдет образцы, примеру которых он мог бы следовать? Итак, необходимо, чтобы духовенство было добродетельным и усердным; но и более того, духовенство должно завоевать в обществе то место, которое принадлежит ему по праву. Духовенство должно требовать справедливости и защиты для своих пасомых от гражданских властей, а наряду с этим оно должно бороться и за поддержку религии и нравственных устоев. В отношении церковных властей приходское духовенство не должно стоять в положении пассивного послушания, нет, оно должно проявлять инициативу, когда нужно давать совет и указания; в надлежащих случаях приходское духовенство должно противостоять воеводам и их подчиненным, своим собственным прихожанам, и даже, если потребуется, смело вступать в спор с самими епископами. Неронов и его друзья твердо решили дать восторжествовать в полной мере этой новой идее: высокому достоинству священника.
V Два направления: реформаторство в Церкви и индивидуальный мистицизм, Капитон
Как можно думать, Неронов сам доставил челобитную в Москву. Здесь он был уже известен. На этот раз его кипучая деятельность и его ревность встретили иную оценку, чем в 1632 году: ведь эти его черты по существу совпадали с реформационными настроениями, которые с каждым днем проявлялись все больше и больше. Начиная с 1634 года как русским, так и иностранцам запрещалось курить, хранить табак и торговать им[221].
В марте 1634 года патриарх послал в Соловки специальное послание, в котором он сурово порицал все отступления, имевшиеся в известной лавре, от устава и даже просто от основных нравственных принципов: там говорилось о пьянстве, о выборах, которые были подстроены обманным образом с тем, чтобы получить снисходительных монастырских старцев, о совращении с пути истинного послушников и о всевозможных нарушениях монашеского обета[222]. В том же самом году сам царь выразил осуждение монахам Павло-Обнорского монастыря в Вологодском воеводстве за то, что они хранят у себя водку и табак и допускают в монастырских стенах устройство харчевен, куда они постоянно ходят и где они весело проводят время[223]. Все дело шло к введению строгостей. Неронов имел полный успех.
14 августа 1636 года патриарх обратился к московским церквам, а равно и церквам Московской епархии с посланием, в котором он снова повторял все жалобы нижегородских священников. В этом своем послании он даже использовал те же самые выражения, а также для подтверждения своей мысли и те же тексты из Священного Писания. Аналогичны в основном были наставления и указания. Однако, будучи, возможно, менее жестким и более реалистически настроенным, чем авторы челобитной, он дал разрешение на двоегласие и даже в случае надобности – на троегласие[224]. Несмотря на это, ни разу с самого Собора 1551 года не раздавалось столь торжественного и столь строгого осуждения пороков того времени.
Более того, патриарх послал в Нижний своего полномочного представителя священника Андрея, которого он снабдил особыми полномочиями. Он должен был договориться с настоятелем Успенской церкви, тем самым Симеоном, который подписал челобитную, для того, чтобы посетить церкви, рассмотреть жалобы, проверить церковные книги и выяснить, не было ли какого-либо обманного хищения взносов, долженствовавших поступать в патриаршую казну. Одновременно с этим он должен был задерживать в кабаках пьянствующих попов, делать им внушения и заставлять их платить штраф в два рубля четыре алтына и полтора гро ша[225]. Эта миссия преследовала, таким образом, двойную цель: будучи прежде всего фискальной, она в каком-то отношении отвечала также и желанию ревнителей.
Нижегородская челобитная не была изолированным явлением, везде в это время чувствовалась потребность в реформе.
В Калуге один священник соборной церкви, находясь в состоянии опьянения, предъявил своему настоятелю серьезное обвинение: правда, на следующий день он взял это обвинение обратно, но все же был послан в Москву в Разряд. Там ему объявили, что, если ему случится еще раз напиться, его посадят в тюрьму «на столько времени, на сколько нам заблагорассудится». Кроме того, если он еще раз повторит свой проступок, то ему громко прочтут перед всем духовенством, перед боярством и перед народом суровое обвинение, чтобы никто не сомневался в том, что он сделал[226].
По собственной своей инициативе духовенство Ржевы Пустой в Псковском воеводстве объявило протест против открытия там нового кабака: «Народ там разоряется, все время идет там пьянство, кражи и убийства»[227].
Варлаам, архиепископ Вологодский, в начале 1639 года жалуется царю на неприкрепленных ни к какому монастырю бродячих монахов, которые живут у частных лиц, пьянствуют в кабаках и занимаются всякими подозрительными делами; в ответ он получает совет заключить их под стражу[228].
К этой самой эпохе относятся увещания некоего Агафона, адресованные архиепископу Суздальскому Серапиону. Увещания эти направлены против пения и чтения во много голосов; надо, говорится в увещаниях, прекратить это безобразие, осужденное как святыми отцами, так и Собором 1551 года и патриархом Гермогеном, это безобразие, которое убивает благочестие, разрывает церковь, а, следовательно, и Тело Христово. «Знай, что тут лежит твой пастырский долг»[229]. На этот пламенный призыв Серапион ответил 30 мая 1642 года строгим пастырским посланием. В этом послании в общем содержится то же осуждение, которое сделал патриарх в 1636 году, но тон его более строгий и оно содержит большее количество порицаний. Без всяких оговорок Серапион предписывает, чтобы не было пения больше, чем в два голоса. Он воспрещает давать Святые Тайны христианам, которые бреют бороду; женщинам, которые белятся и румянятся; тем, кто произносит понапрасну клятвы, ссорится, предается разврату. Допуская третий брак при условии покаяния сроком от 3 до 5 лет, он всецело и категорически отвергает четвертый брак. Он напоминает о необходимости строгого соблюдения Великого поста. Но особенно он подчеркивает следующее увещание духовенству: никогда не следует, даже во время часов, служить без облачений, надо избегать пиршеств, никогда не заходить в кабаки, не допускать пьянства, не посещать больших грешников, наконец, подавать пример во всех добродетелях[230].
Вскоре после этого неизвестный благочестивый христианин воспользовался вступлением на престол нового патриарха Иосифа для того, чтобы указать ему на дурное поведение священников, которые, не считаясь с уставом, спешат служить в пять и шесть голосов, опускают нужные чтения Синаксаря, боятся упрекать влиятельных прихожан; он говорит также о недостойных монахах, которые стремятся к богатству, пиршествуют и выбирают на церковные должности снисходительных; также порицает мягкотелость епископов, которые не препятствуют этому[231].
Нередко и простой народ высказывает свои стремления к более христианскому образу жизни. В 1641 году несколько крестьянок с Севера получают указания Богоматери, дабы призвать верующих к добропорядочной жизни: «Пусть молятся они со слезами, да не курят и да не клянутся, да не входят в церковь нетрезвыми, да стоят в церкви со страхом и трепетом, да живут они согласно канонам св. отцов, да не занимаются они никакой работой в праздничные дни». Эти указания, по-видимому, были записаны и распространялись по городам, приходам и деревням с тем, чтобы повсеместно христиане вернулись к доброй вере[232].
Уже в этих указаниях, данных Пресвятой Богородицей, чувствуется, что стремления к обновлению Церкви идут помимо иерархии. Вскоре некий Капитон, прославившийся своим аскетическим образом жизни по всему Северу, пошел в этом направлении еще дальше и сконцентрировал это новое духовное направление вокруг своей собственной личности. Мы узнаем о нем впервые в качестве основателя небольшого скита Преображения на расстоянии 110 верст к юго-востоку от Тотьмы[233]. Это относится к 1630 году, а несколько позже, 3 июля 1634 года, в соответствии с указом царя ему предоставляется земельный участок в 4 верстах от Даниловской слободы в северной части Ярославского воеводства; там он создает новый скит – Колесниковский[234]. Недалеко оттуда, в деревне Морозово, он открывает женский монастырь: там он принимает в монашество около 12 женщин, над которыми сохраняет духовное руководство[235]. В 1639 году патриарху сообщают, что Капитон представляет собой не что иное, как опасного фанатика; после расследования в отношении него предписываются решительные меры: его арестовывают и заключают для покаяния в ярославский Спасский монастырь; его Колесниковский скит и морозовский монастырь отдаются в управление игумену соседнего монастыря[236]. Соответственно указу, в Данилов направляется один дворянин из Ярославля, один писец и один мещанин; однако, не дожидаясь их прибытия, монахи разбежались, так что не осталось ни одного даже для охраны монастыря; большая часть монахинь поступили так же; что касается Капитона, то он удалился в леса. Однако на этом он отнюдь свою деятельность не заканчивает.
Нам приходится восстанавливать облик этого Капитона по отдельным отрывочным указаниям, однако все заставляет думать, что он был выдающейся личностью. Даже после его осуждения основанные им монастыри официально сохраняют в своем наименовании его имя. Позднее отщепенцы от официальной церкви обобщенно называются капитонами. Он долго жил далеко от людей, скрытым ото всех и представлялся чем-то вроде таинственного патриарха нового религиозного движения.
Послание 1639 года именует его отшельником, что, по-видимому, позволяет в какой-то мере верить тем рассказам, которые ходили о его аскетическом образе жизни. Он носил на себе тяжелые вериги, на которых спереди и сзади висели две плиты, каждая весом в 48 фунтов; для сна, он не ложился, но подвешивал себя за пояс к крюку на потолке. Он невероятно строго постился, ел только раз в два дня, питаясь сухим хлебом, сырою травою и ягодами, и то после захода солнца; даже в такие великие праздники, как Рождество и Пасха, он не позволял себе ни сыра, ни масла, ни рыбы и вместо пасхальных яиц распределял преданным ему лицам окрашенные красной краской луковицы; он доходил даже до того, что постился в субботу, что воспрещено церковью как еврейский обычай. Время он проводил в псалмопении или рукоделии. Однажды к нему пришел один юный крестьянин из Тотьмы, которого привлекли к нему рассказы о его святости и о тех добрых советах, которые он давал монахам. Через два месяца он в ужасе бежал; но, невзирая на это, приняв имя Корнилия, он сам заслужил среди сторонников старой веры репутацию святого[237].
В послании 1639 года говорится о неистовстве и плутнях Капитона, это, впрочем, неопределенные выражения, которые нам трудно конкретизировать. Возможно, что тут скрывается намек на тот пророческий дар, которым, согласно «Винограду Российскому» С. Денисова[238], Капитон был одарен. Но там же говорится также и об «учении», и о «правиле» особого рода, которое он будто бы предписывал своим ученикам. В чем же заключалось это учение и это правило? Указ не говорит ничего об этом, но он предписывает, чтобы в Колесникове впредь соблюдали посты и совершали службы, как и в других монастырях. Там же говорится, что Капитон во время своего покаяния должен быть расспрошен о вере и о жизни по уставу, что он должен посещать все обычные службы и благоговейно лобызать святые иконы соответственно преданию апостолов и святых отцов. Перед нами необычные предписания. Из них мы можем сделать вывод и о тех заблуждениях, в которых Капитон считался повинным. Полагая, что спасение заключается в умерщвлении плоти, он, по-видимому, преуменьшал значение Церкви как установленного учреждения. Он увеличивал число постов, но презирал святые иконы. Возможно, что он удлинял божественную службу, но не придавал особого значения ни месту ее свершения, ни полномочиям священнослужителя. Священника он ценил за добродетели, а не за то, что тот имеет апостольское преемство; если он видел, что священник напивался «до веселости», или если он узнавал о нем, что тот плохо соблюдает посты, то он не желал принять от него благословения[239]. Отсюда был лишь один шаг к тому, чтобы избегать духовенства и посещения церквей, а затем и до того, чтобы вообще признать их ненужными.
Наконец, Капитон, благодаря своей суровой жизни, а может быть, и невзирая на нее, имел многочисленных, убежденных, преданных и восторженных учеников: эти ученики предпочитали обречь себя на скитания и всевозможные преследования, лишь бы не отойти от его учения; именно благодаря им Капитону все время удавалось избегать преследователей и продолжать свою проповедь со все большим и большим успехом по всему Северу.
Еще задолго до Никона в Суздальском районе появился один праведный отшельник по имени Михаил. Он учил православных христиан презирать власти. Возможно, что он не относился к избранному стаду Капитона, но, во всяком случае, его пророчества шли в том же направлении, что и проповедь Капитона. Новый царь вступил на престол, писал он после смерти Михаила Федоровича в 1645 году: «Несть царь, братие, но рожок антихристов!» Так высказывался он о новом царе Алексее Михайловиче. У него были свои собственные ученики, которые после его смерти создали на его могиле скит. В дальнейшем один из монастырских старцев говорил о нем Неронову в самих восторженных выражениях[240].
Таким образом, среди наиболее ревностных христиан того времени наблюдалось два направления. Одни, во главе с Нероновым, желали только, чтобы верующие, и прежде всего священники, соблюдали более строгим образом церковные каноны; они основывались именно на канонах и на постановлениях церковных соборов и имели в виду реформу в рамках существующей иерархической организации церкви. Возможно, что они были очень смелы, горячи, что в них обитала пламенная страстность; во всяком случае, они действовали в пределах разума и оставались верными догматике и преданию. То были священники, настоятели церквей или влиятельные миряне, образованные, которые посещали города и участвовали в жизни того времени. Другие более или менее сознательно порвали как с церковью, так и с государством: считая, что мир безнадежно погиб, что исправить его нельзя, они доверялись лишь путям индивидуального спасения и аскезы. Они были во власти странных заблуждений как в своих верованиях, так и в своем поведении. Это были простые люди из отдаленных местностей, где церкви были редки, где жизнь была сурова, где требовалась большая работа, чтобы прожить, и где молитвенное созерцание в одиночестве должно было заменять церковные поучения. Эти два направления потребуют много времени, чтобы отстояться и противостать одно другому, но, несмотря на свои внутренние противоречия, они позаимствуют друг у друга много черт.
VI Печатный двор и новые книги
В то время как Неронов и его друзья в Нижнем старались извлечь из одобрения высших властей все полезные для них последствия, религиозная жизнь в Москве входила в новую фазу. Иоасаф умер 28 ноября 1640 года. Долгое время ему не могли найти преемника, и этот длительный перерыв, продолжавшийся шестнадцать месяцев, ослабил патриаршую власть.
Интеллектуальное и моральное руководство церковью постепенно перешло к небольшой группе священников и образованных мирян, выполнявших на Печатном дворе обязанности справщиков. Основание этого дела вело свое начало от архимандрита Дионисия, действовавшего совместно с Арсением Глухим и Наседкой. Первый умер в 1640 году, другой же присоединился к последующему поколению, а именно к иноку Савватию, протопопу Михаилу Рогову и благочестивым мирянам: к Шестому Мартемьянову и Захарию Афанасьеву. Эти пять человек заведовали московскими изданиями в продолжение всего правления патриарха Иосифа[241]. Они наложили на эти издания, а через них и на всю церковную политику совершенно своеобразный отпечаток, ибо они были деятельны и отважны, вместе с тем они были и любознательны и чрезвычайно взыскательно относились к богословской науке русских, живших в западных и южных областях, в то же время стремясь защищать православие против внешних противников и восстановить его во всей его чистоте внутри страны.
В то время как в начале патриаршества Иоасафа ограничивались тем, что воспроизводили без изменения книги, имевшие хождение при Филарете, новые справщики, не колеблясь, изменяли, исправляли, дополняли книги применительно к своим установкам.
1 ноября 1638 года приступили к подготовке одного Требника для нужд белого духовенства и другого для черного духовенства. В тот и другой Требник были внесены важные изменения[242]. Служба погребения священников была упразднена, как исходящая от попа Иеремии, болгарского еретика. И взамен были внесены целые новые статьи: о порядке крещения латинян и белорусов, запрет брить бороду и усы, служба, приуроченная к Новому году[243], специальные анафемы, которые должны были произносить принявшие православие лютеране. Многие церковные службы были удлинены из-за добавления новых молитв: ранее ектении во время крещения состояли из 13 прошений, теперь же их было 21, Для бракосочетания была одна ектения, состоящая из 11 прошений, за которой следовали две молитвы, теперь же были введены 2 ектении, из коих одна состояла из 15 прошений с добавлением трех молитв[244]. Были также изменения в обряде соборования и освящения воды. Везде были введены более длинные молитвословия.
Наконец, к Требнику добавили только что вышедший из печати Номоканон, напечатанный в Киеве в 1624 году Захарием Копыстенским. Это было первое московское издание Номоканона, ценной книги, предназначавшейся для духовников. Даже в Номоканон внесли исправления: была изъята исповедь, так как она уже в своей традиционной форме существовала в Требнике. Изменена была статья 210, ранее предписывавшая во время проскомидии приготовлять пять просфор, вынутых: первая Агничная, вторая – в честь Божией Матери, третья – за святых, четвертая – за живых и пятая – за умерших[245]. Отныне надлежало служить на семи просфорах; четвертая просфора заменялась тремя: за духовенство, за царя и за верующих[246]. Никогда еще Требник – Служебник не были так основательно переделаны, так дерзновенно переработаны[247].
Возникал вопрос и относительно крестного знамения, а именно: нужно ли вытягивать два перста, знаменуя Воплощение, следуя самому древнему русскому преданию, или же надлежит слагать три перста в честь Пресвятой Троицы, как это делают современные греки[248]; вопрос этот возбуждал сомнения и ранее, и Собор 1551 года определенно ответил на них: «Если кто-нибудь не благословляет, как Христос, и не крестится двумя перстами, да будет проклят»[249]. Для ученых проблема была решена. Русские с Юга и Запада внесли в свои книги «Изложение православной веры» [Катехизис] Зизания, сочинение «Об образех», использовали «Книгу о вере» и другие сочинения, определяющие форму крестного знамения и его значение. Формула звучала так: «Соединять большой палец с мизинцем и безымянным значит изобразить тайну трех Ипостасей Бога единого в трех Лицах. Вытянуть же средний и указательный значит изобразить Господа нашего Исуса Христа истинным Богом и истинным Человеком». Москвичи придерживались гораздо менее точного описания крестного знамения, данного «Стоглавом», и умалчивали об этом в напечатанных книгах. Крестное знамение, столь часто повторяемое в повседневной жизни христианина, осуществлялось фактически по личному усмотрению. Если преобладающее большинство верующих творило крестное знамение двумя перстами, то были также и такие верующие, которые следовали новому обычаю, соединяя три перста. Эта свобода знаменовать себя крестом отвечала духу народа[250]. Такое разнообразие неприятно поражало справщиков, строго следовавших духу единства и церковного устава. Они приняли определение западнорусских ученых, и оно впервые было включено в Псалтырь, вышедшую из печати 15 ноября 1641 года[251]. Они добавили еще к Псалтыри «Наказание» наставникам, как учить детей читать, а детям, как учиться и понимать Священное Писание. Ученикам советовали читать не спеша, вникая в смысл, ибо дело Божие не терпит небрежности, а наставникам же они советовали продолжать свои занятия по Закону Божию вплоть до изучения грамматики[252]. Все эти добавления к книге, наиболее читаемой народом и имевшей в нем наибольшее хождение, стремились сделать веру более просвещенной, более разумной и вместе с тем более точно установленной и единообразной.
Печатный двор издал в Москве не только совершенно новые книги богослужебного характера, но также книги, предназначенные для домашнего благочестивого чтения. В 1640 году с 23 ноября по 5 декабря было специально к Николину дню 6 декабря наскоро выпущено Житие святого Николы. 18 ноября был отдан в печать сборник под заглавием «Маргарит», переведенный с белорусского, по Острожскому изданию 1596 года. В 1641 году появился первый выпуск первого полугодия Пролога, где содержались краткие жития святых на каждый день в продолжение целого года. То был большой труд, так как надо было объеденить две редакции Пролога, а также переделывать переводы, сделанные слишком дословно. Кроме того, надо было согласовать все с датами праздников по Иерусалимскому уставу. Так составили 980 памятей святых с повествованием об их жизни и 126 без житий. Москва, таким образом, получила более полные Четьи Минеи, чем греческая Церковь. Начиная с 1642 г. первый том был перепечатан, дополнен 25 житиями славянских святых, равно как и исправлен; в 1643 году появился второй том[253].
12 апреля 1642 года царь направил в Копенгаген двух послов, чтобы предложить руку своей дочери Ирины наследнику датского трона Вальдемару. Этот брачный союз, чрезвычайно желанный, наталкивался, однако, на одно большое препятствие. Вальдемар был лютеранин. Жених должен был принять православие. Поэтому было бы неплохо обладать готовыми аргументами для защиты своей веры. Справщики, по своей собственной инициативе или же по требованию двора, составили сборник из избранных проповедей относительно почитания святых икон; к подготовке этого сборника приложили немало усилий. Он содержал двенадцать проповедей против иконоборцев разных эпох, его намеревались пустить в ход, дабы разбить и переубедить новых исказителей истинной христианской веры; проповеди были направлены против Лютера, Кальвина и Феодосия Косого, русского еретика XVI века[254].
Но, и в особенности Наседка знал это прекрасно, непризнание образов, если оно и являлось самым возмутительным отступлением, не было все-таки единственной ересью западных. К тому же выяснялось все больше и больше, что Вальдемара не так-то уж легко будет убедить переменить веру. Ввиду возможных серьезных споров о вере думали, что было бы хорошо иметь целую систему апологетических положений. Таким сводом и явилась «Кириллова книга». Это был также компилятивный труд, составителем которого, по-видимому, был Михаил Рогов. Он внес в нее с небольшими изменениями[255] тринадцать из тридцати пяти глав «Изложения на люторы», книги, тогда еще неизданной. Остальное было непосредственно заимствовано из разных книг Западной и Южной Руси. Но все вместе составляло богатый арсенал для полемики, или, скорее, внушительную апологию московской православной веры – единственно чистой и ничем не запятнанной, чудесно сохранившейся, невзирая на последовательные отложения от Церкви армян-монофизитов, латинян-аполлинаритов, немцев-лютеран или кальвинистов, западнорусских униатов. Книга представляла собой как бы крик сердца целого народа, полный тревоги и страха и вместе с тем порожденный углубленным чтением духовных книг: восьмое тысячелетие от Сотворения мира, так думал автор, начавшееся сто пятьдесят лет тому назад, должно было увидеть Второе пришествие Христа, а до него – увидеть антихриста. Надо было бодрствовать, быть бдительным и трепетать пред лицом грядущего Христа. Книга открывалась как раз на этом страшном будущем, начиналась «Словом» Кирилла Иерусалимского, откуда она и заимствовала свое общепринятое название. Эта громадная книга произвела сильнейшее впечатление: пущенная в продажу 13 мая 1644 года, она к концу месяца уже распродалась в количестве 518 экземпляров, а в конце августа в количестве 1032 экземпляров (из общего тиража в 1163 экземпляра)[256].
Патриарх Иосиф, возведенный на престол 27 марта 1642 года, не принадлежал к тем людям, которые могли воспрепятствовать этой деятельности: наоборот, он присоединился к ней, напечатав вскоре после своего посвящения замечательное «Поучение архиереям, священноинокам и мирским иереям и всему священному чину». Это была, без сомнения, компиляция писаний, необходимых в подобных обстоятельствах, извлеченных главным образом из «Кормчей»; книга сопровождалась многочисленными цитатами из Писания. Но тот факт, что эта работа была напечатана, являлся уже новшеством, свидетельствующим о совершенно исключительном желании видеть ее распространение; помимо этого, она совершенно преднамеренно подчеркивала некоторые духовные советы: выполнять церковную службу в должном порядке, согласно Требнику; произносить молитвы, не торопясь, спокойно и ясно; будьте опрятны, говорилось там, в ваших одеждах; исповедайте женщин только при открытых дверях[257]. Наконец, патриарх советовал царям избегать подражания иностранцам, что считалось причиной всех бед в стране. Это Поучение не имело ли косвенно также в виду ведущиеся переговоры о браке Вальдемара и Ирины? Совершенно очевидно, что в это время возникли если не конфликты, то пререкания между царем и некоторыми из его советников, а также лицами, стоявшими во главе тогдашнего религиозного движения[258]. Царь придавал такое большое значение этому браку, что, убедившись, что Вальдемар не изменит своей веры, обещал не настаивать на этом. 14 января 1643 года посол Марселис уехал из Москвы, чтобы засвидетельствовать это решение царя королю Христиану и вскоре, на основе данного согласия, была достигнута соответствующая договоренность. Но вот 4 марта в ответ на челобитную духовенства от одиннадцати московских приходов было приказано снести церкви, построенные «немцами» «близ русских церквей»; вскоре их не осталось ни одной, даже и вне стен Земляного города. Так было к моменту, когда Марселис 1 июня возвратился в Москву. Но политика снова одержала верх, и 13 июля царь разрешил построить лютеранскую церковь в пределах города[259]. С другой стороны, 24 августа отдали в печать «Кириллову книгу», самую большую движущую пружину в борьбе против ереси. 21 января 1644 года Вальдемар был торжественно встречен в Москве и ввиду того, что все препятствия были устранены, брак должен был вскоре состояться. Однако 7 февраля, вопреки принятым условиям, патриарх направил Дмитрия Францбекова, иностранца, перешедшего в православие, к датскому королевичу, чтобы он воздействовал на него и побудил его принять веру царя, царицы и их детей! Ригористы одержали верх: московское правительство, отказавшись от своего слова, старалось одновременно и удержать королевича, и заставить его не только отречься от своей веры, но и подвергнуться новому крещению через погружение[260]. Молодой королевич, задержанный в Москве против своей воли, дал в конце концов увлечь себя в прения о вере.
Дебаты открыло короткое письмо патриарха Иосифа от 21 апреля. Через два дня Вальдемар ответил на него длинным трактатом, состоявшим из 21 статьи. Труд этот принадлежал пастору Матфею Фильгаберу. 23 мая появился ответ патриарха, в котором были широко использованы «Кириллова книга» и Сборник издания 1642 года. Затем на диспуте, который царь назначил на 28 мая, вопрос стал разбираться с нравственной стороны. Для участия в спорах царь специально выделил вместе со своим духовником Никитой ученых справщиков Печатного двора – Рогова, Наседку и их единомышленников. Их непримиримые взгляды в конце концов восторжествовали. Эти взгляды, кстати сказать, отвечали учению, установленному в 1620 году Филаретом в связи с мнением князя Шаховского, который в своем письме к царю считал смешанный брак дозволенным из-за соображений высшей политики. Позднее несколько греческих ученых-богословов осветили точный смысл слова «крещение»; был вызван из Костромы некий инок, уроженец Киева, и дебаты продолжались, несмотря на различного рода происшествия и временные перерывы, вплоть до июля 1645 года, и так-то царь Михаил умер прежде, чем пришли к какому-нибудь результату[261]. Юный датчанин был неумолим в своем отказе повторить крещение, бесспорно действительное, но российские богословы, оперируя своими правильными или неправильными доводами, умело и ловко представленными Наседкой (который смешивал затруднительный вопрос о крещении с общей критикой протестантизма), поддерживали, распространяли, прославляли положения, вошедшие в обиход церковной жизни на Руси со времен Смуты.
VII Последние годы жизни Неронова в Нижнем
Если Неронов, провинциал и приходской священник, был занят в основном другими заботами, чем ученые справщики, то его желание очистить и украсить Церковь было общее с ними. Патриарх Иосиф был братом протоиерея во Владимире, следовательно, также провинциалом и сродни белому духовенству[262]. Наседка был другом и учеником Дионисия.
Неронов стал чаще приезжать в Москву. Он использовал свои столичные связи, чтобы дать ход своей программе действий. Если такое значительное лицо, как архимандрит Печерского монастыря Макарий, был низложен между апрелем и июлем 1642 г. из-за беспорядков и своей недостойной монаха жизни[263], то это произошло, вероятно, по просьбе ревнителей благочестия.
Даже в самом Нижнем Неронов привлек на свою сторону одного из самых крупных купцов своего времени, именно Симеона Задорина[264]: в интересах своего дела он проникал повсюду, в частности к власть имущим. Благодаря милостыне богатых он продолжал одевать и кормить паломников и бедных. Чрезвычайные щедроты Задорина позволили ему предпринять перестройку Воскресенской церкви, добавив к ней каменные здания. К самой церкви с ее главным приделом во имя св. Иоанна Златоуста, любимого покровителя ревнителей благочестия, он пристроил трапезную с двумя алтарями: одним – посвященным св. Симеону, покровителю доброхотных дателей, и другим – посвященным св. Екатерине; вокруг он построил келии для инокинь, которых он тут же собрал. Постройка была закончена в 1647 году. Он открыл эру крупных каменных построек в Нижнем[265]. Строительство каменных церквей еще долго продолжалось после его отъезда из Нижнего; были построены церковь Успения Богоматери в Печерском монастыре, церковь в Благовещенском монастыре, церковь святых жен Мироносиц, церкви Преображения, Рождества Богородицы, св. Илии, св. Николы в Нижнем торгу; все это было построено между 1647 и 1656 годом[266].
В 1646 г. было доведено до сведения Москвы, что в банях Нижнего мужчины и женщины мылись вместе без стыда и совести, в то время как из трех имеющихся заведений можно было бы устроить одно особое для женщин, а на худой конец, можно было построить даже четвертое. Воеводе было дано распоряжение положить конец этому скандальному обычаю. Есть все основания предполагать, что Неронов был причастен к этому делу[267].
В это время Неронов фактически покинул Нижний[268]. Он подолгу живал в Москве, где к нему очень хорошо относился протоиерей Стефан Вонифатьев, духовник нового царя, и архимандрит Никон, только что назначенный в Новоспасский монастырь[269].
Но он не покинул дорогой ему приход Воскресенской церкви. Прежде чем получить назначение в столице, он поручил свой приход человеку, которого он сам избрал, дьякону Гавриилу, которого он «вскормил с самого детства молоком Св. Писания». Гавриил был рукоположен во священники патриархом и затем вернулся в Нижний, чтобы быть представителем своего наставника и продолжать его дело[270]. Хотя священник Воскресенской церкви не участвовал в чрезвычайно кипучей деятельности Нижнего Новгорода и прилегающих к нему районов, но он на протяжении примерно двадцати лет своей неутомимой апостольской проповедью в значительной мере способствовал религиозному пробуждению, в котором зрели светлые надежды на будущее, хотя в то же время таились свои опасности.
Глава II Аввакум. Как создавался человек (1620–1640)
I Григорово и поп Петр
В Нижегородской области Ока, поднимаясь к северу навстречу Волге, продолжающей свое течение к юго-востоку, образует с ней дугу круга, хордой которой является речка, берущая свое начало недалеко от Оки и впадающая в Волгу близ Работок, не доходя Макарьева монастыря: это Кудьма, прежняя граница московского поселения в этом крае.
Далее на юге и на востоке в XVII в. простирался Закудемский стан, административное подразделение Нижегородского воеводства, местность с неровным рельефом, обширная и еще плохо заселенная, где русские деревни перемежались с мордовскими и татарскими, где обработка земли сменялась сбором дикого меда в дуплах деревьев, с рыбной ловлей и охотой за бобрами вдоль рек[271]. Там-то, в центре самого края, в 70 верстах птичьего полета от Нижнего и в 30 верстах от Волги, высится на трех холмах городок Григорово. И как раз там-то и родился мальчик, имя которого Аввакум – малый пророк – как будто само предназначало его к свершению исключительной жизни, героической и преданной Господу[272].
Аввакум родился, наверное, в 7129 г. от Сотворения мира, согласно стилю того времени, ибо ему был 31 год в 7160 г., и, вероятно, 25 ноября, так как праздник пророка празднуется 2 декабря, и, по обычаю, младенцам мужского пола давались имена одного из святых, внесенных в Святцы на 8-й день после их рождения[273]. Итак, это был 1620 г. нашей эры[274]. Его отец был местным приходским священником. Он только что обосновался в Григорове, так как в этом же самом 129 году мы находим там другого священника, Афтамона или Артамона Иванова[275]. Очевидно, отец Аввакума был молодой священник, только что женившийся, так как Аввакум, кажется, был старшим из его детей. Откуда родом был этот священник? Вероятно, он происходил из этой местности, у него, вероятно, были связи с этим поселением, иначе каким образом прихожане решили бы его избрать? Во всяком случае, он происходил из духовного звания, его сын нам это поведал[276]. Духовенство еще не составляло особого сословия, но в силу самой природы вещей среда, пример и воспитание – все в некоторых семьях к этому предрасполагало[277].
Поп Петр обосновался в Григорове, по обычаю того времени, со всеми своими домочадцами, с младшими братьями, племянниками, слугами и их женами. У него были и другие дети мужского пола, девочки в счет не шли, о них в актах гражданского состояния не упоминалось никогда; сыновья же были Козма, Герасим, еще один и, наконец, Евфимий[278]. О жиз ни Петра, его характере, его отцовских и пастырских добродетелях мы не знаем ничего определенного; сын говорит о нем только один раз и говорит, уничтожая его одной ужасной фразой: он предавался пьянству. Это безусловно суровый приговор, без всякого снисхождения. Мы могли бы заключить из этого, что молодой Аввакум ничем не был обязан своему отцу, хотя, наоборот, может быть, именно ему-то он и был многим обязан: некоторые отцовские отрицательные чувства, которые позднее, в результате размышлений претворились в принципы его поступков, руководили им в его жизни и сделали его таким, каким он стал.
Эти простые слова «Он предавался пьянству»[279] очень характерны. Серьезный историк русской церкви в мемуарах, опубликованных посмертно, оставил нам поразительную картину нравов сельского духовенства Костромского края в первой половине прошлого столетия: попойки по случаю государственных праздников, попойки по случаю престольных праздников, попойки по случаю свадеб и похорон, попойки, чтобы умилостивить старосту, сцены уморительные, скандальные, ссоры, драки, пьяные священники, которых колотили их жены, мертвецки пьяные дьяконы, брошенные на розвальни, с которых они падали прямо на снег и где они умирали, как животные. Голубинский видел все это у своего отца и в его окружении[280]. Очень вероятно, что картины, свидетелем которых он был, были не менее отвратительны. К несчастью, Григорово было одним из 21 селения Нижегородского уезда, где работал с давних лет царский шинок. Отданный в аренду какому-то местному предпринимателю, этот шинок приносил казне ежегодно доход в 23 рубля, немалая сумма по тому времени. Затем он был переуступлен местному помещику[281], который, конечно, тоже не давал ему приходить в упадок. Таким образом, искушение было рядом. При некоторых обстоятельствах оно было непреодолимо.
Церковь состояла из 3-х частей: алтаря, который отделялся иконостасом; церкви в собственном смысле этого слова; трапезной, отделенной от церкви перегородкой, с которой она сообщалась посредством одной или нескольких дверей. Эта часть была более обширной, чем две другие, взятые вместе. Она была и более уютной, так как отапливалась зимой, в ней стояли скамьи и столы. Несмотря на то, что она составляла одно целое со всем зданием и в ней также были образа, она была менее почитаема. В ней находились женщины, пришедшие, чтобы присутствовать на богослужении. В особенности же эта часть служила своего рода центром для общины. Там происходили всякого рода собрания, в частности, чтобы избрать должностных лиц местного самоуправления; здесь они приносили присягу перед иконами, помещение служило и для того, чтобы выслушивать их отчеты, чтобы распределять между дворами разные повинности, чтобы составлять челобитные, решать вопросы о расходах общины. Там хранилась касса и документы. Неисправных плательщиков держали тут же, закованными в кандалах. Верующие, приходившие издалека, могли там ночевать. Туда можно было уединиться во время службы. И, наконец, там же устраивали пирушки. Все служило предлогом для общинных кутежей, якобы обрядовых: празднование святых, начало и конец работ, поминки по умершим. В эти дни приносили бочки с водкой, с пивом или медом, их вкатывали в самую трапезную, перед образом данного святого или праздника, и там священник их благословлял. Затем, в нескольких шагах от алтаря начиналась оргия. Священник пировал со своей паствой. Если бы он вздумал протестовать, его не преминули бы призвать к порядку. «Еще что за новости. Мы и получше тебя знавали; они и не думали нас упрекать, а пили с нами»[282].
Как мог поп Петр не пить со своими прихожанами? В Григорове церковь святых мучеников Бориса и Глеба и ее образа, книги, украшения, сосуды и колокола были общинной собственностью[283]. Мир за них заплатил; по мысли того времени, он один имел право ею пользоваться и распоряжаться. Мы имеем полное право думать, что нравы и обычаи, упоминаемые в челобитных города Нижнего, в которых фигурировали разные сборщики пожертвований, нищие, калеки, дети, кричавшие и нарушавшие богослужение, не были необычным явлением и в местечке Григорово. Поп Петр, будучи заурядным человеком, не имел власти, да ему и в мысль не приходило сопротивляться раз заведенному порядку. Вот почему, между прочим, в течение 15 лет он выполнял свою обязанность без всяких неприятностей, живя в мире со своей паствой. Была ли это трусость с его стороны? Было ли это недоверие со стороны его паствы? Нисколько. Напротив, повседневная жизнь и религия так взаимно переплетались, что последняя никогда не ощущалась, как философская или моральная система, существующая сама по себе или главенствующая над ежедневными событиями. Христианская вера и старые языческие предрассудки, евангельские наставления и страсти человеческие, интересы мира и приходские нужды – все эти элементы взаимно переплетались, применяясь в жизни стихийно с ходом времени и взаимно влияя друг на друга, а в конечном счете и сливаясь, так что и различить их было невозможно. Церковные традиции были твердо уважаемы, но странно извращены. Богослужение исполнялось без благоговения, но молитва читалась ежеминутно, вера в Бога была детская, покорность Провидению – безусловная. Пьянство, грубость, сексуальные страсти были безудержны; им сопутство вали, правда, искренние покаяния, широкая милостыня, умерщвление плоти, самоотверженность. Божественное и человеческое во многих областях сливаются воедино. Запад знал в Средние века в народе аналогичное положение вещей; но католическая церковь со своей теологией, своей дисциплиной и своими точными заповедями способствовала выработке определенных правил веры и жизни. Русское же духовенство само по себе было слишком слабо, неорганизованно, слишком глубоко переплеталось со своим народом, чтобы оно могло играть роль целителя народного духа и кормчего национального корабля.
II Религиозное воспитание Аввакума, данное ему матерью
Однако в Григорове, как и в других местах, существовали души более утонченные или умы более глубокие, которые не удовлетворяла эта расплывчатая и неясная религия, для которых христианство было идеал, требующий работы над собой, познания определенных истин, послушания правилам и выполнения добрых дел. Для этих-то душ Смутное время, как мы видели, не прошло бесследно. Если отец Аввакума был человеком заурядным, то мать его принадлежала к этим избранным душам.
Она была его истинная воспитательница. «Постница и молитвенница»[284], то есть она соблюдала строго все четыре поста, воздерживаясь от скоромной пищи в среду и пятницу, посещала все церковные службы – ночные всенощные в субботу и накануне праздников – и в особенности читала ежедневно неукоснительно «правила» утром, вечером и ночью, перебирая лестовку со стократными поклонами. Она одушевляла обряд истинной набожностью, усиленной, может быть, желанием искупить грехи, которые она видела в жизни своего мужа. Согласно обычаю и по существовавшим правилам, она привлекла к этому своего сына с раннего детства.
После второго или третьего пережитого ее сыном Великого поста она отняла его от груди[285]. Позднее, когда он начал говорить, она сообщила ему главные религиозные обряды, без которых «несть спасения». Маленький Аввакум становился перед многочисленными образами, находящимися в углу комнаты, изображающими преимущественно Спасителя, Матерь Божию и святых – покровителей всех домочадцев. Образа были со строгими аскетическими ликами, где все плотское исчезло, они были потемневшими от времени и дыма свечей. Он молился стоя. В известные моменты он то низко наклонял голову, делая поясной поклон, то выполнял быстрые и многочисленные «падения ниц», которые делают, становясь сначала на колени, затем прикасаясь лбом и обеими руками к находящемуся на полу «подручнику» – это был «земной поклон»[286]. Он добавлял и еще другие поклоны, для покаяния, считая их на больших четках, сделанных из холста, которые кончались кожаными треугольниками («лестовке»)[287].
Он учился правильно складывать указательный и средний пальцы правой руки, соединяя и сгибая остальные три пальца, чтобы воспроизвести на себе Крест Господень. Знак креста делается на лбу – это предвечное зачатие Сына Божия, ниже груди – это Его нисхождение на землю и Его воплощение; на правое плечо – это Его восхождение и пребывание со Отцом и Духом Святым, на левое плечо – это Его Второе пришествие для осуждения грешников[288].
Он повторял вслед за матерью целый день «молитву, обращенную к Господу Исусу Христу»: «Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». Это самая употребительная молитва, ибо повторять ее можно непрестанно, во время работы и во время, специально отведенное для молитвы, как в спокойном состоянии, так и находясь под угрозой опасности; она доступна даже тому, кто не знает «Отче наш», она чудесно действует против злых духов и искушений. Именно ее имеют в виду, когда вообще говорят о молитве. Русский народ ее любит. И это обращение с мольбой простых людей является постоянным собеседованием с Богом и великих восточных мистиков; чтобы она была вполне действенна, надо задержать дыхание, сделаться глухим ко всему внешнему и созерцать только глубину своей души[289].
Молясь, необходимо всегда смотреть на восток, ибо восток священен. Необходимо также остерегаться совершать перед ним какое-нибудь нечистое действие[290].
Считалось большим грехом есть нечистое мясо, мясо павших животных, животных, растерзанных дикими зверями, зайца, конину, удавленную дичь, пить сырую кровь, ибо все это было запрещено Богом Ною и Моисею, и это считалось преступлением, влекущим за собой отлучение от церкви[291].
К девяти годам ребенок начал исповедоваться[292]. Он проникся сознанием своего недостоинства перед лицом всемогущего Бога, который есть абсолютное совершенство, в то же время всепрощающий и всемилосердный, и в этом душевном волнении сердце его согревалось, он знал от своей матери, что без слез нет истинной молитвы, и слезы его лились свободно. Он дает им полную волю в продолжение всей своей жизни, не стыдясь их и сделавшись сильным мужем[293], так же, как это было на Западе со многими сильными людьми[294], прежде чем XVIII век иссушил их души. Жителям Московского государства XVII в., умиленным или неистовым, неведомо было искусство скрывать свои чувства. Ежедневно, вечером и утром маленький Аввакум присутствовал на домашнем богослужении, которое совершал его отец, стоя в правом углу комнаты перед иконами. При этом он смотрел на аналой и на большие книги, закапанные воском.
Благодаря всем этим тщательно совершаемым и столь много говорящим душе религиозным обрядам, мальчик впитал в себя определенные чувства и убеждения, которые никогда уже не покидали его на протяжении всей жизни. То были: страх Божий, то есть сознание того, что в жизни есть нечто неизмеримо серьезное; глубокая вера в Провидение, которое ежечасно блюдет как человека, так и общество; сознание всей относительности мира, где все видимое только символ или средство; ощущение беспредельной власти веры и молитвы, которые творят чудеса; сознание необходимости постоянного самопринуждения в борьбе с низкими инстинктами; уверенность в полной действенности всех, как больших, так и малых, средств, предлагаемых нам Церковью, чтобы помочь человеку в этой борьбе.
Вместо неопределенной, расплывчатой религии его вера была строгим повиновением целой системе догматических положений, правил и обычаев. Вместо народной религии в том виде, как она создалась на Руси, это была вера, проникнутая подлинно церковным и монашеским духом. Вместо преувеличенной уверенности в Божественном снисхождении – страх, проверка совести, иной раз сомнения. Вместо бури страстей – постоянная проверка состояния внутреннего «я». Это было совершенное отделение мирского от божественного. В объятиях матери юный Аввакум познал эту непоколебимую веру, которая сопутствовала ему всю жизнь на протяжении всех его терзаний, а иной раз и рискованных богословских исканий. Он познал в ней истинное смирение, которое всегда умиряло его вспышки возмущения как хранителя традиций, так и его заповеди как духовного пастыря и даже его проклятия как пророка. Он черпал, наконец, в поучениях и примере «постницы и молитвенницы» семена аскетизма, которые позже сделали его непреклонным как в отношении ласкательства, так и в отношении угроз.
Ребенок рос в обстановке двух религиозных течений, представителями которых были поп Петр со всей своей общиной и попадья Марья. Маленькие деревенские жители рано познают жизнь. Как только он достиг сознательного возраста и стал разбираться в окружающей обстановке, перед глазами его постоянно стала вырисовываться картина материального принижения, интеллектуальной тупости и морального падения священника в лице его отца[295], и в то же время он видел постоянно в своей матери пример женщины, умевшей освещать неблагодарные домашние работы особым светом, сознанием всегда бодрствующим и постоянным стремлением к усовершенствованию. Эта постоянная противоположность, действующая болезненно, парадоксально – пьяница священник и простая женщина – образец добродетели – заставляла его размышлять и задавать себе вопросы. Если бы он родился на 50 лет раньше, если бы он был современником только наивной народной веры и монашеской строгости, то, может быть, ему и не пришлось бы восставать против этой несовершенной среды. Но воспитанный матерью, свидетельницей несчастий, причиненных громадными пороками Смутного времени, он, по своей мужественной и рассудительной натуре, должен был стать борцом.
Как раз тут произошел инцидент, сам по себе незначительный, но который из-за настроения, в котором находился мальчик, стал для него ре шительным. Пала корова соседа. Крестьянская корова не является роскошью, это самая необходимая кормилица всей семьи, ее гибель – несчастье; конечно, у соседа поднялся крик и слезы[296]. Маленький философ увидел неподвижное и теплое тело друга, которое он только еще вчера ласкал, и это первое столкновение со смертью заставило его задуматься о смысле нашего существования на земле. Мать его учила: мы все умрем, и Господь Бог, строгий Судия, нас ждет, чтобы нас поселить либо в раю, либо в аду. Сейчас он всем своим существом ощутил эту истину. В то время как обыватели живут и умирают, никогда не осознавая, что такое смерть, и ведут себя, как будто она и не существует, маленькому Аввакуму достаточно было совершенно внезапно столкнуться с ужасным фактом смерти, чтобы его будущее стало бесповоротно определено. «Я тоже умру», – сказал он себе – и решил жить исключительно для Бога. В следующую же ночь он встал, чтобы помолиться, как это предписано в Молитвеннике и как об этом говорится в житиях святых, и, распростершись перед святыми образами[297], разразился рыданиями раскаяния, страха, надежды и благоговения. В эту ночь он был посвящен Богом sacerdos in aeternum (священником на вечные времена). То были размышления без силлогизмов, решение без слов, посвящение без обрядов; также верно и то, что в этот момент, не достигнув, может быть, и 10 лет, этот человек, то есть внутренний его духовный человек, знал уже, в каком направлении ему надо работать[298].
III Его интеллектуальное развитие
Нам несравненно труднее узнать, когда сформировался этот человек в интеллектуальном отношении. Аввакум в своих сочинениях нам ничего об этом не сообщает. Мы знаем, однако, что уже тогда существовали школы, не имевшие никакого официального характера[299]. Существовала своего рода традиционная программа обучения, были школьные книги. Были даже странствующие учителя. В больших приходах певчий или дьякон за небольшое вознаграждение обычно собирал несколько детей, чтобы обучить их чтению и письму. О такой-то школе и думал дьякон Федор, разделявший страдания Аввакума, когда он стал сравнивать ангелов, произносящих все вместе одно и то же слово, с многочисленными учениками перед своим учителем[300]. Если даже предположить, что отец Аввакума небрежно к этому относился, что мало вероятно, то все-таки можно думать, что Аввакум получил первоначальное обучение в Григорове или в соседнем местечке. Будучи очень способным, он прошел, сам того не замечая, этот курс обучения; поэтому-то он и не упоминает его. Азбука, эта детская энциклопедия того времени, содержала, наряду с буквами и слогами, назидательные предписания, моральные советы, резюмировала Священную историю и давала элементарные сведения по арифметике. Учитель сам своей собственной рукой составлял эту первоначальную книгу[301]. Затем наступала очередь Часослова, где содержатся обиходные молитвы и каждодневный богослужебный устав. Наконец, шла «книга книг» – Псалтырь, – сопровождаемая некоторыми богослужебными текстами. Метод обучения был таким, каким он еще и теперь является на Востоке: весь класс повторял хором и пел слова учителя до тех пор, пока ученики их не выучивали наизусть. Аввакум выучил таким образом все 150 псалмов и никогда уже их не забывал[302]. Для Древней Руси это были те элементарные знания, которые считались необходимыми для жизни. В 10 лет их должны были уже иметь.
Но любознательный мальчик не мог этим довольствоваться. В церкви села Григорово имелось несколько книг. Молодой попович находился в лучшем положении, чем кто-либо, чтобы читать их. Он, без сомнения, прочел Евангелие и Апостол, который содержит Деяния и Послания. Наряду с этим он, вероятно, нашел Пролог, краткие жития святых, празднуемых ежедневно в течение года. Так как он с увлечением читал все, что ему попадалось под руку, он, может быть, читал Типикон и Требник. Это были печатные или же рукописные сочинения, которые являлись наиболее распространенными, так как они были необходимы для выполнения церковных служб. В некоторых окрестных церквах могли случайно на ходиться и более увлекательные книги – проповеди Иоанна Златоуста, книги Ефрема Сирина, житие Иоасафа царевича[303]. Таким образом, уровень его образования был много выше окружающей среды, он смог стать образованным человеком своего времени.
Мы очень часто встречаем в писцовых книгах и других документах сведения, что чтецы и певчие прихода были сыновьями священников. Соответствующие функции не требовали рукоположения епископа; они зависели просто от назначения приходского священника и прихожан. Мальчик смог выполнять требы, как только возраст ему это позволил. Иларион, будущий суздальский митрополит, уже пел на клиросе, раньше чем он мог носить тяжелые церковные книги[304]. Мы можем быть уверены, что поп Петр имел время до своей смерти приобщить своего первенца к сложному использованию Триоди и Октоиха. Маленький Аввакум – дьячок – мог почитать себя принадлежащим к церковному причту. Для многих других детей и согласно обычаям того времени эта скромная должность не означала ничего особенного. Для Аввакума же – это было началом его служения: не имея права приближаться к престолу, по крайней мере по канонам, он был уже действующим лицом в страшном таинстве, в котором не участвовали простые миряне.
Подобное образование очень отличается от классического, введенного на Западе со времени Возрождения; оно не знает изучения языческой древности, так же как и естественных наук. Но оно объединяет в христианском синтезе целый комплекс знаний, способных воспитать и сердце, и ум; тут содержатся и возвышенная поэзия Библии, и пылкий лиризм Сирийского отшельника, и прекрасные мелодии византийских гимнов; вся философия, заключающаяся в Евангелиях; психология, красноречие, литературные красоты св. Иоанна Златоуста, история в Деяниях Апостольских, в жизни святых; понятие о праве в Уставе или в Кормчей книге; начатки певческого искусства; изучение языка иного, чем живой тогдашний язык: языка церковнославянского, уроки морали, чистоты жизни, деятельной любви, духовного разумения и силы духа. Из этих нескольких книг, прочитанных и перечитанных, заставляющих размышлять и применять в жизни прочитанное, человек XVII века извлекал бóльшую интеллектуальную и моральную пользу, чем многие современники извлекают ее из своего, правда, разностороннего, но слишком быстрого и поверхностного чтения[305].
Аввакум, ставший молодым человеком, знал много, и не только применительно к своему времени. Читая его внимательно, мы видим, что, будучи сведущими в некоторых областях, мы часто не знаем того, что он знал. Но в его время наука не была самоцелью, Все установки Азбуки говорят об этом: наука, эта суета сует, порождает гордыню; чтение хорошая вещь, но только при молитве и работе. Ни ритор, ни философ не могут быть христианами[306]. Образование было исключительно христианским; оно не сбивалось в сторону, ни направо, ни налево, ни к чистому умозрению, ни к исследованиям об устройстве природы. Ничто эстетическое его также не отвлекало от цели. Оно стремилось к одной и единственной цели: служить Богу и внешним культом, и моральным усовершенствованием. Оно создавало в лучшем случае людей, внимательно относящихся к себе и своему ближнему и даже к устройству внешнего мира, людей, способных исследовать второстепенные истины внутри системы мироздания, но людей, недоступных метафизическому сомнению, людей, рассматривающих все вещи с точки зрения вечности. Отсюда возникла странная смесь критического разума и узости взглядов, героической искренности и предвзятого мнения, взаимного уважения и несправедливости. Таковы были свойства русских того времени, которые не могли не поражать современных западных людей, наследников Ренессанса.
У Аввакума есть одна черта, которая выявляет необычайный ум. В этом XVII веке, в котором великие умы находятся в оковах предрассудков, в котором простой люд примешивает к своему христианскому чувству тысячу ненужных выдумок, в которых церковный обряд часто недопонимается, этот русский деревенский житель верит только в прямое, канонически признанное наставление Божие. Если ему и известны прекрасные повести, которые содержатся в апокрифах и в Палее, он им не очень-то доверяет[307]. Если позднее, в окружении даурских лесов, Аввакум примет всерьез религиозные обряды шамана[308], то это только потому, что древние отцы церкви также находили сатану в языческом культе. Если ему часто видятся ангелы и злые духи, то это в принципе не отрицалось как возможность самыми строгими богословами. Он допускает, чтобы оплакивали умерших, но возбраняет, чтобы в память их люди упивались водкой и пивом и чтобы женщины голосили[309]. Он придает формам культа чрезвычайную важность, но он совершенно их не отделяет от внутренней настроенности души. Аввакум извлекает из веры полнейшее удовлетворение своему разуму и сердцу; он совершенно свободен от всякого суеверия.
IV Его игры и личные отношения в Григорове
Молодой Аввакум не всегда был занят чтением или философствованием о жизни и смерти. Было бы совершенно неправильно изображать его мрачным затворником. Напротив, это был деревенский мальчик, воспитанный грубоватым образом, ходивший летом почти нагим, а зимой носивший бараний тулуп, спавший прямо на полу, не раздеваясь целую неделю. Каждую субботу он парился до пота и стегал себя веником в семейной бане, а затем выбегал и окунался с наслаждением в пруд, который еще можно видеть и теперь в Григорове около церкви, или же катался голым по снегу с веселым криком. Позднее он принимал участие в боях «стенка на стенку» между парнями своей деревни или против соседних сел; драки были серьезные, где сражались кулаками и дубинками; часто избивали друг друга до крови, а иногда и до смерти, состязаясь в силе и упорстве; он слышал ругань, ту русскую непристойную ругань, которая, если ее разобрать, даже цинична, но всегда надо помнить, что ее повторяют обычно машинально, так что она теряет свой смысл и только оттеняет характер фразы. Как крестьянин, он черпал, естественно, яркие образные выражения из жизни животных и людей. Он широко пользовался этими выражениями, точными и ярко окрашенными, нередко творящими незабываемые образы, часто содержащими простые и убедительные доводы, или же свободный поток мыслей, внезапные взлеты мысли и чувства. Все это он тогда еще пропускал через призму своего простецкого и литературно нетребовательного здравого смысла, а потом использовал в своих писаниях.
Молодой попович был большой любитель голубей: он их приручал под крышей своей избы. Затем, вооружившись шестом, он забавлялся тем, что гонял их и смотрел, как они взлетают, кувыркаются, гоняются друг за другом и возвращаются в гнезда; он нередко приманивал и соседских голубей; для этого надо взять самку, смазать ей зоб душистым растительным маслом, затем отпустить ее, вслед за чем она приводит самцов, которых соблазнит тот приятный запах; таким же образом и по сей день приманивают диких голубей. Эти привычные забавы и до сего дня еще в ходу у русских подростков[310].
Молодой попович предпочитал бегать по двору, а не сидеть дома. В каменистых окрестностях Григорова ему случалось наталкиваться на змей, и он наблюдал за ними: «А змию-то как бьет кто, так она все тело предаст биемо быти, главу же свою соблюдает, елико возможно: свернется в клубок, а голову-ту в землю хоронит. Я их бивал с молода-ума. Как главы-то не разобьешь, так и опять оживает, а главу-ту как разобьешь, так она и цела, а мертва».
Голуби и змеи – вот два единственных свидетеля его раннего детства, о котором протопоп пожелал вспомнить, давая совет своим ученикам: «Будьте кротки как голуби и мудры как змеи»[311].
Григорово вовсе не было глухим местечком. Там были не только церковь и кабак, там была еще третья принадлежность сельского центра – базар, где в субботу встречались люди, прибывшие из разных деревень для покупки ржи и овса, которых у них была нехватка, поскольку в Григорове все было распахано, а окрестные земли были еще мало распаханы. В Григорове была и мельница. Селение было сравнительно старое; в 1607 г. оно уже существовало как приход. У него была тенденция расширяться; из 36 крестьянских дворов с 49 душами взрослого мужского населения в 1621 г. оно выросло в 1646 г. до 150 дворов с 483 душами мужского населения, причем теперь в каждом дворе насчитывались и дети. В общем теперь тут была тысяча жителей[312]. Аввакум как раз был свидетелем этого роста.
Старое селение Григорово было даровано в качестве родового поместья Федору Волынскому в награду за защиту Можайска от Владислава в августе 1618 г.: передача ему Григорова произошла в 1619–1620 гг. Обычно такие изменения были скорее убыточными для населения. Власти, если только им удавалось взимать повинности – 5 рублей 22 алтына и 3 денги в 1608 г., 7 рублей в 1620 г., совершенно не вмешивались в повседневную жизнь. Земельный собственник, у которого было поместье, должен был быть по возможности более требовательным. Но в его интересах было увеличение населения.
Теперь земля была разделена: была пашня помещика, обрабатываемая наемными работниками, и пашня общинная; за эту пашню община платила повинности деньгами и натурой. Приказчик наблюдал на месте за интересами своего хозяина. В 1621 году помещик владел 25 четвертями в каждом трехполье, в общем 37,5 га, которые, благодаря десяти работникам, были в хорошем состоянии. Работники жили вместе, образуя один двор; большая часть полей была все же во владении общины: итого, было 120 га с трехпольной системой землепользования, затем было еще 50 га полей под долгим паром; в общем это все были хорошие земли. Помещик, правда, получал, помимо этого, доходы от кабаков и от пошлины на товары, которые привозили на базар. У церкви были собственные земельные угодья: 30 га пашни, на урожай с которых жили церковные служители: три семьи священника, пономаря и церковного сторожа, затем была еще почтенная вдова, на которой лежала обязанность выпекать просфоры. Помимо того, было девять местных семейств, которые занимали столько же домишек в поповке[313].
Хотя нам и известен послужной список Федора Волынского, но мы ничего не знаем о его характере. Уже в зрелом возрасте, постоянно находясь в дальних отъездах, будучи последовательно воеводой Вязьмы, Холмогор, Дорогобужа, Астрахани[314], он, вероятно, не очень-то сильно выжимал соки из своих крестьян[315]. В те времена, когда крепостное право только еще устанавливалось, община имела большое влияние: она избирала старосту и десятских – нечто вроде исполнительной и судебной власти; эта власть сама производила разверстку и земли, и соответствующих повинностей; община была хозяином в своей церкви, она собиралась беспрепятственно, могла посылать в Москву коллективные жалобы и челобитные; она была сильна благодаря своей сплоченности, своему массовому характеру, своей способности противостоять властям, пассивно или открыто. Это было самоуправление, очень активное, глубоко укоренившееся в быту, которому приказчик, правда, мог препятствовать в его деятельности или указывать, но которое он не мог уничтожить[316].
Для ребенка, до известной степени разбирающегося в характере и переживаниях, было что наблюдать и усвоить в этой разнородной социальной среде Григорова, полной жизни, движения, стремящейся к успеху, в общем благоденствующей. Тут были: поповка со священнослужителями, церковнослужители и нищие; работники, которые тяготели к дому помещика, наверное, и пришлый люд, который бродил по свету; далее община, одновременно и единая, и разделенная: многочисленные семьи зажиточных хлебопашцев, с давних пор осевших здесь и в достаточном количестве владевших землей, сельскохозяйственными орудиями, скотом и имевших подсобных рабочих, несшие всю тяжесть общинных обязанностей, и, с другой стороны, семьи, по той или иной причине неспособные принять на себя эти тяготы и, как следствие, лишенные пахотной земли, владеющие только своим приусадебным участком. Были тут еще и ремесленники, и мелкие торговцы, которые порой могли достичь известного достатка, но неустойчивого, одним словом, «бобыли»; их было 12 дворов в 1621 и 39 в 1646 г.[317] Наконец, имелись еще власти, выборные от общины, десятские, повытчики, держатели кабаков, приказчик помещика. Какие сложные отношения, сколько хитростей и дипломатии, сколько насилия и несправедливости, сколько низости и компромиссов! С другой стороны, какие прекрасные характеры, какая трогательная преданность, какие храбрые поступки, сколько природного ума, сколько душевной чуткости. Мир этот – целый мир в миниатюре.
Не следует думать, что из-за трудности сообщения в начале XVII в. этот мир был обособлен от всего остального мира. Наоборот, последние события, политические и социальные явления смуты скрепили единство Московского государства, воодушевив его единым освободительным порывом, распространившимся из городов по деревням, и память об этом порыве еще долго крепко держалась. Новости передавались и люди легче передвигались, чем это принято предполагать. Григорово в качестве селения, подчиненного непосредственно Москве, получило беглых крестьян из Троицкого посада, между прочим восстановленных позднее в своих правах[318]; григоровские крестьяне ездили, любопытства ради или по своим делам, в Нижний, подчас и в Москву. Передача селения с его угодьями такой особе, как Волынский, вскоре, в 1635 г., облеченного одной из высших придворных должностей, а именно саном сокольничего[319], безусловно усилила его сношения со столицей. Между приказчиком и помещиком или его заместителем происходил постоянный обмен приказами, отчетами, запросами, угрозами, оправданиями; периодически отправляли в Москву обозы с десятками телег с фруктами из поместья и с оброчными поступлениями крестьян – домашней птицей, медом, свининой, лесным материалом для строительства или отопления. Это были беспрестанные поездки из дальней провинции в столицу; большие новости проникали, таким образом, на места вопреки расстоянию. Григорово входило в орбиту общегосударственной жизни, все более и более принимало участие в общении умов на Руси.
Также и из Москвы бюрократия «приказов» прекрасно умела достигать самых отдаленных деревень; это делалось во всех случаях, когда надо было производить перепись, обложить новым налогом или набирать рекрутов. С сентября 1630 по 1635 г. были произведены крупные закупки зерна для экспорта[320]. В 1635 г., в начале войны за завоевание Смоленска, появляется царский манифест и всенародные молитвы; в 1634 и 1635 гг. вводится чрезвычайный налог, взимаемый со всех торговцев, ремесленников и крестьян, занимающихся какой-нибудь приносящей доход деятельностью[321]. В 1636 г. вследствие голода, чтобы умилостивить Бога, вводятся две особые недели поста и воздержания: не должно быть ни спиртных напитков, ни ругани![322] В 1637 г. наблюдается большая тревога, произведенная нашествием татар[323]. В 1640 г. происходит повальная эпизоотия и запрет продавать шкуры животных из-за возможности заразы[324]. В 1641 г. вводятся тяжелые репрессии против беглых крестьян; их помещикам предоставлено право требовать их возвращения в течение не 9 лет, но в течение 10 и 15 лет[325]. Вот те события, которые, без сомнения, вызывали отклик в Григорове и приковывали к себе внимание молодого Аввакума. Если Григорово, если Закудемский стан не имели, как будто, причины жаловаться на свою судьбу, то новости, исходящие из сердца страны, были все же обычно плохие и увеличивали тяготы жителей и представляли возможность размышления тем, кто был вообще в состоянии размышлять: Бог продолжал изливать свой гнев на Россию. Пожары[326], войны, чума, голод: разве все это не было наказанием, ниспосланным за безбожие, небрежение, все увеличивающиеся грехи христиан? Указы и молитвы, приходящие из Москвы, обычно высказывали эту мысль, проповедуя, как средство, – пост и молитву. Все это заставляло задуматься молодого человека, благочестивого, деятельного и широко одаренного.
V Его прогулки по окрестностям
Становясь более взрослым, Аввакум часто покидал свое село, он хаживал повсюду; правый берег Волги представляет собой изрезанную возвышенность; в округе его все еще называют горами, в противоположность болотистым лесам правого берега. Если теперь в этих районах еще можно встретить мальчиков, проделывающих за ночь от 40 до 60 верст, чтобы продать в Нижнем корзинку земляники за 3 или 4 рубля и вернуться на следующий день, почему бы Аввакуму в свое время не пойти посмо треть пешком или каким-нибудь другим способом передвижения соседние местности? Мы находим в его сочинениях намеки на разного рода путешествия. Трудность состоит лишь в том, чтобы определить время его путешествий.
В 15 верстах южнее Григорова находилось село Вельдеманово. Оно с недавних пор стало принадлежать стольнику Григорию Зюзину. Оно было крупным русским центром в Мордовии, состоящим из 159 дворов и 450 жителей мужского пола[327]. Мордовцы в это время были еще язычниками. Платя с трудом царю свою годовую подушную подать, состоящую из дикого меда, шкур бобров или беличьих шкурок, они всегда были готовы при малейшем случае напасть на чужестранцев, лишивших их земли, сбора меда, охоты и рыбной ловли. В любой момент они готовы были накинуться на простых русских хлебопашцев так же, как и на монастыри, которые лишили их части доходов. Во время царствования царя Василия Шуйского они восстали, протянули руку Болотникову, «Тушинскому вору», чувашам и северным черемисам, южно-ногайским татарам, сожгли несколько сел, трижды осаждали Нижний в 1605, 1608 и 1610 гг.; разбитые воеводами в строю, они все-таки продолжали до установления общего мира не давать покоя своим русским соседям и непрестанно тревожить их. Во второй четверти века они уже не сопротивлялись силой оружия, но они и не покорились. Когда они не могли платить налога или выдержать всевозможные вымогательства, они покидали свои хижины и уходили в чащу лесов. В их обряд входили таинственные жертвоприношения[328]. У них были знаменитые колдуны и колдуньи[329]. Юный Аввакум наталкивался в своей собственной родине на местное население, сопротивляющееся русской колонизации, на живое и воинствующее язычество, враждебно относящееся к христианству: у него появляется новый стимул поднять, очистить истинную веру, подняв одновременно и мощь угодной Богу Руси. Если эта Нижегородская страна вскормила в XVII веке людей, столь замечательных своей политической активностью и моральной силой, не объясняется ли это до известной степени тем, что она отчасти была сравнительно «новой страной», недавно колонизированной, в которой славянской расе предстояло еще бороться, чтобы ассимилировать чужеземные расы[330].
В десяти верстах на восток от Григорова, а по короткой дороге еще ближе, находилось село Большое Мурашкино; в начале XVII в. это было процветающее местечко, вотчина царя Михаила, имевшее кабаки, таможни, торг, кузницы, медеплавильные мастерские, кожевенные заводы, фабрики рукавиц, шапок и верхней одежды, куда стекались овечьи шкуры из окрестностей; там же было несколько церквей и два только что основанных монастыря. Вскоре предприимчивый боярин Борис Морозов, наставник царевича, постарался, чтобы ему пожаловали этот крупный районный центр, и развил его еще больше, благодаря разработкам залежей каменной соли, находившихся по соседству. Там Аввакум мог найти среду более разнородную, более оживленную, более доступную новым идеям. Может быть, он продолжал там свои учебные занятия. В Преображенском монастыре было всего 20 иноков и вновь обращенных послушников. По смерти своего основателя, Антония, в сентября 1630 г. обитель была вынуждена испросить священника в Печерском монастыре в Нижнем; в этом монастыре было несколько книг; в церкви св. Илии было то же самое[331]. Во всяком случае, река Сундовик, которая протекает через Мурашкино между низменным левым берегом и живописным крутым правым берегом, оставила в памяти юноши четкие воспоминания[332].
По другую сторону Мурашкина, восточнее, находилось Княгинино, будущий главный город уезда, тогда стоявший во главе волости и объединявший около 30 деревень и поселков. Княгинино принадлежало князю и стольнику Алексею Воротынскому. Сын его Иван, который был моложе Аввакума, сделавшись боярином, стал впоследствии его покровителем[333].
Но самое соблазнительное – это была приятная и легкая дорога вниз по течению Сундовика, которая доходила до его впадения в Волгу. Сначала надо было пройти Колычево – деревню, поднимавшуюся уступами над рекой, которая опоясывала ее с обеих сторон. Там жил добрый священник по имени Иван, дом которого был призван сыграть большую роль в истории: он научил грамоте будущего патриарха Никона; при священнике жил еще его сын, наверное, одного возраста с Аввакумом, ставший впоследствии знаменитым и несчастным Павлом Коломенским, и его дочь Ксения, моложе сына, которая потом вышла замуж за соседнего поповича Илариона Суздальского[334].
Еще ниже по Сундовику находилось Кириково, церковный приход священника Анании. Его ученики Никита и Неронов покинули эту местность ранее, чем Аввакум был в состоянии посетить ее. Праведный Анания сам провел короткое время в Нижнем, в Зачатьевском монастыре, где он был одним из двух служащих иеромонахов, но он должен был уступить занимаемую им должность из-за «совершенного им проступка». Ввиду того, что Анания был на самом деле добродетелен и его «проступок» имел место в 1631 г., весьма вероятно, что этот проступок был политического характера: как и Неронов, он должен был протестовать против похода на Смоленск. Во всяком случае, с 1632 г. Анания находился в Кирикове, обогащенный опытом, пребывая тут со своими двумя сыновьями, Петром, будущим священником, и маленьким Иваном, мальчиком чрезвычайно для своего возраста развитым, будущим митрополитом Иларионом[335].
Кириково было в двух шагах от Лыскова. Это местечко, очень похожее на Мурашкино, также было родовым поместьем царя; однако оно было в такой же мере богатое и оживленное и еще больше благоденствовало, так как почти прилегало к Волге. Здесь был очень крупный хлебный рынок, рынок скота и соли. Пристанская торговля, наличие крестьян, разбогатевших от торговли и судоходства, многочисленные случайные путешественники по большому водному пути, наконец, неустойчивое население, характерное для подобного рода центров, – все это способствовало веселому образу жизни, который отнюдь нельзя было назвать нравственным[336]. На берегу было много кабаков, перед которыми собирались скоморохи с «учеными» зверями, плясали и устраивали разные греховные потехи[337]. Как раз в Лыскове Аввакум, придя туда навестить одного из своих друзей, священника, увидел, как его побивают камнями, после того как он посетил и увещевал одного недостойного человека[338]. Этот друг был другой будущий Иларион. Впрочем, событие это, наверное, произошло позднее. Но мы легко можем предположить, что эта нежная привязанность родилась не сразу и что она возникла с детства обоих.
В его лице мы находим будущего рязанского митрополита. Нам неизвестно имя, данное ему при крещении, но он был также сыном священника и был родом из Нижнего. Оба отца, Петр и Иаков, не могли не встречаться; дети были одного возраста. Их воодушевляло одно и то же благочестие, одна и та же жажда знания. Они вместе бродили по окрестностям. Наступил день, когда их более, чем Мурашкино или Княгинино, привлекло великое святое святых по ту сторону Волги: Макариев Желтоводский монастырь.
Оставив за собой Лысково, они переплыли реку на лодке. Монастырь не имел еще того величественного вида, который он приобрел впоследствии и прекрасные остатки которого он еще хранит до сих пор, несмотря на разрушение. У него еще не было стен, его единственная церковь во имя Пресвятой Троицы была деревянная, подобно всем церквам, которые паломники встречали на своем пути в любом селе. На вид это была бы просто изба, не будь на ее крыше креста. Весь монастырь состоял из 15 бревенчатых келий, где жили около тридцати монахов и иконописцев; большой колокол не весил даже полутора пудов. Единственное богатство этого монастыря состояло из иконы Троицы в золотом окладе, иконы Божией Матери Одигитрии с золотым венчиком и нескольких книг, в том числе и книги св. Ефрема Сирина. Но местность была чудесная, между громадной рекой и диким лесом. Кроме того, это место было очагом духовного возрождения. Святое место, опустошенное в 1439 г. татарами, было только что восстановлено после почти двухвекового запустения Авраамием, неким монахом из Мурашкина, которому во сне явился основатель монастыря Макарий и повелел ему восстановить его обитель. Авраамий был еще жив; он умер только 5 апреля 1640 г. Там был также некий Арсений, бывший учитель Никона, потом сделавшийся священником и бывший им с 1628 до конца 1630 г. Вероятно, затем он удалился на покой. Это были образованные и благочестивые монахи, которые, как надо думать, создавали вокруг себя очаг интеллектуальной и духовной жизни[339]. Из монахов Макариевского монастыря в первой половине XVII в. выйдут, помимо Никона и Илариона, некоторые замечательные духовные лица: Корнилий, казанский митрополит; Филарет, будущий нижегородский митрополит; Сергий, настоятель Благовещенского монастыря в Нижнем; Павел, настоятель Иосифо-Волоколамского монастыря[340], и, вероятно, Симеон, митрополит Тобольский. Итак, среда была благоприятная. Ярмарка, только что возродившаяся и признанная официально только в 1641 г., имущественные споры с обитателями Лыскова, привилегии, дарованные властью, наконец, приобретенное богатство – все это еще не внесло в эту мирную обитель губительные семена разврата и корысти[341].
Там Аввакум и его товарищ, два маленьких «попенка», могли с рвением погрузиться в чтение, молитву, мечтать о своем призвании, мысленно исправлять пороки, которые их возмущали, спасать православие в России: ибо именно столь высоки были их мечты, так пылка их вера! Они не ведали, что Провидение через несколько лет противопоставит их друг другу, не предав, однако, забвению воспоминание об их счастливых днях дружбы. Иларион, сделавшись могущественным, осыпает подарками свой бывший монастырь; чувствуя приближение смерти, он пожелает, но тщетно, закончить там остаток своих дней[342]. И в тот же самый год Аввакум в своей написанной в земляной тюрьме «Беседе» упрекнет его, во имя прошлого, за его настоящую роль преследователя и придворного епископа и напишет: «Ох, ох, бедной! Не кому по тебе плакать. Не достоин бо век твой весь Макарьевскаго монастыря единоя нощи. Помнишь ли, как на комарах-тех стаевано на молитве? Явно ослепил тебя диавол. Где ты, мот, девал столко добра? И другов погубил!»[343]
VI Его брак с Анастасией и его отъезд
Так рос Аввакум в Григорове, когда умер его отец. Когда произошло это событие? Оно должно было произойти после 1634 года, так как в этом году родился Евфимий, и вскоре после его рождения, так как Аввакум нам говорит, что он остался юным сиротой: это выражение побуждает нас предполагать, что ему было не больше 15 лет, следовательно, это было в 1636 г.[344]
Материальное положение семьи, естественно, ухудшилось: у матери на руках остались пять сыновей, а сколько еще дочерей? Старший был еще слишком молод, чтобы стремиться сразу наследовать отцу. Сначала надо было женить его. Этим и занялись. Позднее Аввакум расскажет снисходительно об этом эпизоде своей молодости: в городке была молодая девушка по имени Анастасия, дочь кузнеца Марка[345], который также только что умер. Работа отца делала семью зажиточной, смерть его вскоре познакомила ее с бедностью. Анастасия пользовалась лишь малой долей обеспеченности, которая – по Аристотелю и святому Фоме, – делает добродетель возможной и в особенности позволяет осуществить некоторые определенные добродетели, такие, как бескорыстие, моральная независимость, просвещенная разумом привязанность, преданность идеалу. Сходство их положения и еще более того – сходство их характеров и их стремлений сблизило молодых людей. Они полюбили друг друга. Когда Аввакум просил у Матери Божией даровать ему жену, которая помогла бы ему обрести свое спасение, он уже предчувствовал Анастасию; а она прямо просила у Господа Бога соединить ее с Аввакумом. Этот брак, как кажется, не был заключен по обычаю того века и многих будущих веков, как то водилось в русских деревнях: по инициативе и по принуждению заинтересованных родителей. Это был брак по любви и основанный на одинаковых жизненных идеалах. Анастасия Марковна оказалась действительной помощницей Аввакума на протяжении всей его героической и трагической жизни.
Итак, Аввакум женился[346]. С этого началась новая жизнь семьи: младшие переходят на попечение нового главы семьи; мать, замещавшая место отца после его смерти на общинных собраниях, как и у себя в доме, – отстраняется; ее задача здесь, на земле, выполнена. Мать Аввакума уходит в монастырь, может быть даже в Мурашкино, постригается, принимает великую схиму и умирает.
Что же происходит потом? Точно мы этого не знаем[347]. Аввакум нам говорит, что родные его выгнали и что он должен был переселиться в другое место. Очевидно, что дом священника при церкви принадлежал общине[348]. Дом этот после смерти попа Петра занял его преемник, может быть, один из его братьев. Сначала он терпел присутствие вдовы и детей. Но когда старший из детей женился, а мать уехала, новый священник счел, что ничего уже его не обязывает по отношению к семье умершего попа. Может быть, даже Аввакум и протестовал перед общинным собранием, но ему было отказано: этот отказ и подтверждает слово «изгнание». Как бы там ни было, он должен был со своей женой и со своими младшими братьями покинуть свое родовое село, куда он уже никогда не возвра щался[349]. Рано, очень рано перед ним открылся тот длинный ряд изгнаний и высылок, которые будут ему сопутствовать на протяжении всего его жизненного пути.
Когда он ушел из Григорова, ему, вероятно, еще не было 20 лет, а между тем он был уже почти сложившимся человеком. Его детские и юношеские годы объясняют нам его интеллектуальную зрелость. У него железное здоровье, тело его – «одежда из брони», которая нечувствительна к болям и почти неуязвима, которая бросает вызов всем силам природы и стихиям и неизменно сопутствует ему на протяжении всех его страданий, повинуясь разуму, который повелевает телу. Он принадлежит к крестьянской среде, речь его – продукт этой среды, у него очень верное чутье, он полон любви к простой, ясной и прекрасной природе; у него непогрешимый здравый смысл, ум практичный и реалистичный. Перед сильными мира сего, которые мятутся по стихиям мира сего, но нравственно не превосходят обычного человеческого уровня, он нисколько не высказывает подобострастия, но полон непосредственного выражения своих чувств: привязанности, расположения, сочувствия или справедливого негодования. Однако он осуждал тот народ, жизнь которого он разделял; его положение, каково бы оно ни было, превосходившее других, его ум, его воспитание, образование – заставляли его возненавидеть главный порок слабых людей, который, увы, он видел в своей собственной семье – пьянство. Он стремится вообще к нравам более чистым, к более строгому соблюдению правил и пристойному поведению в церкви, к более сознательному отношению к вере. Эти стремления внушают ему его внутреннее призвание: исправлять и спасать православный народ. Ни одной минуты он не думает спастись только одному: он, несмотря на пример стольких святых, никогда не покинет своей семьи и мирской жизни, чтобы уйти в монастырь. В стороне от суетного века, вдали от терзаний совести и искушений совершенствование достигается легко, если только человек к нему стремится. Имея хотя бы каплю добродетели и знания и достаточно покорности перед сильными мира сего, нетрудно сделаться из монаха настоятелем и архимандритом, а из архимандрита – епископом. Но нет! Сын попа предназначил себе другое поприще: быть аскетом среди мирской суеты, воинствующим христианином, несмотря ни на какие условия, одновременно братом, супругом, пастырем, апостолом, – действующим словом, делом и пером, – руководителем совести, учителем верующих, постоянно заботящимся о душах паствы, одним словом, – священником в высшем и лучшем смысле этого слова.
Глава III Аввакум-священник. Как создавался пастырь (1640–1647)
I Посвящение
После Григорова мы находим Аввакума в Лопатищах. Почему он направился именно в это село? Во-первых, у него тут имелись родственники: двоюродный брат, о котором он говорит нам в своем Житии, был образованным и благочестивым молодым человеком[350]. Он не мог не чувствовать к нему привязанности. Затем, Лопатищи были расположены во владениях Федора Волынского[351] и не очень далеко от Григорова, на расстоянии примерно 15 верст. Переезд был небольшой. Поэтому есть все основания предполагать, что промежуточного места служения у него не было и Аввакум начал там служение не только священника, но и дьякона[352].
Мы можем построить следующую гипотезу. Дядя Аввакума был священником в Лопатищах[353]. Сын его не имел религиозного призвания[354]. Он, естественно, подумал, в качестве преемника, о своем племяннике, который по своему общему облику и образованию соответствовал нужным требованиям. Видя его изгнанным из Григорова, он призвал его и сперва способствовал его утверждению общиной в качестве диакона. Аввакум был поставлен в диаконы в двадцать один год; это единственное верное, что мы знаем, раз он сам нам говорит об этом[355]. Это не был возраст, установленный канонами (полагалось в 25 лет)[356], но при общем неустройстве Церкви на это не обращалось особого внимания. Аввакум говорит нам, что это показывает, как Господь вел его необыкновенными путями.
О времени служения Аввакума диаконом мы не знаем ровно ничего, кроме того, что оно продолжалось два года[357]. Двадцати трех лет, вместо положенных тридцати, Аввакум был рукоположен в иереи[358].
Где он был рукоположен? Лопатищи, как и Григорово, находились в нижегородском подчинении, а Нижний подчинялся епархиальной власти патриарха. По всем правилам Аввакум должен был бы сперва в 1642 году, а потом и в 1644 г. предпринять путешествие в Москву, чтобы быть рукоположенным патриархом или назначенным им на то епископом. Однако нигде в его сочинениях ничего об этом не говорится. С другой стороны, мы знаем о том, что патриарх Иосиф, по-видимому, отнюдь не в начале своего патриаршества, сделал сильно раскритикованное распоряжение о том, чтобы ставленники непременно приезжали рукополагаться в Москву, иногда предпринимая путешествие в целых 800 верст, в то время как раньше они обращались к более близкому епископу[359]. Точная дата появления этого распоряжения нам неизвестна[360], но мы не имеем никаких оснований приписывать ее первым годам его пребывания на патриаршем престоле. Следовательно, почти наверное как в 1642 г., так и в 1644 г. Аввакум не должен был ехать в столицу[361]. Ближайшими епископами были казанский и суздальский.
Казань, недавняя столица, не имела в себе ничего особенно привлекательного; путешествие по Волге было опасным: берега ее были мало населены, а там, где жили люди, это были по преимуществу татары-мусульмане или полные язычники. Лучше было бы ехать в Нижний, а оттуда в старинную митрополию Суздаля[362]. Это значило бы направляться к центральным и более культурным районам. Между обоими городами существовали непрерывные сношения как зимой, санным путем, так и водой, по Оке[363].
Можно охотно верить, что Аввакум был возведен в сан таким достойным пастырем, как Серапион Суздальский. После низложения недостойного Курцевича в 1634 г. возникла необходимость дать этой скорбящей епархии такого пастыря, который умел бы врачевать ее раны. Патриарх Иосиф выбрал скромного провинциального деятеля, который восстановил очень древний Толгский монастырь, посвященный Божьей Матери, а затем управлял им. Монастырь этот – второстепенного значения – находился в 7 верстах к северу от Ярославля. Серапион очень усердно относился к благолепию: он украсил собор фресками, добавил новый иконостас, построил колокольню, создал новые храмы, украсил раки нескольких почивавших там святых. Будучи книжным человеком, он составил службу св. Софии-Соломонии, бывшей супруге великого князя Василия III, почитаемой Церковью святой. Он призвал к соблюдению устава и сестринской любви гордых монахинь Покровского монастыря. Уже в 1642 г. он за свою пастырскую деятельность стал пользоваться таким уважением, что он был выдвинут кандидатом на патриаршество[364]. Его пастырское послание, написанное в том же году, содержало пожелание очень серьезных и глубоких реформ.
И вот, когда его дядя либо решил уйти на покой, либо же умер, Аввакум заключил со своими согражданами договор приблизительно следующего содержания:
«Я, нижеподписавшийся, протопоп Аввакум обязуюсь перед старостой прихода Лопатищи, а также перед крестьянами (идет перечисление свидетелей) служить в церкви такого-то святого 10 лет, начиная с…, а также являть послушание общине, являться для совершения таинств в случаях болезни и рождений, совершать службы для крестьян, поминать их усопших, а в случае, если я буду пренебрегать их призывами, то крестьяне будут свободны уволить меня».
За это община безвозмездно предоставляла ему избу с участком земли, которым пользовался его предшественник. На праздник свв. Петра и Павла ему предоставлялось право собирать у крестьян яйца и масло, а на Успение – хлеб, и получать за заупокойные службы 6 денег, за елеосвящение и причащение умирающего 1 гривну, а также хлеб и холстину, за отпевание взрослого 1 грош, а за отпевание младенца 2 денги, за совершение брака 1 грош. Таким образом священнослужитель заранее устанавливал договорные отношения со своими прихожанами[365].
Затем Аввакум пошел в Суздаль и направился в митрополичьи покои. Здесь он написал обращение, на котором ризничий наложил резолюцию: «Такому-то священнику, на исповедь». Аввакум отправился к этому священнику, и тот надписал на той же грамоте: «Исповедан и признан достойным священства». После этого он направился в управление архиепископской казной, где он записался и внес один рубль и одну гривну. Вслед за этим дьяк указал ему на день, когда он должен был явиться пред очи епископа.
Это посещение являлось своего рода экзаменом. Можно полагать, что Аввакум, как в дальнейшем и Серапион Суздальский перед Никоном, сумел громко, раздельно и внятно прочесть Евангелие, притом с глубоким, сквозившим в голосе убеждением и правильно делая ударения, так что Божественные словеса изливались из его уст подобно сладчайшей воде[366].
Вслед за этим начиналась снова канцелярская волокита. На прошении ставилась резолюция писцом, наконец, ризничий брал в свои руки прошение и подклеивал его к какому-то нескончаемому свитку. Затем ризничий направлял кандидата на священническую должность к опытному священнику, чтобы тот научил его исполнению службы. Это обучение производилось обычно в кафедральном соборе. Затем священник снова приводил своего ученика к ризничему, который записывал: обучался у такого-то. Лишь вслед за этим выправлялись ставленые грамоты. Эти делом занимались патриаршие певчие дьяки, которые и зарабатывали на этом деле. Затем грамота представлялась патриарху (или митрополиту) для подписи, затем она регистрировалась, наконец, передавалась патриарху (или митрополиту)[367].
Вслед за этим совершалось самое поставление. Ставленник являлся в соборе перед епископом. После молитвословий епископ давал ему подробный наказ: день и ночь изучать Священное Писание, а также и соборные постановления и подавать пример всех добродетелей. Надлежит тебе не быть ни игральщиком, ни блудливым, ни скорым на злые дела, ни гордым, ни гневливым, ни пьяницей, ни скрягой. Никого своими руками не ударять. Без приглашения на пиршества и торжества не ходи, а если будет какая скоморошная, то ты уйди. Не читай запрещенных книг, суевериям не верь, не употребляй заговоров, тайных заклинаний и не допускай кощунств. Далее шли практические указания. Надлежит тебе носить рясу до пят. Служить будешь с доброй совестью и разумно. В алтарь будешь входить со страхом Божиим и воспретишь вход в алтарь непосвященным. Блюди, чтобы по небрежности твоей ни крыса, ни какая другая нечистота не коснулась Святых Даров. Выберешь себе причетника чистого, свободного от греха. Не сокращай службы из человекоугодия. Ни по любви, ни из страха не давай причащения или освященного хлеба тем, кому это запрещено канонами. Не принимай даров ни от еретика, ни от власть имущих с окамененным сердцем, ни от обманщика, ни от ростовщика, ни от колдуна, ни у хозяина, который мучит своих слуг голодом или битьем. Кроме случая необходимости, не надлежит тебе покидать свою церковь[368].
Подобного рода инструкция была строго обязательной. В Москве ставленникам раздавались маленькие книжечки с этим наказом, который они брали у алтаря. Она могла сводиться и к простой формальности. Все зависело от епископа и ставленника. Серапионом и Аввакумом она была принята с полной серьезностью.
Далее происходило возложение рук, сообщение апостольского преемства. Хиротония совершалась без особой торжественности, каждый раз, когда это требовалось, во все времена года. Вновь поставляемый получал в подарок книгу[369], рясу[370], а на постриженную голову ему возлагали скуфью, которую он никогда не должен был снимать (что не разрешалось делать и другим), поскольку она указывала на его священническое достоинство[371].
Ставленая грамота была действительна только для одной определенной церкви, где ставленник был выбран. Ставленые грамоты особо обозначали право «вязать и решить», что необязательно было связано с правом священнослужения[372]. Как показывает биография Аввакума, он получил священническую власть во всей ее полноте. Спеша ее использовать, он, как надо думать, лишь недолго пробыл в Суздале, невзирая на то, что там было девять монастырей и тринадцать приходских церквей[373]
Молодой поселянин, вручивший соответствующую мзду епископскому штату, но поддерживаемый материально своей паствой, получил теперь возможность приступить к пастырским обязанностям, возвышавшим его над самыми сильными мира сего, обязанностям, которые служили во славу Божию и должны были приносить обильную пользу человеческим душам.
II Лопатищи
Лопатищи в настоящее время представляют собой село из ста с лишним домов[374]. Оно тянется по обеим сторонам широкой долины, которая, сужаясь к северу, одним своим концом выходит к разрыву между двумя цепями возвышенностей: здесь Волга и пристань Работки. Недалеко проходит дорога, связывающая Нижний Новгород с Макарьевским монастырем. Долина орошена рядом маленьких речек, на ней расположены цветущие луга, почва плодородная, леса близко.
В начале XVII века Лопатищи были маленькой деревней, непосредственно подчиненной Московскому государству. Заселилась деревня недавно. Жители добывали себе пропитание не столько земледелием, сколько рыбной ловлей, охотой на бобров и сбором дикого меда[375]. В 1621 г. там было лишь 19 дворов и 24 семейства. Но уже появилась церковь, и деревня была переименована в сельцо. Царь вместе с Григоровым передал его Федору Волынскому, и тот поселил в Лопатищах свое го управляющего, слуг и девять работников, организовав там три усадьбы. Сельское хозяйство было еще там слабо развито: 45 га принадлежало владельцу, и 100 га – крестьянам. Господствовало трехполье, но община имела еще луга, дававшие 150 стогов сена и богатые диким медом леса, где заготовлялись дрова и бревна для строительства[376].
Лопатищи под управлением Волынского, а может быть, скорее, благодаря своему благоприятному географическому положению, стали быстро разрастаться. Переписчики 1646 г. находят там уже не 19, а 60 крестьянских дворов с числом мужских душ, равным 223, включая сюда и детей. За 25 лет население утроилось. Вместе с прилегающими деревнями приход насчитывал уже 259 дворов и 541 душу мужского пола; в общем, включая детей, было 1000 жителей[377].
Новый пастырь мужественно приступил к исполнению своих обязанностей. Но порученные его попечению души были грубыми и трудно поддающимися духовному воздействию. Это были преимущественно новоселы; в описи 1646 г. мы находим лишь пять семей, уже живших в Лопатищах в 1621 г. Это, кстати сказать, наиболее многочисленные семьи, в восемь, пять, четыре и три человека. Семьи эти хорошо обосновались, достигли добрым поведением и упорным трудом относительного благополучия. На них можно было положиться. Но было еще двенадцать бобылей! Они не участвовали в расходах общины, не были тесно связаны с ней материально, и у них не было культурных навыков, способных сдерживать разные страсти. Основная же масса состояла из наполовину укрепившихся тут людей, вынужденных упорно бороться за свое место под солнцем. Слишком они были погружены в тяжелую работу по распашке целины, чтобы заботиться об очищении глубинных слоев своих душ! На долю Аввакума падал весь труд: ему надлежало тут взять на себя извечный труд Церкви, как в Божественном, так и в человеческом плане, труд, стремящийся мало-помалу поднять к Небу скорбное человечество!
Нам трудно представить себе начало этого пастырского служения. Хотя он и стремился к реформе, Аввакум все же, возможно, не имел перед собой четкой программы действий. В основном он довольствовался инструкциями, полученными им при его поставлении в священники. Его задача заключалась в том, чтобы применить их как к самому себе, так и к другим. Мы можем с большой долей вероятности представить себе Аввакума добрым семьянином, усердным священником и ревностным пастырем, борющимся за духовное и материальное процветание своей паствы.
III Аввакум – отец семейства
В крестьянской общине священник был домохозяином, как и все крестьяне. Он имел свой, разделенный в зависимости от качества почвы земельный участок. Из этого участка надлежало извлекать средства пропитания; ему нужны были лошадь со сбруей, телега, сельскохозяйственные орудия. Каждый год на праздник святых Петра и Павла он получал участок для покоса.
В общем его жизнь мало чем отличалась от жизни окружающих крестьян: он пахал и косил, жена его жала и веяла, дети, по мере сил и возможностей, помогали по хозяйству. Он мог нанимать батраков, мог также и сам стать батраком или просто оказать помощь соседу, который, в другой раз, платил ему тем же. Он должен был платить подати и различные взносы. Отнюдь не соответствовало обычаям русского народа создавать для священника какие-либо особые привилегии. Вместе с тем, помимо дохода от своего участка, священник пользовался также сборами в натуре, получал время от времени подарки, а также пользовался доходами за совершенные им исповеди, браки, погребения, сорокоусты и т. д. Если он был хорошим хозяином и если у него в доме было достаточно рабочих рук и не слишком много голодных ртов, то жил он побогаче зажиточных крестьян.
Можно полагать, что так было и с Аввакумом. У него была большая семья. В 1644 году, согласно его словам, у него родился первый сын или, по крайней мере, первый ребенок, родившийся живым. Его назвали Иваном[378]. В 1645 году, по-видимому в июне, у него родилась дочь Агриппина[379]. Однако у него были работники: его младшие братья. Если Евфимию было лишь около 10 лет, другие были в полной силе, им было около 20 лет[380]. Может быть, один из них был уже женат. Чтобы обслужить всю эту семью, доброй Анастасии не хватало рук, невзирая на все ее мужество. Была тут еще молодая вдова, именем Евфимия, которая исполняла обязанности кухарки[381]. Марина, племянница Аввакума, которую ему предстояло потом увезти в Сибирь[382], возможно, у него в то время еще не жила. Во всяком случае, его домочадцев было не менее десяти человек. Он был для всех них отцом; один он распоряжался семейным имуществом. Ему верили как самому Богу, и так же боялись его. Со всех сторон он был окру жен теми особыми знаками внимания, которые знает только крестьянский быт. Даже сама хозяйка дома, второе лицо в семье, называла его с уважением по имени и отчеству: Аввакум Петрович![383]
Каждый вечер после ужина он становился в избе под иконами и совершал длинную домашнюю службу: повечерие, канон Исусу Сладчайшему[384], Акафист Пресвятой Богородице, в котором содержатся двенадцать кондаков и двенадцать икосов[385], канон Ангелу Хранителю и вечерние молитвы. Затем следовало знаменитое «Достойно» – похвала Пресвятой Богородице, составленная Ефесским Собором:
«Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородице, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую воистинну серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем»[386].
Затем читалось Трисвятое и ряд трогательных молитв:
– Нескверная, неблазная, нетленная Пречистая Богоневесто Владычице (…) яже ненадежным едина надежда и побеждаемым, помощница, готовое заступление к Тебе пребегающим и всем христианом прибежище (…) приими мое еже от скверных устен приносимое Тебе моление и своего Сына и нашего Владыку и Господа (…) умоли, яко да (…) обратит мя на покаяние и своим заповедем делателя искусна явит мя (…)[387]
– Даждь нам, Владыко, на сон грядущым покой души и телу…[388]
– Боже Вечный и Царю всякаго создания (…) прости ми грехи, яже согреших во дни сем (…) и очисти, Господи, смиренную ми душю от всякия скверны плоти и духа. И даждь ми, Господи, в нощи сей сон преити в мире, да (…) благоугожду пресвятому имени твоему во вся дни живота моего (…). Избави мя, Господи, от помышлении суетных, оскверняющих мя, и похотей лукавых[389].
Наконец, следовала последняя, самая прекрасная молитва:
– Ненавидящих и обидещих нас прости, Господи человеколюбче. Благотворящим благо сотвори. Братиям и всем сродником нашим, иже и уединившимъся, даруй им вся яже ко спасению прошения и живот вечныи. В болезнех сущыя посети и исцели, в темницах сущих свободи. По водам плавающим правитель буди и иже в путех шествующим исправи и поспеши. (…) Помилуй, Господи, давших нам милостыню и заповедавших нам недостойным молитися о них, прости их и помилуй. Помилуй, Господи, труждающихся и служащих нам, милующих и питающих нас и даруй им вся яже ко спасению прошения и живот вечныи. Помяни, Господи, прежде отшедшыя отцы и братию нашю и всели их, идеже присещает свет лица Твоего.
После этого следовало 50 поклонов за живых и за мертвых. Наконец, после благословения отца все ложились спать в мире с Богом и людьми. Но Аввакум и Анастасия добавляли сюда еще и необязательные молитвы: несколько молитв и «Верую».
«… Огонь погасим, да и я, и жена, и иные охотники нуже пред Христом кланятца в потемках: я 300 поклон, 600 молитв Исусовых, да сто Богородице, а жена 200 поклон, да 400 молитв, понеже робятка у нее пищат»[390].
Супружеская жизнь была столь же строго регламентирована, как и домашняя молитва. Полное воздержание требовалось по средам и пятницам, в субботы и воскресенья, в посты, особенно в Великий пост, по-видимому, все праздники и на Пасху – «ибо тогда надлежит молиться, а не предаваться удовольствиям плоти». Во всяком случае, даже в разрешенные дни никогда не следовало забывать очищать себя от осквернения, ранее чем прикасаться к святым предметам: это очищение должно было быть как физическим, так и духовным: 50 или 100 поклонов. Супруга должна быть послушной. Пред лицом мужа она должна быть молчаливой, кроткой и веселой. Ибо, как крест храму, муж – глава жены; жена же должна повиноваться мужу, как Церковь Христу[391]. Бедная Анастасия почти все время была беременной. Мы знаем, что у нее было девять детей, которым были наречены имена: Иван, Агриппина, Прокопий, Корнилий[392], Афанасий, Акилина[393], Ксения, еще один ребенок или даже двое детей, умерших в Сибири[394]. Может быть, были и еще дети, умершие в раннем возрасте, которых отец не упоминал.
Жена Аввакума была доброй женщиной, кроткой и скромной. Образования она не получила. Она могла вступать в пререкания со служанкой без особых на то оснований[395], иногда она уступала материальным нуждам[396] в предпочтение духовным. Но она была, невзирая на это, желанной подругой для Аввакума. Борясь сперва рядом с ним, затем разделенная с ним, она, как мы увидим из дальнейшего, стойко и мужественно выносила все испытания, непоколебимо веря в правоту своего дела. Без колебаний, без долгих рассуждений, она призывала его пожертвовать семьей ради того, что представлялось ему долгом. Простые слова ее, собранные мужем, который глубоко ее ценил, составляют самые прекрасные места Жития непоколебимого протопопа[397]. Без Анастасии Аввакум, может быть, не был бы самим собой. В моменты сомнений не поколебался ли бы он, как многие другие? Не обладая гордой самоуверенностью и некоторым восторгом от собственных усилий, что свойственно общественному деятелю, она, может быть, проявила еще большее мужество, чем он, в своей твердости, а также и больше добродетели, поскольку труднее поддерживать в самом себе духовные силы, чем проявлять их активно. И он, который довольно низко ставил женщину, у которой «волос долог, а ум короток», и который не допускал возражений со стороны женщин, проявлял к ней, наряду с любовью, и нечто большее: уважение. Она была его сотаинницей. Без нее он не принимал никакого серьезного решения. Даже издалека, он заботился о ней. Он рекомендует ее боярыне Морозовой: «Напрасно покидаешь и Марковну, Марковна – доброй человек; я ее знаю»[398].
В русских деревнях внешних радостей было мало. В доме лопатищского священника, где никогда не подавалась водка, жизнь была еще строже. Его принципом было есть и пить ровно столько, чтобы быть в живых[399]. Он стоял на недосягаемой высоте над чувственностью, ненавидел леность и боролся с гордостью[400]. Без всякого излишнего снисхождения он поправлял ошибки. На устах у него были лишь кротость и послушание. Он хотел, чтобы жизнь у всех протекала в страхе Божьем. Но этот суровый человек проявлял к своим духовным детям удивительную нежность. Даже вступив в борьбу, погруженный целиком и полностью в битву за веру, окруженный учениками, которые ждали от него всего, он не перестает ни на минуту думать о них. В тюрьме он заботиться о том, чтобы друзья не оставили их своими заботами[401]. В трогательных выражениях он умоляет за них царя[402]. Он неожиданно предоставляет им снисхождение, почти преувеличенное, почти погрешительное[403]. Он плачет над теми страданиями, которые они переживают вместе с ним в Сибири или которые они испытывают в своих земляных тюрьмах. И он в своем Житии передает, без всякого стыда, свои отцовские чувства.
Аввакум является одним из тех редких волевых людей, семейные заботы которого не мешали его героической деятельности. И к тому же он является редким героем, не пожертвовавшим и семьей ради своего дела. Это обусловливается его исключительной жизненной силой, его обширным умом и его огромным сердцем. Уж это одно должно было бы избавить его от того имени фанатика, которым награждали его некоторые.
IV Аввакум – проповедник и исповедник
Приход Аввакума начинался с его дома. В отношении жены права его были ограничены; лишь в крайнем случае имел он право произносить над ней молитву очищения и причащать ее, он никоим образом не имел права исповедовать ее. Но он свободно крестил, исповедовал и причащал своих детей[404].
Когда ему нужно было служить в церкви – а это нужно было не каждый день, а преимущественно по субботам и воскресеньям, кроме того во Владычные и Богородичные праздники, а также в дни чтимых святых, в общем все-таки довольно часто – Аввакум вставал на заре и направлялся в храм. Это был бедный деревянный храм с простыми иконами; сосуды были деревянные или, в лучшем случае, оловянные. Мы знаем, что в 1663 году храм был посвящен Рождеству Христову[405]; больше сведений о нем у нас нет.
Начинал звонить сам Аввакум; потом он передавал колокола в руки звонаря. Затем начиналась служба: утреня, первый, третий и шестой час. Служил он не спеша и строго соблюдал[406] кафизмы[407]: шесть кафизм по воскресеньям, четыре в другие дни. Затем начиналась литургия. Он так проникался ею, что глаза его наполнялись слезами. Если он был невнимателен во время какой-либо молитвы, он ее повторял. Он не спешил уходить из храма, как многие другие. В присутствии Божием надо забывать о всех посторонних делах. Вечером вечерня снова служилась в церкви[408].
В то время не было обычая, чтобы священник сам сочинял проповеди; не все были способны на это, и казалось нежелательным привносить человеческие слова в священнодействие. Но литургия сопровождалась поучениями, заимствованными у св. отцов; их можно было излагать в просторечии и извлекать из них поучительные уроки. Аввакум, оставивший нам столько ценных толкований на книги Ветхого и Нового Завета, безусловно не мог пропустить случая обращаться с проповедью к своим пасомым. Можно легко догадываться, что к славянским молитвословиям он добавлял поучения на простом русском языке, рассчитанные на то, чтобы затронуть за живое христиан из Лопатищ. В церкви ли, вне ли ее стен, ему было необходимо говорить с людьми. Это была потребность его натуры, и не нужно было, чтобы кто-либо его учил этому. Та проповедь, которой он простился со своей паствой, была, несомненно, не первой.
Что представляли собой эти проповеди? Аввакум использовал тот текст Священного Писания, который он прочел во время богослужения. Он начинал с объяснения фраза за фразой, как в древних толкованиях. Но мало-помалу его захватывал естественный пыл его души. Он вспоминал, что перед ним не монахи, живущие по Студийскому уставу, и не византийские схоластики. Перед ним там, за солеей, стояли григоровские крестьяне со всеми своими горестями и со всеми своими прегрешениями.
Он хорошо знал этот панцирь, закрывающий закоренелый грех! Но он знал и слабые места этого панциря, через которые можно проникнуть в сердце христианина. И уже на четвертом или пятом стихе он отбрасывал в сторону символический смысл и литературные традиции и говорил импровизированно, приводя особо поучительные факты для своих слушателей. Вскоре он отдавался своему вдохновению, своей естественной проповеднической жилке, ему приходили в голову воспоминания из повседневной жизни, он иронизировал, он наносил удары греху строгими словами. Развитие мысли шло в самом неожиданном направлении, и вскоре слушатели оказывались за сто верст от Исаии или апостола Павла. И тут, внезапно, необыкновенный проповедник вспоминал, что ему необходимо перейти к толкованию следующего стиха.
Вот как Аввакум комментирует Книгу Бытия. Сперва он следует близко классическим трудам: Хронографу, Маргариту и Прологу. Часто он ограничивается тем, что перелагает текст Священного Писания просторечно, но время от времени он попутно предлагает урок доброго поведения, «День дан людям, дабы работать, а ночь, чтобы отдыхать и прославлять Господа». Иногда он предпринимает отступление в сторону; он говорит о Страшном Суде, о возрождении твари и о воскресении плоти, об ужасах ада и тут же о радостях рая. Затем следует вывод о том, какое дурное дело грех. Вся тварь плачет о нем вместе с нами. И вот с рассказом о соблазне и грехопадении он вдохновляется и говорит о том, каким удивительным зверем был змий, с лапами и крыльями и какими прекрасными были запретные плоды: красивые и сладкие. Адам и Ева соблазнились, а дьявол смеялся. Стали угощать друг друга «зелием нерастворенным, сиречь зеленым вином процеженным и прочими питии и сладкими брашны». А затем, наевшись и напившись, друг над другом насмехаются. Но вернемся, говорит он, к стиху седьмому: «И узнали они, что наги» (Быт. 2: 7). «О, миленькие! одеть стало некому: ввел дьявол в беду, а сам и в сторону. Лукавой хозяин накормил и напоил, да из двора спехнул. Пьяной валяется на улице, ограблен, а никто не помилует. Увы, безумия и тогдашнева и нынешнева!»
В стыде своем Адам и Ева прикрывают свою наготу. Последующий день – похмелье. «Проспалися бедные, с похмелья, ано и самим себя сором: борода и ус в блевотине, а от гузна весь и до ног в говнех, со здоровных чаш голова кругом идет». Адам оправдывается: «Жена, еже ми сотворил еси. Просто молыть: на што-де мне дуру такую зделал. Сам неправ, да на Бога-же пеняет. И ныне похмельные, тоже шпыняя, говорят: “на што Бог и сотворил хмель-ет, весь-де до нага пропился и есть нечева, да меня ж-де избили всево”; а иной говорит: “Бог-де ево судит, упоил допьяна»; правится бедный, быдто от неволи так зделалось”». Ева возводит вину на змея. «Вот хорошо: каков муж, такова и жена. Оба бражники, а у детей и давно добра нечева спрашивать, волочатся ни сыты, ни голодны». А дьявол говорит в свою очередь: «Дьявол научил мя». «Бедные! Все правы, а виноватова и нет. А то и корень воровству сыскалъся. Чем еще поправитеся? Все за одно, с вором стакався, воровали, чем дело вершить? Да нечем переменить. Кнутом бить, да впредь не воруют»[409].
Такова тема пьянства! Она так необходима! Но имеются и другие полезные размышления, которые непосредственно вытекают из Священного Писания. Однажды, по поводу потопа, дождей и грома, Аввакум размышляет о следующем стихе псалма 76: «Глас грома Твоего в круге небесном», И вот какие размышления он извлекает отсюда: глас грома, говорит Давыд, Христос откуда хочет, оттуда и берет гром. Человеку не надобно знать всех его путей. Достаточно знать то, что Христос совершил на земле. И так человек уже надмевается. А если бы он знал все о небесном, то он тем более погиб бы от гордости, вместе с дьяволом. «Волхвы и звездочетцы и альманашники, по звездам гадая», наблюдают времена и сроки и заблуждаются. Они лишь отстраняются от Спасителя. Их отец – это Нимврод, строитель Вавилонской башни. А к чему она была? А сколько трудов, сколько скорбей! Даже женщину, разрешившуюся от родов, и ту ни на один день не оставляли отдохнуть и полежать. Бросай-ка твоего новорожденного, тащи кирпичи к башне! А бедные ребятки, еще трехлетние, тоже должны тащить туда кирпичи! А наши альманашники тоже не имеют на миг покоя! Никуда не пойдут, не заглянув в книги: время подходящее ли? Бедные, бедные, и как вам не совестно? Свиньи и коровы больше вас знают – перед грозой хрюкают и мычат и бегут под крышу. Измеряете лицо земли и неба, а не спрашиваете, как умирать надобно. Раскайтесь же, злосчастные![410] В этих и подобных словах он выражал свое сострадание к женщинам и детям, которые подвергались в его время жестокому обращению, призывал их эксплуататоров прислушаться к голосу совести и громил суеверие![411]
Некоторые священники умудрялись, как говорят, за один день исповедовать весь свой приход[412]. Напротив, Аввакум занимался этой областью своей пастырской деятельности с полной серьезностью и глубокой принципиальностью. Для этого у него были и необходимые знания. Он знал священные книги, апостольские правила и решения Соборов, творения святых отцов, Номоканон. Все это позволяло ему надлежащим образом взвешивать добро и зло, налагать епитимьи и, особенно, давать жизненные советы, так как в Древней Руси в связи с покаянием священник выполнял функцию проповедника. Именно тогда Аввакуму представлялся момент конкретизировать свою гомилетику[413]. Но в это время он еще не обладал полным умением распоряжаться своей паствой. Судить, отпускать грехи и поучать было легко. Управлять целым приходом было труднее. Для горячей души молодого священника, который ни к одной вверенной ему душе не относился равнодушно, это было невероятно трудно. Задача руководителя прихода казалась ему сперва невыносимой, и в этом он нам признается сам.
Однажды перед ним предстала девушка, являвшаяся великой грешницей. После первых молитвословий он обратился к ней со словами Требника того времени: Не стыдись, чадо, перед лицем человека, ибо все мы грешники. Не скрывай в себе никакого греха, совершенного тобой с детства и до сего дня. Не запечатывай в себе ни одного; откройся Богу – я буду тебе свидетелем. Девушка призналась в противоестественных грехах. Этот случай предусматривался Требником. Аввакум был вынужден начать подробно расспрашивать ее о характере ее пороков, о причинах, обстоятельствах, о лицах, о количестве падений[414]. Девушка стояла рядом с ним, сотрясаясь от плача под его епитрахилью. Он почувствовал себя смущенным. И, произнося разрешительную молитву: «Дитя мое, я принимаю твои грехи на себя», он почувствовал страшную реальность всего этого и подумал, что надо, дабы укротить плоть, использовать древнее средство: в Прологе под 27 декабря идет речь о монахе, которого смущает грешница и который жжет себе пальцы. Он зажег три свечи и, стоя у самого аналоя, положил руку на пламя и держал ее так до тех пор, пока физическое ощущение жжения не затушило воспламененного воображения[415].
Есть все основания думать, что случай с грешницей произошел после многочисленных отходов его прихожан от Церкви и таинств. Многие крестьяне, как нам известно, в течение долгих лет не обращались к последним. Если ревностный священник нападал на них за это, то они приписывали его заботу о спасении их душ корысти, то есть всякая исповедь была связана с небольшим приношением, деньгами или натурой. Часто они говорили: «Это хорошо для богатых и могущественных, у которых столько грехов»[416]. Таким образом, духовного врача нередко отталкивали, или он, во всяком случае, не имел возможности вылечить больного. А теперь, рассуждал Аввакум, беда приключилась со мной! Был момент, что он пришел в ужас от своего бессилия, от своей слабости и от своей ответственности. Он был на грани отчаяния. Другие священники в его возрасте были освобождены от исповеди[417]. Почему бы ему тоже не получить освобождение?
К счастью, как и обычно, он обратился с горячей молитвой об освобождении от своей тяготы к Богу. И ответ пришел ему через видение: он увидел два золотых корабля, на которых сидели его духовные дети, направлявшиеся прямо к небу. А затем он увидел и другой корабль «не златом украшен, а разными пестротами» и светлыми, и темными, готовый взять его с женой и детьми. В этом сне он провидел свое будущее: плодотворную апостольскую деятельность; долгие испытания; себя самого и своих духовных чад, взаимно поучающих друг друга и оказывающих друг другу помощь. Он извлек из этого видения уверенность, необходимую для продолжения своего пастырского служения[418].
Много раз на протяжении своей духовно-воинствующей жизни Аввакума охватывают сомнения в отношении его поведения и долга, в частности в отношении долга к семье, с одной стороны, и долга как заступника веры, с другой. Сомневается он и в своих способностях, и в правильности своего дела; у него было слишком много тонкого чутья – как в интеллектуальном, так и в моральном отношении, чтобы не задаваться вопросами о правильности своего поведения. Но это был человек слишком твердый как духовно, так и физически, чтобы долго оставаться в сомнении. Указание свыше или слово его жены всегда успокаивают его сомнения. И вот после этого трудного начала он становится таким пастырем, которого хотели бы видеть отцы Церкви: не слишком жестоким, не слишком снисходительным, соразмеряющим свои требования с силами каждого, и лично неспособным заразиться грехом. Он познает путь руководства душами, он умеет привязать их к себе, вести их одновременно с твердостью и осмотрительностью, с властью и благоразумием. Из него создается больше чем церковный учитель, больше чем провозвестник своего дела, больше чем церковный проповедник или писатель – из него создается, прежде и превыше всего, руководитель душ. Он сам знал в конце своей жизни, каково было его подлинное призвание: «А егда в попех был, тогда имел у себя детей духовных много – по се время сот с пять или с шесть будет»[419]. Современный историк сумел бы написать целую работу о его методе[420].
V Его отношения с властями
Если он для плотской своей семьи был чем-то вроде игумена, то для того, чтобы быть подлинным отцом своих духовных детей, он должен был подняться до высоты подлинного пастыря. Он считал своей задачей представлять свою паству перед властями и во всех случаях оказывать ей помощь. Он подписывался за неграмотных. Он брал на поруки и заступался за обиженных. Все это было связано со значительным риском[421]. Аввакум делал больше того: он вступался за обиженных: грубой силе он противопоставлял нравственную силу священства. Злые люди смеялись над ним: что такое простой поп по сравнению с гражданским чиновником, с посланцем правительства, даже по сравнению с простым управляющим крупного землевладельца? За то, чтобы его оскорбить, за то, чтобы его избить, лишь бы не убить до смерти, давали даже определенную награду, как за простого мужика[422]. Доброму защитнику угнетенных нередко попадало, но иногда жертва были спасена и справедливость торжествовала.
Случаи, когда требовалось его вмешательство, были многочисленны. Злоупотребления властью и насилия происходили постоянно, особенно с тех пор, как крестьяне были закреплены и фактически лишены права свободного передвижения. Именно в 1645 году новый царь, вместо ожидаемого указа об освобождении крестьян с правом на протяжении года менять местожительство и хозяина, напротив, закрепил за помещиками право разыскивать своих крепостных, бежавших на протяжении десяти последних лет[423]. Более того, он распорядился произвести всеобщую перепись, которая и были осуществлена в 1646 году и которая точно учла каждый двор со всеми жителями, взрослыми и детьми; таким образом, население было зафиксировано в неоспоримом документе[424]. Разочарование крестьян было весьма велико и все те, кто имел над ними хоть какую-то власть, перестали в своем произволе считаться с чем бы то ни было.
Аввакум дает нам пример. Мы не знаем, с каким именно должностным лицом он имел дело; возможно, именно с одним из тех, кто должен был производить перепись. Он отнял у вдовы дочь. Аввакум стал его умолять отдать девушку матери. Вместо того, чтобы уступить священнику, злой человек, призвал друзей, подчиненных, или, возможно, некоторых людей, которые были в ссоре со своим пастырем, или даже просто каких-нибудь негодяев, всегда готовых услужить сильному, – такие люди были и в Лопатищах, как и в других местах, – и все они накинулись на Аввакума. После этого он остался полуживой. Однако вслед за этим, «устрашася», начальник отдал дочь матери. В дальнейшем, впрочем, он попытался отомстить Аввакуму – бил его и волочил в церкви, бил того, кто морально оказался сильнее его[425]. В конце концов победил все-таки тот, кто был морально прав.
В этот период своей жизни Аввакум приходил в столкновение скорее с властями, чем с населением. Службы были для прихожан длинными, но, вероятно, это не вызывало ничего большего, чем скрытый ропот.
Недовольство вспыхнуло в связи с еще одним начальником, неким Иваном Родионовичем. Он прибежал в дом Аввакума, бил его и укусил ему руку до крови. Аввакум, завернув руку платком, тем не менее пошел к вечерне. Злодей выпалил в него из «пистоли». Не будь чуда, что пистолет не выстрелил, Аввакум был бы убит. Это была воистину прекрасная картина: один изрыгал проклятия, другой же на ходу благословлял его и отвечал с благочестивой иронией: «Благодать во устнех твоих, Иван Родионович, да будет!»
Однако же начальник был могущественным: он отнял у Аввакума дом, ограбил его и даже изгнал из деревни. Это произошло летом 1647 года[426]. Аввакум оказался еще раз со всей семьей изгнанным, бездомным, лишенным всего, без куска хлеба[427].
Глава IV Реформатор (1647–1651)
I Аввакум с семьей отправляется в Москву
Куда направиться? Если бы Аввакум искал только убежища, он мог бы отправиться в Лысково, где его друг, сын попа Якова, был в то время священником[428]. Его, конечно, также приняли бы в Макарьевском монастыре, так как эти места находились в 6–7 верстах от Лопатищ. Он мог бы, на худой конец, доехать до Нижнего. Для того, чтобы он решился предпринять путешествие в Москву, со своими маленьким детьми, среди которых был новорожденный, еще некрещеный, требовались очень серьезные причины. Первая причина, конечно, заключалась в его желании добиться справедливости: речь шла одновременно о его личном авторитете и о достоинстве священства, в общем, речь шла о плодотворности его будущей деятельности. Вторая причина – это то обстоятельство, что в Москве в это время находился Иван Неронов[429], самый популярный в области священник, с которым Аввакум, без сомнения, уже давно находился в тесных сношениях.
Отъезд был одновременно скорбным и триумфальным: семья, лишенная своего очага, безжалостно выброшенная на большую дорогу, священник, уступивший силе, но не подчинившийся насилию, направляющийся вперед, предшествуемый святой иконой и сопутствуемый своими плачущими прихожанами; при этом он напутствовал их своим последним наставлением, своим благословением[430]. В дороге пришлось окрестить новорожденного Прокопия; можно было думать, что находишься в времена первоначальной Церкви[431]. Мы, впрочем, не имеем никакого понятия о том, как совершалось это долгое путешествие. В Москве сначала отыскали Неронова. В столице он не выполнял никаких функций; он числился всего только нижегородским священником, но как раз в начале этого года он более или менее там обосновался[432] и уже стал достаточно видным деятелем, чтобы рекомендовать новые лица.
II Придворный кружок, царь Алексей, его духовник Стефан, Никон, Ртищев
Началось новое царствование: 13 июля 1645 г. молодой царевич наследовал своему отцу. Алексей получил столь полное образование, о каком лишь можно было помыслить в то время. Он не только знал Священное Писание и отцов церкви, литургию и церковное пение, но он интересовался также светской историей. Он почитал образование и сам любил читать и писать. Если царь был глубоко убежден в превосходстве московской веры и нравов, то он, вместе с тем, нисколько не был объят суеверным страхом перед иноземным: разве он сам не одевался в немецкое «платье»? С тем большим уважением принимал он православных епископов и монахов, греческих или восточных. Будучи глубоко набожным, он считал себя обязанным стоять на страже блага Церкви и своих подданных и ставить свою власть на служение религии и нравственности. Хотя он был в глубине души добрым и кротким, быстро прощая и боясь огорчить своего ближнего, он считал себя обязанным сурово карать провинившихся. Обладая деятельным и общительным характером, а также живым и конкретным воображением, он представлял себе свои планы претворенными в жизнь с такой же легкостью, с какой он их и задумывал[433].
Ему было только 18 лет[434], поэтому он не мог еще осуществлять свою волю в политике[435]; дела, находившиеся, между прочим, в затруднительном положении, были в ведении его воспитателя боярина Бориса Морозова[436]. Что же касается религиозной области, то здесь Алексей считал себя обязанным выполнять функции царя сам.
Будучи впечатлительным и привязчивым, Алексей находился тогда под влиянием своего духовника Стефана Вонифатьева[437]. Последний появляется в истории неожиданно в сентябре 1645 г., причем нельзя строить никаких догадок, хотя бы мало-мальски правдоподобных, о его прошлом[438]. Может быть, он состоял уже при царевиче и раньше, когда последний вступил на престол; Стефан был духовником царя Михаила Федоровича, и он тогда же получил звание протопопа Благовещенского собора в Кремле[439], звание, соответствующее этой должности. Стефан был под стать своему духовному сыну: он также был кроток, тих и скромен и стремился к улаживанию конфликтов. Он умел поучать без высокомерия и прощать без язвительности[440]. Находясь при дворе, он хотел основывать и одаривать скиты и монастыри, он мечтал о тихом благочестивом отдохновении[441]. Он был милосердным: в 1655 г. он воздвиг при церк ви Троицы на Грязех приют для странников[442]. На принадлежащем ему на восточной окраине Москвы участке в приходе Введения в предместье Бараши он открыл приют для нищих[443]. Царский исповедник был важным сановником, который имел в своем непосредственном ведении не только духовенство Благовещенского собора, но также и светских чиновников[444]. Он был окружен некоторой пышностью, необходимой если не для него лично, то для его сана и его влияния. У него были достаточно определенные понятия о церковной политике, и он твердо решил использовать свою власть, чтобы претворить их в жизнь.
Он частично разделял взгляды Неронова и его кружка по Нижнему, частично – соглашался с воззрениями Наседки и его друзей с Печатного двора. Вместе с первыми он предусматривал вообще реформу нравов и дисциплины, начиная с духовенства. Рассматривая вещи с высоты своего положения, со ступеней престола, он желал очень конкретно как убеждением, так и принуждением сделать Московское государство действительно христианским; он желал уничтожить пороки и дать ход естественным добродетелям; требовать повсюду в гражданской жизни уважения к церковным законам; обеспечить церковной службе наибольшую благопристойность и, если возможно, благолепие и пышность; и, наконец, защитить православную веру от западной ереси. Вместе с учеными справщиками он преклонялся перед знаниями и искусными литературными приемами православных Киева и Востока и видел только преимущество в том, чтобы заимствовать у них целые творения или поправлять с их помощью старые русские книги. Ему не трудно было в этом отношении убедить царя, ибо этот последний был воспитан Морозовым в любви к московским традициям. Таким образом, царский духовник и царь составляли одно целое: начинания первого подкреплялись согласием, доверием и восторженным отношением другого.
Другим видным лицом в московском обществе 1647 г. был Никон[445], архимандрит Новоспасского монастыря, который был родовой святыней Романовых. Мальчик из Вельдеманова, воспитанник монастыря св. Макария и ученик Анании, уже сделал к тому времени свою карьеру.
Он очень быстро перешел из Колычева в Москву в качестве приходского священника. Затем, овдовев, наверное, в 1634 г., он удалился в Анзерский скит, находившийся под управлением необыкновенного монаха, аскета Елеазара, который замечательно умел производить сборы для монастыря. Несколько лет спустя его наставник взял его с собой в Москву для сбора пожертвований, где они увидели царя, патриарха и самых высоких лиц дворца. По возвращении он поссорился с Елеазаром, которого упрекал за неправильное использование собранных денег, и перешел, вероятно в конце 1641 г., в Кожеозерскую пустынь. Там был небольшой бедный монастырь, посреди болот и поросшей мхом тундры, отстоявший на пятьдесят верст от ближайшего жилого места. Пожар уничтожил обе церкви, которые были наспех восстановлены. Но незадолго до этого монастырь прославился благодаря святому пустыннику Никодиму, жившему там. Этот бывший московский кузнец жил один в течение 36 лет на расстоянии версты от других келий в необычайной строгости, совершая чудеса, и умер 3 июля 1639 г. На его могиле совершались чудеса. Привлеченный его подвижнической жизнью, боярин Борис Львов прибыл в Кожеозеро и постригся в монахи, приняв имя Боголепа. Никон не сделался членом общины: он поселился, как отшельник, отдельно в келье. Он посещал общежительный монастырь только по субботам и воскресеньям, чтобы присутствовать на церковной службе. Так он пребывал полтора года, затем, несмотря на свой протест, был выбран настоятелем и отправился в Новгород, чтобы там получить сан. Он показал себя хорошим администратором. Он довел наличный состав монахов до сотни иноков. Уже Боголеп и его брат Григорий Львов, думный дьяк, очень обогатили монастырь. Во время же пребывания Никона некая княжна Куракина подарила монастырю серебряный крест с мощами; царь Михаил даровал ему Псалтырь с 10 рублями, деревню с пашнями, луга и рыболовные места, участок земли в Онеге, право закупать что нужно, не платя пошлин в Каргополе и Вологде, а также 2000 пудов соли ежегодно[446]. В начале 1646 г. настоятель Кожеозерской обители прибыл в Москву по монастырским делам. Там его знали. Естественно, он здесь свиделся с духовником Стефаном и, через него или каким-нибудь другим образом, – с царем. Он им понравился и, так как у Новоспасского монастыря не было настоятеля, он был назначен туда архимандритом. В планы Стефана входило наделять высокими церковными должностями испытанных кандидатов[447].
Вера Никона была так же крепка, так же целостна и наивна, как и у всех его современников: в этом отношении он ни в какой мере не отличался ни от Аввакума, ни от Неронова. Он также, как и они, верил, что как светлые, так и темные силы участвуют в ходе событий сего мира. Он слышал Бога, беседовавшего с ним, он боролся с демонами. Он применял с усердием все приемы старой русской набожности: ведь недаром же он состоял под строгим руководством Елеазара, присоединяя еще к его правилу чтение наизусть Псалтыри, сопровождая это чтение многократными земными поклонами. Помимо этого, он обращал на себя внимание своим серьезным и усердным отношением к своим обязанностям. Он любил пышные церковные обряды. Не для того ли, чтобы ускорить постройку большой каменной церкви в Анзере он обвинил своего наставника? Он отображал во всем, вплоть до своей внешности, все величие священства. Для благих целей он проявлял редкую деятельность и энергию. Он обладал всем образованием того времени, он любил книги. Короче, это был блестящий образец того рода людей, которые были нужны в то время.
Что в этой деятельности, в этих частых переездах была известная доля возбужденности, что в этом усердии при выполнении богослужения проявлялась наклонность к расточительному великолепию как к таковому, что в отправлении этих обязанностей было очень мало смирения, что в этом ловком управлении делами была преувеличенная забота о материальных благах, что в этой строгости таилась жажда повелевать и, наконец, что во всей этой карьере священника и монаха было громадное честолюбие – это могло и быть, но все это еще не проявлялось достаточно четко, или, по крайней мере, проходило незамеченным для чистых и благожелательных людей, подобно Стефану и царю Алексею.
Новоспасский монастырь, который чрезвычайно пострадал во время Смутного времени, был как раз в разгаре перестройки. Филарет сначала воздвиг там одну из тех прекрасных шатровых колоколен, которые были тогда в моде; затем царь Михаил даровал колокола, в 1640 г. начали постройку кирпичных и белокаменных стен, в 1642 г. началась постройка монастырских зданий. Наконец, в 1645 г. снесли старую церковь Преображения Господня, чтобы начать постройку храма, более достойного того, чтобы принять останки царей и великих князей. Никон проявил себя строителем. Он не только спешно продвигал работы так, что менее чем через два года все было закончено, но он вдобавок еще вносил свои архитектурные замыслы: центральный купол, роскошно позолоченный, клиросы, кафедры для духовных лиц различных степеней[448].
В то же время он организовал большие крестные ходы. В Хлынове (Вятка) образ Нерукотворного Спаса был ознаменован чудотворным исцелением; после обследования на месте Никон потребовал его в свой монастырь. 14 января 1647 г. эта икона была торжественно встречена у Яузских ворот царем, патриархом и всем причтом и отнесена в кафедральный Успенский собор. Оттуда 19 сентября она была с большим торжеством перенесена в Новоспасский монастырь для освящения нового собора. Несколько позднее Никон написал на Афон, чтобы сделали для него копию знаменитой иконы Иверской Божией Матери, приписываемой письму св. апостола Луки. Уже 22 мая 1647 г. он умолял царя даровать свободный проезд через Путивль грекам, которые везли святой образ. Эта икона прибыла в Москву только 13 октября 1648 г., что послужило еще одним поводом для больших празднеств[449].
Монастырь находился только в одной версте от Кремля. Никон отправлялся туда каждую пятницу, чтобы приветствовать царя при его выходе после утренней службы. Царь Алексей любил разговаривать со столь усердным священником, у которого в то же время был темперамент государственного человека. Добродетельный архимандрит пользовался этими случаями, чтобы ходатайствовать в пользу обездоленных, вдов и сирот. Его биограф повествует, что вскоре царь поручил Никону принимать и передавать ему прошения; позднее эта самая обязанность легла в основу собственного царского приказа[450]. Тут гораздо меньше речь шла о добрых делах, чем о разбирательстве некоторых дел бояр и приказов. Народ роптал против политики Морозова и его ставленников, против нового налога на соль, против подкупов, произвола власти и несправедливостей. Никон, вероятно из-за политических соображений, так же как из желания увеличить свое влияние, дал царю понять всю пользу личного контроля над управлением и выполнением решений, наконец, он показал ему, как государю надо с помощью своих советников осуществлять свои права. В то время как Стефан употреблял свое влияние, чтобы поднять нравы и возродить Церковь, Никон своим дальновидным взором наблюдал за управлением государства.
При дворе находился один светский человек, который, несмотря на свою молодость (он только на 4 года был старше царя), страстно желал приносить пользу. Это был Ртищев. Федор Ртищев происходил из дворянской семьи, одновременно благочестивой, милосердной и культурной. Мать его, Ульяна, была сестрой Спиридона Потемкина, который ввиду того, что он жил в западнорусских землях, в Смоленске, знал латынь и польский язык, изучил греческий и писал богословские трактаты против униатов. Детство его было наполнено учеными занятиями. В церкви он стоял, ни с кем не разговаривая. Когда он читал жития святых, слезы текли по его лицу. Он был кротким и смиренным. Теперь его скромная обязанность «стряпчего» ставила его с утра до вечера бок о бок с царем: он его одевал, причесывал, чистил его платье, смотрел за его одеждой. Так как царь Алексей был обходителен и прост в обращении, они могли друг другу рассказывать о своих планах, о своих желаниях. Замечательно, что у Ртищева была чрезвычайная любознательность ко всему, что касалось религиозных вопросов: московская мудрость не удовлетворяла его, он желал бы обогатить ее всем тем хорошим, что имелось в других странах. Он никогда не упускал случая, чтобы побеседовать с образованным иностранцем. Он ведет диспут с немецкими протестантами[451], с Васькой, крещеным евреем[452], с католиками, как например, с хорватом Крижаничем[453] или с капелланом посла Священной Римской империи Себастьяном Главиничем. По словам последнего, он знал латынь, хотя не умел говорить на этом языке, так как учил его у одного иподиакона доминиканца[454]. В стране, где самый незначительный разговор с иноверцем рассматривался как начало ереси и измены, поведение Ртищева было совершенно исключительное: оно ему прощалось из-за его всем известной набожности и его больших связей.
Но среди всех иностранцев он, естественно, предпочитал западных и южных православных. Эти последние были тоже русские, бывшие и будущие соотечественники, ибо Ртищев предвидел объединение Малороссии и Белоруссии с Великороссией, и он в дальнейшем содействовал этому всей своей дипломатией; у них был приблизительно один и тот же язык с великороссами; по существу, они исповедывали те же истины. Но эти истины они преподносили с высшим искусством Запада. Они усвоили грамматику, риторику, диалектику, поэтику, школьную систему, богословие поляков, столь культурных, столь красноречивых, столь блестящих; они очистили эти науки от латинских ошибок, освятив их греческой верой. К кому же обращаться, как не к ним, чтобы передать Московии знания и блеск, недостающие ей?
Мысль открыть в Москве школу или, менее определенно, центр высшего образования уже носилась в воздухе. Некогда, в 1640 г. Петр Могила, знаменитый киевский митрополит, предложил царю основать в Москве монастырь, в котором монахи киевского братства преподавали бы дворянским детям и выходцам из народа греческие и славянские гуманитарные науки[455]. Последовали тяжелые споры о вере с принцем Вальдемаром и сопровождающим его пастором Фильгабером, которые, по крайней мере порой, давали понять, что знание латыни и греческого также необходимо богословам, как и толмачам Посольского приказа. Наконец, в 1645 г. митрополит Палеопатрасский Феофан посоветовал выписать в Россию «преподавателя грека, чтобы преподавать детям философию, богословие и языки греческий и славянский»[456].
В 1646 г., казалось, уже нашли подходящего человека. Это был грек Венедикт, прибывший без особого приглашения в Москву, преподаватель греческого языка в Киевской коллегии, называвший себя «старшим архимандритом, доктором и богословом Великой Константинопольской церкви». Он расхваливал свою науку, свой успех и свои таланты. Ртищев не замедлил познакомиться со столь ученым мужем: он проявил в отношении его столько наивной, полной восхищения привязанности, что грек, в свою очередь, называл его своим «сыном о Святом Духе», «любимым и мудрейшим государем Федором». Он согласился, чтобы Ртищев стал посредником для передачи Борису Морозову его сочинения относительно семи чаш Апокалипсиса[457]. Однако в это время Венедикт получил уже из Посольского приказа распоряжение об отъезде, будучи уличен, помимо своего хвастовства и своей жадности, в подлогах и попытках кражи[458].
Неудачный опыт с Венедиктом не свидетельствовал против самой мысли пригласить иностранного преподавателя; он доказывал только, что было бы лучше доверяться малороссам, чем грекам. Это становилось все более и более убеждением Ртищева. В небольшой группе друзей, состоящей из Стефана Вонифатьева и Никона, священников известного возраста, царя Алексея и Федора, людей молодых и светских, последний отличался своей страстью к малоросской науке[459].
III Печатный двор
Ртищев имел все данные, чтобы быть посредником между дворцовыми реформаторами и реформаторами Печатного двора. Как мог он не согласиться с человеком, подобным Наседке, всецело проникнутым западной наукой, которую тот умел сочетать с московской религией? Печатный двор был как никогда раньше в расцвете. С 13 июня 1645 г. он обладал роскошным каменным зданием, построенным для него на Никольской улице. Монументальный подъезд, украшенная живописью и скульптурой башня высотой в 3 сажени свидетельствовали об уважении царей к печатному искусству; в нижнем этаже находились два цеха набора и восемь печатных станков; этажом выше были помещения справщиков, редакторов и корректоров. В глубине участка сохранили деревянное строение с четырьмя печатными станками. Прежний корпус, прислонившийся к стене Китай-города, служил складом. Машины были украшены золотом и серебром. Каждая выпускаемая книга была оформлена как произведение искусства[460]. Печатный двор продолжал свою плодотворную деятельность, начатую в 1640 г. Не пренебрегая книгами в полном смысле слова богослужебными, он был занят больше, чем раньше, выпуском новых книг для назидания или образования верующих[461].
27 ноября 1645 г. для праздника 6 декабря появилось второе издание Жития св. Николы[462]; 6 декабря – Святцы, содержащие рассказы о житии святых, так хорошо составленные, что они перепечатывались до последнего времени в толковых Псалтырях, обогащенные житиями большого количества русских святых и описаниями чисто русских праздников[463]. В 1646 г. были напечатаны: Житие св. Сергия, покровителя Московского государства, и Житие св. Саввы Сторожевского, его ученика и основателя монастыря, чрезвычайно любимого царем, так же как когда-то его отцом. Обитель находилась в пятидесяти верстах на запад от столицы[464].
Житие св. Саввы было целиком извлечено из декабрьского тома Великих Четьих Миней митрополита Макария. Житие св. Сергия свидетельствовало о знаменательной строгости и о критическом подходе справщиков. Очень правильно поручили редакцию этого Жития Симону Азарьину, ставшему в тот момент келарем Троице-Сергиева монастыря и являвшемуся прекрасным писателем. Он взял прежнее Житие, написанное Епифанием в 1417–1418 гг. и сокращенно изложенное Пахомием Логофетом с добавлением описания первых чудес, сделал язык более современным и добавил, написав его своей рукой, рассказ о чудесах, зарегистрированных с XV века. Царь распорядился напечатать все полностью. Но работники Печатного двора согласились принять только 35 этих новых чудес, притом неохотно, внеся некоторые изменения, и отвергли остальные. «Они обращаются с истиной, как с ложью, и принимают чудеса за случайность», – утверждает Симон[465].
Служебник, начатый 10 мая 1646 г., был быстро подготовлен – в четыре месяца – и закончен 8 сентября[466]; 5 октября были переданы для напечатания Поучения Ефрема Сирина. Поучения существовали давно в рукописях, их читали, по ним жили в монастырях, но они еще не были напечатаны ни в одной славянской земле, даже в Киеве.
Московские церковные власти желали, чтобы вся тогдашняя интеллигенция была знакома с этой книгой. Книга была издана в большом формате, объемом около 700 страниц; она вышла 1 февраля 1647 г.[467]
Яркие, образные поучения св. Ефрема, изобилующие лиризмом сирийского поэта, несмотря на свою тяжеловесность и порой непонятность перевода, приводили в восторг русских людей того времени[468]. Это была их религия. В ней красной нитью проходили боязнь Господа, неусыпная бдительность, раскаяние, постоянное памятование о смерти, о судном дне, но философская мысль не выступала на первый план. «Кто бо, – восклицали в своем послесловии издатели, – святого сего преподобного отца Ефрема наказания слыша – и не умилися или не прослезися? Или кто внят его словеса – и плоды покаяния не принесе? (…) Блудный вместо блужения приносит целомудрие, лихоиметель – давание и прочая. (…) Сий преподобный отец и блаженный Ефрем своими словесы вселенную удиви и бесчисленые тысящи душ сладостию своих словес к Богу обрати (…). И сего убо ради всяк правоверный христианин, не токмо инок, но и мирянин, прочитая сию книгу, умилится душею и сокрушится сердцем и смирится умом (…) и себе подвигнет на богоугодные детели спасения ради души своея»[469].
В особенности же читатели были потрясены поучениями «О втором пришествии Христове» и «О антихристе», которые были присоединены к Поучениям[470]. Они соответствовали идеям времени: близкими казались конец мира и пришествие антихриста[471]. В захватывающем диалоге, удивляющем читателя вопросами, полными беспокойства, и поражающем точностью ответов с подробностями, исполненными потрясающего полета мысли, Ефрем дополнял Писание и превращал догмат о последних временах в ужасающую действительность, в события, близкие и непосредственно-волнующие. Рядом с ним бледнели другие эсхатологические сочинения: Толковый Апокалипсис св. Андрея Кесарийского, Слово Ипполита папы римского о Христе и Антихристе, Слово того же отца о «скончании мира», видения св. Андрея Цареградского, рассказанные своему другу Епифанию, Слово Мефодия Патарского, «Слово Палладия мниха» – все это были сочинения, из которых извлекали многочисленные выдержки[472]. Фигурировали также лицевой Апокалипсис, Синодики, иллюстрированные многочисленными рисунками, также другие подобные рукописи без специальных названий[473].
Книга Ефрема Сирина была событием. Уже с начала июня издание ее было распродано. Потребовалось, как только окончилось печатание Сборника, предпринять второе издание книги Ефрема Сирина, закончившееся печатанием 29 августа[474]. 1 марта 1647 г. появилось первое московское издание «Лествицы» св. Иоанна Лествичника. Так же как св. Иоанн пленил всю Италию в XV веке, а также и набожных подданных Людовика XIV в переводе Арнольда д’Андильи, эта пламенно написанная и мудрая книга очаровала москвичей[475]. Новый Сборник являлся еще одним сборником, составленным справщиками: он содержал 70 проповедей, извлеченных из сочинений древних отцов церкви и современных духовных писателей, начиная со времен Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста до Григория Великого, Анастасия Синаита и Иоанна Дамаскина[476].
Сотрудники Печатного двора старались всеми способами наставлять и одновременно просвещать читателей. С начала этого 1647 года они, как надо думать, приготовили «Славянскую грамматику» Мелетия Смотрицкого, которая и была передана в декабре на Печатный двор. Заслуга справщиков состояла не только в том, что они перепечатали этот замечательный труд, который впервые отмечал некоторые особенности славянского языка; он внес до известной степени порядок в хаос славянских грамматических форм, указал на разницу разговорного и книжного языка, урегулировал знаки препинания и прописные буквы. Этот труд был призван вдохновлять всех авторов грамматик вплоть до Ломоносова, который издал свой труд в 1755 г.[477] У авторов не только хватило смелости воспроизвести труд ученика иезуитов, ренегата православия, униата, торжественно преданного анафеме Церковью[478]. Помимо внесенных ими некоторых изменений содержания, они прибавили к грамматике и длинное введение, из которого вытекали некоторые чрезвычайно серьезные последствия.
Грамматика, философия, риторика, астрономия и другие науки, как утверждали издатели, были в почете у отцов церкви и культивировались ими. Отцы церкви, по их мнению, считали изучение этих наук необходимым для каждого желающего понимать Священное Писание и вести христианскую жизнь. Если многие благочестивые православные ненавидят и отвергают эти светские науки как гибельные и удаляющие человека от Бога – то это только потому, что они неправильно рассуждают. Они думают только о тех, у кого от этих наук помутился ум и кто возгордился до такой степени, что утверждает, будто имеет право судить во всей полноте о Небе и творении. Но мы различаем добро и зло, мы извлекаем, что полезно для жизни и для религии, и мы говорим, что образование вещь похвальная. В особенности же было бы отвратительной и непростительной ошибкой хвастаться своим невежеством; не следует, как то утверждают некоторые люди, ограничиваться лишь чтением Священного Писания, не понимая его. Необходимо читать и перечитывать трудные места и, если нам не удается их понять, обратиться к более сведущему человеку. Господь, видя наше усердие, дарует нам разумение. Основа всей науки – это грамматика: как можно писать и говорить правильно, не начав изучать ее?[479]
Итак, Печатный двор продолжал все с большей уверенностью выполнение своей задачи: вносить рассудочный элемент в религию с помощью книг, полученных из юго-западной Руси. В вечных дебатах между христианами, которые вовсе не видят в изучении наук и мирской литературы пользы, но опасность для спасения, и теми, кто полагает, что все благородное полезно и что все человеческое не должно быть чуждо человеку, – они стояли за «знание». Они объявили войну не только невежеству в отношении богословских знаний, но и невежеству в отношении светской науки. Это было новшество чрезвычайно дерзновенное, но оно пользовалось несомненной, хотя и неодинаковой поддержкой со стороны Ртищева и царя, Никона и Стефана[480].
IV Первые мероприятия по нравственной и церковной реформе
В этих двух кругах – Кремля и Никольской улицы – уже давно, со времени своих наездов в столицы, вращался провинциальный священник, которого отличали за его деятельность и его смелые начинания и очень ценили за его отношения с церковной верхушкой как его области, так, может быть, и других областей. Это был Иван Неронов. Забота о нравственности и церковной дисциплине превалировала у него над интеллектуальными вопросами. Его требования, равно как и требования его друзей, были те же, что и в челобитной 1636 г. Никто, кстати сказать, против этих требований не возражал, Стефан даже менее, чем кто-либо другой.
Так, накануне Великого поста было получено торжественное предписание патриарха верующим и еще больше духовенству: чтобы во время этого отведенного молитве периода все избегали пьянства и лжи, посещали бы церкви и стояли бы там с трепетом, в молчании, исполненные любви к Богу, отнюдь не перешептывались; чтобы протоиереи и священники служили в облачениях и не позволяли делать никаких сборов во время службы; тем, которые будут себя вести непристойно, и например напьются, будет запрещен вход в церковь; о мирянах, которые нарушат пост и покаяние и не будут повиноваться своим духовникам, требовалось доводить до сведения патриарха, чтобы их наказал царь[481].
Несмотря на то, что обычай стричь бороду считался одной из осужденных латинских ересей[482], было, однако, среди знати и даже среди народа много людей, которые следовали этой чужеземной и бесстыдной моде. К Служебнику, появившемуся 8 сентября 1646 года, было внесено приложение «Еже православным христианам брад не брити»[483].
На следующий год собор высшего духовенства, который, по-видимому, происходил регулярно каждый год во время Великого поста, решил, что в соответствии с канонами должны быть прекращены всякого рода торговля, закрыты лавки, рынки и общественные бани с трех часов дня в субботу при первых же ударах колокола, призывающих к вечерне, вплоть до пяти часов дня воскресенья, также как и в праздники Господские; зимой же, когда день длится только 7 часов, все должно быть закрыто за час до наступления ночи и открыто на следующий день лишь в четыре часа дня; во время крестных ходов никакая торговля не должна вообще про изводиться[484]. Такая мера была совершенно необходима, ибо до этого времени воскресный отдых в благочестивой Москве соблюдался очень плохо: «Во время пребывания нашего посольства, – пишет Олеарий, – мы видели по воскресеньям и праздникам лавки открытыми и замечали, как торговцы торговали, а ремесленники работали у своих станков, ибо, говорили они, только большим господам подобает отдыхать в праздничные дни»[485]. Это постановление было также одной из мер борьбы против пьянства, так как и трактиры и кабаки должны были быть закрыты. Но трудно было заставить выполнять этот запрет, его необходимо было много раз повторять.
14 июня 1647 года было написано письмо патриарха к Герасиму, архимандриту Успенского монастыря в Переславле Залесском (Горицкой монастырь), с требованием соблюдения воскресных дней[486]. 15 марта 1647 г. по просьбе игумена Ильи Пестрикова, только что избранного на эту церковную должность и, следовательно, не имеющего еще должного веса, царь сам напомнил монахам Соловецкого монастыря правило, часто повторяемое и никогда не выполняемое: не держать у себя в кельях крепких напитков под угрозой наказания монастырским начальством[487]. Монахи, оказывается, держали у себя квас, который им подавали в трапезных, чтобы пить его позднее, после брожения, – и, в результате, напивались.
Таковы были усилия, которые пытались пустить в ход, чтобы приобрести уважение народа к нравственным заповедям Церкви. Но они были обречены на неуспех: неудача стольких предыдущих решений свидетельствовала об этом. Народу были нужны не столько постановления, сколько духовные наставники. Вопрос был в том, чтобы поднять уровень духовного сословия. Необходимо было, чтобы священник нашел свое место в государстве. Епископ должен был быть независимым от юридических посягательств или грубостей со стороны воеводы. Священник не должен был ни бояться местных должностных лиц, ни своей паствы. Весь кружок ревнителей был согласен по этому поводу; царь соглашался с этим благоразумным ограничением гражданской власти. Но не кто иной, как Никон предложил и настоял принять первую меру, чрезвычайно дерзновенную, имевшую к тому же символический характер.
Митрополит Филипп умер задушенным в своей тюрьме палачами – опричниками Ивана Грозного в 1570 году за то, что выполнил свой епископский долг, публично отказав дать свое благословение го сударю, осквернившему себя преступлениями и распутным поведением. В августе 1591 г. останки его были перевезены из Твери в Соловки, место его прежнего служения и похоронены без всякого торжества под папертью часовни. В апреле 1646 года царь и патриарх приказали отслужить ночью в память его панихиду, выкопать его тело, облечь его в патриаршее облачение, положить его в новую раку и поставить ее на почетное место в соборе, совершив над ним торжественную службу. Просфоры, вынутые во время совершения обедни, затем должны были быть вместе со святой водой посланы царю и великим княжнам. Отныне перенесение его мощей должно было праздноваться ежегодно с той же торжественностью[488]. Это была канонизация, которая прославляла Филиппа как мученика за независимость Церкви в противоположность царю-грешнику[489].
Оставалась защита против внешней опасности. Жалобы против иностранцев не прекращались. С юга шел беспрерывный поток греческих духовных лиц, балканских, ближневосточных и других, которые приезжали просить у единственного православного царя подаяния для их разрушенных неверными монастырей. Жадность их была беспримерна, их низость давала жалкое представление о восточном христианстве. Часто нравственные качества их были возмутительны: они лгали, занимались торгашеством, подделывали подписи, присваивали себе титулы, которые им не принадлежали; доносили один на другого. Их сопровождало множество клириков и племянников, которые обычно были скрытыми торгашами, еще более бесстыдными, чем их хозяева. Необходимо было перевозить, кормить, поить, осыпать подарками весь этот народ. Их принимали по традиции, по долгу, ибо они якобы привозили мощи святых, дерзостно объявляя их подлинными; охотно покупали их грамоты об отпущении грехов, даваемые без исповеди[490]; но их мало уважали. Старались деликатно сократить число их посещений, указывая им на желательные сроки приезда «каждые 2 года», «каждые 5 лет», делая отбор лиц, удерживая на границе тех, кто не предъявлял особых рекомендаций того или другого патриарха. Но эти инструкции не соблюдались. 19 октября 1646 года последовал указ с предписанием арестовать в Путивле всех попрошаек: могли продолжать свое путешествие после допроса и строгого предупреждения лишь те, кто выявили себя носителями важных политических донесений. Москвичи делали что могли для своей защиты: но вследствие греческой изобретательности и царской доброты запреты оказывались бесполезными[491].
С западными иноверцами действовали менее снисходительно. В 1646 г. 168 крупных московских купцов представили мотивированное и детальное прошение против привилегий, дарованных их иностранным конкурентам. 1 июля правительство Морозова приказало обложить всех, в том числе англичан, голландцев, гамбуржцев и их приказчиков, таким же налогом, как и русских[492]. Церковные власти, со своей стороны, получили право возобновить очень старый запрет, призыв к исполнению которого казался безуспешным во времена патриарха Филарета в 1628 году: ввиду того, что было замечено, что русские, находящиеся на службе у иностранцев, часто доходили, сами по себе или принуждаемые своими хозяевами, до того, что не постились и не выполняли другие религиозные обряды, было официально запрещено первым жить у «неверных некрещеных», а вторым – выбирать себе в услужение людей среди православных. 6 апреля 1647 года первый боярин Посольского приказа Назарий Чистово сделал такого рода уведомление английскому агенту, «гостям» голландским и другим купцам[493].
Как раз весной 1647 г. разразился скандал с Матвеем Шеликом, или Шляковым. Этот богемский граф, происхождения якобы даже королевского, преследуемый католиками и нашедший убежище в Москве, принял православие, женился на единственной дочери Василия Шереметева, прежнего нижегородского воеводы, и получал в течение пяти лет чрезвычайные почести и награды. На самом же деле это был лишь простой офицер в войске какого-то польского графа. Таким образом, появилась опасность доверяться иностранцам, хотя бы и занимающим известные посты и титулованным[494].
Новый царь во всем давал пример. Вскоре при дворе не видно было ни «брадобритцев», ни короткого немецкого платья. В то время как отец Алексея умер частью от горя, что не мог выдать замуж свою дочь за датчанина Вальдемара, Алексей, согласно указанию своего духовника, пожелал взять себе в жены девушку своей веры, своей нации и жениться по старому московскому обычаю[495].
Во всем государственном строе в середине этого века намечались уже признаки широкой реформы. Стремления отдельных образованных людей, взявшихся за правку книг, деятельность правителей, внимательно относящихся к внешней политике, и деятельность пастырей, направленная на спасение человеческих душ, – все эти реформы были теперь объединены в общем деле. Во главе стояла небольшая группа ревнителей, которые рядом с патриархом управляли Церковью: то был «кружок боголюбцев», как они сами себя называли.
V Аввакум в Москве
Молодой приходский священник из Лопатищ был представлен Нероновым Стефану Вонифатьеву и царю. Было бы странным, если бы он не был представлен также и Никону, Ртищеву и другим. Вместе с тем, если бы он видел патриарха, он бы это, конечно, отметил. Но патриарх Иосиф в счет не шел. В нем видели, по обстоятельствам, либо орудие для осуществления своих целей, либо препятствие для них, но лично он не имел веса.
Аввакум пострадал, сам того не зная, за правое дело. Ему объяснили идейную сторону того, что он сделал. Заключения, к которым он пришел самостоятельно или с помощью Неронова, теперь были ему представлены как общая церковная целенаправленная деятельность, в которой ему отводилось определенное поле работы. О высоком достоинстве священника он уже знал: ему дали понять это еще сильнее. Благопристойность богослужения, – он об этом уже старался, допуская, однако, кое-какие старые злоупотребления; теперь его заставили усвоить более строгие правила. Без сомнения, ему сказали, что было недостаточно совершать богослужение только неторопливо, что необходимо было также упразднить одновременное чтение церковнослужителями и ликвидировать нестройное пение. Чтобы убедить его, могли дать ему прочесть то, что об этом ду мал великий Иоанн Златоуст в своих Беседах на Деяния святых апостолов. Прочтя эти проповеди, он устыдился, что не подумал об этом раньше[496]. Подумал ли он тут же о том, что он должен был возмутиться народными игрищами, вожаками медведей, рожечниками? Вполне возможно, что он и задумался над этим, ибо соответствующие запреты Церкви были очень древними. Но воспрепятствовать им своей властью он, может быть, и не решился бы. Если у него и были колебания на этот счет, то его от них избавили.
Представьте себе этого молодого приходского священника, вчера еще одинокого в своем селе, среди грубых людей, враждебных его начинаниям, глухих к его увещаниям, неспособных ответить на его усилия, представим себе этого священника, переселившегося в Москву в 1647 г., перед лицом самого царя, перед лицом братьев-единомышленников, которые были старше его, более опытны, которые теперь все его ободряют, разрешают его сомнения, открывают ему еще более широкие горизонты. Он был полностью приобщен к небольшому кружку единомышленников. Он почувствовал к Стефану Вонифатьеву безграничную любовь и восхищение; он избрал его своим духовным руководителем[497]. Это первое путешествие в Москву, короткое и без происшествий, наложило печать на всю его жизнь; позднее он отметит этот год, как истинное начало своего апостольства, как свое подлинное вступление на путь духовного усовершенствования. Он не узнал ничего нового, но все ему показалось в другом свете: его чаяния оказались более законными, его усилия – более нужными, его страдания – до конца оправданными, его священный сан – еще более священным. Он внутренне изменился[498].
Аввакум был еще слишком молод, чтобы занять высокую должность в иерархии: его покровители отослали его обратно в его приход. Однако нужно было, чтобы, ранее изгнанный, он теперь вновь заставил признать себя. Для этого ему вручили соответствующую грамоту[499]. А Стефан Вонифатьев дал ему два подарка на память: последнюю книгу, которая только что появилась, Поучения св. Ефрема Сирина – для его назидания и назидания других, и образ последнего канонизированного святого, митрополита Филиппа, мученика за выполнение долга пастыря[500].
VI Второе пребывание в Лопатищах
Аввакум уже в сентябре 1647 года[501] вернулся в Лопатищи. Вскоре ему представился случай приложить к делу свой новый вдохновенный порыв. Однажды вожаки медведей, очевидно татары, пришедшие из соседней области, из Сергача или Курмыша, где это искусство процветало еще долго[502], расположились в Лопатищах, чтобы разыграть представление на площади, может быть даже против церкви. Труппа была в полном составе, с масками и музыкальными инструментами: бубнами и домрами. В это время года, когда тяжелые полевые работы были закончены, новость быстро распространилась: «Вот и медведи!» И толпа, стар и млад, бежит радостно смотреть их. Все готово для представления, как вдруг священник выходит и бросается на животных в намордниках, одного «ушибает», отпускает на свободу другого, возвращается к потрясенным скоморохам, срывает с них маски, вырывает у них инструменты и разбивает их на тысячи кусков… Это не произвольное насилие, не гнев, это точное выполнение указаний. Публика при этом непредвиденном зрелище приходит в замешательство: она не помогает своему священнику, но она удерживает себя от грубого с ним обращения, как она, без сомнения, сделала бы несколько месяцев тому назад. Все знают, что Аввакум вернулся из столицы с грамотой от царя или патриарха, благодаря которой ему немедленно были возвращены его церковь и его усадьба.
Ни одно должностное лицо данной местности не посмело приняться за человека, которому оказывала покровительство Москва. Но боярин Василий Шереметев, назначенный казанским воеводой, находился в это время на Волге, направляясь к месту своего воеводства. Он остановился, вероятно, перед Работками, так как у него были владения в этом районе. Это был отец нового помещика Лопатищ, стольника Петра Шереметева[503]. Кто был больше призван, как не эта личность, могущественная при дворе и всесильная в воеводстве, чтобы призвать к порядку этого непокорного священника? Поехать верхом, чтобы предупредить его, было делом одного часа. Он призвал Аввакума на борт своего судна. Боярин Василий был тот самый Шереметев, который в бытность свою воеводой Нижнего при казал бить батогами Неронова при аналогичных обстоятельствах[504]. Недавнее злоключение его дочери с лжеграфом Шеликом[505], получившее широкую огласку, может быть, временно охладило его в отношении иностранцев, но именно только временно, ибо в 1654 г. его снисходительное отношение к полякам благородного происхождения привело его к кратковременной опале, но, так или иначе, ясно, она ему не смягчила характера. Аввакум был преисполнен чувства своей правоты, он не забывал недавних советов и ободрений своих покровителей. Объяснение было, наверное, очень бурным. Но дело было сделано. Все кончилось бы, вероятно, перебранкой.
К несчастью, однако, после того как дело было улажено, боярин попросил этого необыкновенного священника благословить его сына Матвея, который, как всегда, путешествовал со своим отцом. Этот сын, которому шел восемнадцатый год и который был прежним товарищем игр и охоты царевича Алексея, приобрел привычку, бывшую при дворе, – брить бороду. Это был как раз один из моментов, который в Москве привлек внимание Аввакума. Перед Аввакумом был новый случай или показать себя достойным пастырем, или слукавить: он повел себя с боярином, отцом помещика своего прихода, как с первым встречным и был неумолим. Он не только отказал в своем благословении безбожнику, но и начал его беспощадно распекать, обзывая его распутником. Отец не выдержал: он приказал бросить фанатика в воду. Каким образом Аввакум избежал смерти, он об этом не говорит, но он не избежал сильных тумаков[506].
Так Аввакум показал, что он нелицеприятен к кому бы то ни было и что ни один воевода не остановит его перед выполнением его обязанностей так, как он их понимал со времени своего возвращения из Москвы.
Героические схватки с медведями или с сильными мира сего были исключением. Но война против многообразного греха не прекращалась. Священник из Лопатищ не терял ни на минуту из виду свою паству. Он обращался к своим прихожанам с укоризнами, «живыми, непосредственными, личными». Он беспощадно преследовал тех, кто проводил время, посвященное церковным службам, в игрищах или в кабаках, за работой, в путешествиях или в пляске. Когда наступал Великий пост, он удваивал для себя умерщвление плоти и молитвы, а для других – строгость наставлений. Виновные в нарушении его наставлений, глядя на него, были охвачены трепетом и разлетались подобно стае голубей[507]. И для этого у них были все основания, ибо Аввакум не взирал на лица: если он видел, что его увещания и порицания оказываются тщетными, он пускал в ход руки и кнут. Это было его право и его обязанность духовного отца. Мы будем не правы, если вообразим себе его как сплошную елейность, саму кротость: это не было в духе времени. Вспомним скорее о гоголевском священнике, которому хозяин однажды послал 30 рабочих своей фабрики, пьяниц и жуликов; они вышли от священника красные как раки и в продолжение двух месяцев не появлялись в кабаке[508]. Аввакум был такой же закалки, при той оговорке, что он поступил бы, в случае надобности, так же и с самим хозяином.
Его безупречная жизнь и его энергия привлекали к строгому пастырю более, нежели послушание и уважение; ему приписали добродетели, которые Деяния апостолов признают за самими апостолами.
Матери приносили ему своих малюток, когда те страдали желудком, чтобы он их излечил: он лечил их как своих собственных детей, он их смазывал освященным елеем по всем частям тела, произнося предписанную молитву, как этого требовал церковный обряд. Действуя таким образом, он не вводил ничего нового. Он действовал так, сообразно очень старой христианской традиции. Св. Иаков (Иак. 5, 14) советовал больным призывать пресвитеров, чтобы они помолились над ними, помазуя их елеем во имя Господне[509]. Затем Аввакум делал своим маленьким больным растирания живота и спины: он применял после средства религиозного средство медицинское. Единственное средство, к которому он никогда не прибегал – это суеверие: заговоры и колдовские приемы. Порой к нему приводили и взрослых больных: он их лечил таким же способом[510].
К нему часто прибегали за помощью, как к человеку, способному изгонять бесов. В ту эпоху широко допускали вмешательство нечистой силы в наше существование. Стоило человеку потерять разум, начать кататься по земле в конвульсиях, падать и лежать неподвижно, с пеной у рта; стоило женщине в припадке начать икать, начинала ли она издавать непристойные выкрики, в особенности в церкви, в самые торжественные моменты литургии, – во всем этом видели проявление дьявола и злых духов. В результате смут, ужасов, голода, лишений и, сверх этого, злоупотребления водкой, полученной из ржи и плохо дистиллированной, наконец, под влиянием отсутствия гигиены, в особенности женской, в Древней Руси распространи лись нервные и психические заболевания[511]. Бесноватый, обычно, если он был способен вредить окружающим, сажался на цепь, и к нему звали того, кто мог изгонять беса. Аввакум не уклонялся и в этом от своей обязанности.
Что же касается вообще роли сатаны и его тайных посланцев в делах мира сего, то Аввакум в этом отношении по своим взглядам ни в чем не отличался от своих современников: он видел, можно сказать, дьявола повсюду. Он видел его не только духовно, но и во плоти. Он слышал, как дьявол говорил, как он наступал, грозил, пускался бежать и снова набрасывался на свою жертву. Но он видел его не в большей степени, чем видели его Никон, Иларион Суздальский, Симеон Полоцкий и многие другие. Более того, он, что касается одержимости и демонологии, придерживался точки зрения очень здравой и совершенно христианской.
Бог может позволить злым духам искушать человека, внушать ему страх; тогда нужна стойкая вера и молитвенная помощь, чтобы прогнать их. Вскоре после приезда в Лопатищи Анастасия заболела, и так сильно, что ночью надо было послать за ее исповедником[512]. Тем временем Аввакум пошел в церковь за Требником. Там он очутился лицом к лицу с чудесами, напоминающими те, что случаются в домах, где нечисто: он увидел стол, который подпрыгивает; гроб, крышка которого приподнимается; саван, который движется; ризы, которые летают с места на место. Он осеняет крестным знамением все эти вещи, и все приходит в порядок. Это не что иное, как назидание для усиления бдительности против козней врага; дьявол нас подстерегает, не будем этого забывать, прилепимся ко Христу, к Божией Матери и ко всем святым[513].
Может случиться и похуже. Может случиться, что в наказание за какой-нибудь большой грех Бог предает человека злым духам. Тогда эти духи могут окончательно исчезнуть только после того, как провинившийся обретет опять милосердие Божие. Изгнание беса необходимо для начала, но оно не может иметь длительного действия; действует оно, только сопровождаемое покаянием, исповедью и причастием[514]. Заговоры требуют даже для временного успеха полной нравственной чистоты со стороны того, кто их произносит; нужны пост и молитва. Заговоры должны долгое время повторяться с полной уверенностью в помощи Божией.
Вскоре, очевидно после своего возвращения из Москвы, Аввакум, уступая настойчивым просьбам своего двоюродного брата, любителя хороших книг, отдал ему в обмен на лошадь книгу св. Ефрема Сирина, подаренную ему Стефаном Вонифатьевым: ведь ему необходимо было снова обзаводиться хозяйством, так как дом его был разграблен. Это означало по меньшей мере не повиноваться своему духовному отцу, подарившему ему книгу, с тем чтобы он извлек из нее пользу духовную, а не материальную. Это нарушение долга не замедлило получить свое возмездие. Сначала лошадь, затем младший брат Аввакума Евфимий оказались преданными во власть злых духов: лошадь, неизвестно почему, «еле жива стала», брат во время домашнего богослужения упал на пол, испуская ужасные крики. Аввакум сейчас же понял, что зависящие от него существа подвергались страданиям из-за какого-то его большого греха, но из-за какого? Он на всякий случай употребил предписанные средства: святую воду и молитвы Требника. Безуспешно! Он повторил обряд – тщетно. В отчаянии он долго плакал. Наконец, в третий раз он громко прочитал главный текст заклинания св. Василия дьяволу: «Изыди от создания сего и к тому не вниди в него!» Злой дух вышел, однако он не отказался от своей затеи. Он вскочил на окно, затем на ручную мельницу, затем на печь, затем под печь: Евфимий показывал на него пальцем. В Житии состояние и приемы одержимого описаны с точностью почти медицинской – Аввакум преследовал его, кропя его святой водой. Но вот он снова вошел в Евфимия, ибо тот снова начал безумствовать. Однако он проронил драгоценные сведения: он был предан сатане и двум духам тьмы за то, что его старший брат обменял священную книгу на лошадь и что он сам эту лошадь любит. Пусть Аввакум выкупит эту книгу, и Евфимий будет освобожден от злого духа. Однако Аввакум не исправил своей ошибки в течение трех недель, почему – он этого не говорит, – и еще три недели злые духи, несмотря на святую воду и молитвы об их изгнании, продолжали посещать Евфимия. После того, как книга была взята обратно, они окончательно покинули Евфимия[515]. После это го духовного опыта Аввакум уже обладал большей властью изгонять злых духов из других. Еще в своем доме он вылечил служанку, молодую вдову Евфимию. С ней также сделался припадок во время службы. Он читал молитву св. Василия, прикасаясь последовательно крестом к ее окаменевшим членам и каждый член последовательно оживал. Он смазывает ее елеем, и вот она уже совершенно здорова. Лечение столь легкое, что он задается вопросом: может быть, она вовсе и не была одержима?[516] Ему пришлось также иметь дело с двумя другими бесноватыми, которые оба носили имя Василий. Он их держал у себя на цепи[517]. Вот как вел себя один из них, без сомнения, самый характерный. Он брал свои экскременты и запихивал их в рот, повторяя: «Царь, царь, царьки, царьки». Он искажал крестное знамение. Аввакум начал смазывать его елеем. Затем он пускал в ход хлыст, крича: «Твори молитву Исусову, бешенный страдник!». Через три недели лечения, по милости Божией, он излечился[518].
Аввакум только начинал свою практику изгнания злых духов; в продолжение всей своей жизни он будет иметь дело с демонами; он будет все время бороться с врагом за себя и за других. Эти сражения не могли, однако, заставить его забыть одну из больших реформ, которой требовали его уважаемые московские друзья: совершать богослужение «единогласием». Правда, осуществление этой реформы немедленно было невозможно, так как к ней необходимо было приготовить не только верующих, но также и чтецов и певчих. Аввакум, когда требовали обстоятельства, был отважен и требователен, что, однако, не мешало ему быть осторожным и действовать осмотрительно в повседневной жизни. Он поостерегся резко заявить о подобном новшестве. Он обсуждал его, старался убедить: – Вы поете сначала то, что должно следовать, а то, что идет раньше, поете позже. – Повсюду так делают. – Да, но это для того, чтобы поскорее убежать из церкви. У нас нет времени, говорите вы, дома дела! А я вам говорю: ты в церкви, итак, «отверзи от себя всяку печаль житейскую, ищи небесных». Подобного рода речи не всех убеждали. Самые буйные бросались на него, избивали его кулаками в самой церкви. Но он был упорен[519]; он достиг своей цели приблизительно через два года своих усилий, к 1650 году[520].
Церковная служба была и без того длинной, продолжительной, ибо Аввакум выполнял свое служение священника не торопясь; теперь же она сделалась еще длиннее оттого, что певцы и чтецы исполняли свою часть богослужения одни после других, а не вместе. Если его неторопливое служение уже навлекло на него неприятности со стороны власть имущих, что же будет сейчас? Ошеломляющий эффект московских писем давно уже был предан забвению. Гражданское должностное лицо (очень жаль, что он никогда не называет звания этих лиц) пришло к нему с народом, с луками и пищалями. На этот раз он спасся: он призвал себе на помощь Бога, и люди, оцепившие его дом, – повернули обратно. В следующую же ночь за ним пришли от имени того же должностного лица, лежавшего при смерти. Аввакум позволил увести себя в мрачном настроении, будучи почти уверен, что волк его проглотит. Он думал о мученичестве митрополита Филиппа и молился. Но, вопреки ожиданию, он нашел своего противника в глубоком раскаянии; исповедал его, помазал его елеем и вылечил его[521]. Мы видим тут подлинное нравственное чудо, которому нужно верить: человек с таким неукротимым чувством зла, решившийся на подобную выходку против беззащитного священника, был способен заболеть при первых угрызениях совести и думать, что он умрет, если не будет прощен!
Однако этого случая было недостаточно, чтобы уверить Аввакума, что он достиг длительной победы. Несколько позднее нашлись люди, изгнавшие его из его прихода, и на этот раз уже окончательно. Это произошло в конце 1651 года или в начале 1652 г.[522] Были ли это опять представители власти? Были ли это его прихожане, которые не могли больше терпеть строгостей своего пастыря? Времена были смутные: царская служба разоряла помещиков, помещики выжимали из крестьян все, что было возможно; крепостное право было узаконено и жизнь бедняков делалась все тяжелее. Неужели нужно было еще после барщины и отработки налогов проводить лучшие свободные часы своего времени в церкви? В городах и деревнях протест уже назревал. Можно предполагать, что общее трудное положение в Москве повлияло на жизнь Аввакума, вызвав новые злоключения[523].
VII Лопатищи после отъезда Аввакума
Итак, он отряс прах Лопатищ от ног своих. Больше он туда не вернется, также как и в Нижегородскую землю вообще. Хотелось бы узнать, каковы были плоды его усилий? К несчастью, у нас имеются только сведения, записанные князем Иваном Долгоруковым 160 лет спустя. Этот помещик, большого ума, унаследовал 400 душ после своей матери и пожелал познакомиться со своими крестьянами. В 1813 году он отправляется в Нижний и оттуда в «свое село Лопатищи». Мужики, говорит он, живут в достатке, они никогда не считаются с деньгами, чтобы откупиться, к примеру, от военной службы; они щедры по отношению к своему помещику, они несут ему «яблоки из своих садов, мед и медовые пряники и полотна своей работы»; но у них два неизлечимых порока: они сутяжники, всегда готовы исписать кипы бумаги один против других и, почти все, «раскольники». «Церковь заброшена (…) они редко ходят в церковь, некоторые даже никогда (…) Иконостас едва держится; нет должного причта. Священник, хотя он и приходской, благожелательно относится к расколу, иначе он не смог бы ужиться с ними и должен был бы нищенствовать[524].
Если верить князю, Аввакум якобы сумел внушить своим прихожанам глубокую приверженность к выполнению церковных внешних обрядов, даже до такой степени, что, когда последние были изменены, они остались верными им и отвергли новые. Он, видимо, крепко внушил им отвращение к целому ряду пороков, ибо необходимо иметь много добродетелей, чтобы село жило беспорочно и в достатке. Кстати, князь не отмечает в селе пьянства[525]. Аввакум преподал им любовь к свободе и независимости, следовательно, привил им чувство их крестьянского достоинства. Но слишком занятый, вследствие приказов, полученных от своих покровителей, чтобы объявить войну некоторым беспорядкам и заставить соблюдать некоторые правила, он, видимо, лишь в малой степени привил им христианскую любовь, или же его уроки в этом направлении не дали нужного плода.
В 1930 году церковь в Лопатищах была закрыта по приказу властей, и я едва смог разглядеть на пороге беднейшей избы зеленоватую поношенную рясу, из которой выглядывала чья-то голова с растерянными глазами, всклокоченными волосами: без сомнения, несчастный наследник Аввакума, запуганный невзгодами и появлением, всегда тревожным, какого-то иностранца[526].
Глава V Протопоп (1652)
I «Ревнители благочестия» управляют Церковью
Вместе со своей семьей Аввакум направился в Москву вторично. Здесь он нашел своих друзей и рассказал им о своих злоключениях. Ему было уже тридцать лет, из них было десять лет церковного служения: ему можно было доверить одну из тех высоких должностей, с высоты которой возможно было продвинуть реформу. Стефан представил его царю, чтобы назначить его протопопом в Юрьевец на Волге. Это был небольшой городок близ Нижнего Новгорода: таким образом он остался бы в своей родной области. Патриарх подтвердил это назначение. Обычно действовали именно таким образом. Очевидно, вновь назначенный быстро собрался в путь, ибо второе пребывание в столице не оставило в нем никаких особых воспоминаний[527].
Однако ему стало известно о многочисленных событиях, происшедших со времени его последнего приезда в Москву. Кружок «ревнителей благочестия» превратился, до известной степени, в официальный совет, руководивший вопросами религии и совести. Один из его членов, архимандрит Никон, продолжая свое восхождение по иерархической лестнице, 29 марта 1649 года был посвящен в митрополиты Новгородские[528]; это была следующая по значению митрополия на Руси после Москвы, но каждую зиму он возвращался в столицу; там он находился как раз с 21 декабря 1651 года[529]. Неронов был назначен в начале 1649 года протопопом Казанского собора[530], одной из самых главных церквей Китай-города, стоявшей как раз напротив Кремлевских ворот. Царь был всегда очень покорен советам своего духовника, которому он даровал все отличия, способствующие увеличению его власти; последним подарком была камилавка, дарованная ему по случаю праздника Рождества[531].
В провинции лучшие иерархи также благосклонно относились к реформе; среди них были: в Ростове престарелый Варлаам[532], в Суздале – Серапион, в Вологде новый архиепископ Маркел, кроткий и образованный[533], в Троице-Сергиевом монастыре мистически настроенный архимандрит Адриан[534]. Патриарх Иосиф никогда не возражал ни против чего, исключая только единогласие, и после последней, оставшейся без результата, попытки сопротивления в 1649 году он ограничился лишь тем, что утверждал решения, часто принятые без него. Между прочим, он сообщил Адриану после Сергиева дня в конце сентября 1651 года, что он страдает болями в желудке и бессонницей[535]. Таким образом, «боголюбцы», как они себя называли, были фактическими руководителями текущей церковной деятельности, причем они сообщали ей во всех областях необычайные интенсивность и мощь. Они продолжали осуществлять свою смелую программу реформ и церковного морального обновления, вопреки протестам, исходившим как от влиятельных, так и от рядовых священнослужителей; при этом трудности, переживаемые страной, не служили даже для них никаким препятствием.
1648 год был для государства в общем плачевным: пережиты были угрозы нападения со стороны крымских татар в союзе с турецкими янычарами[536]; плохой урожай и народное возмущение, приведшее к кровавым восстаниям с 1 по 5 июня, пожары в большей части Москвы, унижение и капитуляция царя перед толпой и стрельцами; смуты во многих провинциальных городах и, притом, во всех направлениях: в Козлове, в Сольвычегодске, Воронеже, Курске, Пинске, Устюге, откуда были изгнаны воеводы, протопопы, дьяки и крупные торговцы, которых через два месяца пришлось водворять обратно силой оружия; тут же были: созыв Земского собора и поспешная разработка нового Уложения, которое окончательно устанавливало закрепощение крестьян крупными помещиками[537].
II «Книга о вере» и Кормчая. Меры для поднятия образования: греки и киевляне
Все это не помешало 22 июня 1648 года, сейчас же после этих трагических дней, выпустить новую книгу наставлений, связанную с религиозной полемикой, а именно «Книгу о вере единой, истинной и православной»[538]. Тот успех, который обрела эта книга, принимая во внимание все обстоятельства того времени, дает понятие о том большом количестве лиц, которые положительно отнеслись в Москве к Стефану Вонифатьеву и его друзьям: из тиража в 1200 экземпляров 118 книг было продано в первый же день и 850 приблизительно в конце августа месяца[539]. Там можно было прочесть историю Крещения Руси, богословское доказательство исхождения Духа Святого только от Отца; опровержение служения на опресноках; апологию двух видов причастия для верующих; утверждение равенства всех апостолов между собой (против учения латинян); доводы в пользу защиты икон, поклонения святым, молитв об умерших, постов (против протестантов); затем шло несколько бессистемно изложенных статей против униатов и евреев. В заключение была приложена глава об антихристе, конце мира и Страшном суде.
Труд этот продолжал длинный ряд работ, представлявших собой заимствования из Западной Руси. Это была компиляция из разных полемических трактатов, составленных в 1644 году в Киеве неким игуменом Нафанаилом, перевод которых раздобыл Стефан Вонифатьев; однако в последний момент заменили статью об антихристе другой статьей, которой отдали предпочтение; сюда же присоединили несколько страниц о крещении через погружение, извлеченных из дебатов с Вальдемаром. В этом большом фолианте, состоящем из 289 листов, явно постарались написать нечто большее, чем апологию православной веры против врагов, которые были несравненно менее опасны в Москве, нежели в Киеве, Остроге или в Вильне; появилась своего рода полная религиозная энциклопедия, содержавшая массу полезных и интересных для общества сведений, что Стефан прекрасно и понял[540].
Все с теми же назидательными целями 20 января 1649 года был напечатан Малый Катехизис, перевод с Катехизиса Петра Могилы, очень внимательно выполненный и приспособленный к московским обычаям[541]. Это был первый учебник для религиозного образования широких кругов населения.
7 ноября 1649 года справщики передали в печать Кормчую книгу, или просто Кормчую[542]. Это не была совершенно новая работа, ибо с XI века уже существовали рукописные сборники под этим заглавием: но надо отметить, прежде всего, что они никогда не были напечатаны ни на церковнославянском, ни на греческом языках, и потому, что эти рукописи, расширенные и измененные на протяжении пяти-шести веков, очень различались между собой, вследствие чего необходимо было выбрать заново и составить единую книгу по различным источникам, притом книгу, отвечавшую понятиям и нуждам настоящего момента. Работа требовала много знаний, размышлений и времени для своего составления. Поэтому печатание, происходившее, очевидно, одновременно с редактированием, было закончено только 1 июля 1650 года. Кормчая состоит из семидесяти глав, которые делятся на две группы. К первой группе принадлежат: церковное право в собственном смысле, правила Апостолов, также правила семи Вселенских соборов и десяти Поместных с комментариями дьякона Аристина, правила св. Василия Великого и другие правила. Ко второй группе принадлежат: избранные решения императоров, патриархов и византийских законоведов, касающиеся догматов и церковного управления, наряду с комментариями Вальсамона и других известных комментаторов.
Все это было извлечено из древних рукописей, которые воспроизводили на церковнославянском языке греческие сборники Аристина, Арменопулоса и Матфея Властаря, впрочем, в измененной форме и с изменением содержания[543]. Помимо этого, в книгу была добавлена глава 51 «О таинстве бракосочетания» и «О степенях родства, создающих препятствия браку», всецело заимствованная из Большого Требника Петра Могилы, за исключением некоторых отдельных мест; так, сочтено было невозможным в Московии давать благословение бракосочетающимся, не знающим Символа веры, молитвы «Богородице Дево, радуйся» и десяти заповедей[544]. Справщики добавили к книге очень длинное и цветистое предисловие[545], где они объясняли аллегориями самое заглавие Кормчей книги и оправдывали свою инициативу плачевным состоянием церквей, даже кафедральных, не имевших канонических книг; они также добавили к Кормчей книге очень подробный указатель. Таким образом, именно Москва дала Восточной Церкви свой свод канонического права. Работа эта была выполнена с таким старанием и так успешно, что Кормчая, переизданная без больших изменений, служила авторитетом вплоть до самого XIX века.
Эти различные издания показывают нам, что для кружка свет просвещения изливался, несомненно, с Юга еще более, нежели с Запада. Отсвет трудов большого научного центра, основанного Петром Могилой в Киеве с его коллегией Братского монастыря, дошел и до Москвы. Стефан и Наседка, конечно, не были ослеплены этим светом: заимствуя с Юга книги, они согласовывали новые тексты с верованиями и привычками великорусской Церкви; они никоим образом не отказывались от своей независимости. Они не сомневались, что через Киев и через Петра Могилу в старую веру могло проникнуть латинское влияние и засорить ее.
Глава о бракосочетании была переведена Могилой из римского Требника папы Павла V; вновь введенные уточненные различения в отношении формы, существа и совершителя таинства – все это исходило из схоластического богословия; новое оформление катехизиса в виде вопросов и ответов, которое требовало облекать догматы в точные определения, в общем, было заимствовано из определений Тридентского собора; учение о непричастности Богоматери первородному греху и о Пресуществлении хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы, совершаемое посредством слов Христа «Примите, ядите и пиите от нея вси», а не обращением к Святому Духу, доктрины, воспринятые Малым Катехизисом 1649 года, так же как и Большим 1627 года, затем Служебником 1651 года, – все это принадлежало католическому преданию[546].
Но дерзания кружка этим не ограничивались. И в самом деле, 30 сентября 1648 года царь потребовал, чтобы из Киева ему прислали на определенный срок времени ученых, способных «перевести Библию с греческого на церковнославянский язык»[547]. Не получая ответа, он 14 мая 1649 года повторил свой запрос, адресовав его митрополиту Сильвестру Коссову[548] и потребовав присылки двух преподавателей из Киевской коллегии. Коссов прислал Епифания Славинецкого и Арсения Сатановского. Вскоре их устроили на жительство в Чудовом монастыре в Кремле и поручили им разного рода переводы. Сатановский, не знавший греческого языка, переводил с латинского. Когда в начале 1651 года, получив отпуск, он отправился домой, чтобы повидать свою семью, ему поручили найти и привезти предназначенный для проповедников, знаменитый на Западе учебник под заглавием: «О граде царском, или поучение некоего учителя именем Мефрета»[549], который он, по возвращении своем в марте 1652 года, должен был приспособить к славянороссийскому языку. Совместно с «другими монахами» (очевидно, со справщиками Печатного двора) Славинецкий приступил к подготовительной работе по пересмотру Библии. Но в то же самое время его нагружали разного рода другими поручениями: в 1649 году ему поручили работу над Литургией св. Иоанна Златоуста, затем над «Посланием св. Афанасия Александрийского Маркелину о толковании псалмов», над «Стоянием св. Марии Египетской»; в 1650 году ему поручили составление службы в честь новой святой Анны Кашинской, а также службы св. Савве Сторожевскому, составление славяно-латинского словаря по Калепину и, вероятно, также краткого сочинения об убийстве английского короля. Большинство этих работ не было напечатано, но они соответствовали интересам царя и его друзей[550].
В 1649 году Москва познакомилась с другим ученым мужем, привезенным из Киева 27 января Паисием, патриархом Иерусалимским. Это был Арсений Грек, человек лет около сорока. Он был прекрасно принят. Ввиду того, что он не знал славянских языков, царь поручил ему преподавание греческого и латинского языков. К сожалению, популярность его была кратковременна: патриарх, рекомендовавший его, вдруг, когда он переходил обратно границу, изменил свое мнение о нем, обличил его как отступника, принимавшего последовательно ислам, затем унию и способного на всевозможные преступления[551]. В тот самый день, то есть 25 июля 1649 года, когда прибыло письмо из Путивля, Арсений был арестован и подвергся очень настойчивому допросу. Он кончил тем, что признался понемногу во всем, поведав допрашивавшим его поразительную карьеру авантюриста. Родившись в Турции, он потом перебрался в Венецию, затем отрекся в Риме от православия; в продолжение пяти лет изучал там философию Аристотеля и историю; в течение трех лет перед этим он изучал в Падуе медицину. После того, как он вернулся в Константинополь, он «трижды проклял папистскую веру», был монахом, иеромонахом и игуменом. Но какой-то визирь, заподозрив его в соучастии с венецианцами, предал его пыткам, он подвергся обрезанию. Купив себе этой ценой свободу, он поступил на службу к господарям Валахии и Молдавии, примирился с православной Церковью через посредничество митрополита города Янины, затем странствовал по Польше, что продолжалось вплоть до того момента, когда король Владислав, вылеченный им от каменной болезни, не направил его с письмом к Сильвестру Коссову – в Киев. Все это нисколько не помешало тому, что в его багаже оказалось пятьдесят семь прекрасных книг, начиная от Гомера, Плутарха и Иосифа Флавия, вплоть до Иоанна Дамаскина и Кирилла Иерусалимского. Преобразователи на Руси не стояли еще на той точке зрения, что наука выше добродетели: Арсения, закованного в цепи, отправили под конвоем пяти стрельцов в Соловки[552]. Именно о нем и вспомнили в связи с проектом открытия высшей школы: намерение это пришлось оставить[553].
Однако Стефан и царь, по-видимому, не отказались от своего доверия по отношению к киевским ученым. Что же касается Ртищева, то он восстановил близ Москвы, в чудесном месте, расположенном высоко над Москвой-рекой, монастырь, предназначенный исключительно для монахов Малой и Белой Руси, которые захотели бы там обосноваться. И, действительно, их туда прибыло за период 1649–1654 годов очень много. Не все были ученые; нет никаких сведений о том, чтобы они писали что-нибудь или преподавали что-либо кому-нибудь. Но от этой иностранной колонии, объединенной в братство св. Андрея, требовалось в первую очередь, чтобы она основала примерный монастырь, долженствовавший предоставить «убежище странникам и нищим»[554]. Ртищев намеревался также насадить на Руси благотворительные учреждения.
Прибытие киевлян было самым большим событием 1649 года. Желающих пройти их школу было очень много. Это было настоящим увлечением среди русской молодежи, всегда жаждущей знания и ознакомления со всем новым. Многие даже хотели отправиться в Киев, к самому первоисточнику знаний. Ртищев, как известно, получил паспорта для двух из них. Сам же он с увлечением изучал греческий язык. Он набирал учеников и ободрял тех, кто колебался. Но, с другой стороны, как лица, умудренные опытом, люди умные, те, которые морально отвечали за молодежь, так и самые простые люди беспокоились: «Нет ли у этих монахов какой-нибудь ереси?» Изучать латынь значит «сойти с правильного пути». Неожиданное происшествие с Арсением дало новый толчок сомнениям. Некий Лукьян Голосов, ученик киевлян, ушел от них, распространяя против них очень некрасивые обвинения: «Они всех обличают (…) они поносят благочестивых протопопов Иоанна, Стефана и других (…) Это вруны, они нас ничему научить не смогут (…) Сами они не знают того, чему они обещают нас учить». Наряду с двумя последними обвинениями, безусловно клеветническими, первые два также были лишены всякого основания[555]. Однако молодой Голосов, этот хулитель иностранцев, сделавший вскоре карьеру при Никоне[556], распознал в самом зародыше тот роковой конфликт, который в один прекрасный день не мог не вспыхнуть, конфликт между взглядами «благочестивых протопопов» и взглядами новоприбывших, либо не знающих, либо относящихся с пренебрежением ко всем древним преданиям Московского благочестия.
Без всякого содействия со стороны иностранцев, но ускоренным темпом продолжали издавать старые книги: с 1647 по 1651 год было три издания Букваря[557], то есть с 1645 по 1652 г. появилось 9600 экземпляров. Выпущен был Часослов, выдержавший с 1645 по 1651 г. восемь изданий. Вышла тогда же в девяти изданиях учебная Псалтырь[558]. Таким образом, в чрезвычайно интенсивной деятельности Печатного двора не было забыто и первоначальное, и среднее образование[559]. Помимо этого, царь подумывал и о семинариях вроде тех, которые стали только что создаваться во Франции; он писал в своей памятной записке, предназначенной для Собора 1651 года: для рукоположения во священники и дьяконы надлежит выбирать образованных людей, знающих все церковные книги и весь церковный чин, а тех, которые таковыми не будут, нужно обучать в школах с тем, чтобы они могли просвещать христианские души по правилам св. отцов и быть солью земли и светочем мира[560].
III Реформа приходов: пение, «единогласие». Неронов в Казанском соборе
Вопрос о единогласии окончательно созрел лишь в 1649 году. Стефан считал, что царь может вынести его на соборное решение на очередном собрании высшего духовенства, которое должно было собраться, как обычно, в Неделю Православия, 11 февраля. Но он наткнулся на категорический отказ патриарха, который считал, что службы могли исполняться единогласно только в монастырях. Споры были чрезвычайно бурными. Духовник царя пустил в ход резкие выражения, свойственные всем преобразователям: нет больше Церкви в Московском государстве, епископы не пастыри – а волки. Патриарх завопил, что такие слова соблазн: «Церковь? Да она же стоит подобно столпу, поднимающемуся к небу, она непоколебима и нерушима, она верно хранит апостольские правила». Было решено, что во всех приходских церквах Божественная служба будет происходить по-прежнему и что ничего нового введено не будет. Патриарх домогался получить еще преимущества; он добился того, чтобы было возбуждено со стороны Собора особое ходатайство с требованием казни Стефана в силу статьи нового Уложения, наказующего смертью за богохульство[561]. Может быть, этим самым надеялись отделаться от беспокойного кружка? Но он никак не сдавался. Ни Стефан, ни Никон, ни Неронов не подписались под ходатайством. Царь челобитчикам отказал. Может быть, по совету патриарха Иерусалимского Паисия, который все еще находился в Москве, решили передать дело на третейский суд Восточной Церкви. Пользуясь случаем, обратились к Константинопольскому патриарху и с другими вопросами: можно ли совершать Божественную службу лишь с одним или с несколькими потирами, является ли законным второй брак, когда один из супругов принял монашество, действителен ли брак священника со вдовой или с женщиной легкого поведения? Ответ, датированный 16 августа 1650 года, прибыл в Москву 8 декабря. Он благоприятствовал желанию царя и боголюбцам[562]. Тогда собранию духовенства 9 февраля 1651 года было снова предложено единогласие. Постановлено было ввести его как обязательное «как в монастырях, так и в церковных приходах».
Победа была одержана, оставалось только претворить ее в жизнь. И сейчас же были посланы соответствующие распоряжения епископам по епархиям, а епископами – протоиереям и монастырям. В Москве было составлено для следующего издания Служебника пространное Предисловие, излагавшее происхождение единогласия, требуемого к неукоснительному соблюдению, во-первых, по проповедям св. Иоанна Златоуста, далее, св. апостолом Павлом, затем Собором, созванным царем Иваном Васильевичем и митрополитом Макарием и, наконец, ныне окончательно установленного Собором[563].
Но реформа, которая столько стоила духовенству и верующим, не могла быть применена на практике, не возбудив резких протестов[564]. В провинции было легко не повиноваться при условии, что епископ будет смотреть сквозь пальцы, прикинется несведущим относительно распоряжения; дальнее расстояние от столицы было совершенно достаточной защитой даже в отношении властных и ревностных иерархов. Никон предписал, еще до решения 1651 года, соблюдать единогласие в обширной Новгородской епархии, но известно, что еще и в 1661 году оно не применялось в Соловках[565]. В Москве же пример был дан очень давно Стефаном в Благовещенском соборе, Нероновым в Казанском соборе, Ртищевым в его домовой церкви[566] и, очевидно, некоторым числом других священников. Но можно было предвидеть сопротивление со стороны многих: чтобы это устранить, все духовенство было призвано прибыть 11 февраля к «тиуну»[567], чтобы там подписаться под обязательством исполнять церковную службу единогласно. Но вот мы видим, что в этом патриаршем приказе происходят бурные споры: одни кричат, что они приложат руку к документу только в том случае, если царь и окольничьи также письменно дадут свое согласие; им отвечают, что они плюют на повеления Божии и св. отцов. Некий поп Прокопий, только что прибывший из Вятки, обзывал новые решения ересью и лицемерием. Стефану Вонифатьеву приписывали видение Бога Саваофа, в ответ на что Прокопий приводил случай, имевший место с одной простой женщиной, также уверявшей, что она видела Господа во плоти, вслед за чем он [Прокопий] изгнал из нее беса: «Стефан видел дьявола, а не Бога Отца! Кто может видеть Бога во плоти?» За эти богохульные слова Иоанн, молодой священник церкви Гавриила Архангела, друг Стефана, который в той же связи уже пострадал от патриарха, донес 13 февраля на своего собрата[568]. Но сторонники «status quo» не сдавались. Они стали распространять среди народа памфлеты против нововводителей, где они назывались «святошами». Было необходимо им ответить; один из справщиков Печатного двора, Шестой Мартемьянов, взял это на себя, и у нас и сейчас имеется его памятная записка, научная, уравновешенная, снабженная цитатами из св. апостола Павла, отцов церкви, Стоглава, патриарха Гермогена, Книги о вере и так далее, полная благородного негодования против исказителей веры[569].
Если вопрос о единогласии и был хотя бы принципиально решен, было поставлено на очередь еще много других, весьма спорных вопросов, связанных с богослужением. Какофония во время церковной службы не зависела единственно от одновременного выполнения различных частей службы. Некогда, с XI до XIV века, была полная гармония между пением и речью: полугласные, обозначенные в книгах специальными знаками, пелись точно так же, как они произносились. Но в XV веке они почти исчезли из общего употребления: чтобы не изменять ничего в обозначении в книгах, решили их заменить гласными «е» и «о». Сначала, конечно, их пели очень коротко, что нисколько не портило произношения. Затем разница в произношении настоящих «е» и «о» и тех «е» и «о», которые заменили полугласные, исчезла, и передача текста оказалась совершенно безобразно изуродованной.
Слово, состоящее из одного слога, как, например, «днесь», было превращено в «денесе», то есть в слово, состоящее из трех слогов, и стало неузнаваемым. Аористы, кончающиеся на «хом», приобретали странное конечное «о», и частое повторение этой ненужной конечной гласной заслужило всей этой системе наименование «хомония»[570]. На это злоупотребление не было обращено внимания ни во времена Стоглавого Собора, ни позднее, но в данный момент это зло уж чрезмерно бросалось в глаза: царь сообщил об этом Собору 1651 года[571]. Уничтожить «хомонию» было бы средством действительным, средством борьбы с затягиванием служб, вызванным единогласием. Однако никакого решения принято не было. Вместе с тем, Никон ввел уже пение, соответствующее тексту («на речь»).
Но это было не все: были таинственные слоги, которые певчие порой вводили в тексты: «хабува», «ине ине хебуве», «ненена», «аненаики», «терирем». Автор челобитной, некогда поданной патриарху Гермогену, бесспорно доказал, что они были лишены всякого смысла[572]. Как раз в 1651 году инок Евфросин, изучивший пение в Иерусалиме, в Киеве и Греции, написал трактат, где жаловался на то, что в Москве жертвовали Божественными словами в пользу красивых звуков и музыкальных ухищрений[573].
Обычно иностранцы считали московское пение грубым, однообразным, неизящным. «Они поют, не научившись пению, как им в голову взбредет, как им вздумается», – говорит об их пении Павел Алеппский. В действительности, ноты, написанные не на нотных линейках, но «крюками» над строчками текста, указывали только приблизительно длину звука и только с конца XVI века стали указывать на высоту звука; умение передавать музыку приобреталось только путем практики. Что же касается самого пения, оно основывалось на византийской и древнегреческой системе восьми гласов и, следовательно, было в точности похоже на грегорианское пение. При Иване Грозном несколько смягчили суровый характер этого пения, прибавив к единственному голосу, который тогда существовал, еще второй, аккомпанировавший первому[574]. Бас доминировал.
Наоборот, киевское пение было самой гармонией: Павел Алеппский восхищался этим пением, «которое радует душу и целит горести». Оно исходит из сердца и только кажется, что эти нежные и восхитительные напевы выполняется устами, на самом же деле они исходят из самого сердца[575]. Много москвичей находили это пение светским и неподходящим, но другие были от него в восторге. Можно думать, что Стефан и Неронов принадлежали к первым, но Никон и Ртищев не скрывали своего восторга от киевского пения. Царь, который в юности своей очень серьезно изучал церковное пение[576], также дал себя увлечь этим пением, по крайней мере, он принимал его любопытства ради. Он выписал в Москву киевских певчих: 24 февраля 1651 года архидьякон Михаил привез из Киева одиннадцать человек певцов и почти сейчас же за ними последовали другие[577].
Таким образом, в отношении богослужебного пения стояла полная неразбериха; под вопросом были: соответствие музыки словам, способ исполнения и даже самый характер пения. Обязательным стало только единогласие, но вопрос о «хомонии»[578] и о киевской гармоничности остро стоял на очереди и волновал умы.
Служебник 1651 года зарегистрировал предписание читать часы до обедни; он также оформил практику читать молитвы до и после причастия[579].
Другое нововведение, которое коробило консерваторов, как, например, попа Прокопия, заключалось в проповедях, которые произносили в своих церквах некоторые священники. «В наше время, – говорил он, – каждого верующего учили отдельно, а вы, у вас сам черт на душу!». Вполне вероятно, что проповеди были введены в Москве Нероновым: нам известно, что уже в Нижнем он читал получения об отцах церкви. Ему поручили Казанский собор как раз для того, чтобы он проповедовал там Евангелие народу, который постоянно толпился на Красной площади, и он выполнял эту обязанность так успешно, что его пригласили читать проповеди у царя и царицы[580]. Поэтому среди решений, подготовленных Собором 1651 года, было одно, составленное следующим образом: «В воскресенье и праздничные дни, после утрени и обедни, епископы и священники должны поучать верующих о вере, благочестии и о христианской жизни»[581].
Казанский собор был относительно новой церковью без укоренившихся традиций[582]. Неронов сделал из него примерный приход. Сначала он позаботился о внутреннем убранстве. Так, например, 31 мая 1649 года он получил в дар от царя листовое золото, необходимое, чтобы позолотить иконостас, где были иконы праздников, пророков и праотцов[583]. Затем, подобно тому, как было в Нижнем, он устроил на участке, где был собор, помещения для больных и странников; ежедневно у него было двести человек убогих, он их кормил и одевал. Он поднял на высоту служение всенощной, которую необходимо было служить с вечера до 12 часов ночи, в то время как даже в кафедральном соборе ее не служили целиком, что делалось только накануне больших праздников. Красота пения, в котором каждое слово было понятно, благолепие службы, чтение поучений отцов церкви, с пояснениями, даваемыми пылким, растроганным до слез проповедником, – все это привлекало широкие массы. Все хотели сами все видеть и слышать. Не было места не только в самом храме, но даже и на паперти; даже висели снаружи, уцепившись за окна. Тогда Неронов придумал нечто новое: чтобы обучать проходящих, он распорядился написать на стенах религиозные изречения[584]. По своему положению Неронов принадлежал к числу семи протоиереев столицы, но занимал среди них младшее место. Однако в Москве только и говорили, что о нем. Его деятельность была воистину всеохватной. Он вступался за держателей кабаков в Нижнем, очевидно, своих прежних прихожан, обвиненных в присвоении нескольких тысяч рублей, полученных за продажу вина и за подделку приходно-расходных книг[585]. Он обещал Симону Азарьину представить царю уже написанную часть Жития Дионисия из Троицы, общего их наставника[586]. Он продолжал сноситься со своим родным селом, куда вскоре он совершил триумфальную поездку[587]. Среди простого народа слава его была такова, что ему приписывали чудеса: он воскресил мертвого[588].
IV Строгость
В продолжение всех годов 1648, 1649, 1650 и 1651 кружок продолжал со рвением свою кампанию за общественную нравственность. Мы видим, как следуют одни за другими приказы, направленные воеводам, письма епископам, специальные полномочия, данные протопопам, дабы обуздать пороки, распущенность, недозволенные удовольствия, наблюдать за ярмарками, которые подавали повод к стольким соблазнам и грехам. Вот, например, послание в Белгород от 5 декабря 1648 года, предназначенное для многократного прочтения в воскресенье и на рынках с тем, чтобы все его знали. В городе, в слободах и деревнях миряне всех званий со своими женами и детьми да ходят в церковь в воскресенье, дни Господских праздников, дни великих святых, да ведут они себя там скромно, не разговаривая друг с другом во время службы (…) да слушают они советы и поучения своих духовных пастырей (…) да воздерживаются от винного зелия, да не приводят они к себе в дом, к больным и маленьким детям колдунов, знахарей и знахарок; да не следуют они суеверному обычаю купаться лишь в первый день новолуния или после первого грома; да не льют они ни олова, ни воска[589]; пусть не играют ни в кости, ни в карты, ни в шахматы, ни в бабки; пусть не заставляют плясать ни медведей, ни собак; пусть не поют бесовских песен на свадьбах; пусть не дерутся на кулачках и не качаются на качелях; (…) пусть не надевают на себя хари. И, если тебе кто донесет, что имеются где-нибудь домры, зурны, дудки, гусли, хари или всякие другие дьявольские сосуды, вели их изъять и сломать, а потом и сжечь[590].
Меры воздействия были строгими: первое и второе ослушание каралось битьем батогами, третье же – ссылкой. Встречаются также и другие кары: пеня в 2, 4, 6 рублей, наложение цепи, покаяние в монастыре. Воеводе, виновному в небрежении, угрожала опала.
Запрещению подвергалось следующее: несоблюдение праздничных дней[591], игры языческого происхождения с нечестивым пением, которое исполнялось в известные числа на полях или на улице, как, например, «коляды» на Рождество; опасные или буйные игры: кулачные бои, прыжки, игры в кегли, чехарда, кружение; азартные игры или игры, могущие возбудить похоть, показ всякого распутства, как, например, комедии, разыгрываемые учеными зверями; музыкальные инструменты: домры, бубны, волынки; развлечения, где лицо человека теряло свой облик, как, например, переодевания и маскарады, одевание харь; увеселения, противные по своему характеру религиозным правилам, как, например, распутство во время свадеб; суеверие, как, например, вера в существование русалок, в сновидения и встречи, гадание по звездам, по крику птиц и тому подобное; наконец, применение колдовства.
В сущности, все эти запреты отнюдь не были придуманы членами кружка; они содержались уже в Стоглаве, в чине исповеди, в житиях святых, в соборных постановлениях[592]. Они были заимствованы из греческой Церкви, их можно было прочесть, и немало, в Номоканоне, добавленном к Требнику[593]. Нового тут было только настойчивое требование претворить их в жизнь.
В этом отношении пример подавали сам царь и его друзья. Вопреки традициям, брак царя Алексея с Марией, дочерью стольника Милославского, был отпразднован 16 января 1649 года без игр, без зурн и бубнов; только одни певчие исполняли религиозные песнопения. Спокойствие, радость и порядок были так прекрасны, что присутствующие были поражены. Летом 1647 года один из первых сановников двора, Семен Стрешнев, подвергся опале и был выслан в Вологду за то, что предавался колдовству[594].
Однако матерью всех пороков было пьянство. Уже давно против него метали громы и молнии; тем более теперь о нем стали упоминать во многих постановлениях, оно стало единственной темой многих других распоряжений[595]. Пьянство преследуется и в среде мирян, и еще более среди черного и белого духовенства. Но все это оставалось одной только писаниной до тех пор, пока не принялись за самый корень зла, то есть за кабаки. Стефан и его друзья это поняли, а Никон в особенности принял это дело близко к сердцу.
Надо было уничтожить систему, вследствие которой само государство способствовало употреблению спиртных напитков. В каждом сколько-нибудь значительном поселении был один или несколько кабаков, либо взятые на откуп, либо просто государственные, которыми широко пользовалось население[596]. В первом случае откупщик, заплатив должную сумму государству, считался свободным торговцем, могущим в дальнейшем пользоваться доходом в свою пользу; во втором случае, кабатчик обязан был, под угрозой наказания, каждый год не представлять в казну меньшей суммы, чем та, которая была получена в предыдущем году. Он, следовательно, стремился увеличить доход; он открывал временные винные погребки по случаю праздников, продавал в кредит и под залог; короче, всячески обирал свою несчастную клиентуру. В кабаках в воздухе буквально висели ругань и кощунственные слова, начинались ссоры, кончавшиеся иной раз трагически, задумывались убийства и грабежи. Перед кабаком останавливались поводыри медведей и игрецы с запрещенными инструментами. Во время церковной службы кабак соперничал с церковью. Кабак разорял, опустошал села и целые волости. Но монополия продажи спиртных напитков питала государственный бюджет. Невзирая ни на что, кружок боголюбцев принялся за кабак, и царь дал ему на это свое согласие. Борьба началась с Москвы: кабаки были заменены несколькими, или, может быть, только одним кружечным двором, где не пили больше «распивочно», а только продавали вино на вынос; однако относительно этого мероприятия у нас имеются только косвенные сведения, исходящие от Никона.
Убедившись во время своих поездок в 1651 году в преимуществах кружечного двора над кабаками, Никон испросил у царя разрешение провести подобную реформу и в Новгороде: «Пусть будет только один кружечный двор и какова бы ни была выручка, не преследовать никого за нехватку, лишь только большое количество кабаков не опустошило бы совершенно славный город Новгород». Немедленным доходам казны митрополит противопоставлял длительное благоденствие страны. Приказы попытались прибегнуть к компромиссу: закрыть кабаки и заменить их одним кружечным двором, но с тем, чтобы выручка не была ниже предыдущей и даже превосходила бы ее. А пока что продажа вина должна была быть прекращена на время Великого поста и Пасхальной недели. И действительно, продажи не было, начиная с 24 марта по 7 апреля, несмотря на заявления откупщиков, утверждавших, что Пасхальная неделя была самая доходная за целый год. Никон написал в Москву, что он не считает себя удовлетворенным, и снова подал соответствующую челобитную[597].
Тогда произошли совершенно поразительные события: 12 июля 1651 года, в память своего отца, царь Алексей освободил от «правежа» кабатчиков, долг которых не превышал шести рублей, вознаградив за свой счет должников[598]. Несколько позднее заведующий Монетным двором признался царю, что он недавно утаил 15 000 рублей, добавив, что он их возвращает в настоящий момент с процентами[599]. Кабатчики, заключенные в Москве в покаянной избе за неплатеж, согласились между собой преподнести тюремным церквам книгу Пролог[600].
V Духовенство занимает первое место в государстве
В христианском государстве духовенство должно занимать первое место. Древняя Московия, при великих князьях, конечно, знала до известной степени дискуссии относительно отношений между церковью и государством, но фактически царь и митрополит действовали совместно. Царь был защитником справедливости и православия и светской десницей Церкви; именно он созывал соборы и принимал участие в назначении митрополита. Митрополит был подданным царя, но он направлял его на путь веры и христианской нравственности: митрополиты Петр и Алексей в высокой степени способствовали созданию Московского государства. Позднее, во время царей, это согласие никогда не нарушалось, но гражданская власть с течением времени стала доминирующей. У церковной власти оставался только идеальный моральный авторитет, недостаточный, однако, чтобы обуздать такого государя, как Иван Грозный; авторитет этот в значительной мере ослаб во время Смуты[601]. Если Филарет разделял со своим сыном Михаилом почести и функции верховной власти, то это было сделано для того, чтобы совершенно подчинить государству бюрократически организованную церковь. Представление же об этом кружка ревнителей было совершено противоположным; по его мнению, государство должно было быть подчинено церкви. В виду того, что царь был членом кружка, конфликта не могло быть. Поэтому кружок сначала не счел нужным восставать против соответствующих постановлений Уложения, которые, подчиняя монастыри гражданскому приказу, ощутимо ограничивали права духовенства. Это казалось неважным, ибо царем ведь руководил Стефан Вонифатьев, ибо царь ведь набирался каждую пятницу добрых советов Никона, ибо царь ведь слушал с благоговением поучения Неронова. Вопрос ставился не о принципах, а о реальной конкретной жизни. Во всем том, что их волновало в политике, ревнители добивались своего. Следовательно, церковь, по их мнению, обрела в государстве свое естественное место. Поворот в сторону новых концепций наметился не со стороны ревнителей, а со стороны патриарха.
Тогда как во время предыдущего царствования оставляли на произвол судьбы православных, уступленных по Столбовскому перемирию Швеции[602], теперь царь Алексей отказывался вернуть обратно тех, кто искал на русской земле убежища от преследования лютеран. Он предпочитал частично выкупать их за наличные деньги, частично же за зерновой хлеб. И вот, 27 февраля 1650 года мелкий люд Пскова, недовольный тем, что в Швецию отправлялось столько хлеба, в то время как в самой Руси народ из-за неурожая терпел голод, направил архиепископу и воеводе жалобу. Это было началом настоящего возмущения, которое повторилось в Новгороде две недели спустя по той же самой причине. Новгород скоро успокоился благодаря объяснениям царя и присутствию духа митрополита Никона. Этот последний сумел сохранить за собой, несмотря на Уложение, все права юрисдикции, касающиеся духовенства и лиц, находившихся в зависимости от монастырей[603], и даже сумел избавиться от некоторой зависимости в отношении воевод[604], поставив свою власть на еще неведомую высоту. Во время беспорядков он представлялся подлинным представителем центральной власти, заменяя бессильных воевод, переписываясь с царем, рекомендуя умеренность и милосердие. Так как он был государственным деятелем так же, как и главой церкви, то популярность его от этого только увеличивалась. И наоборот, в Пскове, где не было человека такой закваски, восстание продолжалось[605]. Ввиду того, что воеводы потерпели неудачу, царь поручил духовенству привести мятежников к повиновению: 12 июня 1650 года царь предложил патриарху послать к восставшим протопопа Михаила Рогова и архимандрита Сильвестра, дабы они умолили псковитян открыть ворота города и выдать зачинщиков, под угрозой отлучения от церкви. Иосиф повиновался на следующий же день, но признался, что он не упомянул об угрозе отлучения не из-за неповиновения, но единственно из-за боязни преждевременно лишить надежды на прощение виновных; если же они будут упрямиться, то он не замедлит «со всем духовенством вкупе» предать их анафеме и навсегда отлучить их от общения церковного.
Эти слова имели своей целью ясно дать понять царю, что только одна церковь была вершительницей такой меры наказания, как отлучение, и что не царю надлежало давать ему об этом приказ[606]. Если царь в этом деле действовал согласно со своим духовником Стефаном, то получилось, что последний в этот день споткнулся об тот самый принцип главенства, который он проповедовал.
Превосходство церкви должно было выражаться некоторой внешней пышностью. Увеличили число торжеств и крестных ходов. 7 ноября 1649 года был причислен к лику святых Кирилл Новоезерский, основатель монастыря близ Белозерска[607]. В небольшом городке Кашине, к северу от Москвы, бережно хранили могилу княгини Анны, почитаемой за то, что она отвратила нашествие поляков во время Смуты, а также за чудесные исцеления, совершенные ее заступничеством. По приказу царя 21 июня 1649 г. архиепископ Тверской отправился в сопровождении двух игуменов осмотреть мощи княгини Анны и нашел их нетленными и неврежденными. На следующий год царь самолично отправился в Кашин, чтобы принять участие в перенесении мощей в новую церковь, выстроенную специально, чтобы принять их. Имела место торжественная канонизация[608]. 22 августа 1650 года было установлено празднование образа Грузинской Божией Матери, и в честь ее была составлена особая служба[609].
25 октября 1650 года ввиду недорода, появления саранчи, наводнения и пожаров, падежа лошадей и скота повсюду был издан приказ строго и неукоснительно поститься в продолжении Филиппова поста, усердно посещать церкви и читать за обедней, а также всенощной особые просительные ектении[610]. Были также обнародованы правила о благоговейном поклонении Святым Дарам при встрече с ними на улице. «Когда священник выйдет из церкви с тем, чтобы нести больному причастие, перед ним должен идти дьячок со светильником, с десятком прихожан в качестве охраны, которые добровольно предложат свои услуги страха Божьего ради и в надежде на милость Его. (…) прохожие же, будь они пешие или конные или в повозках едущие, должны уступать дорогу, поклониться Святым Дарам[611] и воздать им должное почитание». 16 января 1652 года царь с царицей, с патриархом Иосифом и митрополитом Никоном в сопровождении 13 бояр, 10 окольничьих, 100 стольников, 50 стряпчих и 65 дворян направились в Звенигород, чтобы присутствовать при извлечении из земли останков св. Саввы. Можно себе представить всю торжественность подобного извлечения из недр земли останков святого, затем перенесения его мощей в собор и патриаршее служение! Все это состоялось 20 января[612].
Как раз ко времени этой установки на особое церковное благолепие и относится возвышение многочисленных монастырей до положения первоклассных, управляемых архимандритами. Без сомнения, Никон со своей страстью внешне возвышать церковь где только можно способствовал этому: в его Новгородской епархии в течение только одного 1651 года игумены монастырей Соловецкого, Успенского Тихвинского, Николо-Вяжицкого и Антониевского были рукоположены в архимандриты[613]. Также стали архимандритами в 1649 году в Ростовской епархии игумен монастыря св. Кирилла Белозерского, в 1651 году в Вологодской епархии настоятель Спасо-Прилуцкого монастыря и, наконец, в 1650 году в игумен монастыря св. Саввы Сторожевского[614]. Это движение продолжалось еще и в 1652 году. Архимандрит облачался посреди церкви, стоя на орлеце, небольшом круглом коврике, предназначенном для епископов, носил митру и посох, благословлял дикирием и трикирием, что увеличивало пышность богослужения. Между прочим, этот сан был более авторитетен и для гражданских властей. В городе, где не было воеводы, архимандрит и протоиерей могли оказывать громадное влияние.
VI «Ревнители благочестия», возведенные в епископский сан и назначенные протоиереями
Чтобы осуществить свое влияние в желаемом им направлении, боголюбцы твердо решили сами намечать кандидатов на церковные должности. Можно с уверенностью сказать, что все посвящения, имевшие место начиная с 1646 года, в саны архиерейский или протоиерейский или назначения на высшие монастырские должности выпадали на долю духовенства из среды боголюбцев. Многие из них впоследствии проявили себя как замечательные люди.
Мы уже видели, как Неронов начал свое священство в Москве. Вскоре он указал на своего прежнего сотоварища по Нижнему – Тихона, подписавшегося под челобитной 1636 года и подвизавшегося уже четыре года в Киево-Печерском монастыре, как на подходящего архимандрита для этого самого монастыря, значение которого было велико. Это было необычайное повышение, но на этом дело не остановилось: 18 января 1651 года Тихон был назначен в монастырь св. Даниила Переславского, монастырь, может быть, менее значительный, но находившийся гораздо ближе к столице[615]. Впоследствии, когда начались гонения, он остался осторожным, но верным другом ревнителей, и если нам теперь известна его деятельность только по канонизации св. Даниила в 1652 году, то это вовсе не значит, что он не способствовал общему делу. Очевидно, в это же самое время из Переславля был вызван Феоктист, ученый инок, писатель, человек очень активный; вызвали его, чтобы управлять Иоанно-Златоустовским монастырем, правда, второстепенным, но зато расположенным в самом Китай-городе[616] у Мясницких ворот.
В 1647 году на страницах истории появляется Корнилий, игумен монастыря св. Макария Желтоводского. Там он пробыл очень короткое время, еще более короткое у Богоявления в Москве. После этого 10 января 1650 года он был назначен самим царем казанским митрополитом. Вскоре он будет рядом с Нероновым и Аввакумом, покажет себя весьма требовательным в своей епархии и, не поднимая вокруг этого особого шума, воздержится от проведения у себя никоновых новшеств[617]. В монастыре св. Макария ему наследовал 8 ноября 1649 года Иларион, сын попа Якова, товарищ детства Аввакума, бывший священник в Лыскове, навлекший на себя из-за своих строгостей те неприятности, о которых уже было сказано: этот последний в дальнейшем жестоко разочаровал своих друзей, но доказал, во всяком случае, всей своей деятельностью редкую активность и редкий ум[618].
Оба других кандидата на Казанскую митрополию в 1650 году были недавними архимандритами: Сильвестр с 1648 года в Андронниковом монастыре и Ферапонт с 1649 года в Чудовом[619]. В Кострому в 1648 или 1649 году архимандритом назначен был Герасим, бывший келарь Богоявленского монастыря, известный строитель храмов: он был молод и выказал себя весьма усердным хранителем веры и нравственных устоев[620]. Позднее он был даже обвинен в «расколе»[621]. У кружка были единомышленники даже в женских монастырях: во Введенском монастыре в Вязниках, например, настоятельницу Марфу хорошо знали Корнилий, Стефан и Аввакум[622].
Архиепископ Тобольска и всея Сибири Герасим умер 16 июня 1650 года; Неронов рекомендовал на его место бывшего инока монастыря св. Макария Симеона, которого уже возвели в сан игумена Пафнутьева монастыря в Боровске. Это был решительный человек, чрезвычайно проникнутый сознанием всего достоинства епископского сана, очень строгий относительно нравственности, он любил книги и чтение. Он был посвящен 9 марта 1651 года в присутствии царя[623]. В Пафнутьев монастырь в октябре был назначен другой уроженец Нижегородской земли, Павел, сын священника в Колычеве. Он сделался в октябре 1652 года епископом Коломенским. Непреклонный и упорный, он, когда произошло церковное разделение, остался непоколебимым в своей верности своему покровителю и умер первым мучеником за старую веру[624].
Когда освободилась епископская кафедра в Рязани, Никон предложил назначить на нее Мисаила, простого монаха Воскресенского Деревяницкого монастыря близ Новгорода; он и был посвящен 13 апреля 1654 года. Это был иерарх совершенно в духе ревнителей благочестия: сам скромный, он любил вместе с тем церковное благолепие, торжественность в службе, богатые облачения; он заказал себе митру из горностая, украшенную золотом, жемчугом, эмалью и драгоценными камнями, оцененную по ценам того времени в тысячу рублей; он был требователен по отношению к хору, чтобы он был безупречен в исполнении песнопений, и сам прекрасно пел.
Мисаил отличался от всех епископов того времени своим рвением к организации миссий, которые он направлял в языческую Мордву. Мордвины были на юге его епархии очень многочисленны. Он умер мучеником своей духовной ревности в 1656 году[625]. Миссия входила в программу боголюбцев: Предисловие к Номоканону, добавленное к Требнику 1651 года, подтверждает это[626].
17 июня 1651 года был назначен архимандритом Спасокаменного монастыря, близ Вологды, игумен Александр, которого привели из его бедного Коряжемского монастыря, находившегося в лесной чаще из кедров и сосен северного Урала[627]. Прежде чем стать настоятелем, он прошел в этом монастыре все последовательные стадии иноческого служения, начиная с послушника, затем монаха, казначея. Он был кроток, благочестив, любил уединение и, помимо всего, был очень сведущ в старых книгах. Этот Александр, сделавшись в дальнейшем епископом, стал сознательным противником никонианских новшеств[628].
Если мы довольно точно осведомлены относительно видных иерархов черного духовенства, то мы не можем сказать того же относительно белого духовенства. Но судьба тех из них, кого история раскола вывела из неизвестности, позволяют нам строить определенные догадки, что боголюбцы назначали также много протоиереев и даже священников. Настоятельство собора в Костроме было поручено Даниилу, очевидно, вскоре после 1649 года[629]; в Темникове, небольшом городке на южной окраине Московского государства, в центре мордовской земли, мы встречаем в 1652 году другого Даниила[630]. Неизвестно, какого числа Конон был назначен в Нижний Новгород, а Никифор Антонов[631] в Симбирск[632]. Некий Михаил в декабре 1660 года был уже «старым галичским протопопом»; его упоминает как свидетеля против новых книг поп Иродион; в 1664 году он окажется в сношениях с Аввакумом и дьяконом Федором[633]. Ясно, что то были боголюбцы.
Все поименованные города принадлежали к патриаршей епархии[634], на которую кружок оказывал непосредственное влияние. Также и в других епархиях имели место назначения протопопов – ревнителей благочестия. Мы видим это, например, в Муроме, который тогда зависел от Рязани. Тут Мисаил призвал на служение в собор Рождества Пресвятой Богородицы Логгина, сына деревенского священника, который скоро стал довольно широко известен[635]. Варлаама, митрополита Ростовского, уговорили послать в Ярославль, город, занимавший в то время очень ответственное положение[636], протопопа Ермила, родственника Неронова[637], «давнего друга» Аввакума. Это был человек, готовый как будто воинствовать за церковь, но слабого характера, не смогший устоять против неотразимой воли такого человека, как Никон[638].
Одной отличительной чертой этих назначений, и притом чертой не случайной, было то, что каждый из назначенных, вступая в отправление своих обязанностей, либо обращался, если он был епископом, к своим пасомым с пастырскими посланиями в защиту реформы, либо, если он был протопопом, вводил эти реформы в своем соборе сам.
Мисаил Рязанский, рукоположенный 13 апреля, не задержался в столице, и 13 мая 1651 года он оказался уже в своей епархии, где сейчас же обратился к духовенству и к верующим с приветственным посланием, где метал гром и молнии против пьянства, одновременно напоминая, что Божественная служба должна совершаться по всем правилам и единогласно, угрожая сместить упорствующих священников и дьяконов и заменить их более выдержанными и более добродетельными; далее он требует точного соблюдения правил относительно постов, исповеди и причастия, издает предписания относительно рукоположения в духовный сан. «Не присылать мне, – говорит он, – слишком молодых ставленников, ни плутов, ни пьяниц»; он запрещает «пещное действо» накануне Рождества и качели в Петров день, повелевает дьячкам и пономарям носить однорядку, черную или серую, вместо зипуна с воротником, как носит мордва, исключает из числа служителей церкви священников и дьяконов вдовцов, женатых вторым браком, и, наконец, снова принимается за пьянство[639].
Симеон по приезде в Тобольск в первом же письме к царю отдает ему отчет о состоянии епархии и сообщает, что он во всех церквах приказал совершать богослужение единогласно и разослал соответствующий приказ священникам во все сибирские города. Одновременно он предлагает учредить три новых собора с протопопами, помимо единственного существовавшего в Тобольске[640].
В Новгороде Никон продолжал реформу по всем направлениям. Что касается богослужения, то, помимо единогласия, он напоминает соловецким монахам правило, которое обязывает их снимать в некоторых случаях скуфьи, и запрещает им примешивать в тесто для раздаваемых просфор ржаную муку[641]. Он чрезвычайно строг в отношении всего, что касается дисциплины духовенства, требует привода издалека провинившихся, чтобы держать их на цепи под своим надзором, отрешает их от должности и безжалостно отлучает их[642]. Что касается быта, то, помимо пьянства, он принимается, например, за старый обычай поединков, где противники орудовали дубинками с оловянными булавами; раз навсегда пресекает их, приказывая изъять эти дубинки и сжечь на глазах у всех как дьявольские орудия[643]; он не ограничивается тем, что кормит во время голода голодающих, но открывает еще и четыре приюта для сирот; он не только посещает тюрьмы, но и освобождает несчастных, заключенных там без всякого основания. Царь облек его специальными правами, чтобы контролировать действия гражданских властей[644].
Едва только Павел обосновался на своей епископской, наискромнейшей во всей Руси кафедре в Коломне, как у него завязались конфликты с приказными царя. Поп Максим из Ефремова был приговорен воеводой Данилой Карповым к тому, чтобы заплатить дворянину Свириду Поволяеву шесть рублей. Поп пожаловался своему епископу. Епископ Павел написал благочинному в Ефремове приказ всем священникам не допускать в церковь воеводу с семьей, а равно и всех его дьяков. Затем Павел самолично отправился в Ефремов, чтобы взять под свое покровительство Максима. Ввиду того, что этот поп Максим, по крайней мере по словам воеводы, был человеком очень грубым и поэтому не особенно достойным, Павел, очевидно, защищал в нем скорее права духовного сана, чем человека как такового[645].
Игумены, архимандриты, протопопы не пишут распоряжений, а действуют. В Костроме Герасим и Даниил преследуют пьяниц и скоморохов[646]. В Муроме красноречивый, неукротимый Логгин вводит проповедь: он объясняет Евангелие и бичует пороки[647].
Под влиянием боголюбцев во всей Московии началась великая битва. С одной стороны, был необычайный энтузиазм, рвение, граничащее с ригоризмом, налагающее на мирскую жизнь тяготы монастырской аскезы[648]. Повсюду воспевают новых святых, пишут их жития, составляют в их честь службы, строят обширные церкви с многочисленными куполами, великолепно украшенные фресками и иконами[649]. Становятся все более и более требовательными в отношении пения, вырывают друг у друга книги Печатного двора. С другой стороны, прежнее равнодушие противопоставляет ревнителям пассивное сопротивление; в результате страсти разгораются, поднимается оппозиционное настроение против духовенства: «Церковь! Да ведь она наша, мы в ней играем», – говорят мальчишки; «Мы в ней пируем», – говорят взрослые. «Поп, служи свою обедню, а нас оставь в покое» – «Твой митрополит тебе приказывает – прекрасно! Мы же – царевы люди»[650]. Реформаторы находятся в затруднительном положении. Возмущение, вызванное многими причинами, бурлит: тут и дороговизна хлеба в городах, и тяготы налогового обложения, которые становятся все более ощутимыми, тут и меры, предпринимаемые помещиками против дотоле свободных посадских людей, и усиление крепостничества. Родес писал весной 1650 года: «Едва пламя восстания погаснет в одном месте, как оно вспыхивает в другом. Можно сказать, что повсюду под холодным пеплом таится скрытое пламя»[651]. Но ревнители идут своим путем. Они твердо следуют задаче, которую они себе наметили.
VII Великий пост 1654 года
Из года в год, в особенности с момента возникновения кружка боголюбцев, религиозный подъем при приближении Великого поста все увеличивался. В 1652 году Пасха выпала на 18 апреля; Пятидесятница начиналась 1 марта. Архиереи направились в Москву на очередной Собор, приуроченный к Неделе Православия: на этом Соборе вместе с Никоном, прибывшим из Новгорода еще на Рождество[652], присутствовали ближайшие помощники патриарха, митрополиты Серапион Крутицкий, Корнилий Казанский, Серапион Суздальский, Варлаам Ростовский, Маркел Вологодский, Мисаил Рязанский и Михаил, митрополит Сербский[653]. 8 марта состоялось первое заседание.
Главный вопрос, поставленный в повестку дня, по-видимому, касался опасности, которую представляли собой иностранцы: их приезжало в Московию все больше и больше; то были военные, купцы, всевозможные мастера, дипломаты. Те, которые были в Москве только проездом, были менее опасны, но другие устраивались на Руси на житье надолго; покупали дома, получали их от царя в награду за свои услуги, а также земли, заселенные крестьянами. Все они были знакомы с техникой, дотоле неведомой на Руси, почитали себя безгранично выше русских; однако же сами они по большей части были только хищными авантюристами, морально неразборчивыми и без всяких религиозных убеждений. Их поведение возмущало московское общественное мнение. В 1649 году пришлось запретить пребывание внутри страны английским купцам, привозившим это проклятое зелье – табак[654]. Полковник Лесли, шотландец, бывший на службе у царя Михаила и очень осмотрительно стушевавшийся после падения Смоленска, снова в 1647 году был принят на службу. Он тут же получил где-то на Волге в дар имение; его жена, помимо всякого рода жестокостей и невыносимых притязаний, заставляла прислугу есть собачье мясо, и как раз в пост; в один прекрасный день она дошла до такого бесстыдства, что бросила в огонь икону; сам же полковник с одним из своих гостей, неким лейтенантом Томпсоном, забавлялся стрельбой, целясь в крест посадской церкви. Это было уже сверх всякой меры: власти обратили внимание на жалобы крестьян, и нечестивцы были арестованы[655]. Расследование этого дела, шедшее как раз во время заседания Собора, естественно оказало свое влияние на его решения. Старый закон, часто остававшийся втуне, касавшийся запрета любому православному служить у «некрещеных» иностранцев, был снова торжественно возобновлен, причем нарушителям запрета за первое ослушание угрожало наказание батогами, за второе – кнутом, за третье еще кнутом с урезанием обоих ушей, с ссылкой в Сибирь. Помимо этого было постановлено лишить иностранцев-неправославных их имений, пусть они принимают крещение![656]
В донесениях Родеса, торгового агента королевы Христианы, очень умного и прекрасно осведомленного дипломата, слышится отголосок того волнения, которое было вызвано этими мерами в московской колонии иностранцев. Указ относительно слуг, сообщает он, выполняется неукоснительно: заинтересованные лица представили свои челобитные, но это оказалось напрасным. Стрельцы вторгались отрядами от десяти до двадцати человек к иностранным офицерам и купцам, обыскивали их дома и, если находили там русских, забирали их и уводили. «Старые немцы», как они себя называли, то есть иностранцы, обосновавшиеся на Руси со времени предыдущего царствования, обратились с челобитной, в которой они брали на себя обязательство соблюдать Великий пост как для себя, так и для своих людей: им ответили, что им остается только принять крещение! Конфискация имений была не только тягостной мерой – это было настоящее разорение. Много офицеров, говорит все тот же Родес, подали в отставку; впрочем, они возобновили свою просьбу в день именин царя, то есть 17 марта, но ответ все не поступал. Шотландец полковник Джонс заявил боярину Илье Милославскому, что он не желает нигде служить как язычник: если его считают таковым, пусть дадут ему отставку! Большинство, из боязни лишиться своих прекрасных поместий, принимали православие. Жан де Грон, чтобы облегчить иностранцам переход в православие, предложил, между прочим, чтобы новообращенных не заставляли проклинать их прежнюю веру[657]. Уже более ста двадцати «старых немцев», по имевшимся данным, находились в монастырях, чтобы приготовиться к крещению[658]. Духовник царя как будто обещал, что, если ему дадут свободу действий, он постарается сделать так, чтобы к празднику св. Симеона (новый год, 1 сентября) осталось бы лишь очень немного не обращенных в православие иностранцев. Про него говорили: «Это он, видно, причина всему. Это он зачинает всякого рода новшества. Иностранцы питают к нему ужасную ненависть. Очевидно, что между патриархом и духовником имеется зависть, ибо последний мечтает возвыситься, чтобы иметь возможность своей собственной властью, без согласия патриарха, начинать и доводить до благополучного конца некие великие начинания. Говорят, что он желал бы облечься в иное, новое одеяние. Но патриарх совершенно на это не согласен и говорит, что он во всем обойдется и без его согласия»[659].
Коротко говоря, жизнь иностранцев стала невероятно тяжелой, что же касается русских, то, по свидетельству пожилых людей, они никогда так строго не выполняли требований Великого поста, как теперь. «Некоторые даже, желая, чтобы их считали святыми, изнуряли себя чуть ли не до смерти. Другие же, будучи истощены за пост, предавались на Пасхальной неделе таким излишествам в еде, что они тут же умирали»[660]. Как рассказывают в это время, самые набожные отказались даже от сахара, так как для его очистки и отбелки употребляют яичный белок[661].
В феврале при стечении всего народа перенесли в особую раку мощи патриарха Ермогена, замученного и брошенного на произвол судьбы поляками[662]. Собор решил, что такие же почести должны быть оказаны митрополиту Филиппу и патриарху Иову. В этом сказывалось широкое желание искупить все преступления Смутного времени, ибо Иов был также отрешен от должности и выслан захватчиком Лжедмитрием. Но тут сказывалась и другая тенденция: возвеличить владык, которые героически пали жертвой гражданской власти – гражданской власти, которая действовала и поныне. И, наконец, это было новым поводом для торжественных богослужений.
11 марта Никон отправился в Соловки в сопровождении пышной свиты из мирян и духовенства: с ним были бояре, один архимандрит, один игумен, один протоиерей, множество монахов, священников, дьяконов, юродивый Христа ради Вавила, или Василий Босой, обычное доверенное лицо царя и патриарха; также шестнадцать певчих, десятка два стрелецких старшин и сотня стрельцов [135]. Никон вез особое письмо к усопшему митрополиту Филиппу от патриарха, так же как и письма от царя, в котором последний обращался к митрополиту Филиппу с трогательной и безыскусной мольбой: «Молю, чтобы ты снисшел сюда, дабы разрешить грех предка моего царя и великого князя Иоанна Васильевича, совершенный им в час безрассудства, зависти и неукротимой ярости (…) Склоняю пред тобой свое царское достоинство за того, кто согрешил перед тобой, чтобы твое явление среди нас простило бы ему его вину и чтобы было стерто посрамление, которое тяготеет на нем, за то, что он изгнал тебя (…) Молю тебя, о священная глава, и склоняю честь моего достоинства перед твоими честными мощами. Склоняю пред тобою, дабы умилостивить тебя, всю свою власть (…) То я, царь Алексий, желаю видеть тебя и пасть ниц перед твоими святыми мощами»[136].
Немного позднее митрополит Варлаам отправился с боярином Салтыковым в Старицу, чтобы взять мощи патриарха Иова (Иов не канонизирован)[663].
VIII Аввакум в Юръевце
Поскольку время прибытия Аввакума в Москву неизвестно, трудно сказать, каких именно происшествий он был свидетелем. Несомненно, во всяком случае, одно: он не мог быть безучастным к событиям, происходившим в этот исключительный момент.
Наконец, наступил день поставления его в сан протоиерея, который был важен для него. Согласно установленному распорядку, архидиакон и протодиакон подвели его к патриарху или к служащему епископу, находившемуся посредине церкви. Началась литургия. В момент выхода с Евангелием он трижды низко поклонился иерарху, который сначала его благословил, затем поднялся и, положив руку ему на голову, произнес молитву: «Владыко Господи Боже наш, иже священничество даровавый роду нашему (…) обдержи благодатию своею сего брата нашего (Аввакума) и чистотою украси его (…) и добру ему образу быти сподоби и даруй ему в старости добрей преити житие свое». После этого иерарх благословил поручи, сказав: «Благословен будет служитель Божий протопоп Аввакум для служения в Юрьевской святой церкви Входа Господня во Иерусалим, во имя Отца и Сына и Святого Духа». Затем он еще раз возложил на него руку и трижды провозгласил: «Достоин!» и певчие трижды пропели «Достоин!» После этого новый протоиерей был введен через Царские врата внутрь алтаря, где он приступил к богослужению с другими священнослужителями[664]. Таким образом, дело шло не о простом назначении на должность административным путем, но о возвышении в новый священнослужительский сан – нечто среднее между рукоположением во священника и во епископа. Поэтому-то Аввакум всю свою жизнь настаивал, вовсе не из тщеславия, но в качестве отличительной черты присущего ему священства, на признании своего протоиерейского сана.
Протоиерейский сан был связан с целым рядом характерных отличий. Протоиерею полагались особые признаки его достоинства: набедренник, символ духовного меча, которое есть Слово Божие[665], двурогий посох с рукояткой в форме буквы Т, почти как епископский жезл[666]. Он имел право носить уже не суконную камилавку, как простые священники, а бархатную из зеленого, красного или черного материала. Священники испрашивали у него благословения и стояли перед ним с обнаженной головой. Народ оказывал протоиерею особое уважение[667].
Согласно Стоглаву, протоиерей имел право юрисдикции над всем белым духовенством своего благочиния; он должен был наблюдать за тем, чтобы оно точно выполняло свои обязанности, и в случае повторного неповиновения он был обязан доводить это до сведения епископа; ему также надлежало поучать народ[668]; в иных случаях его полномочия были весьма широки: Савва Ефимов, нижегородский протоиерей, сыгравший в 1611 году, наряду с Мининым, значительную историческую роль, получил в августе 1606 года от царя Василия открытый лист, в силу которого настоятели и «священники всего города» обязаны были ему повиноваться, под страхом пени. Протоиерей, в случае повторного неповиновения и небрежности, имел право «посадить священников и дьяконов на одну неделю в тюрьму» и вытребовать для этого стрельцов[669]. Полномочия Аввакума, конечно, не были меньше; есть все основания полагать, что они были указаны в патриаршей грамоте. Эти полномочия давались и белому духовенству довольно широко, ввиду того, что в области имелись только второразрядные монастыри и скиты.
Но, в особенности ввиду задач настоящего момента, протопопы должны были осуществлять реформу, как то: вводить единогласие, осуществлять требования стоять чинно с благоговением в церкви, выполнять заветы Церкви, бороться с пьянством и с уже запрещенными увеселениями. Для того, чтобы проводить это в жизнь, Аввакум был облечен известной долей гражданской власти: он имел право наблюдать за действиями воеводы, и последний был обязан с ним советоваться. Таким образом, он становился одним из главных исполнителей большого плана, задуманного боголюбцами.
Ему в это время был тридцать один год, тем не менее сочли, что его можно облечь в наивысший сан, который только может получить женатый священнослужитель, ибо сан епископа давался монашествующим. Со своей стороны, Аввакум питал к тем, кто его облекал этим новым саном, глубокое уважение, смешанное с сыновней привязанностью. Можно себе представить, с каким пылом и с какой убежденностью он ринулся в бой.
Нам неизвестна точная дата, когда новый протопоп с протопопицей Анастасией и тремя детьми: Иваном, Агриппиной и Прокопием пустились в путь в Юрьевец. Это должно было произойти после окончания заседаний Собора во вторую половину марта. В Юрьевец они должны были приехать в конце месяца[670]. Таким образом, Аввакум смог совершить богослужение в Вербное воскресенье в своем соборе, посвященном Входу Господню в Иерусалим. Это как раз был храмовой праздник[671].
Юрьевец в начале того века был главным городом малозначащего уезда. Он стоял на склонах отлогих гор и у подножия крутого холма, возвышавшегося над правым берегом Волги, приблизительно на полдороге между Костромой и Нижним Новгородом. В XVII веке его положение на большой реке против притока Волги Унжи, откуда он получал лес с Севера, и близость его к сельскохозяйственной и промышленной области Шуи были для него большим преимуществом. Если Вологда насчитывала около 300 дворов, то в Юрьевце был 141 двор. В нем было все, что свойственно внушительному городу: кремль со стенами и башнями, построенными частично из камня и частично из глины, с естественными или вырытыми рвами; затем шел город в собственном смысле этого слова, то есть посад, окруженный частоколом; наконец, были предместья. Управлялся он воеводой с помощью 9 дьяков, двух уголовных судей, тюремного начальника и палача. Стража его состояла из одного сотника и полусотни стрельцов. Весь этот военный аппарат можно было оправдать воспоминаниями о Смутном времени: зимой 1609–1610 годов, в то время как многие соседние города, такие как Шуя, Суздаль, Владимир, изменили законному царю Василию, в Юрьевце ремесленник Красный призвал горожан к оружию и очистил окрестности от банд. Горожане Юрьевца были богаты и состоятельны. У них было на рыночной площади 57 лавок, 6 балаганов, 13 длинных прилавков, на которых и поныне еще можно встретить скромных продавцов, раскладывающих свои продукты, и 8 сараев. Кроме того, было 25 кузниц, в 16 из них работа шла полным ходом. Славились и процветали местные фабрики набивного ситца и красильни. Юрьевецкие купцы отправлялись вверх по течению вплоть до Костромы и Ярославля, а вниз – до Балахны и Нижнего. Они получили привилегию во время своих путешествий, за исключением случаев, когда их заставали на месте преступления, подлежать суду только московских властей или же властей их собственного города. Четверо старост возглавляли четыре разных района города. Город с гражданской точки зрения жил полной жизнью.
Духовная жизнь характеризовалась тем, что в городе было около десяти церквей, два мужских монастыря и два женских, в общей сложности около десятка священников, но только два дьякона (что служит доказательством отсутствия честолюбия у большинства приходов) и около сотни монахов и монахинь[672]. В Богоявленском монастыре хранились мощи местночтимого святого Симона, юродивого Христа ради. Он преставился 4 ноября 1584 года, и патриарх разрешил его почитание в 1635 году. На его могиле совершались чудеса[673].
В Юрьевце и сейчас имеется собор с престолом во имя Входа Господня в Иерусалим, прекрасная церковь чисто московского стиля XVII века. В 1909 году Археологическая комиссия отнесла его построение к 1633 году[674]. Однако Аввакум в этом храме никогда не служил. Это каменный храм, однако перепись 1676 года указывает, что в Юрьевце были только деревянные церкви[675]. Можно было бы предположить, что данные за 1633 год говорят о деревянной церкви, построенной ранее теперешнего собора. К сожалению, эта же самая перепись, дающая сведения о соборе 1676 года, сообщает нам, что он был построен после другого, уничтоженного пожаром немного ранее 1670 года и находившегося в другом месте[676]. Таким образом, мы ничего не знаем о церкви, в которой служил Аввакум в 1652 году.
Что, может быть, с 1652 по 1676 год менее изменилось, так это состав соборного клира: два священника, один дьякон, один дьячок и один церковный сторож. В 1676 году у протопопа была усадьба приблизительно в 2000 квадратных метров[677]. Усадьба Аввакума была, очевидно, не меньше. Там, без сомнения, находился, помимо жилищных и служебных построек, духовный приказ, о котором перепись нигде в другом месте не упоминает. Туда протопоп и призывал своих подчиненных, чтобы сообщать им постановления патриарха. Там же он их и принимал по всем вопросам[678] или делал им выговоры; там же он получал сборы, которые надлежало посылать в Москву, и вел их запись; там он в известной мере выполнял роль мирового судьи в области духовных и нравственных дел, что входило в его обязанности. «Десятина» Юрьевца была обширна: помимо города и предместий, она распространялась на семь приходов[679]. Это была одна из самых крупных протоиерейских единиц патриаршей области[680].
Некоторые соборы получали от царя ежегодную дотацию (ругу) или деньгами, или натурой, кроме того, еще масло, воск и вино для церковных служб. Нам неизвестно, пользовался ли Юрьевец этими особыми дотациями. Так или иначе, некоторые протопопы имели и другие источники доходов. Так, мы видим, что в 1676 году протопоп Федор Иванов владел на базарной площади двумя лавками, приблизительно в 8 метров длины (по фасаду 8 метров и 4 метра в ширину). Может быть, это было чисто личное владение[681]. Собор сам по себе собирал 232 копны сена на левом берегу Волги, а также вдоль Унжи[682]. Царь уступил собору пополам с приходом церкви Покрова право взимать пошлину за причал судов на Волге[683]. Эти источники доходов существовали, без сомнения, и во времена Аввакума.
Но в особенности собор в Юрьевце существовал на средства различных церковных поступлений. После того, как была выстроена новая церковь, в ней обедню можно было служить только на престоле, освященном епископом. В действительности благословение сводилось к помещению на престол плата, на котором с одной стороны вместе с крестом и орудиями Страстей были вышиты дата его освящения и имя иерарха, с другой же стороны плата влагалась зашитая в шелковую материю частица святых мощей. Этот плат с мощами назывался антиминсом[684]. Протопоп раздавал в своем благочинии антиминсы и взимал за каждый полрубля. Затем были еще даяния со стороны воеводы во время Рождества, когда отправлялись к нему всем причтом на «славление»[685]. Были еще и даяния верующих, связанные с наступлением определенных дат в году, плата за заказные обедни и молебны, как в церкви, так и на дому, а также и небольшие денежные приношения за причастие и другие таинства. Все это вносилось в общую кассу собора и распределялось согласно принципам, о которых нам мало что известно; большая часть отдавалась протопопу, остальное служащим священникам и церковнослужителям[686]. Материальное и социальное положение Аввакума было гораздо лучше, чем в Лопатищах, и он не отказывался вместе со своей семьей пользоваться всеми законными преимуществами. Он ведь не давал обета бедности. Зная его характер, можно предполагать, что он не старался особенно приумножать доходы; он не выжимал ничего из своей паствы и не обделял ничем своих подчиненных. Только обязанности его теперь были двойные: он был посланцем боголюбцев для выполнения церковной реформы и вместе с тем уполномоченным по сбору патриаршего налога.
Протопопу надлежало собирать плату за бракосочетания[687]. В особенности он должен был выдавать венечную память и получать за нее следуемое. Венечная память писалась так: «От протопопа Аввакума с причтом попу такому-то такой-то церкви. Получили мы просьбу от юноши (имя рек) такого-то села: он выбрал себе жену (имя рек). Ты соберешь сведения на их счет: не имеется ли у них родства кровного или по свойству, или духовного, и после расследования благословишь их. Такого-то числа»[688].
Повенчанные вносили священнику таксу – два алтына, доходившую порой до 4 и 6 алтын, если дело шло о втором или третьем браке; сверх этого, гербовый сбор в 3 деньги; священник, в свою очередь, передавал протопопу собранные деньги и последний регистрировал их, чтобы отдать в них отчет в патриаршую казну[689]. Но случалось, что жених и невеста либо сговаривались со своим священником, чтобы обойтись, к обоюдной выгоде, без венечной памяти, либо сходились, не испрашивая благословения у Церкви. Оба эти нарушения закона были частыми. Аввакуму, без сомнения, некогда было заниматься обычными годичными сборами; наоборот, все, что касалось брака, его интересовало вдвойне, и как ответственного администратора, и как пастыря. Он столь внимательно наблюдал за брачными делами, то преследуя тайные незаконные сожительства, то обнаруживая прежние обходы закона и всегда требуя предписанные штрафы, что собрал их на 9 рублей 22 алтына 3 деньги больше, чем в предыдущие годы[690].
Все городские священники и дьяконы и даже представители черного духовенства должны были принимать участие в богослужении в соборе, у каждого была в нем своя седмица, а порой, по-видимому, они обязаны были присутствовать на богослужениях соборно, чтобы сделать службу особенно торжественной[691]. Принимая во внимание его обычный образ поведения со служителями своей собственной церкви, надо думать, что Аввакум крепко держал их всех в узде.
Он приступает к служению утрени один, ожидает пока не придут другие. «Они просят прощения; хорошо, да простит им Бог! Но если кто-нибудь притворяется дурачком, – посадить на цепь! Не доводите меня до гнева!»
Все выполняется строго согласно богослужебным книгам, без спешки, по уставу, и ни одна часть богослужения не перекрывает другую, все исполняется единогласно, будь то обедня, канон или же совершение таинств. Нет более добавочных слогов, никакой колоратуры, ни «хомоний», ни «аненаков» – священные тексты поются так, как они произносятся. Таким образом, все верующие могут следить за службой и все понимать. Тем хуже, или скорее тем лучше, думает Аввакум, если служба длинная[692].
Так прошло почти два месяца, относительно которых у нас никаких подробных сведений нет. Много позднее, в своей тюрьме на берегу Ледовитого океана, Аввакум, окидывая как бы с высоты птичьего полета свои прошлые чувственные терзания, описывает их своему ученику Симеону несколькими живыми чертами:
«А во церковь иду, а тово и гляжу, как нападут. А в церкве стою, паки внутренняя беда: безчинства в ней не могу претерпеть. Безпрестанно ратуюся. С попами пьяными, и с крылошаны, и с прихожаны. Малая чадь, робята в церкви играют, и те душу мою возмущают. Иное хощу и промолчать, ино невозможное дело, – горит во утробе моей яко пламы палит. И плачю, и ратуюся. А егда в литоргею нищия по церкве бродят и не могу их унять, и я им кланяюся, и денег посулю, велю на одном месте стоять, а после обедни и заплачю. А которые бродят и мятежат людми, не послушают совета моего, с теми ратуюся, понеже совесть нудит, претерпеть не могу. (…) Вошед в церковь, ов смеется, ин празднословит и плищь счиняет во время соборнаго моления, и инже, разгордевся, устав церковный пременяет; а ин иная непотребства (здесь, очевидно, речь идет о соборном притче. – Прим. авт.); стоящи же в церкве яко изумлении и неми, и глуси, и слепи, слышавшее не слышат и видевши не разумеют, ни болезнуют о разлучении церковнаго устава; вси бегуны, вси потаковники, вси своя си ищут, а не яже суть Божия. Аз же глаголю и повелеваю на мятежника церковнаго всем верным руки возложити и далече от церкви отгнати паче онаго варвара (речь идет о скифе, о котором Иоанн Златоуст говорит в нравоучении в «Беседах апостольских», Аввакум упомянул о нем выше. – Прим. авт.); и дондеже в покаяние придет, ни на праг церковный не попущу таковому возступити. Церковь бо есть небо, церковь Духу Святому жилище (…). Егда возступил еси на праг церковный, помышляй, яко на небо взыде, равно со ангелы послужити Богу»[693].
Мы позволяем себе думать, что многие черты из сказанного касаются Юрьевца. Аввакуму приходилось вступать в бой по поводу всего: по поводу беспорядков в церкви, пьянства, шедшего в городе; из-за народных увеселений, из-за обманов, которые творились в ущерб патриаршей казне, из-за разврата и теплохладного отношения к священным предметам; он боролся и против «харь» и притираний с румянами. Он делал это решительно, чтобы выполнить свою двойную обязанность духовного вождя и церковного администратора и, прежде всего, для того, чтобы повиноваться голосу своей совести. Но вот вдруг какая совсем неожиданная дипломатия, и вместе с тем какой луч света, пролитый на характер этого человека! Он ценою денег старается купить доброе поведение нищих! Слишком много было людей, восстановленных против него из числа как мирян, так и духовенства; среди его врагов были мужчины и женщины, взрослые и дети, горожане и деревенские жители; и вот, несмотря на то, что его послали сюда царь и сам патриарх, несмотря на то, что он был представителем Бога на земле, силы были неравные: борьба неизбежно должна была кончиться не в его пользу.
Очень может быть, что взрыв произошел по случаю праздника св. Симеона 10 мая, праздника, привлекшего множество народа. У Аввакума в Приказе вдруг появилась яростная толпа; его вытащили на улицу, затем били батогами и кулаками и поваленного топтали ногами. Власти, с воеводой Денисом Крюковым и его пушкарями во главе, прибежали на место как будто случайно, в то время, когда протопоп уже лежал замертво избитый, брошенный «под избной угол»; их было всего-навсего около двенадцати человек против тысячи или полутора тысяч врагов Аввакума. Пушкари смогли только, «ухватив» его, положить на лошадь и «умчать» в «его дворишко». Толпа же с криком «убить вора» приступала к его двору, угрожая в него ворваться: по-видимому, женщины и попы были самыми яростными в этом деле! Как утихомирилась эта ужасная ярость, успокоилась ли она сама собой, как это иногда случается, к вечеру, или же ее укротило наличие вооруженной силы, мы этого не знаем. Во всяком случае, Аввакум обязан был своему природному крепкому здоровью тем, что оправился от нанесенных ему ран. Два дня он пролежал, а затем ночью скрылся с двумя товарищами, очевидно, его единомышленниками, не менее скомпрометированными в глазах толпы, чем он сам, и отправился по Волге в Москву[694].
Он, человек непоколебимого долга, покидал две вещи, дорогие его сердцу, священные для его сознания – свой собор и свою семью. Это бегство, было ли оно действительно необходимо? Здесь мы стоим перед загадкой, которая выяснилась лишь впоследствии, благодаря целому ряду происшествий. Аввакум, проезжая через Кострому, остановился там. Он нашел этот большой город также в состоянии полного возбуждения. Его протопоп Даниил только что был изгнан таким же мятежом, какой произошел в Юрьевце; относительно этого костромского мятежа мы прекрасно осведомлены благодаря расследованию, написанному на 270 листах, сохранившихся в Архиве Министерства юстиции.
Даниил, местный протоиерей, и Герасим, игумен Богоявленского монастыря, были посланы сюда кружком боголюбцев. Они объявили войну скоморохам и песенникам, которые нарушали церковный мир у собора, равно пьяницам, которые соединившись в пять, шесть человек, днем и ночью запружали проезжие дороги и творили тысячи непристойностей; эти два человека делали жизнь духовенства очень тяжелой, распекая тех, кто выпивал или не выполнял своих обязанностей, а иной раз, выйдя из терпения, запирали их в подвальный этаж Успенской церкви. Воевода Юрий Аксаков и его дьяки, которые должны были оказывать Даниилу и Герасиму вооруженную помощь, сами, напротив того, предавались всякого рода бесчинствам и разврату и, вместо того чтобы держать правонарушителей под арестом, выпускали на свободу тех из них, которые обещали им деньги за освобождение. Положение ухудшалось с каждым днем. Во вторник на Фоминой неделе, следовательно, 27 апреля, когда некий священник Павел проходил по Никольскому мосту, какой-то пьяный без портков, подойдя к нему, поднял полы своего кафтана. Другие священники жаловались на своих прихожан, которые их дожидались у порога церкви, вооруженные ножами, чтобы зарезать их, или угрожали им посадить их на кол на частоколе церковной ограды. Ночью 25 мая 1652 года некий Козма Васильев, уроженец Лыскова, вместе со своими товарищами пел песни на берегу Волги. Даниил вышел, чтобы заставить его замолчать. Его исколотили, сорвали скуфью – наивысшее оскорбление! – повалили его, оставив едва живым, без сознания и, наконец избили еще раз перед домом воеводы. Воевода, хотя и был уведомлен о разыгравшемся событии, поостерегся вмешаться; прибежали горожане, но никто не вступился. 28 мая, в полдень, улицы заполнились толпой, которая с пением приближалась к собору. Она состояла преимущественно из окрестных крестьян под предводительством деревенского священника. Толпа хотела освободить посаженных в тюрьму узников и выкрикивала угрозы с требованием смерти по адресу Даниила и Герасима. Это был настоящий мятеж. Собор был взят штурмом, и ненавистные преобразователи вынуждены были скрываться. Приближенные к Даниилу и Герасиму люди, которых часто видели с этими священниками и которых толпа подозревала, как их сторонников в деле борьбы против игрищ, водки и песен, вынуждены были уступить. Такие ревнители были, правда, немногочисленны, ибо во время допросов оказалось только четверо священников и один дьякон, которые свидетельствовали против виновников мятежа: все же остальные, крестьяне, горожане, даже священники собора и игумены четырех соседних монастырей, утверждали, что они ничего не знали, ничего не видели и ничего не слышали[695].
Мятеж в Костроме нам освещает характер мятежа в Юрьевце: те же самые причины, те же самые зачинщики, и тут, и там священники во главе мятежа и отсутствие кого-нибудь, кто мог бы защитить преобразователей; в результате – те же следствия. Почти полная одновременность этих происшествий наводит на определенные размышления. Аввакум, покидая Юрьевец, конечно, не мог, из-за отсутствия времени, узнать об отъезде Даниила; но мало вероятия, чтобы как раз в этих двух городах, относительно близко находящихся друг от друга, мятеж разразился бы почти в один момент, если он только не был заранее задуман. Инициатива мятежа, очевидно, исходила из Костромы, где причины для него были более многочисленны: все население было сомнительной репутации, свойственной большому порту. Тут было много иностранцев, связанных с другими волжскими портами; играла тут роль и близость сел, принадлежащих Глебу Морозову, жители которых были чрезвычайно ожесточены суровой материальной и моральной опекой своего господина[696] и вместе с тем осмелели в силу могущества своего помещика, на которого они все-таки рассчитывали; может быть, здесь правили и протопоп более грубый, а воевода более открыто враждебно настроенный по отношению к ревнителям. Нет ничего удивительного в том, что заправилы из Костромы натравили недовольных и в Юрьевце. Кто знает, не были ли оба воеводы в заговоре? Оба они ограничились тем, что спасли жизнь пострадавших, посоветовав им покинуть город. Каким образом Даниил со своей стороны, так же, как и Аввакум со своей, не могли не почувствовать тот широкий заговор, то организованное оппозиционное движение, против которого они не могли устоять, против которого единственным прибежищем была только Москва?[697]
Глава VI Остановка в Москве и разрыв (июнь 1652 – сентябрь 1653)
I Избрание Никона в патриархи и его первые шаги
Из Костромы Аввакум прибыл в Москву в первых числах июня[698]. Он бросился к своему другу Неронову, который его приютил; к Стефану Вонифатьеву; но там его приняли плохо. Он сам рассказал эту сцену. Вечером беглец приходит к духовнику, который с грустью ему выговаривает: «Зачем ты покинул свою церковь?» Может быть, и Даниил также уже был у Стефана после подобного бесславного деяния: это не только значило, что оба священника покинули свои посты – что было поступком, предусмотренным и осужденным канонами, кроме того, это уже указывало на провал определенной политики. Кроткий реформатор имел основание быть огорченным. В эту минуту входит царь, который, как обычно, каждую ночь приходил просить благословения у своего духовного руководителя. Он также обращается с укором к беглецу: «Почему ты покинул свой город?»
Под впечатлением этих двойных нападок бедный Аввакум, который, помимо этого, думает о своей семье, находящейся в смертельной опасности, чувствует себя подавленным[699]. Он нам не рассказывает, как он защищался, но, вероятно, его объяснения были приняты, так как мы знаем, что в эту эпоху, когда наказания были суровые, он отделался только выражением раскаяния. Его оставили в Москве в его звании протоиерея, причем его авторитет как члена кружка нисколько не уменьшился. Даниил также не пострадал.
Правда, для разделения кружка это был отнюдь не подходящий момент: час был решительный, патриарх Иосиф только что умер, 15 апреля[700]. Мало сочувствуя реформе, он, однако, ей не препятствовал, будучи уверен, в особенности в последние 3–4 года, в своем бессилии. Необходимо было, чтобы новый патриарх был не только пассивен, но стал бы во главе движения. Все ревнители видели только одного возможного кандидата: протоиерея Стефана! Он был их духовным отцом, он обладал всеми добродетелями, он способствовал бы славе начатого дела. Между прочим, в Москве говорили об этом избрании и иностранцы, и народ; может быть, все они боялись этого избрания, так как знали роль, которую играл всемогущий духовник во время крутых мер последних лет и Великого поста этого года[701]. Но Стефан принадлежал к белому духовенству: было совершенно необходимо для получения сана патриарха, чтобы он принял монашество, получил подходящий сан игумена или архимандрита; все это должно было быть выполнено необычным образом, что вовсе не соответствовало его принципам. Он сам отдавал себе в этом отчет, он добровольно стушевывался перед импозантной персоной новгородского митрополита. Поведение его во время смут 1650 г. вскрыло в нем человека, умеющего управлять. Царь все более и более склонялся в его пользу.
Между тем все братство стало молиться, прося Бога даровать Руси наилучшего патриарха. По окончании молитвы, продолжавшейся девять дней, боголюбцы составили челобитную царю и царице в пользу Стефана. Корнилий, казанский митрополит, и Аввакум были среди подписавшихся. Но духовник объявил о своем отказе. Он даже получил от своих друзей новое прошение, противоположное по своему содержанию первому, заявляющее о желании передать Никону патриаршую кафедру. Впоследствии Аввакум будет себя винить за то, что он подписался под этим прошением. После того, как была достигнута договоренность, царь направил Никону, который возвращался в Москву, письмо, полное чувств умиления и доверия. Он приписал ему добродетели, которые, конечно, менее всего ему подходили: он называл его «милосердным, кротким, добрым, бесхитростным», именовав его своим «собинным другом души и тела», и описывал ему смиренно свое отчаяние с момента смерти Иосифа: «Возвращайся, Господи ради, поскорее, к нам обирать на патриаршество именем Феогно ста, а без тебя отнюдь ни за что не примемся»[702]. Из этого видно, насколько этот тщеславный митрополит завладел юношеским сердцем царя.
6 июня Никон, опередив свою свиту, въехал в Москву. 8 июля, в день праздника Казанской иконы Божией Матери, протопоп Неронов приветствовал его и преподнес ему святую воду и освященный хлеб, как это полагалось по обычаю; взамен чего он получил серебряный рубль[703]. 9 июля состоялось торжественное празднование обретения мощей митрополита Филиппа.
Это было второе церковное торжество этого рода, которое в этом году совершалось перед московским народом[704], так как 5 апреля встречали у Тверской заставы мощи св. патриарха Иова: перед Страстным монастырем мощи были перенесены из прежней раки в новую, обтянутую красным бархатом, с золотыми гвоздями; затем прежнюю раку, закрытую черным бархатом, вместе с новой понесли к Успенскому собору. Это было поздним вечером. Все духовенство, царь и царица, бояре и окольничьи и весь народ, от простых людей и до знатных, следовали пешком с зажженными свечами; на всем протяжении яблоку негде было упасть, так было тесно; у дверей и окон мерцали бесчисленные свечи. «В продолжение 70 лет, – говорили старые люди, – не видели такого торжества». И умиленный патриарх говорил царю: «Смотри, государь, как прекрасно стоять за правду; даже после смерти достойный прославляется», – и, говоря это, он много плакал[705].
Встреча мощей митрополита Филиппа была не менее великолепна; на этот раз патриарха не было, но был Никон. В течение двух последующих недель чудеса в Успенском соборе не прекращались: собор был переполнен; при каждом исцелении начинался перезвон кремлевских колоколов. Народ находился в радостном настроении, и господа также радовались (если верить скептическому Родесу), видя его, как он благодаря этому отвлекался от своих беспокоящих его странных и диких мыслей[706].
Для лиц, посвященных во все дело, эти две недели протекли в приготовлениях для выборов. Никон страшно домогался патриаршества. Царь его наметил, Стефан был согласен, и друзья его покорились, только бы Никон был таким же патриархом, как другие. Но как раз Никон был иной породы, чем Иосиф: он решил командовать Церковью, и если не разделять власть с царем подобно Филарету, то, по крайней мере, выполнять через свое посредничество косвенное право управлять государством, определенное западными богословами. Чтобы достичь своей цели, он прибегнул к традиционному приему политиканов: он выставил себя недостойным подобной чести. Царь за это еще больше стал почитать его и умолял его еще сильнее. Эта комедия была не лишена опасности: Стефан или кто-нибудь другой мог открыть глаза наивному государю. Никон удваивал внимание своим друзьям, утверждал, что он простой исполнитель их общих планов; короче говоря, он – самый смиренный из собратьев. Он усыплял своей предупредительностью самую большую подозрительность. Одновременно царя обрабатывала Анна Ртищева, старшая сестра Федора. Это была вдова двух мужей, причем второй был убит своими крепостными в 1642 г. Это была особа зрелого возраста, помешавшаяся на религиозных вопросах, с железной волей и необычайно активная. Вторая приближенная дама царицы, кроткой и робкой Марии, она распространяла непосредственно свое влияние на самого царя, а также действовала через своего брата, ибо она, как мать, заставляла его себя слушаться[707]. Это она «Никонова манна», «сваха», согласовавшая этот отвратительный «брак» царя с митрополитом[708], «поделив прибыли и убытки пополам с дьяволом». Аввакум наблюдал за ее проделками и терзался. Неронов – также, но что могли они сделать против искусных интриг этой «матери Церкви»?
Никон, наконец, уступил, когда решил, что положение вещей достаточно продвинулось вперед. Была установлена дата избрания: 22 июля. Как было намечено, в точности были проведены соответствующие мероприятия: назначение 12 кандидатов собранием духовенства, затем избрание Никона и его утверждение царем. Но когда отправились за избранником, чтобы ввести его в кафедральный собор, он несколько раз отказывался. Наконец, приведенный на место главными боярами и высшим духовенством, он еще долго заставлял царя и всех присутствующих на коленях умолять себя, прежде чем решиться сказать свою речь: «Вы ведь знаете, что мы получили св. Евангелие, правила апостолов и правила св. отцов и гражданские законы от православной Греции (…) Однако мы не выполняем ни наставлений евангельских, ни правил апостольских, ни отцов церкви, ни законов благочестивых царей (…) Если вы хотите, чтобы я был вашим патриархом, дайте мне слово и поклянитесь в этом соборе перед нашим Господом Спасителем, перед Его Пречистой Матерью, перед ангелами и всеми святыми, соблюдать Евангелие, каноны и законы. Если вы обязуетесь мне повиноваться как вашему первому пастырю и вашему отцу во всем, что я вам преподам относительно догматов, церковного устройства и нравов, не буду отказываться от высшей духовной власти».
После этого царь, бояре, все собрание поклялись перед Евангелием и святыми образами повиноваться Никону. Он же, призвав в свидетели Бога, Пресвятую Богородицу, ангелов и святых, изъявил свое согласие[709]. Он был посвящен митрополитом Корнилием[710]. Мы никогда не узнаем, в какой мере вся эта сцена была подготовлена заранее. Можно предположить, что Никон уведомил царя об известной части своих требований, так как внезапное объявление их в последний момент грозило бы провалить все дело. К этой подготовке приложила свою руку Анна Ртищева. Но неожиданный заключительный финал был совершенно в духе Никона, и нет сомнения, что Никон являлся его творцом. Задумал его он один, без ведома других, чтобы поставить своего повелителя перед невозможностью отступить. Через шесть лет он повторил эту сцену с меньшим успехом.
Новый патриарх сначала часто появлялся перед народом: «В окно ис палаты нищим денги бросает, едучи по пути нищим золотые мечет! А мир-от слепой хвалит: государь такой-сякой, миленкой, не бывал такой от веку!»[711] Его первые действия не произвели никакого переворота. Сами принципы церковного устройства, которые он заставил всех одобрить с такой торжественностью, не произвели никакой сенсации: это были принципы кружка боголюбцев; правила апостолов и отцов церкви, а также законы византийских императоров; это как раз было содержание Кормчей, толстой книги, только что отпечатанной благодаря его стараниям. Реформаторские мероприятия продолжались.
Никон проявил себя неутомимой деятельностью. В течение месяцев августа и сентября он рукополагал несколько раз в неделю во священники и даже во диаконы, не только для Москвы, но и для деревенских церквей, бедных и отдаленных[712]. Он не оставил и Новгородскую кафедру вдовствующей. 8 августа он рукоположил туда своего преемника Макария, простого казанского монаха, казначея митрополита Корнилия[713]. Это было сделано, чтобы угодить митрополиту и боголюбцам, не без опасения за свою власть, ибо Макарий был слаб характером[714]. Позднее, осенью, еще до смерти епископа Коломенского, больного и бездеятельного, он передает его кафедру Павлу[715] из монастыря св. Пафнутия, человеку с твердым характером, но большому другу Неронова. В то же время он использовал свою увеличившуюся власть, чтобы продолжать свою кампанию против пьянства, распространяя ее теперь уже на всю Россию. Момент был как нельзя более подходящим, так как бюджет, по-видимому, зависел отныне от экспорта зернового хлеба. Братья Гроны настаивали на этом; требования со стороны иностранного рынка были весьма невелики. Итак, верное средство увеличить количество экспорта заключалось в сокращении ви нокурен. Казна потеряла бы некоторую часть из 400 000 рублей, поставляемых кабаками, но получала бы несравненно больше от продажи зерна за границу. Моральная задача совпадала с финансовыми расчетами. Никон использовал это с большой энергией. Он приказал собрать совет из бояр и получил указ от 11 августа 1652 г.: сохранялся только один кабак на каждый город, был издан запрет продавать вино на вынос, разрешалось продавать распивочно не более бутылки на человека, было декретировано закрытие кабаков во время Великого и Успенского постов, во все воскресенья, среды и пятницы, а также на время Рождественского и Петровского постов (что составляло более одной трети года). Равным образом был издан запрет продавать пиво и мед за час до наступления ночи и вплоть до 3-х часов следующего дня и была отменена сдача кабаков в аренду. Эти меры должны были вступить в силу с нового года, с 1 сентября 1652 года[716], и у царя было крепкое намерение добиться их осуществления, так как он предписал сократить и производство спирта на новый бюджетный год. 9 сентября было уточнено, что кабакам разрешено было существовать только в городах: категорически было запрещено боярам и всем владельцам поместий оставлять их у себя, где бы они ни были[717]. Все время, пока Никон оставался у власти, реформа действовала, несмотря даже на финансовые затруднения, вызванные войной с Польшей. Она рухнула в 1663 году, когда кризис с медной монетой вынудил правительство снова вернуться к прежним источникам дохода[718].
Никон не довольствовался более палатами, наскоро перестроенными после пожара 1626 года, где жили его предшественники. Он побудил царя пожаловать ему в Успеньев день «участок царя Бориса (Годунова)», очень обширный, где главный вход выходил на Соборную площадь. Сейчас же начали разрушать деревянные трехэтажные постройки, воздвигнутые недавно для датского принца Вальдемара, так же как и смежную церковь святых основателей Соловков, Зосимы и Савватия, и в сентябре уже начали закладывать на освобожденном участке фундамент того роскошного здания, полного символики великолепия, которое удовлетворяло жажду величия нового избранника; Патриарший дворец был соединен галереями с царским дворцом, с Успенским собором и Чудовым монастырем, с церковью Двенадцати апостолов, с папертью и трапезной, в которой должна была быть воздвигнута новая церковь во имя св. митрополита Филиппа. Это было полнейшее разрушение целого кремлевского квартала[719]. Никон принялся за древний Успенский собор: не только в помощь столичным мастерам были приглашены иконописцы из прославленных церковной живописью городов, чтобы краской подправить четырехъярусный иконостас, не только заказали токарям новые Царские врата, но приподняли хоры, прежде находившиеся на уровне центральной части церкви между колоннами; отныне пять ступеней из чугуна, по которым нужно будет поднять, чтобы достичь хоров[720], отметят расстояние между Церковью учащей и Церковью учащейся[721].
Иностранцам не пришлось радоваться новому управлению. С самого начала Никон выказал им свою ненависть. Однажды, когда он благословлял народ, он заметил несколько лиц, которые не крестились и не делали поклонов. Он о них осведомился. Узнав, что они иностранцы, одевшиеся, как и многие, по-русски, чтобы не отличаться от других, он приказал, чтобы иноверцы с этого момента одевались в платье своей страны, под угрозой, что с них сорвут русское одеяние тут же на улице и что они будут заключены в тюрьму. Это была мера, которая лишь стесняла иностранцев. Но вскоре было еще объявлено, что все иностранцы в течение месяца должны будут покинуть город и поселиться за стеной, на расстоянии, по крайней мере, одной версты от Земляного вала. Им выделили в восточной части Москвы, вдоль реки Яузы, слободу с участками, величина которых соответствовала категориям: большие – врачам, поменьше – купцам, еще меньше – сержантам и капралам[722]. Многие, опасаясь пожаров, построили себе кирпичные дома: теперь же им надо было продать их по самой низкой цене и снова построить себе жилища, затратив новые деньги. Все протесты закончились тем, что им была предоставлена дополнительная отсрочка в один месяц. Главы евангелической общины, вызванные в Земский двор, получили распоряжение разрушить без промедления, вопреки заранее полученным привилегиям, свои два храма, расположенные, однако, вне кремлевских стен. Спешно были направлены к месту нахождения храмов стрельцы, и к вечеру от церквей уже не осталось камня на камне.
Многие не выдержали этих упорных преследований: одним из первых был полковник Лесли, испросивший православного крещения себе, а также своей жене, детям и слугам. За это он был награжден шубой из сукна, затканного парчой, на собольем меху, высокой боярской шапкой, а также большим количеством тканей: бархата, шелка, дамасской ткани[723]. Еще 50 иностранцев последовали его примеру[724]. Боярин Илья Милославский, тесть царя, и Иван де Грон вели среди иностранцев отчаянную пропаганду. Грон ни перед чем не отступал: принимался за слуг, если не мог заполучить их господ, то угрожая, то обещая дома или поместья. Он заказал себе книгу, направленную против религии евангелической, кальвинистской и папистской (католической), доказывающую, что единственно хорошей религией была русская, и в награду получил поместье, отнятое у Лесли до его обращения в православие. К середине ноября Москва была очищена от «некрещеных» иностранцев[725]. Это был тот самый результат, которого желали Стефан и его друзья. Шведский резидент не ошибался, когда писал 30 октября: «Московская реформа преуспевает»[726].
II Аввакум в Казанском соборе и при дворе
Во всем вышеизложенном нет ничего, что противоречило бы взглядам кружка боголюбцев или отличалось бы от них. Никон его щадил. Он не мог обойтись без совещаний с царем и его духовником. Единственно, кто ощутил довольно быстро происшедшую перемену, были другие, именно простые протопопы. Раньше, когда Никон наезжал в Москву, он всегда навещал Неронова. Он был со всеми приветлив. Теперь же гордый патриарх принимал своих прежних друзей только на официальной аудиен ции; к тому же он заставлял их ждать, как и всех остальных. Сначала это отношение вызывало лишь неприятное чувство. Добрый Стефан со своим обычным тактом и кротостью поддерживал контакт с патриархом.
Неронов и Аввакум были заняты своими приходами. Оба жили дружно. Аввакум жил на участке Казанского собора[727]; вскоре он вызвал из Юрьевца свою семью[728]; может быть, он занял даже на некоторое время дом, расположенный там поблизости, близ Троицы-на-Рву[729]. Он выполнял свои требы в приходе, строй жизни которого был изменен его другом. Этот последний был его духовным отцом и руководителем. Они делили между собой выполнение церковных треб, проповеди и руководство верующими. Разница возраста и согласие, царившее между ними, исключали всякую возможность конфликтов, поэтому необычное присутствие двух протоиереев только усиливало благолепие, духовную высоту и широкую известность церкви, которая была уже одной из самых посещаемых в столице.
Неронов так безгранично доверял своему молодому собрату, что он вскоре предоставил ему полную заботу о своей пастве и получил отпуск, чтобы повидать свои родные места. С ним отправился священник Петр, который был не кто иной, как старший сын праведного Анании; он был незадолго до этого причислен к Казанскому собору[730]. Может быть, туда были причислены еще и другие, что походило до известной степени на создание проповеднического центра внутренней миссии. В Вологде архиепископ Маркел пригласил его к себе и разрешил ему совершать богослужение и проповедовать во всех церквах, которые его оспаривали друг у друга. Он долго пробыл в этом городе, так как ему надо было распространять безупречное отношение к богослужению и проповеди; прихожане очень охотно слушали своего земляка, ставшего знаменитостью в Москве. Затем он отправился на Лом, в скит, где протекали его молодые годы; он совершил службу над мощами блаженного Игнатия и приступил к строи тельству: призвал каменщиков и строителей, начертил планы, передал необходимую сумму денег и уехал обратно лишь после того, как увидел воздвигнутую кирпичную ограду и начатые работы по закладке фундамента каменной церкви, созидаемой в духе того времени. Во всяком случае, Неронов должен был вернуться к концу года[731].
Этот период времени был для Аввакума оазисом мира и счастья среди пустыни горя. В своем приходе у него было свободное время раскрыть свой дар слова и руководства душами, реализовать дорогие ему идеи. Он распорядился выполнять церковную службу единогласием и не торопясь. Он сам пел песнопения так, как они были написаны, без фиоритур, без искусственно вводимых звуков. Перед глазами у него была подлинная книга хорового пения, переписанная в бытность митрополита Макария, и многие приходили к нему, чтобы списывать ее; часто также «с помощью Божьей» он пел по памяти[732]. Он читал народу творения отцов церкви, комментируя их, как он знал[733], без риторики, на хорошем русском языке, полном деревенских образов и вольных выражений, вполне понятных всем, с резкой откровенностью, не щадившей ни сильных мира сего, ни слабых. Он говорил с искренностью, не исключавшей подлинного чувства действительности, с изумительным умением сочетая догматы, обряд и этику, с умением извлекать из священных текстов те выводы, которые ему были нужны. Он говорил перед своей паствой в Лопатищах с той же свободой, что и со своими знатными московскими прихожанами[734]. Иногда протопоп Даниил приходил служить в собор, чтобы своим присутствием придать более пышности церковной службе[735]. Толпа все продолжала притекать в Казанский собор. Аввакум страстно любил свой приход, как только может любить его хороший священник. Он любил его так сильно, что, будучи однажды в состоянии получить место в Спасской церкви во дворце, в центре всевозможных почестей, он не выказал ни малейшего желания перейти туда[736].
Не заискивая у знати милостей, Аввакум, тем не менее, испытывал некоторое очарование, когда посещал знатных людей. Как мог он устоять против некоторого рода удовлетворения, когда царь принимал его, попенка, запросто, слушал его, интересовался его семьей, приходил к нему в его приход. В это время между царем и протопопом зародилась истинная дружба, однако она в дальнейшем не помешает ни тому, ни другому по виноваться тому, что каждый из них будет считать своим долгом; вместе с тем эта дружба будет давать отпор жестокостям политики. Царь Алексей по наговору Никона вышлет, отправит в изгнание, будет мучить Аввакума, но он пошлет к отлученному своих самых близких доверенных лиц, чтобы вымолить у него благословение. Аввакум, претерпев от царя адские муки, простит его с нежностью, исключит его вопреки всякой логике из своих анафем и сохранит к нему самую трогательную привязанность. Как это характерно для душ обоих!
Царевна Ирина, старшая сестра царя, и царица Мария, обе очень сочувствующие кружку боголюбцев, выказывали не меньше внимания знаменитому протоиерею[737]. Через них, так же как и через царского духовника Стефана, он устроил всех своих братьев: Козма и другой, имени которого мы не знаем, были причислены в качестве священников к домашней церкви царицы; Евфимий, младший, туда же в качестве канонарха; Герасим был священником в Благовещенском соборе[738]. Впоследствии, в дни его несчастий, эти обе женщины его не покинут.
Аввакум постоянно находится в Москве, где он-таки чувствует себя несколько затерянным в огромных дворцовых залах[739]. Там он встретил Василия Шереметева, боярина, которого он оскорбил своей прямолинейностью в Лопатищах и который в отместку хотел приказать бросить его в воду. Они примирились. Могущественный сановник и оба его сына милостивы к прежнему священнику. Евдокия, жена Василия, будет исповедываться у его брата[740].
И тогда-то Аввакум не преминул посетить Федора Ртищева в его доме у Боровицких ворот[741]; прием, оказанный ему в 1664 году, предполагает уже старые отношения; Аввакум был настолько связан дружбой с Нероновым и другими членами кружка, что желал познакомиться с их другом. Раз познакомившись, они не могли не стать неразлучными.
Среди высоких московских особ были оба брата Морозовы, Борис и Глеб. Первый с 1649 г. был владельцем Мурашкина и Лыскова[742], второй породнился с момента своей второй женитьбы в 1649 г. со Ртищевыми. Федосья Морозова, урожденная Соковнина, была двоюродной сестрой Федора, которую он очень любил, так же как и его отец, Михаил. Ей тогда было около двадцати лет и она была выдана замуж из соображений, в которых любовь не играла никакой роли, за боярина, которому было уже за пятьдесят, поблекшего и в достаточной степени потрепанного жизнью[743]. Наверное, Аввакум был представлен Борису, по-прежнему жизнедеятельному и любознательному, может быть, и Глебу, но совершенно определенно не Федосье. Женщина долга, занятая своим домом и своим маленьким Ваней, которому был один или полтора года, она, как хорошая московская жена, совершенно не покидала своих горниц[744].
Было, конечно, много других сановников, которые считали за честь посещать священника, который был в такой милости: нам известны, например, четыре брата Плещеевы, ученики Неронова, в особенности Андрей[745]. Аввакум находил удовольствие в посещении знати; впоследствии он примет оскорбления и лишения как возмездие за прежнюю роскошную жизнь[746]. Дни эти были, впрочем, коротки. Вскоре политика нового патриарха посеяла смуту и раздоры.
III Москвичи и греки
Никон долгое время разделял мнение большинства своих современников относительно грехов. Своим собратьям – ревнителям – он часто говаривал: «Греки и малороссы потеряли веру; у них нет ни стойкости, ни добрых нравов; роскошная жизнь и почести соблазнили их, они живут как им нравится; они не выказывают больше ни твердого рвения, ни набожности»[747]. Этим он выражал не что иное, как отвращение московских аскетов, постников, встающих ночью для Божественной службы, перед слабостью и возмутительной аморальностью многих греческих духовных лиц[748]. Это не мешало ему, как и другим, почитать Константинопольскую церковь – Матерь и признавать за Константинопольским престолом право получать первенствующие почести и власть.
Но 17 января 1649 года из Иерусалима прибыл Паисий, патриарх Иерусалимский. Это был еще один сборщик пожертвований, но говорил он, в отличие от других, властно. Он произвел в Москве большое впечатление. Он не скрыл свое неодобрение относительно того, что русские обычаи разнятся от обычаев других патриархий. Он показал привезенные им книги. Все, что им не соответствовало, было, по его мнению, подозрительно. Греческая церковь была подлинным источником веры, единственным источником, чистым и непорочным. Недостаточно было ее только почитать как таковую, надо было ей подражать и следовать за ней[749]. Из всего московского духовенства только Никон снискал милость у требовательного патриарха. Они часто встречались. Без сомнения, грек показал своему собеседнику, что московское патриаршество, несмотря на свое богатство, мощь и святость на свой лад, всегда будет производить на внешний мир впечатление полуварварской провинции, пока оно не будет приведено в соответствие с другими восточными патриархиями. Было в интересах русского высшего духовенства, для их достоинства и для их авторитета, теснее примкнуть к церкви более древней и все еще блистательной, пользующейся, в силу традиции, столькими почестями. Впоследствии, как говорил Паисий, сам Никон, может быть, извлечет из этого выгоды. Можно строить только догадки относительно доводов, употребленных Паисием. Но внутренний переворот, происшедший в Никоне, исходил именно от этих собеседований, имевших место в 1649 году. Они заключили союз. Паисий не унялся, пока он не добился назначения Никона на митрополичью кафедру в Новгороде. Она не была свободна, будучи занята престарелым Аффонием. Его отправили в монастырь. Можно ли было совершить подобное нарушение законности, если бы Паисий не был уверен в Никоне и если бы у них обоих не было общего плана?
Необходимо было склонить к этому плану царя. Однако то, чего домогался Паисий, превосходило во многом то, что до того времени практиковалось. Держать связь с Константинополем, советоваться с восточными патриархами не представляло затруднения: самому Паисию ставили разные вопросы, касающиеся вероучения, например, касательно времени служения обедни, поста в среду и пятницу, Великого поста[750]. «Книга о вере» настоятельно доказывала, что, несмотря на Флорентийскую унию и мусульманское иго, греки сохранили нетронутой и без изъяна веру Христову и апостолов и что русские обязаны подчиняться вселенскому патриарху[751]. Предисловие к «Грамматике» Смотрицкого положило основание сличению русских книг с греческими. Не колеблясь продолжали работать в этом направлении: по греческим оригиналам Паисия была отредактирована Кормчая[752]; к Шестодневу, напечатанному в 1650 году, был добавлен важный список неправильностей, основанный «на греческих текстах»; для нового Служебника, который вышел 18 июля 1651 года, также был использован греческий образец[753]. Но уничтожить все особенности русских обычаев и слепо следовать за греческими – это требовало по меньшей мере осторожности. Царь поручил Арсению Суханову, монаху, хорошо знавшему греческий язык и участвовавшему в 1637–1640 годах в посольской поездке в Кахетию, специально снаряженную для исследования тамошних дел[754], сопровождать на обратном пути Паисия с тем, чтобы на месте проверить его утверждения относительно веры и благочестия греков. Суханов покинул Москву 10 июня 1649 года и вернулся 8 декабря 1650 года. Между тем в феврале или марте 1650 года узнали через некоего монаха Пахомия о важном инциденте, происшедшем в Зографском монастыре на горе Афон: греческие монахи сожгли как еретические три московские книги: Кириллову книгу, Сборник 1642 года и Псалтырь с молитвословом; причиной тому была форма крестного знамения: греки допускали только троеперстие. Суханов подтвердил это известие[755] и, помимо этого, сообщил другие различия. Греки считали от Сотворения мира до Рождества Христова не 5500 лет, как это было установлено в Требнике Филарета, Иоасафа и Иосифа, так же как и в Кирилловой книге, а 5508 лет; греки крестили обливанием, а не трехкратным погружением; греки поэтому рассматривали как действительное крещение латинян и не крестили их снова.
Противоречия между греческими и московскими обычаями были обоюдными: и со стороны греков, и со стороны москвичей. Требовала ли проблема разрешения? Большинство думало, что нет. Греки могли сохранять свои особенности, а русские – свои. И те, и другие были в достаточной степени достойны уважения. Таково было мнение Арсения Суханова. В Терговисте, в Валахии, 24 апреля, 9 мая, 3 и 6 июня 1650 года состоялись четыре крупных диспута с греками, в которых Арсений Суханов оправдал русские обычаи.
Мы крестимся двумя перстами, ибо Максим Грек, следуя блаженному Феодориту, нам так преподал. Итак, патриархи, ваши предшественники, вместо того, чтобы считать Максима еретиком, нам восхваляли его как второго Златоуста. Вы ссылаетесь, чтобы нас осудить, на какого-то иподьякона Дамаскина; это какой-то неизвестный человек, никто не знает ни его жизни, ни его трудов, появившихся много позднее последнего вселенского собора. На ваших иконах Спаситель сложил два перста для благословения, как делаем и мы, русские; вы говорите, что это для благословения, но откуда вы взяли, что персты надо складывать по-разному, чтобы благословлять и знаменовать себя крестом? Армяне крестятся, как мы: если они верны преданию, разве мы должны их порицать? А если греки вводят новшества, зачем должны мы им подражать? Вы делаете вывод относительно хронологии, что четыре восточных патриарха признают исчисление переходящих праздников так же, как и греки.
Но Александрия, так же как и Рим, разве они мало ошибались? И затем, что стоят эти патриархи, имеющие под своим управлением одну только церковь? У нас простой архиерей заведует пятьюстами церквей, а новгородский митрополит двумя тысячами. Крестя, как мы это делаем в Москве, мы повинуемся 50-му правилу апостольскому, составленному в Сионе, и не кто иной, как вы изменяете вере, рожденной в святом месте.
В конечном счете, Христос есть единственный источник вероучения, а не вы, сегодняшние греки, вы, которые душите и топите своих священнослужителей и отправляетесь в Рим, чтобы там учиться, вы даже не греки прежних времен: первые Евангелия были написаны не для греков, греки получили Евангелие только после евреев и римлян; во вселенских соборах они были не единственными, но находились рядом с римлянами и другими народами. Тот факт, что вы сожгли книги, правленые в Москве со всей осторожностью, проверенные царем, патриархом и образованнейшими архимандритами и протоиереями, только доказывает наглость, за которую вы ответите, когда приедете за пожертвованиями в Москву; было бы лучше для вас, если бы вы сожгли книги, напичканные ересью, которые вам присылают из Венеции и Англии! Что у вас было хорошего? Всехристианский император, святость, от которой у вас теперь осталась только тень, благолепие, которого вы ныне лишены – нет больше крестных ходов, нет даже крестов над церквами! Все это перенесено в Москву. Теперь московский патриарх носит белый клобук, дарованный Константином папе Сильвестру. Русские имеют право отвергнуть константинопольского патриарха и других, если они отходят от православия, совершенно так же, как вы отвергли папу.
Арсений Суханов, по приезде в Москву, прибавил к отчету о своей миссии подробный протокол своих прений о вере. Эта рукопись произвела сенсацию: он снова поднимал вопрос о том, что «Книга о вере» утверждала о православии греков[756]. Эта рукопись была переписана и распространена. В особенности обрадовала она сторонников status quo.
Но с Арсением прибыло другое духовное лицо, митрополит из Назарета Гавриил. У него было преимущество над Паисием, он знал церковнославянский язык. Он перевел историю падения Византии, составил путеводитель по Святой Земле и другие труды. Царь и его духовник были от него в восторге. Было сделано все, чтобы он остался, но он уехал 20 июля 1651 года, осыпанный подарками, с просьбой молиться за москвичей[757]. В Москве он был энергичным проводником греческого влияния.
Собранные сведения оказались недостаточными: 24 февраля 1651 года Арсения снова послали на Восток. Он должен был навести справки у патриархов Константинопольского, Александрийского и Иерусалимского относительно всякого рода вопросов, важных и незначительных. Может ли епископ совершать богослужение один, без священника и без дьякона? Имеет ли духовное лицо, будучи холостым, право быть рукоположенным в священники? Имеет ли вдовый священник право выполнять церковную службу? Разрешается ли в продолжение одной и той же обедни рукополагать несколько священников и дьяконов? Архиерей, который сложил с себя сан, не совершив никакого проступка, имеет ли право продолжать совершать богослужение в монастыре, куда он удалился? Освящение воды в день Богоявления, должно ли оно происходить дважды, накануне в церкви и утром на иордани? Дозволено ли хоронить в воскресенье? Надо ли петь «Аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже», или же «Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже»? Московское правительство придавало большое значение мнению восточных патриархов, и в особенности патриарха Константинопольского, относительно этих разных точек зрения.
Увы! Едва Арсений и Гавриил уехали, как из Царьграда дошли новости, которые способны были повергнуть доверчивые души москвичей в сомнение и смущение. Конечно, знали, что патриархи в Византии сменялись подобно марионеткам в руках визирей и министров, вытесняя друг друга, занимались симонией, чтобы купить кафедру Златоуста, отлучали друг друга, убивали один другого, отравляли друг друга без стыда и совести[758]. В 1636 году было сразу три патриарха; в 1650 году их было четыре. Парфений II появился в 1644 году, был низложен, в 1646 году выслан и отстранен Иоанникием II и снова восстановлен в 1647 году. Приезжавшие за пожертвованиями бесчисленные посланцы с Балкан не считали для себя грехом порассказать об этих лицах, не говоря уже о специальных посланцах Посольского приказа, которые охотно делали то же. Суханов мог в декабре 1650 года рассказать немало ужасов. Но это была малость в сравнении с тем, что узнали теперь: Парфений был задушен и брошен в море, а виновником был не кто иной, как тот же Паисий, внушительный вид которого так импонировал и который так презирал русские обряды. Это не кто иной, как он, совместно с господарями молдавским и валашским, подкупил турецких убийц! После чего следовали и иные назидательные сообщения: между христианами в Константинополе царит разделение; кандидаты на патриарший престол ведут ожесточенную борьбу между собой; один из них, Мелетий Родосский, с обиды принял магометанскую веру; сейчас на кафедре патриарх Иоанникий; Иоанникий был низложен и заменен Кириллом III, Кирилл III уступил место Афанасию Пателару; Афанасий убежал из Лариссы от Паисия… И это все в течение нескольких месяцев, между 15 мая 1651 года и 30 июня 1652 года[759].
Таким образом, решение вопроса о греках в Москве повисло в воздухе. Противоречие между уважением к Матери Церкви и ее явным падением ставило неразрешимую проблему. Греки, пожелавшие остаться в России, были заключены в монастыри для исправления и назидания в христианской православной вере[760]. Следовательно, они сошли с истинного пути! Священники отказывали грекам в разрешении входить в церковь, называя их «неверными»[761]. Однако то, что было предпринято раньше, именно консультации с восточными патриархами и исправление книг соответственно греческим оригиналам, было принято верующими и ревнителями без возражений. С 1645 до 1652 года нет даже тени разногласия относительно вопросов, касающихся издания книг или отношений с греками.
Конечно, тщательное сличение русских книг с иностранными, а также русских обрядов с иностранными могло интересовать лишь ограниченный круг ученых, интеллигентов, справщиков, царя, Стефана Вонифатьева. Другие, как Неронов, Аввакум, то есть провинциальные протоиереи, стремились только к моральной реформе и совершенно не испытывали никакого желания знать точно, соответствовала ли их вера вере греческой. В общем, они не видели ничего неподходящего в том, что обращались к грекам, чтобы улучшить то одно, то другое. По их мнению, это не противоречило принципу, запрещавшему прибавить или убавить что бы то ни было к самой сущности веры. Это не противоречило и их глубокому убеждению, что теперешние греки потеряли чистоту православия и что эта чистота существует только в Москве.
Но эта терпимость требовала многих условий: необходимо было иметь абсолютное доверие к тем, кто стремился редактировать книги или пересматривать обряды; необходимо было, чтобы не изменяли тексты или обряды, которые по их догматическому смыслу, их символизму или их частому повторению казались существенными. Необходимо было, чтобы не ставили себе за правило постоянно подражать грекам, систематически подчинять русскую набожность, освященную столькими веками и столькими святыми, иностранным обычаям; наконец, необходимо было делать различие между прежними греками и греками теперешними, во всех отношениях соблазненными. То, что какой-нибудь справщик, известный своей набожностью, заимствовал то или другое исправление из рукописи, отражающей древнее православие, было вполне приемлемым, но то, что какой-то авантюрист, прибывший в Москву в обозе какого-нибудь нищего духовного лица, мог бы претендовать на право изменять места в книгах по образцу современных печатных немецких или венецианских произведений, заведомо известных как неправославные или, в лучшем случае, более чем подозрительные, – вот что было причиной решительного протеста.
Этот протест и вылился в определенную форму[762].
IV Два переворота, совершенные Никоном на Печатном дворе; предписание относительно крестного знамения и поклонов
Мы слишком мало знаем об управлении Никона в Новгороде, чтобы можно было говорить о том, пытался ли он в действительности ввести новый способ благословлять[763], но он принял многоголосное пение, как киевское, так и греческое. Митрополит, сделавшись равным тем чужеземным первосвященникам, у которых он находил когда-то столько пороков, был в меньшей степени поражен их религиозным безразличием, чем превосходством в манере себя держать и показать свое высокое образование[764].
Сделавшись патриархом, он решился более энергично продвинуть Русь по пути к эллинизму. Он уверился в самый день своего посвящения в пассивной покорности царя. Другие же должны были следовать за царем. Если и будут противники – с ними можно сладить, то был бы превосходный случай проявить свою только что полученную власть. Необходимо было с самого начала, поскольку эллинизация должна была опираться на книги, быть уверенным в Печатном дворе.
Никон с самого начала крепко взял в руки Печатный двор. Наседка и его товарищи, как они доказали на деле, нисколько не боялись новшеств и не лишены были смелости. Но их симпатии были на стороне киевлян; греческого языка они не знали. Никон непосредственно их не тронул. Однако он вернул из Соловков знаменитого Арсения: монахи, сторожившие его, засвидетельствовали его хорошее поведение и его православие[765]; он освоил в течение этих двух лет епитимии церковнославянский язык; благодаря своим знаниям, моральной неразборчивости и безусловной покорности к своему избавителю, он стал для него человеком необходимым. Чтобы избежать скандала, могущего разыграться в связи с поручением общественного дела столь скомпрометировавшей себя личности, Никон оставил его в своей церкви; затем, в конце октября, он отправил его с неким Зосимой в Новгород для посещения библиотек и покупки греческих рукописей[766]. Это путешествие было успешным: к половине ноября Арсений уже вернулся со значительными приобретениями. Тут было большое количество греко-латинских книг: святые Кирилл и Климент Александрийские, св. Василий Великий, св. Афанасий Великий, Кирилл Иерусалимский, Дионисий Ареопагит, св. Иоанн Златоуст, Деяния семи Вселенских соборов, Плутарх, Демосфен, Геродот, Аристотель, словарь Калепина и другие. Были и «латинские» книги: св. Киприан Карфагенский, три трактата по медицине, сокращенные летописи; и в особенности драгоценные греческие рукописи: деяния Флорентийского собора, 3 тома творений св. Григория Богослова, Номоканон с комментариями, три Устава, девять служебников на пергамене, следовательно, очень древних[767]. В Москве Арсений снова начал свои уроки в Чудовом монастыре. В то же время он выполнял для своего покровителя работу по переводу[768].
В распоряжении патриарха был еще Епифаний Славинецкий; последний был гораздо достойнее Арсения, и командовать им было трудно, но, пропитанный греческой культурой, он искренно был убежден в превосходстве греческого учения; патриарх сейчас же по получении своего сана поручил ему перевод одного важного текста, нужного ему для осуществления своих проектов: Деяния Константинопольского собора 1593 года. Это деяние подтверждало законность учреждения московской патриархии. Одновременно там было сказано, что новое патриаршество должно уничтожить все русские особенности и согласовать всю церковную жизнь с верой, церковной практикой и обрядами греков: это указание, если оно прямо и не внушило Никону его новшеств (как ему хотелось его истолковать), постоянно служило ему оправданием[769].
Наконец, Славинецкий воспитал себе ученика, замечательного молодого монаха Чудова монастыря по имени Евфимий. Этот редкий человек знал греческий, латинский, польский и даже древнееврейский языки. Как канонарх монастыря, он свободно располагал всеми его рукописями. Когда умер в июле или августе 1652 года добрый Шестой Мартемьянов, Никон назначил Евфимия на его место справщика[770]. Таким образом, он не только создавал в Чудовом монастыре центр интеллектуальной жизни, свободный от всяких стеснительных традиций, но начал также и покорение Печатного двора.
Никон внимательно наблюдал за изданием книг. 31 августа 1652 года сдали в печать Апостол[771]. Справщики ориентировались на издание 1648 года, но они его сличали с различными греческими текстами, а также со славянской рукописью Посланий, так же как и с Острожской Библией и с текстами, вошедшими в Беседы Иоанна Златоуста киевского издания. В случае сомнения они запрашивали патриарха: так, 13 сентября 1652 года в его домовой церкви состоялось совещание, посвященное известному «вопросу о трех свидетельствующих»[772].
Перепечатка Служебника[773], Канонника[774] состоялась без изменений. Но когда коснулись Псалтыри с молитвословом, отданной печатниками 8 октября, Никон приказал внести исправления: раздел, требовавший шестнадцати поклонов во время произнесения молитвы Ефрема Сирина в продолжение Великого поста, и раздел относительно крестного знамения должны были быть исключены без замены.
Это важное решение, принятое только одним патриархом, который не посоветовался ни с каким церковным органом, было воспринято Печатным двором как неприемлемое новшество. Справщики поняли, очевидно, следствием чего оно было, и запротестовали. Подали ли они сами в отставку, были ли они, как это весьма вероятно, рассчитаны из-за отсутствия идеологической гибкости, во всяком случае, мы видим после ноября 1652 года, как сразу исчезли из церковных ведомостей монах Иосиф (это был не кто иной, как Наседка, ставший после смерти своей жены монахом в июле 1651 года)[775], монах Савватий, служивший с сентября 1635 года, и молодой мирянин Сила Григорьев, назначенный весной 1652 года. Половина справщиков ушла. Сила был заменен монахом Матфеем, которого Никон знал по Новоспасскому монастырю; архимандриту Сильвестру за его покорность было увеличено содержание с 30 до 70 рублей; это продолжалось до того момента, когда Никон назначил его своим ближайшим помощником с титулом митрополита Крутицкого[776]. Строптивые были удалены, Наседка был отослан в Кожеозерский монастырь[777]. Евфимий, а через него и Никон стали хозяевами Печатного двора.
Патриарх не скрывал своего плана полного изменения церковного устройства. 11 января 1653 года он велел составить список монастырей, обладавших древними рукописями, чтобы знать, где их можно было бы получить в случае переиздания церковных книг с исправлениями[778].
Измененная Псалтырь появилась в свет 11 февраля 1653 года[779]. Конечно, уничтожение двух хорошо известных и укоренившихся положений повергло умы в тревожное состояние. Что будет в дальнейшем? На неделе перед Великим постом между 20 и 27 февраля появилось предписание патриарха, давшее ожидаемый ответ: надо было знаменовать себя крестным знамением тремя перстами и ограничиваться во время молитвы Ефрема Сирина выполнением 12 поясных поклонов при троекратном земном поклоне в начале и в конце молитвы[780]. Но это была уже целая революция.
Итак, Никон порывал со своими старыми друзьями. Новый патриарх порывал с православной верой. Ведь это – ересь отказываться преклонять колена, так ясно было написано в Правилах блаженного Никона Черногорца[781]. Анафема тому, кто не знаменуется крестным знамением двумя перстами, заявил самый освященный из всех русских соборов; это же повторяли все книги богослужебные, как полемического характера, так и канонические[782]. Молитва Ефрема Сирина во время поста была в ежедневном употреблении. Крестное знамение совершалось ежеминутно, оно символизировало два существенных догмата: Воплощение и Триединство. Почему же этот переворот? У кого Никон заимствовал эти новшества? У греков? У каких греков? У этого ренегата Арсения[783]. А эти развращенные греки, не у латинян ли они заимствовали? В переживаемое трудное, смутное время, при всей своей горечи, произведенной разрывом, глубже в вопрос не заглядывали. Никто не задавался вопросом, уничтожал ли Никон вообще земные поклоны, или только некоторые из них, при особой молитве. Не интересовались тем, чтобы узнать, в какой мере крестное знамение было связано с самим существом веры. Видели только грубое насилие, желание патриарха внести повсюду изменения. И тут стали вспоминать обо всех патриархах, известных в истории, надменность и произвол которых произвели столько ереси и расколов, а также об императорах, соблазненных этими патриархами и преследовавших православных. И вдруг – увидали себя накануне нового преследования! Неужели русская Церковь, до сего времени чудесным образом спасенная, последнее прибежище истинной веры, в свою очередь потеряла благодать[784]? Падение Рима, падение Византии, неужели же теперь произойдет падение и Москвы? Но тогда это не что иное, как пришествие антихриста[785]! И действительно, ведь его пришествие предсказано на восьмое тысячелетие.
Ввиду встревоженности умов того времени, эти выводы напрашивались сами собой, вытекали один из другого, мало-помалу нагромождались и почти фатально приводили из-за изменения каких обрядовых моментов к идее о бесповоротной и окончательной катастрофе во всем мире, и прежде всего, в Церкви[786]. Поэтому-то сердца озябли и ноги задрожали[787].
V Сопротивление боголюбцев сломлено: Аоггин, Неронов, Аввакум арестованы
Боголюбцы все находились как раз в Москве. Там был Аввакум и Даниил из Костромы; Ермил из Ярославля; Лазарь из Романова на Волге, из Ростовской епархии, то был священник уже в летах, ибо был рукоположен при Филарете[788], но начитанный, полный рвения, интересующийся диалектикой; Михаил, священник Страстного монастыря; Павел епископ Коломенский, и, без сомнения, были еще другие, имена которых до нас не дошли, не говоря уже о мирянах. Все они собрались, чтобы обсудить положение[789].
Какое было принято решение, мы этого не знаем. Нужно ли почтить кружок боголюбцев за редкую стойкость, которую вскоре выкажет большинство его членов? Без сомнения, Стефан и Неронов подготовили других членов, преподав им строгое христианство и полную преданность своему служению. Но Стефан, кротость которого стремилась все примирить и который, будучи не в силах бороться, вскоре отправится в монастырскую келью, где и скончается, а равно и Неронов, сначала высланный, а затем подчинившийся, были неспособны увлечь своих собратьев на путь непримиримости. Это выпало на долю Аввакума. До этого времени Аввакум был только учеником Неронова; теперь, наряду с ним, он сделался главой течения.
Неронов, по своему обычаю, поручил свой приход другу и в первую неделю Великого поста удалился в Чудов монастырь, чтобы испросить совета у Бога. В конце своих девятидневных молитв он услыхал голос, исходящий от образа Спасителя: «Иоанне, дерзай и не убойся до смерти: подобает ти укрепити царя о имени моем, да не постраждет днесь Русия, якоже и юниты». Это указание Неба было, естественно, сообщено боголюбцам, оно показывало им одновременно и одобрение свыше, и образ действия, который надлежало принять[790]. Казалось, царь был первым прибежищем. Он один мог воспрепятствовать властному патриарху. Аввакум не терял времени; вместе с Даниилом он отыскал в заслуживающих доверие книгах тексты в пользу двуперстия и коленопреклонения. Они извлекли из этих книг объемистые выдержки, которые и вручили царю. Это была первая из бесчисленных челобитных, с помощью которых приверженцы старой веры с твердой надеждой приостановить новшества старались вли ять на монарха. Обличающий его документ Алексей, говорит Аввакум, без всяких околичностей передал Никону[791].
Можно ли, тем не менее, считать, что этот поступок был бесполезным? Предписание, конечно, осталось в силе. Но для того, чтобы привести всю Русь к тому, чтобы она держалась троеперстия вместо двуперстия, надо было прибегнуть к мерам принуждения, что и было сделано позднее. Однако в этот момент не было видно, чтобы было сделано хоть что-нибудь для осуществления на практике данного новшества. Даже в 1654 году, когда был созван очередной собор, об этом не было речи. Коленопреклонения остаются в силе, ибо в 1655 году еще Павел Алеппский отметил, что «во время Великого поста русские не делают поясных поклонов, но совершают падение ниц»[792]. По-видимому, Никон отказался от этих двух нововведений, и, может быть, это было достигнуто благодаря настоянию царя. Он слукавил. В мае месяце он приказал внести в экземпляры Кормчей, бывшие еще на складе, несколько дополнений: в начале Кормчей вставлялась грамота об установлении Московского патриаршества и далее грамота о возведении на патриарший престол Филарета патриархом Феофаном[793]. Наконец, были добавлены «О Константиновом даре»[794] и сочинение об отпадении латинян. Предисловие было заменено другим, притом очень пространным[795]. Эти изменения были внесены преднамеренно: они были предназначены к тому, чтобы усилить власть патриарха. Чтобы повысить пышность совершаемой им литургии, Никон поручил бывшему Константинопольскому патриарху Афанасию Пателару, прибывшему в Москву 16 апреля, составить патриарший Служебник-чиновник[796]. Предшественники патриарха Никона обходились без него, но он, как и новая Кормчая не содержал в себе ничего, что могло бы возбудить протесты.
Казалось, что в данный момент спокойствие восстановлено. Как раз в Пасхальную неделю 1653 года произошла очаровательная сцена, которую расскажет позднее, из своей поземной темницы, пустозерский узник. Царь, обходя церкви, чтобы раздать пасхальные яйца, пришел в Казанский собор. Он получает должные почести от клира, Аввакума и его семьи, но кого-то, кого он хорошо знает, тут не хватает – маленького Вани. Он посылает за ним. Терпеливо ждет, пока его не отыскали на улице, где он играет. Ребенок отказывается поцеловать руку, которую ему протягивают для поцелуя: ведь он не священник, зачем же целовать? Царь сам подносит свою руку к устам ребенка, дарит ему два яйца и гладит его по головке[797]. 8 июля, в праздник Казанской иконы Божией Матери, Неронов и его причт получают после благодарственного молебна, на котором, конечно, присутствовал и царь со своей семьей, обычное подаяние: 16 алтын и 4 деньги[798]. Несколько позднее кружок боголюбцев чуть было не одержал большого успеха, низложив соловецкого архимандрита Илию, человека не энергичного и без влияния, обличенного Герасимом Фирсовым; на его место назначили Никанора, одного из боголюбцев, человека с весьма твердым характером. Прежний доверенный Соловков в Вологде был уже в Москве, и все было уже наготове, когда Никон вступился за Илию. Никанор, во всяком случае, был назначен архимандритом монастыря св. Саввы Сторожевского в Звенигороде, любимого царского монастыря, на расстоянии одного дня пути от столицы[799]. Это была важная победа, но она была и последней.
Царь и его духовник желали спокойствия. Но Никон, помимо неприязни, которую он мог питать к тем, кто нанес ему поражение, вообще торопился отделаться от кружка протопопов и попов, которые всегда стояли поперек его дороги. Случай скоро представился.
Протопоп Логгин в Муроме своими строгостями навлек на себя много ненависти. Однажды, присутствуя на обеде у воеводы этого города, когда хозяйка приблизились к нему, чтобы испросить у него благословения, он обратился к ней с резким вопросом: «Ты не набелилась?»[800] Один из приглашенных сейчас же подхватил: «А, так ты недолюбливаешь белила? Однако белила идут на то, чтобы рисовать Спасителя и Пресвятую Богородицу и всех святых. Так ты не почитаешь святые образа?» Воевода и многие другие тоже подхватили это: то был удачный предлог, чтобы обрушиться на протопопа, стеснявшего их своей строгостью. Напрасно он пытается защищаться от такого смехотворного обвинения: «Всему свое место. Рады бы вы были, если бы вам в глотку залили краски, которыми пишут иконы? Ведь иконы только изображения: Спаситель и все святые несравненно выше». Своими словами он только отягчает свое положение. В Москву без промедления отправляется донос: протопоп Логгин порочит-де образа Спасителя, Его Пречистой Матери и всех святых.
Никон отлично знал цену подобным обвинениям и вообще быстро расправился бы с ложным доносом. Он предпочел созвать в Москве в своей домовой церкви заседание Собора, на которое он вызвал Логгина. Невзирая на его защитительную речь, он приказал сейчас же его арестовать[801]. На одного члена кружка стало меньше.
На этом Соборе присутствовал Мисаил, епископ, в подчинении которого находился Логгин[802]; он слишком зависел от Никона, чтобы сказать что-нибудь. Один Неронов протестовал против совершенной несправедливости. Он подчеркнул тогда же характерную черту Никона – его неумолимую строгость и произвол, черты, которые, по его мнению, много будут способствовать тому, чтобы восстановить против него духовенство: «В этом ли заключается твоя благосклонность к духовенству?»[803] Никон, будучи новгородским митрополитом, сломал свой посох, избивая монахов, выпущенных из Соловков[804]; затем по дороге в Антониев Сийский монастырь он низложил, неизвестно почему, архимандрита Феодосия, выполнявшего свои обязанности в течение 8 лет, известного своей святой жизнью, своей неутомимой деятельностью, своей любовью к книгам и иконам[805]. Отныне же он намеревается приняться за кружок боголюбцев!
Итак, около 10–15 июля между Никоном и Нероновым началась война. На заседании Собора, выступая против Логгина и отвечая Неро нову, который упрекал его за то, что он действует, не посоветовавшись с царем, Никон в минуту гнева сказал: «Очень мне нужны его советы, плевать мне на них!» Все собравшиеся услыхали его дерзкие слова. Неронов констатировал их. Он стал публично порицать Никона. Затем, заручившись свидетельствами Ионы, митрополита Ростовского, Ермила, протопопа ярославского, и монаха Акакия, не менее возмущенных, чем он, он написал царю донесение по всем правилам: доносить об оскорблении величества было почти обязанностью. Положение, в котором очутился Никон из-за своей вспыльчивости и вследствие уверенности в бесконечном превосходстве своего святейшего сана, было очень трудное, но и Никон не дремал.
Он поспешно вызвал из Волоколамска прежнего священника Казанского собора, Лаврентия, ранее сосланного туда за кражу, и побудил его, в обмен на освобождение, заставить соборный клир подписать жалобу против своего протоиерея. Затем он созвал второе совещание Собора – вероятно, в последних числах июля – против Ионы и Неронова, обвиненных им в клевете против главы Церкви. Сначала Иона подтвердил свое показание; затем, разрыдавшись, бросил Неронову фразу: «Бог тебе судья, Иван. Зачем ты хочешь поссорить нас с патриархом?»[806] В конечном счете Иона все отрицал. Акакий не был допрошен. Перед страшным патриархом Неронов остался один, только с Ермилом, своим родственником. Чтобы защищаться, он начал нападать сам: он стал упрекать Никона в том, что он верит голословно всем клеветам, пущенным против боголюбцев, преследует их и безжалостно губит; преследует даже тех, кого некогда он считал безупречными и достойными занимать самые важные должности; окружает себя людьми, которых он же в свое время называл мошенниками; проклинает теперь, когда он подчинил себе царя, Уложение, которое он когда-то из страха одобрял; далее, в том, что он приказал нещадно бить одного соловецкого монаха, притом в воскресенье[807]. Неис тово атакованный в свою очередь протодьяконом Григорием, Неронов, наконец, заявил, что он не признает авторитета лжецерковного сборища, подобного тем, которые осудили святых Иоанна Златоуста и Стефана Сурожского[808]. Тем не менее он был осужден в силу 55-го правила апостольского, далее арестован и заточен 4 августа в Новоспасский монастырь[809]. Покончив с ним, Никон покончил тем самым с одним из самых решительных членов кружка.
В Казанском соборе оставался Аввакум. Никон самым решительным образом дал ему почувствовать свое недовольство. Вот каким образом сам пострадавший изложит, через приблизительно 12 лет после совершившегося, в послании к царю это жгучее воспоминание: «А бывшей патриарх Никон мучил меня на Москве: бил по ногам на правеже недели с три, по вся дни без милости, от перваго часа до девятаго. Блаженныя памяти протопоп Стефан деньги ему, патриарху, давал на окуп, и на всяк день зря из ног моих полны голенища крови, плакал. Но безчеловечный он Никон, зря протопопа Стефана о мне плачуща, не умилися»[810].
Такого рода наказание было предназначено злостным неплательщикам. Дело шло о деньгах, которые требовало патриаршее казначейство у Аввакума за извещение о бракосочетании в Юрьевце; но ведь он внес больше, чем от него требовалось? Были ли еще другие недоимки? Нельзя предположить, чтобы тут действовали махинации каких-то второстепенных подчиненных лиц, недовольных получением скудного «на чай»: для этого Аввакум был слишком большим лицом, а кроме того, вмешательство Стефана принудило бы их отступиться. Нет, тут действовал совершенно определенно сам Никон, который карал своего земляка, который недостаточно им восхищался[811]. Никон не мог не знать, что Аввакум высказался против его избрания. Нет ни одного указания, которое позволило бы нам датировать эту экзекуцию. Она могла только углубить пропасть между патриархом и его прежними друзьями.
У Аввакума были другие причины для более серьезной неприязни по отношению к Никону. Тот факт, что Никон окружал достоинство и патриаршие функции всем великолепием и всевозможной пышностью, соответствовал желаниям членов кружка. Но кололо глаза то, что он любил личную роскошь, что он гнался за чувственными наслаждениями, что он, по меньшей мере, был очень далек от традиций аскетизма, которые ревнители желали возродить и которые когда-то он сам исповедовал. Иностранцы отмечали это: «Он хорошо угощает, и сам хорошо кушает, у него всегда на лице веселость, которую он выказывает даже в самых серьезных делах», – так писал Олеарий, согласно данным своих информаторов[812]. Его предыдущее поведение, его слезы, его «жалобные вздохи» и его строгость по отношению к другим – все это было только лицемерием. А отсюда был один шаг, чтобы начать подозревать его собственную нравственность. Ходили скандальные слухи: «У него, в его дворце, находятся фаворитки, молодые женщины, монахини, которые его услаждают…» Аввакум, может быть, не прислушивался бы совершенно к этим грязным сплетням, если бы он не получал непосредственного подтверждения тому: «У меня жила Максимова попадья, молодая жонка, и не выходила от него: когда егда дома побывает воруха; всегда весела с воток да с меду; пришед, песни поет: у святителя государя в ложнице была, вотку пила…»[813]
Никон был для Аввакума одновременно еретиком из-за его предписания относительно крестного знамения и коленопреклонений; изменником, вследствие его разрыва с кружком, нечистым сластолюбцем из-за своего распущенного поведения; лицемером вследствие разрыва между его прошлым и настоящим; тираном из-за его жестокости, чем-то вроде предтечи антихриста. Когда Никон объявил войну боголюбцам, Аввакум принял вызов во главе их, объявил о необходимости сопротивления истинно верующих лжепатриарху.
В течение двух недель, последовавших за арестом Неронова, происшествия следовали с такой быстротой, что трудно даже установить их хронологию. 5 августа Неронов был переведен из Новоспасского монастыря в Симонов «под крепкое начало». Посещение церкви было ему запрещено, ни родственники, ни посторонние люди не могли его навещать, и в продолжении недели стража наблюдала за ним при свете свечей[814]. Аввакум и Даниил Костромской составили в его пользу и против Никона челобитную царю: в ней были следующие слова: «О, благочестивый царю, откуда се привнидоша во твою державу! Учение в России не стало и глава от церкви отста, понеж озоба вепрь от луга и инок дивии поял и есть». Эта единственная фраза, которую мы знаем из этой челобитной. Челобитная была переписана Симеоном Бебеховым и передана по назначению от имени боголюбцев. И на этот раз царь передал ее Никону[815]. Другая челобитная, которая, как Аввакум надеялся, дойдет до царя через посредничество Стефана, не имела большего успеха: духовник испугался и оставил ее у себя[816]. Последняя, по крайней мере, не повредила никому. Но первая челобитная возымела совершенно противоположное действие, чем то, которое от нее ожидали. Неронов 12 августа был взят из своего монастыря, привезен с бешеной скоростью так, что он думал, что умрет от толчков в своей повозке, в Кремль, «на Царе-Борисовский двор», где был безжалостно избит. Затем он был отведен в Успенский собор, где, по приказанию патриарха, новый Крутицкий митрополит Сильвестр снял с него скуфью, знак священнического достоинства. Это было низложение, официальное лишение сана. После этого бывший протоиерей был снова отвезен в Симонов монастырь и посажен на цепь; длинную цепь, которая обхватывала все тело от шеи до щиколотки. На следующий день, 13 августа, в субботу, Никон подписал приказ, по которому Неронов высылался в Спасокаменный монастырь[817], само месторасположение которого в полной мере соответствовало тому, что требовалось от тюрьмы: монастырь находился на глухом Севере, в Вологодской стране, на небольшом острове на озере Кубенском, недосягаемом добрую половину года.
Подписавшие челобитную были арестованы. Даниил, костромской протопоп, подвергся в Страстном монастыре в присутствии царя унизительной церемонии лишения сана. Его тезка, темниковский протопоп, был заключен в Новоспасский монастырь[818]. Другие, после недельного заключения в тюрьме, были нещадно избиты и лично Никоном объявлены отлученными от церкви[819].
У Аввакума при дворе было слишком много могущественных защитников, чтобы с ним можно было поступать подобным образом. Никон применил к нему такую же тактику, как и к Неронову. Он возбудил против него злобу или зависть духовенства Казанского собора. Тех, кто согласился писать против своего духовного отца, своего давнишнего протопопа, тех людей было нетрудно и восстановить против его возможного преемника, в сущности, не имеющего официальной духовной должности. Посланный от патриарха протодьякон Григорий обратился к их самолюбию: «Разве, – говорил он, – вы сами не способны проповедывать, что вы позволяете всегда Аввакуму обращаться к верующим?» Как раз 12 августа Аввакум произнес проповедь на паперти собора, то есть стал говорить перед всеми проходящими[820], в присутствии громадной толпы; арест такой видной личности, как Неронов, был предметом всех разговоров. Сам Аввакум, наверное, только что узнал о сцене снятия сана, может быть даже присутствовал при ней. Только что арестовали его собратьев, Даниила и других; довольно мягкости и уступчивости! Он не мог удержаться, чтобы не излить своего негодования в крайне резких, даже неистовых выражениях. Его слышали иподьяконы Никона, которые ходили по церквам и шпионили за подозрительными лицами. После этого священники Казанского собора ясно поняли, что он погиб. Во время всенощной, после «Ныне отпущаеши», Иоанн Данилович сговорился с Петром Ананьичем: «Иди ты, чтобы Аввакум не пошел первым… Прочти Евангелие вместо Ивана Нероновича!» Аввакум пожаловался: «А мне сейчас что делать?» – «Когда придет твоя очередь, ты можешь прочесть хоть десять листов, если хочешь!» – «Вы, наверное, забыли советы отца нашего, какие он давал, когда отлучался! Ни разу еще вы не оспаривали мое первенство. Отец наш доверял мне приход: так и надо, разве я не ваш протопоп?» – «Протопоп ты в Юрьевце, но не у нас! Иван Неронович нас ни о чем не предупреждал. И если бы он это сделал, не ему было бы тебя назначать». После этого характерного спора Аввакум отказался читать Евангелие и покинул церковь вместе со священником Симеоном Трофимовичем, своим земляком из Нижнего, заявив прихожанам, что другие священники отняли у него Евангелие и прогнали его. Правда заключалась в том, что они хотели сделать из него чередного священника: «Когда придет очередь, в понедельник, среду, пятницу, тогда ты будешь читать». Ясно, они отказывались считать его своим протопопом!
Вероятно, 16 августа, поскольку 14 и 15 были праздниками, Аввакум сопровождал своего наставника по дороге изгнания на некоторое расстояние от Москвы. После своего возвращения, вместо того чтобы вернуться в Казанский собор, он вошел в часовню св. Аверкия, которая принадлежала собору, приказал звонить к вечерне и отслужил вечерню до прибытия священника Амвросия, который был настоятелем этой часовни. Но Амвросий, предупрежденный Петром Ананьевичем, запретил ему всякий доступ в нее. Тогда Аввакум, отказываясь возвратиться в собор иначе, как в качестве протоиерея, приготовился к тому, чтобы служить всенощную в субботу 20-го в сарае, или «сушиле», на Нероновском участке при соборе. Много прихожан, в особенности духовные чада Неронова, последовали за ним. Самые усердные шли в самую церковь, чтобы переманивать других. Если кто-нибудь соблазнялся относительно этой службы, совершаемой в подобном месте, ему сейчас же отвечали: «Бывают случаи, когда конюшня лучше церкви». Согласно одним, около пятидесяти верующих, согласно другим, сто покинули церковь ради «сушила». У Аввакума в этот торжественный вечер было такое чувство, что он снова переживает мучения великого Иоанна Златоуста. Он извлек из его Жития одно из поучений для всенощной. Никогда, наверное, эта малая паства и ее пастырь не испытывали такого молитвенного подъема, как в этой непривычной атмосфере оторванности, бедности и преследования за правду. Уже отпели вечерню и утреню и начали уже читать часы, когда импровизированный дом молитвы был захвачен посланными от властей. То были боярин Патриаршего разряда Борис Нелединский и отряд стрельцов.
Иоанн Данилович, обеспокоенный отпадением некоторой части своих прихожан, убедил своих собратьев, других священников, довести это дело до сведения патриарха[821]. Стрельцы не дали священнику закончить Божественную службу. Они опрокинули аналой и богослужебные книги и растоптали их. Они бросились на священника, который был в епитрахили, избили его, таскали его за волосы. Они арестовали 33 верующих. Сначала всех отвели на Патриарший двор. Оттуда верующие были отправлены в тюрьму, где оставались неделю. Затем, вероятно, в следующее воскресенье, во время обедни, они были торжественно прокляты и отлучены от Церкви[822].
Аввакума сейчас же посадили на цепь[823]. На заре этого унылого воскресенья его втащили на телегу и привязали за вытянутые руки к перекладинам. В таком состоянии его везли через весь город вплоть до Андроникова монастыря. Там его, по-прежнему закованного в цепь, бросили в подземную тюрьму, совершенно темную и пустую. Его оставили без воды и еды. В конце третьих суток кто-то принес ему хлеба и «щец». Таинственного посетителя, который в темноте взял его за плечо, вложил ему ложку в руки и также таинственно исчез, он с полным правом мог принять скорее за ангела, чем за человека.
Со следующего дня, наверное, по просьбе Стефана, режим был смягчен: ему были позволены посещение архимандрита и монахов, выход из подземелья, дана лишь небольшая цепь и разрешен доступ в церковь. Но Аввакум на упреки в непослушании отвечает обвинениями в ереси. Он отказывается идти в церковь; его тащат туда насильно, тащат за волосы, за его цепь; его избивают; ему плюют в лицо. Этот отказ бросает свет на его образ мыслей: он уже тогда считал, что церкви, перешедшие на сторону Никона, – осквернены и что истинно верующий не должен в них входить. Может быть, вовсе не из-за оскорбленной гордости или наперекор всем он не хочет возвращаться в Казанский собор! Очень вероятно, что все его поведение согласовано с Нероновым во время их пути, совершенного вместе.
31 августа узник был взят из тюрьмы и отведен на Патриарший двор еще более позорным образом, пешком, в то время как его, подобно разбойнику, держали за длинные рукава рясы. Его допросили в Разряде относительно коллективной челобитной, недавно врученной в защиту Неронова. Он брал на себя всю ответственность, делал непричастным Бебехова, который скрылся во время первых арестов, а затем пришел, чтобы отдаться в руки властям[824]. Можно ли было ставить ему в упрек с канонической точки зрения совершение богослужения в «сушиле», как это делали потом многие историки? Требник 1652 года, согласно 58-му правилу Лаодикийского собора, предавал анафеме тех, кто утверждал, что можно совершать освящение Святых Даров в простых домах[825]. В своем «сушиле» Аввакум не совершал литургии, но только служил всенощную, которая, в крайнем случае, может происходить и в частном доме. С канонической точки зрения он был безупречен. Это, однако, не помешало протодьякону Григорию, собаке-ищейке Никона, наброситься на него и осыпать его бранью. В конце концов Никон снова отослал его в Андроников монастырь[826].
На следующий день, 1 сентября, «по приказу царя и патриарха», боярин князь Александр Трубецкой и дьяки Григорий Протопопов и Третьяк Васильев были уведомлены о том, что его святейшество патриарх Никон решил выслать бывшего протоиерея церкви Входа Господня во Иерусалим в Юрьевце на Волге, из-за учиненных им больших беспорядков, в сибирский город на Лене, с женой и детьми[827]. Так был назван Якутск, самый дальний пост, занятый русскими в Сибири.
В это же 1 сентября 1653 года в Успенском соборе в присутствии царя и царицы было совершено низложение протопопа Логгина. Оно послужило поводом для бурного инцидента, ибо после того как, согласно обряду, Логина остригли и сняли с него рясу и кафтан, он в припадке исступления плюнул в лицо Никону и продолжал его ругать, затем вдруг сорвал с себя рубашку и бросил ее в лицо Никону. В эту минуту никто не придал этому происшествию большого значения; по-видимому, удовлетворились тем, что, избивая его кулаками, снова надели на него эту необходимую ему одежду; ибо Аввакум, в письме, написанном несколько дней спустя Неронову, сообщил только, что «его выгнали из церкви в рубашке, сильно избив» и что затем его волокли несколько раз по земле от Патриаршего двора до Богоявленского монастыря. 14 сентября он снова был отослан в свое село в муромских землях под наблюдение своего отца, с заявлением глашатая, чтобы его больше не почитали ни протопопом, ни священником. Но позднее, когда приверженцам старой веры понадобятся знамения, чтобы доказать, что они правы, история этой рубашки будет ими использована чудесным образом. Упав на престол, она расстелилась, покрыв чашу и дискос, которые совершавшие богослужение после выхода со Святыми Дарами поставили туда. Она, эта рубашка, была превращена Провидением в священный покров.
Аввакум, который не был свидетелем этой сцены, воспринял в 1664 году в Москве это поучительное толкование, которое он позже отметит в своем Житии, так же как и другое происшествие, якобы чудесное, с шубой и с шапкой[828]. Как в посещении ангела в Андрониковом монастыре, так и в происшествии с рубашкой не было никаких апокрифических подробностей; между тем со временем атмосфера чуда стала ощущаться все более и более. Аввакум остался еще недели две в Андрониковом монастыре. Наверное, в это время он исцелил одержимого из Ткац кой слободы (Хамовников), находившегося на покаянии за пьянство. Он исцелил его одними своими молитвами и запретил ему говорить об этом с кем бы то ни было, как это часто делал Христос. Поэтому об этом ничего не знали, и судьба его не изменилась[829]. Аввакум продолжал быть отрезанным от внешнего мира: одно письмо Неронова к нему не дошло. Он даже был разлучен с семьей: 14 сентября он еще не знал, что у жены его родился 6 сентября сын, названный накануне Корнилием[830].
15 сентября должен был произойти обряд лишения сана. Утром Аввакум был отведен в собор; телега его повстречалась с большим крестным ходом, который направлялся из Кремля в Сретенский монастырь, ибо в этот день был праздник Владимирской иконы Божией Матери[831]. Как тяжело! Во время начала обедни осужденный оставался на пороге церкви. Наконец, его ввели для страшного момента. Но вдруг царь сжалился над своим любимым протопопом: видели, как он сошел со своего трона и направился к патриарху, чтобы с ним поговорить. Аввакум получил помилование. Он не был расстрижен[832]. Ему оставили его звание и даже условия его ссылки были смягчены. Его выслали даже не на Лену, но в Тобольск, в распоряжение архиепископа Симеона. Этот последний, подобно всем его предшественникам, как раз в письме, полученном в феврале, требовал священников добродетельных и усердных[833]: Сибирский приказ сообщил Симеону, что ему присылают бывшего протоиерея из Юрьевца с его семьей, чтобы он его использовал в Тобольске или в другом месте[834]. На следующий день или в один из последующих дней Аввакум и Анастасия, а равно их дети: Иван, Агриппина, Прокофий и последний, которому было только около десяти дней, вместе с племянницей Мариной, в сопровождении казаков Иродиона Иванова из Енисейска и Ивана Степанова из Тюмени, вдобавок с тремя стрельцами из Москвы, которые должны были их сопровождать до Ярославля, направились по большаку в ссылку[835].
Еще раз жизнь Аввакума была разбита, на этот раз еще сильнее. Теперь не только он был побежден, но были побеждены и его собратья, к которым он примкнул с самого начала своего священнического служения. Из первых вдохновителей движения против старой веры был один Никон, автор разгрома, жестокий тиран, еретик, предтеча антихриста; второй – духовник Стефан, который выказал себя поразительно слабым; то был друг и утешитель лишь втайне, который не оказывал никакого сопротивления патриарху. Третий был царь – его поведение было полной загадкой. В тяжелые моменты он, как бы случайно, отсутствовал: когда Неронов был арестован, он производит смотр на Девичьем поле. Но через два дня он уже пировал с Никоном[836]. Он присутствовал при низложении Логгина и Даниила, но его выступление, вполне благосклонное по отношению к Аввакуму, разве не было признаком того, что надменный патриарх не предупреждал царя, а ставил его перед уже принятыми решениями? Царь был верен своей дружбе, но он был как бы околдован тем, кто вырвал у него эту дьявольскую клятву послушания патриарху. Что касается других, то наилучшие – Неронов, Даниил, Логгин, даже сам Аввакум – были арестованы, высланы, лишены священнического сана. Кое-кто смог найти приют у друзей, менее уронивших себя в глазах власти, как, например, Лазарь – в монастыре св. Саввы[837] у Никанора. Кружок боголюбцев, рассеянный на все четыре стороны, перестал существовать.
Но уже вид жертв внушал участие к их судьбе: прежде чем отправиться в Сибирь, Аввакум встретил сочувствующую душу: то был Третьяк Васильев, прозываемый Башмак[838]. Этот старый, живший в Сибири приказный человек, хорошо образованный, был так тронут, что спустя несколько месяцев он ушел в Чудов монастырь и позднее также пострадал за старую веру.
Глава VII В Тобольске (конец 1652 – 29 июня 1655)
I Симеон, архиепископ Тобольский
Путь изгнанников проходил, как обычно, через Переславль Залесский, Ярославль и Вологду. Переезд совершался в повозках. В этих трех городах у Аввакума были собратья, более или менее открыто ему симпатизировавшие: архимандрит Тихон, протопоп Ермил – если он только к тому времени вернулся на свою прежнюю должность, а также архиепископ Маркел. Аввакум был под стражей, и более того, по приказу, ссыльных было предписано везти возможно быстрее и им было запрещено задерживаться где бы то ни было[839]. Однако смена стрельцов в Ярославле позволяла заменить всю строгость приказа некоторыми послаблениями; В Вологде сухопутная дорога кончалась и начинался водный путь; вставал вопрос, было ли там наготове судно, чтобы плыть вниз по Сухоне? Само время года торопило их. Конечно, можно было достичь Сольвычегодска[840] до окончания навигации, плывя через Тотьму и Великий Устюг, но там надо было нанимать сани: Великий сибирский путь вел через Кайгородок и Соликамск в Верхотурье, пролегая по восточному склону Урала. Верхотурье было городом, где проходила граница между собственно Русью и ее колониальными владениями. Там были таможня, провиантские склады, гарнизон. То был конец земли русской и христианской, первая крепость в башкирской и татарской землях: за ними начинался громадный материк, поприще недавних побед, где русские деревни представляли собой только островки, где церкви встречались редко, а священники еще реже. Но после военных постов в Туринске и Тюмени Тобольск был уже и недалеко[841]. С самым малым обозом и в наилучшее время года, то есть зимой, путешествие могло совершиться из Москвы в Тобольск в течение месяца[842]; для Аввакума же и его семьи, поскольку способы передвижения менялись, это путешествие продолжалось тринадцать недель. Можно представить себе все тяготы этого переезда в три тысячи верст для женщины, которая только что разрешилась от бремени; для новорожденного, которому было всего несколько дней, для трех маленьких детей и их отца, еще раз изгнанного, униженного, побежденного[843].
Около 20 декабря, или во всяком случае можно с уверенностью сказать – до Рождества, высланные прибыли к месту своего назначения. Сначала они были, как полагается, препровождены к воеводе, который затем отослал их к архиепископу. Там, наконец, они нашли покой и утешение. Симеон не только вообще был иерархом, стремящимся дать своей пастве хороших духовных пастырей, но в данном случае он был особенно счастлив тем, что получил не какого-то рядового священника, а самого Аввакума. Симеон был настоящим братом во Христе во всех отношениях. Он также сохранил самое нежное воспоминание о св. Макарии Желтоводском; он был учеником доброго царского духовника Стефана, и ему покровительствовала царица Мария[844]; он любил хорошие книги, торжественность в исполнении богослужения и строгие нравы; он поддерживал строжайшим образом свободу церкви против покушений на нее гражданских властей. Покинув Москву до прихода Никона, он ничего не знал ни о происшедших распрях, ни о внесенных новшествах. Для Аввакума в Тобольске продолжался в общем счастливый период его московской жизни.
Симеон испросил и сейчас же получил для своей необъятной епархии, простиравшейся от Урала до Тихого океана[845], назначение трех протоиереев: в старый кафедральный Вознесенский собор в Тобольске, в Верхотурье и в Томск. Он мог послать Аввакума в провинцию, но предпочел оставить его у себя[846]. Нам неизвестно, сделал ли он его благочинным окружающих приходов. Но и в самом Тобольске работы хватало. Со времен Киприана, первого архиепископа Тобольского, колонизация Сибири все расширялась. Город разросся, это была столица всей Сибири. Вокруг крепость, в остроге проживали двое воевод, из которых первый, «старший» воевода, был почти всегда очень видным сановником, временно удаленным от Двора. При них было два главных дьяка с их приказами, писцами, толмачами и гарнизоном: там находилось около тысячи казаков, как конных, так и пеших, стрельцы, пушкари и тюремная охрана, несколько сотен иноземных наемников – поляки, литовцы, немцы – и несколько сот некрещеных татар. Таким образом, «царские люди» в городе преобладали. В слободах же было около трехсот-четырехсот дворов, принадлежавших торговцам, ремесленникам и разного рода мастерам[847]. Наконец, в Тобольске был и целый городок, заселенный туземцами.
Экономически город жил кипучей жизнью: через Тобольск проходили обозы с рожью, посланной из глубины русской страны: с Вятки и Камы; отсюда они двигались на восток, где земли были еще плохо возделаны[848]. Из Тобольска сейчас же после вскрытия рек целые караваны направлялись к озеру Ямыш за солью и чтобы вести обменный торг с бухарцами и калмыками[849]; другие направлялись к Енисею и Байкалу; третьи плыли вниз по Оби к Березову. В декабре 1654 года на реку было спущено 89 исправленных дощаников; кроме того, было 25 дощаников, требовавших ремонта[850]. Из этого видно, сколько такого рода торговая деятельность требовала плотников, кузнецов, конопатчиков, судовщиков, грузчиков.
Добрая часть этой рабочей силы была, совершенно естественно, составлена из туземцев: татар, калмыков, остяков, башкир. В городе не было недостатка и в бухарских и хивинских купцах, также как и в китайских купцах, бывших в Тобольске проездом или осевших там на постоянное жительство. Даже и сами русские, жившие в Тобольске, происходили из разных областей, хотя главным образом из городов Поморья; много было в городе и ссыльных[851]. Все они были отважными молодцами, пустившимися в опасную жизнь из любви к наживе или из стремления к приключениям; а больше всего из-за отвращения к разным социальным и нравственным принуждениям. Смесь рас далеко не способствовала укреплению старых московских обычаев. Поэтому жалобы первых церковных пастырей были вполне закономерными[852].
Христианская вера здесь более, чем где-либо, была засорена суеверием, ибо язычество кругом было реальным и действенным фактором, с которым сталкивались ежедневно: какой, в самом деле, соблазн посоветоваться с шаманом о будущем, позвать к больному колдуна! Архиепископ Симеон пишет в связи с какими-то листьями, обладающими магической силой и найденными у воеводы отдаленного поста, что даже в самом Тобольске умножились случаи колдовства. «Прежде чем заключить брак бросают жребий, а чтобы себя от него избавить, призывают колдуна. Здесь нет ни одного брака без этого обычая»[853].
Все предосудительные развлечения, запрещенные на Руси, были перенесены в новую страну, где они из-за порочной среды практиковались с еще большим неистовством. В жалобах Симеона мы находим и скоморохов с их дьявольскими играми, и кулачный бой, и качели; упоминаются и еще более характерные греховные вольности. Относительно пьянства Симеон пишет: «Много и притонов и потайных кабаков, где люди напиваются чуть не до смерти, умирают без покаяния и убивают друг друга»[854]. Какой-то конный казак открыл кабак с брагой. «Это настоящий разбойничий вертеп: чтобы пить и играть, они оставляют в кабаке последнюю рубашку, валяются там голые, босые; ругаются отвратительно, избивают друг друга до крови; совершают всякого рода непотребства»[855]. Китайский табак и бухарский бадьян, смешанный с водкой, также были причиной сильнейшего опьянения и, порой, смерти[856].
Но в половом отношении обычаи завоеванной страны давали себя чувствовать совершенно исключительным образом. В Сибири чувствовалось отсутствие женщин; ведь царские люди или ремесленный люд обычно приезжали туда без семьи. Другие же, уезжая по поручениям, или отправляясь на дальнюю охоту, или пускаясь в путь по торговым делам, оставляли своих жен в Тобольске; отсутствие же их бывало часто весьма продолжительным. Когда читаешь донесения злосчастного архиепископа, то чувствуешь, что страна была объята буквально всеобщей вакханалией; «женщины, покинутые в продолжение десяти лет и даже более, забывают свои обязанности, живут с иностранцами, у них рождаются от них дети; из-за стыда они от этих детей избавляются либо убивают их»[857]. «Во всей Сибири вдовы, девушки, замужние женщины имеют детей от невесть кого, и никто им этого не ставит в преступление»[858]. Служилые люди покупали туземных женщин и за деньги переуступали их друг другу, меняли их при каждом своем перемещении из города в город, а возвращаясь на Русь, бросали их. Другие же привозили из Руси под именем «вольных вдов» девок, которыми они и торговали[859]. Со времени большого пожара 1643 года множество русских вынуждены были устроиться в юртах туземного городка; они были виновны не только в том, что ели и пили с нехристями, «но и в том, что они еще и предавались блуду с татарами и у них были от них незаконные дети»[860].
Симеон закончил одно из своих писем царю следующим образом: «Забыли они свое звание христианское; нет у них духовного пастыря, и в церковь они не ходят»[861].
Чтобы напоминать своей пастве о ее христианском звании, у Симеона не было достаточного количества священников. Даже в обоих соборах в Тобольске, писал он в начале 1653 года, имеется только по одному священнику, а во многих церквах священников нет вовсе. Однажды надо было заменять старого и больного якутского священника и не нашлось никого, кого можно было бы послать! Итак, есть приходы, которые отстоят на пятьсот верст и более от церкви; дети рождаются, их не крестят, люди умирают без исповеди. «Некого рукополагать, ибо в Сибири есть только сосланные, и мало людей, желающих быть священнослужителями. Те же, которые просят их рукоположить, после своего исповедания признаются недостойными». Ныне служащие священники, находящиеся в городах, удаленных порой на расстояние целого года пешего пути и даже более, «живут распущенно и выполняют свое служение небрежно и подчас вопреки уставу, (…) служат они по своему усмотрению, как им заблагорассудится, (…) а призвать их к порядку невозможно из-за расстояния». То же самое положение наблюдалось и в отношении монастырей: «Не будем и говорить об игуменах и архимандритах; нет даже испытанных иеромонахов, ни даже простых монахов, которые были бы грамотны. (…) Из-за дальнего расстояния некому пресечь все их непорядки». Поэтому-то Симеон с самого своего приезда потребовал из Руси испытанных и верных, притом грамотных «священников белого и черного духовенства, а равно и монахов, не пьяниц и не плутов». Вместе с тем с Руси никого не присылали. Тогда он опять еще более настоятельно затребовал их: он хотел, чтобы в каждом приходе было хоть два священника. И все же «этого было бы очень мало»[862].
Он старался по крайней мере ввести в эту безысходную духовную пустыню хоть немного добродетели и благочестия, стремился заставить почитать епископское и священническое достоинство. В этом отношении дело обстояло не лучше. Старший воевода Василий Хилков, без сомнения, не был ни властным, ни жестоким; его соратник Баим, или Исидор Болтин, был старым военным, лет шестидесяти, но одновременно также и дипломатом и образованным человеком[863]. Симеон жил с ними в согласии, равно как и с их преемниками; они получили приказ «совещаться с архиепископом относительно гражданских дел… и не вмешиваться ни под каким предлогом в церковные дела»; им было сказано «предупредить всех царских людей, дабы они почитали архиепископа»[864]. Они, конечно, ни в коем случае и не стремились злоупотреблять своей властью. Однако им случалось совершать и проступки: так, основываясь на старых приказах, когда священник или дьякон ошибался при произнесении титула царя, воевода приказывал публично сечь провинившегося, что «было нанесением великого оскорбления и позора священническому званию»[865]. Но при всем том они были слабы и бессильны, а подчиненные их дерзки, грубы, развращены. Однажды в самом Тобольске дворянин Иларион Толбузин со своим отрядом напал с палками на людей архиепископа, которые готовились, по его приказу, произвести обыск. В результате они оставили на месте боя одного из архиепископских слуг избитым до полусмерти[866].
Что же касается воевод и приказных в более глухих местах, то они смещали священников, дьяконов и пономарей, арестовывали их, били кнутом, колотили, когда им вздумается. Они доходили даже до того, что снимали со священников скуфьи. Наименьшее злоупотребление властью с их стороны состояло в том, что они заставляли низшее духовенство – священников и дьяконов, столь редких в тех краях и столь нужных, выполнять разного рода работы: собирать подати и или даже работать в поле для царя[867].
Симеон пользовался в Москве сильной протекцией: мы не видим, чтобы хоть одно его ходатайство было отвергнуто. Будет ли он просить об удвоении количества вина для служения обедни в своем кафедральном соборе (10 ведер вместо 5); будет ли речь идти о регулярной выдаче денег, ржи, овса и соли для пятидесяти монахинь Успенского монастыря; возникнет ли вопрос о мощении улиц, таких скользких и грязных, что по ним трудно ходить во время крестных ходов[868], или, наконец, будет ли дело касаться грамоты (подобной той, которая была дана митрополитам Новгородскому и Казанскому: Никону и Корнилию) относительно соблюдения праздников, церковной благопристойности, а также против светского пения, дьявольских игр, пьянства и всех видов порока, – его просьбы неукоснительно выполнялись и почти всегда без промедления[869]. Мы видим, что кружок богомольцев принял близко к сердцу евангельскую проповедь в Сибири и препон со стороны бюрократии для него не существовало; но и Никон, достигнув власти, ни в какой мере миссионерской деятельности не препятствовал.
Симеон развивает замечательную энергию и деятельность. Он нашел дом архиепископа, своего предшественника Герасима, после его смерти в состоянии полной разрухи, виною коей был его племянник Иван Мильзин; казна была пуста, было 200 рублей долгу, посуда была раскрадена вплоть до последнего половника; прислуга была готова разбежаться[870]. Он приводит все в порядок, сооружает новую домовую церковь, так же как и различные строения для своего жилья и для помещения обслуживающих его лиц[871]; бережно хранит прекрасную архиепископскую библиотеку из сотен печатных и рукописных книг: этими книгами, наверное, в свое время пренебрег Мильзин и его друзья[872]. Он намеревается перенести от своего кафедрального собора, по крайней мере на 20 метров, тюрьму и несколько прилегающих лавок: ведь собор деревянный и ему грозит пожар, не говоря уже об оскорбительности соседства[873]. Он награждает митрой архимандрита Знаменского монастыря, чтобы придать больше блеска его службе. Он мечтает о том, чтобы обратить туземцев в христианство: с этой целью он предлагает основать монастырь среди остяков и получает на это, естественно, разрешение с правом выдавать денежную награду за каждое крещение[874].
Но что особенно значительно, он, начиная с первого своего донесения царю, уже пишет, что он служит обедню единогласно и служит также благодарственные молебны за членов царской семьи, а равно сообщает, что «приказал во всех сибирских церквах служить по единогласию, о чем он и сообщил по всей Сибири священникам»[875].
Он показывает себя во всем верным идеям кружка Стефана. Последнее изданное им распоряжение о единогласии привело к совершенно неожиданному последствию: оно заставило архиепископа потребовать увеличения отпуска воска, «ибо единогласие требует для совершения службы больше времени, нежели многоголосие»[876]. Это распоряжение в Сибири, как и в других местах, подало повод к конфликтам: в Нике приказной Прокопий Протопопов поносит и бьет священника, который выполняет правило единогласия; он колотит его, он даже принимается за его жену, которую он избивает до полусмерти. Архиепископ, проезжая несколько позднее по своей епархии, лично укоряет Прокопия за его поведение; последний же, вместо того чтобы раскаяться, ругает его и точно так же, как это делали в Москве, обзывает его и сторонников улучшения церковной жизни – ханжами. «Впрочем, – добавил он с необычайным предвидением того, что будет, – ваше время прошло»[877].
Таким образом, Аввакум и его архиепископ были как бы созданы, чтобы понимать друг друга.
II Аввакум – протопоп Вознесенского собора; его паства, дело Струны, его миссия у Далмата
Все было бы прекрасно, если бы Симеона не вызвали в Москву. Никон, пред лицом широкого противодействия, вызванного его первыми мерами, решил через полномочный орган дать законное обоснование своей реформе, заключавшейся, по его мнению, в том, чтобы привести московские книги и обряды к греческим образцам. В ноябре 1653 года было принято соответствующее решение[878]. Ввиду того, что речь шла не об обычном соборном совещании, собиравшемся обычно на первой неделе Великого поста, а о полномочном торжественном соборе, то на него были вызваны иерархи из отдаленных епархий. Симеон отправился в путь 22 января 1654 года[879]. Епархиальный судный приказ был на время его отсутствия поручен двум мирянам, Григорию Черткову и Ивану Васильеву по прозвищу Струна, который, кстати сказать, один, в звании дьяка[880], управлял всеми житейными делами домочадцев притча Софийского собора. Авва кум, как новоприбывший, не мог претендовать ни на какую особую должность или на какие-либо особые права.
Однако он был хозяином в своем Вознесенском соборе. В его ведении был по меньшей мере один священник, один дьякон, один чтец и один пономарь[881]. Он, без сомнения, осуществлял в Сибири свои принципы с такой же строгостью, как он это делал в Лопатищах или в Москве. Почва была здесь, однако, еще более неблагодарной, а работники на Божьей ниве редки; поэтому требовалось особое напряжение сил. К сожалению, у нас имеется описание всего лишь нескольких значительных эпизодов, дату которых притом трудно определить; соответственно, нам не легко пролить свет на повседневную деятельность Аввакума в этот период.
Во время отсутствия архиепископа протоиерей Вознесенского собора был после своего собрата протоиерея собора св. Софии вторым по значению духовным лицом во всей Сибири. Когда он торжественно совершал богослужение в роскошном облачении, присланном царевной Ириной[882], то можно было только любоваться его стройной фигурой аскета и благолепием его движений и речей; когда же он проходил по улицам с высоким посохом с позолоченными яблоками, ношение которого ему впоследствии поставят в укор[883], то он должен был внушать благоговейное почтение бесчисленным нарушителям своего христианского долга, обитавшим в Тобольске – этом губительном Вавилоне. Он ведь особенно преследовал самые обыкновенные для них пороки: разврат и пьянство, при этом он не ограничивался одной лишь проповедью, он и действовал.
Однажды, около полуночи, какому-то пьяному монаху взбрело на ум стать прямо под окнами протопопского дома и закричать: «Наставник, наставник, дай мне скоро Царство небесное!» Вся семья в это время как раз собиралась совершать домашнюю службу. Пришлось волей-неволей открыть дверь настойчивому непрошенному гостю. Аввакум прервал богослужение и принял его. «Чесо просиши?» – спросил он вошедшего. «Хощу Царства небесного, скоро, скоро!» – «Можеши ли ты испити чашу, еяже ти поднесу?» – «Могу! – давай в сий час, не закосня». Пономарю было приказано поставить посреди комнаты стул с топором, которым рассекали мясо, и одновременно приготовить толстую веревку. Сам Аввакум взял книгу и стал читать отходную. Монах удивился. Но, когда ему велели положить голову на стул, и притянули веревкой за шею, он начал кричать:
«Государь, виноват. – пощади, помилуй!» Опьянение сразу же прошло. Но этим наказание не ограничилось. Аввакум вложил ему в руку четки и приказал сделать сто пятьдесят земных поклонов. Стоя на коленях перед иконой, протопоп громко читал молитву Исусову; монах также стоял на коленях, без рясы и вслед за Аввакумом клал земные поклоны; позади же него стоял пономарь и отсчитывал поклоны соответствующими ударами веревки по спине кающегося. Лишь когда монах уже едва дышал, Аввакум освободил его; одним прыжком очутился он на улице. «Отче, отче! Мантию и клобук возми!» – кричал ему вслед пономарь. – «Горите вы и со всем», – закричал взбешенный монах. Однако через месяц после этого происшествия он вернулся к Аввакуму среди бела дня, подошел к окну, произнес с сокрушенным видом молитву Исусову, как бы прося о разрешении быть снова принятым в общение. Протопоп в это время читал Библию: «Пойди Библию слушать в избу». «Не смею-де, государь, и гледеть на тобя, – прости, согрешил!». Конечно, он был прощен, ему отдали его вещи, и впоследствии, встречаясь с Аввакумом, он еще издали низко ему кланялся.
Эта сцена, а также и некоторые другие черты его частной жизни в Тобольске, очень живо дают нам почувствовать то, как текла его жизнь: ночное бдение, служба дома, чтение благочестивых книг у окна, назидательные приемы по отношению к своей пастве. Можно рассматривать это наказание как жестокое и дурного вкуса. Но нужно вспомнить, что дело касалось монаха, вдвойне виновного, который нагонял страх и на сам монастырь, и на весь город: «Никто не решался с ним говорить». И надо учесть то, что успех у Аввакума был полный. С того времени архимандрит и монахи его монастыря не могли им нахвалиться; воеводы благодарили Аввакума за него. Надо добавить, что этот способ сурового лечения не доставлял никакого удовольствия тому, кто его применял: наоборот, четверть века спустя он вспомнит о нем как о трудном испытании[884].
Вот как он рассказывает о способе, каким он действовал с другими провинившимися:
«Ох, безчинница! Ворует, да и запирается! Беду на беду творит! А как бы: согрешила, прости, впред престану! – ино бы и Бог простит, да и жила бы чинненко, плакався о первой-той глупости. Ино диавол претит, а своя слабость престать не велит. Да еще огрызается, что сука, пред добрым человеком. Ох, горе мне, – не хощется говорить, да нужда влечет. Как вора не обличить, коли не кается! Я, окаянный, в Сибири зашел сам со огнем: в храмине прелюбодей на прелюбодеице лежит. Вскочили. Я и говорю: что се творите? не по правилом грех содеваете. И оне сопротиво мне: не осужай! И аз паки им: не осужаю, а не потакаю. Прелюбодей мил ся деет и кланяется мне, еже бы отпустил. А женщина-та беду говорит: напраслину-де же ты на меня наводишь, протопоп, и затеваешь небылицу! – брат-де он мне, и я-де с ним кое-што говорю. А сама портки подвязывает, – блудницы-те там портки носят. И я говорю: враг Божий! – а то вещи обличают. И она смеется. Так мне горко стало, – согрешает, да еще не кается! Свел их в Приказ воеводы. Те к тому делу милостивы, – смехом делают: мужика, постегав маленко, и отпустили, а ее мне ж под начал и отдал, смеючись. Прислал. Я под пол ея спрятал. Дни с три во тме сидела на холоду, – заревела: государь, батюшко, Петрович! Согрешила пред Богом и пред тобою! Виновата, – не буду так впред делать! Прости меня грешную! Кричит ночью в правило, мешает говорить. Я-су перестал правило говорить, велел ея вынять, и говорю ей: хочешь ли вина и пива? И она дрожит и говорит: нет, государь, не до вина стало! Дай, пожалуй, кусочек хлебца. И я ей говорю: разумей, чадо, – похотение-то блудное пища и питие рождает в человеке, и ума недостаток, и к Богу презорство и безстрашие: наедшися и напився пьяна, скачешь яко юница, быков желаешь, и яко кошка котов ищешь, смерть забывше. Потом дал ей чотки в руки, велел класть пред Богом поклоны. Кланялася, кланялася, – да и упала. Я пономарю шелепом приказал. Где-петь детца? Чорт плотной на шею навязался! И плачю пред Богом, а мучю. Помню, в правилех пишет: прелюбодей и на Пасху без милости мучится. Начяля много, да и отпустил. Она и паки за тот же промысл, сосуд сатанин!»
Здесь Аввакум прочел ей нравственную проповедь относительно еды и спиртных напитков, разжигающих похоть: «Скачешь – говорит он – яко юница, быков желаешь, и яко кошка, котов ищешь, смерть забывше». Он дает ей четки и заставляет ее класть земные поклоны, пока она не падает от изнеможения. Пономарь заставляет ее подняться, ударяя ее веревкой. «Где-петь детца? Чорт плотный на шею навязался! И плачю пред Богом, а мучю. Помню, в правилех пишет: “прелюбодей и на Пасху без милости мучится”». На этот раз средство это не возымело своего действия: это была профессионалка, она вернулась на свою блевотину[885].
В другой раз Аввакум спас молодую калмычку, выросшую пленницей в доме некоего Елеазара. Аввакум сделал из нее свою духовную дщерь, оставил у себя в доме и сумел привить ей любовь к набожности и добродетели. Но девушка все еще питала к своему первому господину истинную привязанность: это чувство, боровшееся с верой и чрезвычайным уважением, которое она питала к своему духовному отцу, превратилось у нее в конце концов в болезнь, выразившуюся различными проявлениями, о которых Аввакум повествует в своем Житии. Бедная Анна будет долгие годы мучиться между влечением к Елеазару, за которого она, после отъезда Ав вакума, выйдет замуж, и влечением к монашеской жизни, на которую в конце концов Аввакуму удается ее уговорить, вплоть до того, что она примет страдание за старую веру[886]. Вот каким образом боролся протопоп, пуская в ход все свое влияние и весь свой авторитет против по большей части незаконных браков, столь распространенных между русскими и туземными рабынями или пленницами.
Эта открытая война против характерных для Тобольска пороков, а также и продолжительность церковной службы должны были неминуемо возбудить оппозицию к нему. Эта оппозиция не могла не принять формы доносов, направленных на то, чтобы навсегда погубить священника, высланного, как это было известно, в наказание за проступки; доносы эти вменяли ему следующее: оскорбление государя, превышение власти… В продолжение полутора лет на Аввакума донесли пять раз[887].
Самый большой конфликт был вызван дьяком Струной. Этот человек, сумевший завладеть доверием архиепископа, был фактически дельцом, лишенным всякой совести, который объединял в себе такие отрицательные черты, как несправедливость, лихоимство и произвол. Тот факт, что Аввакум долгое время терпел все это распутство, не выступая против него открыто, доказывает только, что он вовсе не был любителем ссор и беспокойным человеком, всегда готовым вмешаться в разные свары то тут, то там, не принимая во внимание ни характера людей, ни шансов на успех. Струна был всемогущ. Аввакум же, в конце концов, был всего только высланным; ему достаточно было применять свое усердие в своем приходе и в окрестностях, не вмешиваясь в дела епархиального начальства, которые ему никто к тому же и не поручал. Но в тот день, когда Струна незаконным образом оскорбил одного из его подчиненных, а именно чтеца Антония, и во время богослужебного пения схватил его за бороду, Аввакум почел себя обязанным и вправе вступиться. Он был вдвойне прав, ибо происшествие произошло в его церкви, во время вечерни, и касалось члена его причта. Прервав службу, уже нарушенную этим грубым поступком, он проучил его внушительным и мучительным наказанием. Дьяк выпросил себе прощение, чтобы вырваться из его рук. Но он возбудил против Аввакума всех, кто зависел от его, Струны, милостей, именно: родственников, священников, монахов, и в одну прекрасную ночь вся эта ватага людей бросилась на поповку, где жил Аввакум, чтобы схватить его и бросить в Тобол. Это было повторением истории в Юрьевце. Неизвестно, как он спасся от этого покушения на свою жизнь. К счастью, все это произошло в последнее время отсутствия Симеона: ему пришлось страдать только месяц. Днем он ходил в сопровождении верующих, как и Матвей Ломков.
Ночью он скрывался: он даже подумывал найти убежище в стенах тюрьмы! Воевода относился к нему с симпатией, горевал об опасностях, которым он подвергался, но не решался что-либо сделать для него, ибо боялся Струны и его клики! Жена воеводы, княгиня Хилкова, не находила другого выхода, как прятать Аввакума в один из своих сундуков и в нужных случаях садиться на него[888].
Наконец, архиепископ возвратился, это было в сочельник 1654 года. Он тут же узнал обо всех преступлениях своего доверенного. Расследование по этому делу повел по духовному уставу Чертков и весь причт кафедрального собора. В особенности среди всех скандальных дел ухватились за одно, в котором какой-то человек, обвиняемый своей женой и дочерью в покушении на честь последней, был оправдан Струной как невиновный. Струна, конечно, получил за это взятку. На очной ставке со своей дочерью человек этот признал себя виновным. Архиепископ вынес приговор: за всю совокупность своих преступлений Струна был арестован и посажен в пекарне на цепь[889].
Но архиепископ и следователи по делу Струны натолкнулись на сильного противника. Дьяк Струна знал судопроизводство: он заявил о своем желании довести до сведения царя один донос, в интересах, как он говорил, самого же царя. Пришлось отвести его в съезжую избу, где он дал показания против архиепископа и Аввакума, обвиняя их обоих в оскорблении царя, аргумент, по нравам того времени, непреложный. По тогдашним правилам, Струна отныне находился в исключительном ведении московской юрисдикции. Цель его была достигнута: он ускользнул от тюрьмы архиепископа. Его новый страж, Петр Бекетов, был старым воином, который со времени вступления на престол царя Михаила Федоровича участвовал во всех сибирских кампаниях и походах и только что, получив дворянство, обосновался в Тобольске с тем, чтобы, как ушедший в запас, провести там остаток своих дней. Его, конечно, гораздо больше соблазняли все перипетии этой сложной авантюры, чем моральные тонкости. Он дал своему хитрому узнику уверить себя в правоте его дела. Со своей стороны, архиепископ, чтобы снова заполучить Струну, опирался на свое право проверки счетов и ведения дел. Не достигнув того, чего он желал, он 4 марта 1655 года, в Неделю православия разразился против него торжественной анафемой, проклиная его со всеми вытекавшими из анафемы последствиями, притом с запретом посещать церковь, с отказом принимать приношения для церкви, с запрещением доступа в его дом хотя бы одному священнику. Бекетов, присутствовавший при этом анафематствовании, был так им поражен, что не смог сдержаться и начал выкрикивать в самом соборе всевозможные бранные слова по адресу архиепископа и Аввакума, который якобы был его правой рукой. Он выскочил в ярости из храма и побежал по направлению к своей усадьбе, рыча и жестикулируя; по дороге он был сражен апоплексическим ударом. Невозможно было не признать в этом факте наказания, посланного ему за его преступный протест. Он умер без покаяния, и тело его было брошено прямо на улице: это не было ни мщением, ни даже какой-то особой мерой. Можно было сделать и хуже: можно было выбросить его тело на свалку. Что было очень знаменательно, так это то, что Симеон и Аввакум провели все это время в молитве, испрашивая милосердие Божие для его души, и что затем они разрешили, вопреки обычаю, устроить ему торжественные похороны[890].
С момента, когда архиепископ удостоверился в виновности Струны, он, по-видимому, еще более приблизил к себе Аввакума. Он сделал его своего рода главным викарием. Он советовался с ним относительно наказаний, требуемых канонами, чтобы применить такое наказание по отношению к непорядочному дьяку; оба совместно решают, как им вести себя после смерти Бекетова.
Аввакум был преисполнен рвения. Едва закончилось дело Струны в Тобольске, как Симеон доверяет вчерашнему ссыльному чрезвычайно тонкое поручение касательно отношений между церковью и государством.
Какие-то государственные крестьяне Киргинской слободы убежали в новую Исетскую крепость, а один из них в Далматов скит. Фефилов, старший приказный слободы, дважды посылал за ними, требуя их выдачи, и все безрезультатно; 14 августа 1654 года он сообщил об этом в Тобольск. Воеводы направили в Исет, местному старшему приказному и Далмату требование выдать беглецов. Это дело находилось в таком положении, когда 11 декабря архиепископу Симеону, проезжавшему недалеко от Исети, Далмат передал через Ефрема, одного из своих монахов, жалобу, в которой Фефилов обвинялся в грубом поведении и преступных речах против церкви и царя. Симеон сейчас же вытребовал Фефилова. Ввиду того, что Фефилов не обратил на этот приказ никакого внимания, Симеон потребовал 4 января 1655 года от воевод, чтобы они вызвали Фефилова в Тобольск. Долго он их увещевал, наконец, Фефилов 14 мая приехал сюда добровольно по своим делам, за получением провианта ржи для своей слободы. Симеон воспользовался этим, чтобы заставить воевод задержать Фефилова, и приказал начать расследование его дела. Они отказались и переложили расследование на архиепископа. Последний согласился на это и назначил на 16 мая комиссию, составленную из своего казначея Филарета, протопопа Вознесенского собора Аввакума Петрова, двух дворян и писца[891].
Итак, Аввакум отправился на Урал, путешествуя в повозке и на лодке, и принял участие в очень ответственном расследовании, ибо нужно было допрашивать людей разного звания и составить множество протоколов, которые затем были посланы в Москву для вынесения решения. Но можно предположить, что в особенности много он говорил с отшельником Далматом, представлявшим собой очень интересную личность.
Отшельник Далмат – то был ранее Дмитрий Мокринский, бывший военный из Тобольска; он сначала стал монахом в Невьянске, на Урале. Потом он удалился на уединенный холм на левом берегу Исети, на расстоянии четырехдневного перехода от всякого другого человеческого жилья; здесь он выдолбил себе в скале убежище. Затем повторилась обычная вещь: присоединились к отшельнику и ученики, и на участке, уступленном татарином Едигеем, ими был построен около 1644 года целый скит, который затем сделался цветущим центром русской колонизации и христианской миссии; скит был владельцем огромного пахотного и рыболовного поместья, нанимал рабочих и возбуждал своими притязаниями и требованиями гнев соседних туземцев: уже в 1651 году скит пострадал от татарского набега. Далмат, обладавший духовной и физической энергией, необходимой для основателя скита, был одновременно и очень уче ным мужем[892]. Если скит впоследствии стал оплотом старой веры, то не будет слишком смелым приписать происхождение этого оплота веры беседам, происходившим в 1655 году между кипучим протопопом и Далматом с сыном последнего Исааком, будущим настоятелем скита[893].
Члены комиссии уже 27 июня вернулись в Тобольск, ибо в этот день Симеон поставил воевод в известность относительно своих заключений: держать Фефилова под арестом до нового приказа[894]. Но в тот же день разразилась новая буря бедствий, то и дело налетавших, правда, с перерывами на Аввакума. Каждый раз, когда ему казалось, что он крепко сидит на месте, какой-то вихрь уносил его к новым неизвестным судьбам: из Москвы, от имени патриарха Никона, был получен приказ, в силу которого протопоп Вознесенского собора со своей женой и детьми должен был быть отправлен под сильной стражей в Якутск, чтобы жить там, с запретом выполнять священнослужение.
Очевидно, это был первый результат доносов Струны, ибо то же самое письмо предлагало воеводам начать подробное расследование относительно аввакумовского посоха с золочеными яблоками, а также относительно «других его проступков»[895]. Оба посоха, присущие по сану его протоиерейскому достоинству, с украшениями, правда, может быть, несколько ему несоответствующими, были у него отобраны; и 29 июня, в Петров день, он был посажен на судно, отплывавшее в Енисейск, первый этап его путешествия.
Против решительного приказа, поступившего из Москвы, нельзя было возражать: и слабый князь Хилков, и энергичный Симеон были бессильны что-либо сделать, чтобы защитить своего любимого протопопа. Только один убогий, по имени Федор, ранее одержимый странным и упорным злым духом, которого Аввакум продержал у себя в течение двух месяцев и вылечил благодаря своим молитвам и уходу и который потом за учиненный им у старшего воеводы скандал был изгнан из города и снова впал в свое состояние, появился в этот печальный момент отъезда, но уже в здравом уме; он низко поклонился своему спасителю, чтобы хотя бы немного порадовать его[896].
III Московские события: новшества продолжают вводиться; епископ Павел и Неронов; моровая язва 1654–1655 гг.
Время было, действительно, печальное, но в нем были и свои радости.
Из Тобольска Аввакум мог следить за происшествиями, бывшими на Руси. Курьеры были многочисленны[897], и всякого рода путешественники привозили новости не только из Москвы, но также из провинции. Симеон по приезде, конечно, посвятил свое доверенное лицо во все то, что происходило в правительственной среде.
У царя около марта-апреля 1654 года состоялся собор[898]. В нем приняли участие десять митрополитов, архиепископов и епископов, десять архимандритов и игуменов, тринадцать протопопов. Никон сначала приказал прочесть Деяние Константинопольского собора, подчеркивая фразу, которая предписывала иерархам обязанность уничтожать в церкви новшества, «которые были обычной причиной волнений и расколов» и «сохранять без добавлений и сокращений предания апостолов и семи Вселенских соборов. Затем он выявил некоторые якобы имевшиеся расхождения между московскими Служебниками, с одной стороны, и Служебниками древнеславянскими и греческими – с другой стороны: так, например, молитвы перед обедней, которыми священник сам себе отпускает грехи, являются новшеством; в ектениях количество прошений увеличено; точно так же раскрытие Царских врат до выхода с Евангелием, служение обедни в седьмом часу – все это находится в противоречии с прежним русским и греческим церковным уставом; надлежит не класть мощи на престоле, но помещать их только в самом антиминсе, ибо это противоречит древнему Требнику; на Руси миряне, несмотря на то, что они дважды или даже трижды были женаты, читают и поют у церковного аналоя: 15-е правило Лаодикийского собора это запрещает; новые книги разнятся от прежних и греческих относительно коленопреклонения во время Великого поста; служить обедню на шелковом плате, а не на самом антиминсе противно древним Требниками и Служебникам, так же как и греческим. И каждый раз Никон спрашивал: надо ли следовать новому обычаю или славянским и греческим книгам? И собор ответствовал: «Следует исправить по старым и греческим книгам». Итак, было решено пересмотреть Требник, Служебник и Часослов соответственно старым книгам, написанным на пергамене, и греческим книгам[899].
Никон уже в конце декабря упросил царя передать ему в непосредственное управление Печатный двор[900], устроил туда Арсения Грека и 8 января 1654 года приказал печатать Триодь постную, переделанную по одному современному изданию и по третьему киевскому изданию (1648 года), что было сделано, благодаря усердию Евфимия, Епифания Славинецкого и Захария Афанасьева[901]. Он ждал только позволения собора, чтобы напасть на главные церковные книги: 1 апреля он приказал начать печатать исправленный Служебник[902] и 25 апреля совершенно новую книгу «Скрижаль», или «Книгу заповедей». Основой этой книги служила Божественная Литургия Нафанаила, напечатанная в Венеции в 1574 году, один экземпляр каковой книги был прислан Паисием Константинопольским Никону и переведен с греческого Арсением[903]; главная же цель Никона состояла в желании подтвердить греческим авторитетом реформы, которые он начал вводить. Эти три книги появились в свет только в 1656 году, но их направление и их содержание было более или менее известно такому иерарху, каким был Симеон.
С другой стороны, Никон торопился претворить в жизнь принятые собором положения.
Еще до июля 1654 года была объявлена и другая реформа. В восьмом члене Символа веры прежнее славянское чтение колебалось относительно смысла греческого слова κυριον, оно передавалось либо как «истинный», либо как «Господь», и, наконец, обоими словами одновременно; Максим Грек уже ввел людей в соблазн, предлагая уничтожить слово «истинный»[904], Никон же, не анализируя вопроса, просто зачеркнул это слово. Были введены и еще другие новшества[905]. И, надо полагать, не без намерения, на соборе был зачитан Символ веры, исправленный по греческому образцу[906]. Однако на самом соборе официально не поднимался вопрос ни о крестном знамении, ни о сугубой или трегубой аллилуие. Никон только предложил следовать примеру древних греков. В его послании ничего по существу нового не было. Поэтому большинство покорно приняло его предложение. Но более дальновидные, или более отважные, понимали также дух этих греческих влияний, который заключался в полном подчинении грекам, даже и современным, а также и в стремлении дать с помощью соборного определения санкцию для осуществления еще гораздо более широких реформ. Поэтому согласие не было единодушным. Под подлинным Соборным деянием, сохранившимся в Синодальной библиотеке, отсутствуют подписи Стефана Вонифатьева, протопопа Благовещенского собора, поименованного, однако, среди присутствующих; нигде не фигурирует имя Симеона, который также присутствовал на соборе; что же касается епископа Коломенского Павла, то к своей подписи он добавил протест против отмены земных поклонов и в подтверждение своего мнения приложил два экземпляра Устава, из которых один был написан на пергамене и, следовательно, был очень древним[907].
Стефан и Симеон пользовались достаточным весом, а может быть, обладали и достаточной ловкостью, чтобы их оппозиция не навлекла на них репрессий; однако достаточно было одной оговорки Павла, чтобы погубить его. Никон отделался от него с такой быстротой и так таинственно, даже без малейшего намека на суд над ним, что окружающие могли только констатировать его исчезновение; позднее только узнали, что он был заточен в одном из монастырей обширной Новгородской епархии[908]. Эта беспрецедентная расправа произвела сенсацию.
В своем Спасо-Каменном монастыре Неронов оставался в хлебне недолго. Архимандрит Александр взял его под свою защиту, окружил его жизненными удобствами и почестями, облек его особенной властью над всеми монахами, в том числе и над келарем. Неронов начал писать по слания царю. 6 ноября 1653 года он написал послание от имени всех верующих, изгнанных за веру, находящихся в тюрьме или убежавших от никоновского произвола: «Но страх одержит мя о сем, дабы благочестие истинне в поругании не было и гнев Божии да не снидет»[909]; особенно в этой готовящейся против Польши войне. Одновременно он присоединил к этим посланиям оправдательный документ, точно воспроизводящий его споры с Никоном[910]. В своем письме от 27 февраля он присоединяет к своим пламенным призывам и догматические доводы: Никон был виновен по трем статьям – он повторял ересь непоклоняющихся, о которой писал еще св. Иоанн Дамаскин; устанавливая троеперстное крестное знамение, и шел против Мелетия Антиохийского, Федорита, Максима Грека, «Книги о вере», против вероучения святых книг, против святых и чудотворцев русских, включая митрополита Филиппа; против старых образов московских и новгородских; наконец, его безжалостное осуждение инакомыслящих не имело ничего общего с кроткой любовью к ближнему первоначальной Церкви и напоминало скорее преследователей веры или же предвещало антихриста. Неронов умолял царя созвать собор, собор истинный и правдивый, на котором не было бы чужеземцев, преисполненных гордыни или же чрезмерной снисходительности. То должен был быть собор, на котором будут присутствовать вместе с иерархами священники, диаконы, монахи и даже миряне, знающие Священное Писание и испытанные в добродетели, молитвы которых, так же как и их знания, помогли бы выявить истину[911]. Доводы эти Неронов внушал многочисленным верующим, приходившим к нему со всех сторон за советом: они, эти доводы, стали в дальнейшем основанием для хранителей старой веры в их полемике с новообрядцами. Стефан дважды писал ему, советуя молчать и покориться: в своем ответе Неронов обрисовывал ему «конец благочестия и слезы чад церковных», утверждал, что он предпочитает свою участь его ненадежному спокойствию, заявлял, что он не может ни в чем себя упрекнуть по отношению к Никону, в страстных выражениях побуждал своего друга наконец заговорить, прекратить свое молчаливое соучастие и присоединиться к защитникам веры[912]. Когда царь велел ему больше писем не присылать, он стал писать царице Марии[913]. Он продолжал, однако, спорить с царем, под покровительством доброго Стефана: продолжая быть противником войны, каким он уже выступал в 1632 году, он теперь заклинал его не начинать, по крайней мере, войны с Польшей, прежде чем он не дарует мира церкви[914]. Около него постоянно группировались верующие, готовые выполнять его поручения, переписывать его письма, распространять его поучения: среди них были сын его Феофилакт и татарин Андрей, его служитель, прибывшие к нему из Москвы, игумен Феоктист, для которого каждое слово, каждое движение Неронова были священны, даже сам келарь Федор. Он получал от своих духовных чад письма из Москвы, так, например, он получал письма от четырех братьев Плещеевых и отвечал на них. У себя же в монастыре он главенствовал: он заставлял церковнослужителей неукоснительно читать все поучения, находящиеся в Типиконе, что удлиняло церковную службу и увеличивало расход на освещение; он требовал молчания на клиросах, где обычно священники и дьяконы пересмеивались или препирались; он строго запрещал есть рыбу во время Великого поста; постоянно делал выговоры архимандриту, позволявшему монахам ходить по деревням, чтобы там напиваться; особенно он боролся против того, что архимандрит разрешал неправильно читать Евангелие и пользоваться лишь одним алтарем из пяти, имевшихся в монастыре, несмотря на то, что в монастыре было пять священноиноков. Наконец, благодаря своим просьбам и слезам, настойчивым до последней степени, Неронов сумел понемногу преобразовывать монастырь. Александр, который всегда ему уступал, наконец, на шестой неделе Великого поста, потерял терпение: он схватил Неронова за волосы и волок его некоторое время в трапезную, нанося ему удары. После этого Неронов должен был запереться в своей келье: ему был даже запрещен доступ в церковь, а затем, по ходатайству Александра, он был удален из монастыря[915].
Приказом из Москвы он был переведен много дальше, в Кандалакшу на Белом море, с запретом писать. Несмотря на это, ему удалось, пока он находился несколько дней в Вологде, а именно 13 июля 1654 года, повидаться во своим другом Логгином, которому удалось неизвестно как ускользнуть из своей муромской деревни; он продиктовал длинное прощальное письмо, полное резких упреков, Стефану; составил также трогательное послание всем верующим, изобилующее текстами из Посланий св. апостола Павла, побуждая их избегать злых делателей, виновников раскола, и оставаться стойкими в вере до самой смерти[916]. Он сделал еще больше: в кафедральном соборе он произнес после обедни следующую небольшую проповедь: «Священницы и вси церковныя чада! Завели(ся) новые еретики, мучат православных христиан, которые поклоняются по отеческих предании, такожде и слог перстов по своему умыслу развращенне сказуют, да за то раб Божиих мучат, и казнят, и в дальныя заточения посылают». Затем он напомнил то, что он сказал Никону – лично перед всем собором, обратившись к нему с резкой отповедью: «Да время будет, и сам с Москвы поскочишь, никим же гоним, токмо Божиим изволением! Да и ныне вам всем глаголю, что он нас дале посылает, то вскоре и самому ему бегать! Да и вы, аще о том станете молчать, всем вам пострадать! Не единым вам глаголю, но и всем, на Москве и на всех местех, за молчание всем зле страдати!» Эта отважная речь, в которой всемогущий патриарх назывался еретиком, это поразительное предсказание добровольного ухода патриарха не оказали никакого влияния, кроме как ускорили высылку Неронова на Белое море[917].
Итак, реформы продолжались: однако, поскольку в данный момент церковные власти не настаивали на троеперстии, Стефан, после соответствующего разговора с царем, успокоил на этот счет Неронова[918]. Вместе с тем уже вошла в обиход отмена земных поклонов, введенная в действие в феврале 1653 года, так же как и отмена слова «истинный» применительно к Святому Духу. Печатались книги, заключавшие в себе другие новшества. В этот момент царь был под влиянием патриарха, как недавно он был под влиянием своего духовника. Прежние члены кружка боголюбцев все еще находились в заключении, рассеянные по Руси, высланные. Таковы были грустные известия, которые Симеон мог поведать Аввакуму[919].
Но с другой стороны, в этом положении вещей еще не было ничего непоправимого. Поборники истины находили возможность переписываться, ободрять друг друга и даже встречаться. Они находили живые симпатии среди высших представителей как черного, так и белого духовенства; последние, впрочем, не выказывали себя настроенными и против Никона. Бедный Стефан был всем сердцем с поборниками истины: он был слаб, жалок в своей слабости, неужели он никогда не воспрянет?[920]
Новшества Никона, в народных массах по крайней мере, наталкивались на пассивное сопротивление. Гонимые за веру казались лучшим людям более достойными уважения, чем гонители. Уже ходили рассказы о чудесах в связи с епископом Павлом, набрасывавшие тень на Никона[921]. Русское религиозное сознание было по самой природе своей склонно противопоставить широкой жизни, надменным повадкам, холодной бюрократической жестокости патриарха и его иерархов – смирение, кротость, бедность, а также и характерную простую речь и народный образ жизни священников, монахов, отшельников, оставшихся верными старому благочестию. Мягкотелые повиновались, но у верующих души сжимались от ужаса перед новшествами, от которых несло ересью: отрицать, например, «истинность» Св. Духа. «Книга о вере» предсказывала пришествие антихриста в 1666 году; внешняя война, начатая в мае 1654 года, раскол в церкви, преследование верующих, лжепророки – все, казалось, подтверждало, что на этот год готовится что-то страшное… А сам Никон, разве он не был предтечей антихриста?[922]
Страшная эпидемия моровой язвы, начавшаяся в июле 1654 года, свирепствуя вплоть до марта следующего года, опустошая всю Европейскую Россию, как бы подтверждала предсказания приверженцев старой веры. Власти покинули Москву. Царь был в войсках, патриарх выехал с царской семьей из Москвы, Крутицкий митрополит, его помощник, умер, монастыри вследствие эпидемии пустели, многочисленные церкви, даже соборы оставались без священников, в боярских хоромах оставалось по два – три человека; шесть полков, расквартированных в Москве, по своей численности равнялись теперь только одному полку, сообщение было прервано по всем дорогам, торговля и вообще вся экономическая деятельность приостановились[923]: по всему представлялось, что то был бич Божий, долженствовавший покарать Русь за неверие! Неронов это предсказал. Само Провидение осуждало Никона. 25 августа было днем начала волнений, возникших из-за изуродованных икон, найденных в Патриаршем дворце: «Иконоборцы поступали так же. И, кроме этого, патриарх держит у себя Арсения, еретика. Он извратил книги. Они ведут нас всех к смерти. Кара Божия на всех вас»[924].
Все это Аввакум уже знал, когда он в Тобольске сел на утлую ладью, пророчески виденную им во сне в Лопатищах; конечно, он сам в полной мере разделял чувства своих собратьев по вере. В Москве он узнал о смерти двух своих братьев с их женами и детьми, так же как и о смерти большого числа своих родных и друзей[925]. Он направлялся навстречу новым испытаниям, будучи убежден, что началась новая критическая эпоха в истории. Убежден он был также, впрочем, и в том, что как он, так и вся его семья были на стезе, указанной Провидением, и хранимы им; поэтому что значили все запреты Никона и все временные страдания?
Глава VIII С Пашковым в Даурии (29 июня 1655 – конец июня 1662)
I Пашков и приготовления к походу
В сопровождении красноярского дворянина Милослава Кольцова и казачьей стражи, состоявшей из 5 казаков из Илимска и Енисейска, Аввакум со женой и детьми[926], из которых старшие подросли, а другие только что родились, направился в глубь изгнания.
Первый этап пути совершался еще по стране, приспособленной к путешествиям, по которой проходили обозы.
Сперва спускались по Иртышу до Самарова, первого поста судовщиков, установленного в 1637 г.; судовщики были туземцы и русские, которые за определенные льготы должны были обеспечивать переезд царских людей. В этом унылом месте, где совершенно не произрастает хлеб и где с трудом существуют лошади, возвышалась небольшая деревянная церковка в имя святителя Николы, покровителя судовщиков; неподалеку возвышался также главный идол остяков, знаменитая нагая баба, описанная столькими путешественниками[927].
Затем плыли вверх по Оби, притом различными способами: либо гребли, либо шли на парусах, или даже тянули лодки бечевой, также пуская в ход шесты. Проезжали Сургут, один из важных сибирских постов; после Нарыма покинули большую реку, чтобы плыть по одному из ее крупных притоков, по Кети, охраняемой крепостью; таким образом, приближались к востоку, пробираясь через леса и болота. Было одно опасное место из-за мелководья и быстрого течения, о приближении к нему извещали звоном колокола. Река текла, суживаясь, до крепости Маковского, где приходилось оставить водный путь. Вследствие этого, Маковская крепость приобретала некоторое значение как речной порт, как склад, как пункт для зимовки. Туда прибывали осенью и выжидали снега, чтобы перебраться на санях через небольшие возвышенности, разделявшие бассейны Оби и Енисея. Аввакум и его спутники, выехавшие в Петров день, могли прибыть в Маковский в конце сентября. Ввиду отсутствия приказа спешить и так как путь в это время года был очень труден, путешественники смогли выехать оттуда только в начале зимы[928].
Даже действуя таким образом, ссыльные вынуждены были долго оставаться в следующем пункте, Енисейске, прежде чем они смогли продолжать свое путешествие водным путем. Енисейск был поселком, основанным в 1618 г., население которого росло постепенно за счет женщин, похищенных у туземцев, и переселенцев из России, достиг в 1629 г. положения города, где проживал воевода. У 500 жителей Енисейска было две церкви, два монастыря с монахами и монахинями, таможня, значительная торговля, казенный винокуренный завод, где вырабатывалась водка, служившая для меновой торговли с остяками[929]. В эту зиму 1655/1656 гг. в этом городке царило необычайное оживление; обычно тут занимались торговлей, предавались попойкам, всяким игрищам и мелочной перебранке из-за сплетен и доносов; теперь же тут готовилась большая экспедиция в Даурию под предводительством Афанасия Пашкова.
Аввакум был в Енисейске, когда его догнал приказ из Москвы от 20 августа 1655 г.; он был причислен к этой экспедиции. Чтобы этот приказ мог наверняка достичь Аввакума, в тот же день по Якутской дороге[930] были посланы аналогичные приказы в Тобольск и Илимск. С начала 1656 года и до своего отъезда Аввакум оставался в Енисейске в ведении воеводы Пашкова, но мы ничего не знаем об этом периоде, длившемся от шести до семи месяцев.
Оставалось ли еще в силе запрещение, наложенное на Аввакума? Приказ из Москвы не снимал его, но и не упоминал о нем. С другой стороны, причисление к этой многочисленной экспедиции, отправлявшейся в отдаленную местность, священника, лишенного права выполнять свою должность, было бы абсурдом и насмешкой; и в действительности, письмо из Сибирского приказа архиепископу Симеону предписывало ему направить из Тобольска для построения церкви в Даурии три антиминса, одного священника из черного духовенства, одного дьякона из белого духовенства, а с Лены протопопа Аввакума. Сам архиепископ написал в 1657 г., что по приказу царя Аввакум был послан в дополнение к иеромонаху и дьякону с Пашковым и что эти три священнослужителя получили одинаковые прогонные деньгами и натурой[931]. Монах не имел права, в силу канонических правил, выполнять некоторые обряды, что делало необходимым присутствие в походе священника из белого духовенства: например, монах не имел права исповедовать женщин и благословлять брак[932], Аввакум и должен был быть священником, могущим исполнять соответствующие требы. В Москве его желали отослать подальше, его охотно подвергали лишениям и опасностям, ему не возвращали прав протопопа, но в силу самого его назначения его считали восстановленным в своих обязанностях. Однако такое состояние делало его положение двусмысленным, делало его беззащитным в случае нападок на него. Для Сибирского приказа, для Симеона, для войсковых частей он был полноправным священником экспедиции, но Пашков знал, что при малейшей провинности Аввакума он мог с ним обращаться как с запрещенным священником.
Приготовления к Даурской экспедиции протекали медленно. А намечалась она уже в течение многих лет. Даурская кампания была популярна в Москве, в особенности с момента получения восторженного донесения знаменитого Хабарова и его ближайшего сотрудника, якутского воеводы Францбекова. То была сказочная страна, лежавшая далеко за Байкалом, по которой протекала река Шилка[933]. Тут жили не какие-нибудь жалкие племена, но отнюдь не дикий народ, сплоченный в одно целое и подчиненный определенным повелителям, тут были крепости; население занималось хлебопашеством и платило дань богдыхану. Там было изобилие соболей, которых становилось все меньше в Западной Сибири, и там была рыба, похожая на волжскую, а также драгоценные металлы и ценные ткани. В особенности же соблазняло политиков из Сибирского приказа проникнуть через Даурию в страны еще более таинственные, хотя и известные, как богатые и могущественные, как Империя Великого богдыхана – Северный Китай и «Империя Никана», очевидно «Ниппон», точное местонахождение которой было неизвестно. В то время Даурия была плодородной областью: сделавшись русской колонией, она снабжала бы зерном сторожевые посты Восточной Сибири[934]. Было решено послать в эту обетованную землю большую экспедицию из 2000 человек, а затем и из 3000 под предводительством Лобанова-Ростовского, воеводы тобольского[935]. 13 мая 1652 г. Афанасий Пашков, енисейский воевода, получил приказ изготовить необходимое количество дощаников. Ровно через год 200 дощаников были готовы. Благодаря энергии и изворотливости воеводы и его сына Еремея они «ничего не стоили казне»[936]. Однако, может быть, по совету Дмитрия Зиновьева и Хабарова, прибывших в Москву 12 декабря 1654 года с более точными сведениями относительно Амурской области[937], и в особенности из-за моровой язвы и войны с Польшей большая экспедиция была отменена. Ее заменили другой, менее внушительной, но все же важной, состоящей из 300 человек, под командованием Пашкова, который тогда же был освобожден от занимаемого им поста в Енисейске. Его преемник, Иван Акинфов, вступил в исполнение своих обязанностей 18 августа 1655 г.[938]; он, очевидно, и дал очень подробные инструкции для планируемой экспедиции. Эти инструкции содержали информацию относительно страны и маршрута: указаны были также цель экспедиции, характер сведений, которые нужно было получить, обложение ясаком, учреждение постов, сельскохозяйственное освоение новых земель, как установить отношения с Китаем и Никаном; как надо было говорить с туземцами – даурами, дучерами и гиляками; предложены были также прекрасные советы относительно сдержанности в поведении, справедливости, мягкости по отношению как к войску, так и к жителям[939].
Эти советы не были излишними в отношении человека пашковского склада. Сделавшись активным участником политической жизни в самый разгар Смутного времени, он сначала был свидетелем вокруг себя только грубости, жестокосердия, беспринципности. Отец его, Истома, был тульским мелкопоместным дворянчиком, который последовательно служил первому Лжедмитрию, затем царю Василию Шуйскому и, под конец, второму Лжедмитрию. Сражался он всегда чрезвычайно храбро. Не все ли ему было равно, кто был его повелитель! Таким образом он достиг чина сотника; осенью 1606 г. с отрядом Болотникова он принимал участие в набеге на Москву. И вдруг, 2 декабря с пятьюстами своих людей он предал своих союзников и сдался Шуйскому[940].
Его сын Афанасий впервые отличился при защите Москвы против Владислава в 1618 г. и за это был награжден пожалованным ему городком близ Коломны[941], но это его не устраивало. Унаследовав от своего отца вздорный и любящий приключения характер, он стремился к дальним, трудным поручениям. В конце 1644 г. он был послан воеводой в Кевролу и на Мезень, на Дальнем Севере[942]. Именно тогда, после того, как сын его был чудесно исцелен от опасной лихорадки св. отроком Артемием Веркольским, он построил на Пинеге церковь и скит в честь этого Артемия[943].
С начала 1650 г. мы находим его воеводой в Енисейске[944]. Вместо того, чтобы через два года быть освобожденным от своего поста, как это полагалось по закону, он продолжает оставаться на своем чрезвычайно трудном посту до приезда Аввакума, и покинул его, лишь чтобы отправиться на завоевание Даурии. Неукротимая энергия при выполнении приказов, строгая экономия казенных денег и, вместе с тем, ум, полный инициативы, склонный к смелым предприятиям, – таковы были качества, за которые правительство всегда его уважало. Что его, при всем том, обвиняли в самоуправстве, в диких жестокостях, вымогательствах, в грязных делах с таможенными служащими или с кабатчиками, в распущенности нрава, в неуважении к духовенству – все это было неважно. Эти погрешности были обычны в Сибири, а тем более в Енисейске[945] – городе новом и отдаленном. Сейчас мы можем прочесть в документах Сибирского приказа длинный перечень преступлений, которые инкриминировались Пашкову, причем малейшее из них уже должно было навлечь на него нещадное наказание кнутом. Его распри с Акинфовым просто непередаваемы![946] Но ведь он восстановил стены Енисейска, построил 4 церкви, 200 домов, и все это в порядке повинности, налагаемой на жителей, так что казне это не стоило ни гроша[947]. Он хвалился, говоря, что он увеличил на 30 000 рублей государственный доход. Он заставил своих отважных товарищей по оружию, Василия Колесникова, Никифора Кольцова, Петра Бекетова, разведать вожделенные земли Забайкалья, пути к ним, построил два новых форта на Ангаре, заставил вновь покоренные племена платить ясак, устроил на жительство 120 семейств поселенцев[948].
Пашков был одной из московских разновидностей конкистадоров XVII века; то был человек, не знавший укоров совести, жадный до наживы, грубый, суеверный, но преданный своему делу с упорством, не щадивший ни себя, ни своих подчиненных. Покорение северной половины Азиатского материка было, на самом деле, не меньшим подвигом, чем покорение американских земель. В лице Аввакума этот Кортес должен был столкнуться с русским Арно, в меньшей степени богословом, но таким же непреклонным и совершенно безразличным к покорению Даурии и успешному ходу экспедиции, озабоченным единственно только спасением душ и полным жалости к немощной человеческой плоти, постоянно выступавшим против несправедливости, жестокостей, безбожия. В лице Аввакума Пашков столкнулся с воплощенным протестом церкви и христианской совести против аморальности. Столкновение должно было быть фатальным. Оно и не преминуло свершиться.
Собрали из главных сибирских городов 300 человек. Продовольствие, водка, боевые припасы, порох и пули были получены из Тобольска. К этой войсковой части Пашков присоединил и своих людей, набранных им самим, которых он сам снабдил вооружением, припасами и которым он сам платил жалование, с обязательством, что за это они ему уступят часть своей будущей добычи. Пашков вез с собой свои собственные вещи, съестные припасы, ткани, топоры, мелкие стеклянные изделия: все это предназначалось для обмена с туземцами. Это сочетание государственной службы и частного предприятия было обычным и законным в Сибири на всех административных ступенях и на всех стадиях колонизации[949].
Оставались дощаники. Акинфов умножал трудности, запаздывал, уменьшал требуемое количество лодок. Пашков отказывался принимать плохо проконопаченные дощаники, чересчур плотный холст для парусов; требовал больше якорей и лодок. Ввиду ледохода время не терпело, если только экспедиция желала достичь Братского острога на Ангаре до конца навигации. Отряд нервничал, истощал запасы, пьянствовал и терроризировал горожан. В спорах, угрозах, в писании жалоб в Москву проходили недели и месяцы[950]. В результате Акинфов был снят и замещен Максимом Ртищевым, прибывшим 2 июля[951]. Наконец, 18 июля 1656 года небольшая флотилия из 40 дощаников покинула порт[952].
II Отъезд Аввакума. Он наказан кнутом
В Енисейске Аввакум, находясь под двойным начальством – воеводы и начальника похода, пользовался некоторой свободой. Теперь же он был всецело в руках Пашкова. К несчастью, настроение последнего было испорчено с самого момента отъезда событием, показавшимся ему чрезвычайно плохим предзнаменованием. Московское постановление уполномочивало его взять командование над небольшими русскими отрядами, которые находились уже за Байкалом[953]. И вот, как раз когда поднимали якоря, одна лодка причалила к Енисейску. Из лодки вышел юный Иван Колесников, который доложил ему о тревожных событиях на Шилке: Кольцов покинул свой пост в Иргенском остроге; Василий Колесников – отец вновь прибывшего, также прибыл с Байкала, бросив свой острог, их люди взбунтовались, расхитили запасы пропитания и одежды и категорически отказались отправиться в Даурию. Это было, конечно, результатом происков Акинфова, но отсутствие дисциплины как таковой внушало не менее беспокойства[954].
Несколько позднее, 8 августа, на Ангаре, или Большой Тунгуске, действительно встретились с Кольцовым и Колесниковым-отцом, которые плыли вниз по течению к Енисейску с отрядом приблизительно в 20 человек. Пашков подверг их очень строгому допросу, после которого он все-таки счел возможным завербовать себе около 15 казаков, не в качестве бойцов, но как рабочих. Однако отряд не успел еще достичь притока Илима, как эти казаки снова убежали по наущению вздорных людей – участников экспедиции из числа навербованных в Енисейске. Виновные были наказаны кнутом. Началось время страданий[955].
Пашкову приходилось трудно, нужно было поддерживать порядок в отряде, состоящем из казаков, набранных из одиннадцати сибирских городов, из Верхотурья и Красноярска, часто назначенных вопреки предписаниям, деморализованных из-за долгих месяцев ожидания и бездействия, которые с тоской смотрели на предстоящие долгие годы жизни в оторванности от семьи и лишениях. Как раз в тот момент, когда люди заметили изменение маршрута, увеличилось недовольство в отряде. Инструкции предписывали плыть вверх по Илиму, чтобы достичь Лены и от туда Даурии через Олекму и Тугир: это был уже хоженый путь, вдоль которого находились, подобно вехам, сторожевые посты, внушавшие путешественникам уверенность. Пашков с этим не посчитался и продолжал плыть вверх по Тунгуске. Сейчас же после Байкала отряд должен был попасть в области мало разведанные, находившиеся под страшной угрозой нападений со стороны монголов. Пашков намеревался завладеть таким образом землями, пройденными ранее Бекетовым и его разведчиками; данное ему поручение всецело завладело его умом. Но у казаков были на этот счет иные соображения, и они осмотрительно придерживались буквы приказа. Отсюда возник ропот.
Аввакум на дощанике, предоставленном духовенству, не должен был входить в эти споры. Но известные всем его заслуги и его образ жизни не замедлили привлечь к нему (вероятно, с момента его пребывания в Енисейске) всеобщие симпатии людей из отряда, священником которого он был. Кроме того, как могли они не интересоваться несчастной и достойной Анастасией, отправлявшейся со своими четырьмя маленькими детьми в неизвестное будущее, полное опасностей и возможных страданий! А ведь все это только потому, что он, Аввакум, заступался за старую веру, разгромленную Никоном, одним из сильных мира сего, подобно этому жестокому Афанасию! Разве Аввакум мог умолчать о причине своей ссылки? Подчас самые суровые души являются самыми чувствительными к моральному превосходству. Несомненно, в отряде образовалась партия Аввакума. Пашков в этом не сомневался; не будучи в состоянии понять причину этого, он безотчетно подозревал запрещенного протопопа в разжигании неповиновения.
Вскоре это подозрение стало для него уверенностью. Около Шаманского порога, где поневоле все лодки вынуждены были останавливаться и принимать лоцманские распоряжения относительно перехода через пороги, отряд 15 сентября встретился с путешественниками, которые плыли вниз к Енисейску. В их числе были две вдовы, которые направлялись туда в Рождественский монастырь, чтобы там постричься. Пашков не посчитался ни с их обетом, ни с их возрастом – одной было шестьдесят лет, другой даже больше – и решил отдать их в жены своим казакам. Хотел ли он спровоцировать этим Аввакума? Или это было только фантазией сатрапа? Аввакум не мог согласиться использовать свой сан для освящения этой дикой и кощунственной затеи. Он сослался на каноны. Пашков не хотел отступаться. Житие нам сообщает, что Пашков, не сообразуясь ни с чем, отдал этих женщин своим людям.
У следующего порога, так называемого Долгого, кормчие оказались бессильны: дощаники не следовали фарватеру, их несло на подводные камни… Суеверный Пашков вообразил, что присутствие запрещенного священника, «еретика», приносит его экспедиции несчастье. Для людей склада Пашкова не было ли самой большой ересью – неповиновение законным властям? Ему пришло в голову высадить Аввакума. Что же именно тут произошло? Рассказ Аввакума в его Житии и донесение Пашкова, которые хотя и расходятся в подробностях, не противоречат друг другу в корне и позволяют нам довольно правдоподобно восстановить всю картину.
Сначала Пашков не решается прибегнуть к силе, у него еще нет точных доказательств виновности Аввакума; этот протопоп ему еще импонирует; у него в Москве есть покровители. Поэтому он посылает к нему с приказом сказать ему: «Худо из-за тебя дощаник идет. Еретик ты! Поди по горам, а с казаками не ходи!» Хорошо было бы, думал, вероятно, Пашков, если бы он ушел по доброй воле! Но Аввакум, как, наверное, многие участники экспедиции, был поражен грандиозным зрелищем, которое представляла собой эта местность; для того, кто видел ласкающие взор холмы Григорова и Лопатищ и невысокие вершины Урала, эти громадные, почти отвесные стены, между которыми Тунгуска пробивала себе путь с диким ревом, эти непроходимые лесные чащи, где, очевидно, кишмя кишели дикие животные – представляли собой зрелище одновременно великолепное и страшное. Углубиться одному с женой и детьми в эти непроходимые чащи значило обречь себя на верную смерть. Аввакум не имел на это никакого морального права. Он ответил Пашкову «писаньицем», где советовал ему хорошенько поразмыслить о том, что он ему предлагал.
«Писаньице», вероятно, содержало несколько сильных выражений, а может быть, и угроз. Может быть также, он дал прочесть эту записку своим друзьям-казакам, может быть, он уведомил их каким-нибудь иным путем об угрожающей ему опасности. Это была вполне законная мера самозащиты. Он защищал не только свою жизнь, но и жизнь своей семьи. Во всяком случае, Пашков был совершенно искренно уверен, что его авторитету угрожает опасность. Вот как он изображает в донесении к царю и царевичу весь последовательный ход событий.
«У Долгого порога именуемый ссыльный бывший поп Аввакумка[956], имея намерение устроить разбой, не знаю по чьему наущению, написал своей рукой письмо тайное, подметное, безымянное, якобы повсюду, во всех властях, установленных на всех ступенях, нет никакой справедливости, и много было подобных бунтарских слов, написанных в его подметном письме, чтобы поднять мятеж в Даурском походе и в моем отряде. Царь государь и великий князь, этот разбойник-расстрига этим бунтарским писанием, желая возбудить ваших людей на измену вам, на неповиновение вашим повелениям, подстрекал их меня бросить и бежать подобно Михаилу Сорокину и его 330-ти людям, которые разгромили вашу крепость на Верхней Лене, так же как ограбили многих куп цов, или подобно тому, как на Байкале Полетай и 50 его людей после того, как они разграбили ваши склады, а Василия Колесникова бросили и убежали на Восток. И это бунтарское письмо, написанное его рукой, после следствия было мне доставлено, и в силу ваших приказов, я распорядился наказать его на козлах кнутом, чтобы другим, подобным ему разбойникам, видя это, неповадно было возбуждать смуту такими письмами. И когда расстрига Аввакумка был за свою провинность наказан кнутом на козлах, желая с тем же воровским намерением поссорить моих людей со мной, он повторял: “Братья-казаки, меня не оставляйте!”, словно он на них всю надежду свою полагал. И много других он произносил неистовых слов, повторяя их многажды. Итак, по вашим указам, он подлежал за свое бунтарское поведение и заговор, так же как и за многие неистовые слова, – смерти, но, великие государи, без вашего приказа не смею я применить к нему смертную казнь, предусмотренную вашим Уложением. Помимо этого, к его разбойному поведению и заговору начали примыкать другие разбойники и вожаки: Филька Помельцов из Томска; Никифор Свешников и Ивашка Тельной из Березова и другие. И, повинуясь вашим приказам, этих друзей расстриги, разбойников и главарей я приказал исключить из вашего похода и из моего отряда, а главного бунтаря и подстрекателя, Фильку Помельцова из Томска, за его провинность нещадно бить кнутом на козлах и отправить потом в Томск. И на их место набрал я и завербовал для вашей службы как казаков свободных людей, согласившихся служить. А что до того разбойника, расстриги, я его посадил под стражу и по вашему приказу отвезу в Даурию. И отныне от такого разбойника-расстриги можно ожидать в вашем дальнем Даурском походе таких же заговоров и больших провинностей. И, государи, против этого разбойника-расстриги мне была передана челобитная, за подписью ваших людей, которую я вам при сем и посылаю. 5 июня 1657 года с десятниками Максимовым из Туринска и Федоровым из Кузнецка. Что же до того разбойника-расстриги Аввакумки, великие государи, то да будет так, как вы мне то прикажете»[957].
Прочтем после всего этого воспоминания пострадавшего[958], и мы найдем еще много подробностей: обстоятельства ареста, пассивное сочувствие казаков, бесполезное вмешательство Еремея, сына воеводы, грубое обращение Пашкова: «Поп ли ты или распоп?», и его личная жестокость, пощечины, вырывание волос, удары чеканом по спине, семьдесят два удара кнутом, крик Аввакума: «Пощади!» и затем его гордый и насмешливый вопрос: «За что ты меня бьешь? Ведаешь ли?» Далее следовали удары по бокам; рассказ о том, как его закованным бросили на дощаник с покла жей и запасами, как он мок под осенним холодным дождем, как он в таком виде совершил страшный переход через Падун, третий и самый опасный порог. В Житии нет ничего, что не соответствовало бы официальному донесению.
Пашков опускает выразительные второстепенные подробности как несущественные и, тем более, не повествует о недозволительно грубом обращении, которое отнюдь не говорит в его пользу. Он довольствуется тем, что указывает на приведение наказания в исполнение и далее определяет состав преступления: подстрекательство военных к неповиновению. Он нагромождает улики, могущие подтвердить преступление. В действительности это улики слабые: почему он не дает текст «подметного» письма? Если оно было написано рукой Аввакума, можно ли было считать его «подметным» и «безымянным»? Крик отчаяния наказуемого: «Не бросайте меня!» – разве можно было принять его за призыв к восстанию? В силу вышесказанного мы не можем считать обвинение правильно обоснованным, чувствуется, что воевода всецело занят одним: приведением в исполнение наказания, отданного в минуту дикого гнева. Он жестокий человек: разве не набросился он на своего сына с мечом в руке? Он постоянно обзывает Аввакума расстригой, называет его уничижительным именем, называет так того, кого в Москве и в Тобольске именовали «протопопом Аввакумом». Он заставляет своих подчиненных подписаться под жалобой, где все в тех же выражениях повторяется вся история его «подметного» письма и обвинения его в подстрекательстве к восстанию[959]. Наконец, присутствие такого свидетеля его стесняет. От подобного человека можно ожидать всего, пишет он почти с комическим ужасом; отзовите его, разрешите мне покончить с ним, но ради Бога освободите меня от него! Само собой понятно, что казаки заканчивают свою одновременно написанную челобитную такой же просьбой: «Милосердый царь-государь, благоволи приказать твоему воеводе применить к этому разбойнику и подстрекателю, к расстриге Аввакумке твой строгий закон… боимся, как бы из-за него и мы не попали в опалу».
И, наоборот, Аввакум дает нам волнующий рассказ о своих страданиях и переживаниях, как во время, так и после выполнения приговора. Он умалчивает о причинах той тревоги, которую он мог возбудить в Пашкове; или, может быть, он просто забыл об этом после 16 лет перенесенных им нравственных терзаний! Но перед ним стоит яркое воспоминание: он видит себя, как он молится под ударами, дрожа от холодных потоков воды, испытывая боль во всех членах: последствия этого ужасного дня отзовутся через 8 лет, по его возвращении в Москву. И однако он от них оправился. Какая же закалка, почти сверхчеловеческая, потребовалась для этого бренного тела, чтобы пережить целый ряд мучений, кнут, холод, а вскоре и голод! Казаки будут умирать в Даурии как мухи. Аввакум же, с которым обращаются хуже, – выживет. Какая бьющая ключом жизнь в этой душе! Вера, непоколебимая и глубокая, одухотворяет его. Но на поверхности какое неистовство! Обезумевший протопоп обвиняет Бога: я защищал Твоих вдов, и вот как Ты со мной поступаешь! Поставленный перед проблемой зла, он не рассматривает ее как богослов или как метафизик, но как ропщущий верующий; он повторяет проклятия Иова. Только позднее он вспомнит христианское решение вопроса: перенесенное страдание очищает; испытание посылается избранным детям Божиим[960].
III От Тунгуски до Нерчи
1 октября флотилия прибывает в Братский острог. Аввакум брошен в холодную башню, где он остается полтора месяца забытым; затем его переводят в отапливаемое помещение, куда постоянно сажали недоимщиков из разных племен, не внесших соболиную дань. Однако он все еще был в цепях; пищу он получал через день, его мучила жажда, он был разлучен с семьей. Жена его была выслана за 20 верст от острога и отдана в полную власть злой бабе, которая все время ее ругала. Пашков сознательно шел на разлучение семьи; юный Иван, пришедший на Рождество проведать отца, был брошен на целую ночь в ту же самую башню и утром безжалостно отослан[961].
В течение этого времени Пашков договорился с илимским воеводой, чтобы проложить с обоих концов новый путь: с одной стороны от Илимска, с другой стороны от Братского острога. По этому пути он приказал привезти на санях 141 четь ржи и другого зерна для засевания 150 гектаров земли[962]. Но тут из Даурии как раз пришли плохие вести: Полетай и его небольшой отряд перед своим бегством разграбили и сожгли Иргенский острог; после этого они сами были убиты, прежде чем смогли достичь океана через гиляцкий край.
После вскрытия рек отправились в путь. Это было в конце мая. 4 июня экспедиция была в Балаганском остроге. Поход начинался плохо, обещанное количество пороха, пуль и водки не прибыло по назначению, не хватало якорей, надо было изготовить 20 штук из деревянных окован ных железом сошников. Пашков обжаловал это, написав в Москву[963]. Наверное, Аввакум именно в это время смог поставить в известность своего архиепископа о понесенных им злоключениях[964]. С момента отъезда он обрел свободу. Но судьба его была предопределена: это теперь уже не был официальный священник, находящийся при военной части, окруженный известным уважением, сохранивший от своего прежнего положения некоторый достаток, имеющий с собой большую поклажу, а также и оплачиваемых им добровольных слуг; это был всего-навсего запрещенный священник, лишенный всех прав, равно и части своих книг, своего священнического облачения, обязанный неукоснительно выполнять все распоряжения; вскоре вынужденный, чтобы как-то существовать, постепенно продавать остатки своего имущества, постоянно зависящий от капризов воеводы и выполняющий требы только тайно и изредка. В таком жалком и униженном положении, которого он до тех пор еще никогда не испытывал и в котором он отныне как-то держится только благодаря собственному мужеству, Аввакум поднимает свой моральный авторитет и вызывает уважение со стороны всех его окружающих.
Начинались совсем большие трудности. Переправа через Байкальское море на 40 речных плоскодонных дощаниках не обошлась без происшествий. Протопоп со своей семьей снова чуть не утонули. А ведь дощаник их уже и раньше тонул на Тунгуске! Плыть вверх по Селенге было относительно легко. Но когда им пришлось плыть по Хилке, небольшой, быстрой и мелководной реке, они вынуждены были оставить дощаники и построить более легкие лодки, а затем и тянуть их лямкой, часто идя по воде из-за отсутствия тропы для тяги бечевой; порой так продолжалось целые дни, без отдыха. Аввакум не был освобожден ни от одной из этих тягот. Третья авария не оставила на нем с семьей ни единой сухой нитки. В то время как их вещи сохли на воздухе, они сидели и ждали, почти нагие. Пашков увидел в этом еще одно проявление бестактности. Он вознамерился еще раз приказать избить его. После трех месяцев усилий отряд дошел до болотистого плоскогорья, которое разделяет Байкальский бассейн и водосток Ледовитого океана от бассейна Тихого океана. В это время навигация как раз заканчивалась.
Иргенский острог был уничтожен: необходимо было его восстановить. Пашков послал своего сына Еремея на разведку, а сам стал принимать изъявления покорности от тунгусских и монгольских племен, так же как и соболиную дань. Одновременно участники отряда должны были рубить деревья для постройки двух постов, необходимых для остановки на Шилке, ввиду того, что дальше плыть было рискованно из-за отсутствия времени. Затем надо было перенести весь этот лес, все вещи и оружие до Ингоды. И в этих работах Аввакум также принимал участие; так как с ним были только его малолетние дети – он должен был выполнять всю выпавшую на его долю тяготу один. В этой работе и прошла зима 1657/1658 года.
Как только достигли Ингоды, пришлось покончить с тягой бечевой; ничего другого не оставалось, как плыть по течению. Дощаников больше не употребляли: стволы деревьев, ранее предназначенные для ограды острогов и построек, были связаны в 170 плотов, на каждом из которых помещалось по два-три человека и лошади. Но сила течения бросала плоты на скалы, о которые они разбивались; надо было с большим трудом перевязывать их, стоя в воде. Все это было бы ничего, если бы не нехватка продовольствия, которая с этого момента уже остро давала себя чувствовать: со времени отъезда из Енисейска не получали ничего. Казаки, изнуренные усталостью, так как им приходилось целыми днями быть в воде и голодать, под конец начали заболевать цингой и умирать. У Аввакума также распухли живот и ноги, появились язвы на голенях. Усыпляли голод травами и корнями; не раздумывая, бросались на омерзительную и запрещенную религией пищу. Чем больше увеличивались трудности, тем больше Пашков усиливал строгость, чтобы поддержать дисциплину. Однако Шилки достигли довольно скоро; затем в половине июня достигли и притока ее, Нерчи; слияние двух рек находится в самом сердце Даурии.
Но вместо того, чтобы найти богатую страну, большие запасы зерна, о которых рассказывали, а также и население, готовое подчиниться великому московскому царю, люди Пашкова оказались в пустыне: все было последовательно расхищено одним за другим: Хабаровым, Зиновьевым, беглыми Полетая, и жители убежали на юг, под покровительство своего повелителя, великого богдыхана. Голод, таким образом, продолжал свирепствовать. Сам Пашков 29 июня 1658 года написал в Москву отчаянное донесение: он раздал свои собственные запасы, у него оставалось только 7 больших мешков муки, которых должно было хватить до сбора хлеба с 50 засеянных гектаров[965]. Этот сильный человек был так удручен невозможностью выполнить свою задачу, что, ссылаясь на свой возраст, болезни и прежнюю службу, просил освободить его от должности[966].
При этом общем голоде Аввакум и его семья страдали, как и все; жена протопопа продала Пашкову свое длинное, большой ценности платье, оставшееся у нее от Москвы, получив взамен 4 небольших мешка ржи. Их растянули на один или два года, поддерживая слабые силы также всем, что можно было собрать с деревьев или выкопать из земли. Зимой соскабливали сосновую кору и из нее делали похлебку. В сущности, это вовсе не было неслыханным делом: протопоп и его семья изведали только то, что веками испытывали крестьяне на Севере России во время годов больших морозов, уничтожавших весь урожай[967]. Иногда им попадалась рыба, иногда павшие животные или конина; пища запретная, нечистая, но «суббота для человека, а не человек для субботы». Не тогда ли Пашков, чтобы компенсировать Аввакуму шапку княжны Ирины, которую он у него отнял, уступил ему корову? Так или иначе, но двое его детей – Прокопий и другой, младше его – умерли. Старшие, бегая босые по камням, до крови раздирали себе ноги в поисках пропитания. Однако небольшая семья нашла себе двух могущественных покровителей в лице жены воеводы Феклы и его снохи Евдокии: маленькая Агриппина ходила под окна воеводы, выпрашивая хоть немножко муки, которую ей давали тайком, если Пашков отсутствовал. «Оне нам от смерти голодной тайно давали отраду», – писал протопоп[968].
Странное, однако, было положение Аввакума. Униженный и лишенный сана, он от этого только сделался еще ближе к лучшим из казаков. В этом аду несправедливостей, страданий, грубостей, мучений он казался воплощением справедливости, сострадания, евангельского закона и христианской надежды. Многие тайно обращались к нему. Даже в самом доме воеводы у него были духовные дети – кормщик, жена воеводы, его сын и его сноха: Евдокия выказывала ему наивное доверие, порой его затруднявшее. Однажды у нее заболели куры; она приказала в корзине отнести их к протопопу: «Пусть протопоп помолится о них». Что делать? Как применить церковные молитвы к существам, не имеющим души? Аввакум начал размышлять: он чувствовал, что был очень обязан своей благодетельнице, а ей чрезвычайно необходимы были куры для ее маленьких детей. Но дозволено ли это? Козма и Дамиан, святые целители, не делали различия между людьми и животными. И ему пришел в голову решительный аргумент, превосходное размышление деревенского жителя, взгляды которого, благодаря вере и состраданию, получили большую широту. «Богу все надобно, – пишет он, – и птичка во славу Его Пречистого Владыки; еще же и человек ради». После чего он, может быть, расширил свое право и пропел положенную службу, применив святую воду и ладан. Он верит в силу молитвы даже в отношении животных. В то же время Аввакум, как деревенский житель, знает и причину болезни кур: он идет в лес и изготовляет корыто, чтобы куры этой женщины могли в нем клевать и пить. Затем он окропляет это корыто святой водой. Куры выздоровели. Анастасия в награду получила прекрасную черную курочку, которая несла по два яйца в день[969].
Сам Пашков, отрицая священническое достоинство Аввакума, отнял у него вместе с богослужебными книгами Святые Дары, миро и священные облачения, отнял все, что дает возможность служить обедню, даже лишил его права крестить, запретил ему причащать умирающих[970]. Тем не менее он порой относился «к этому разбойнику Аввакумке» как к удивительному человеку, имеющему страшную способность общаться с небесными силами. У Падуна, где дощаник одного только Пашкова был остановлен бушующей рекой, он после сильного приступа гнева все же кончил тем, что не стал прекословить сыну, когда тот стал уверять его, что это послано ему в наказание за то несправедливое мучение, которому он подверг протопопа. Он почувствовал свою вину – и все уладилось[971]. Раскаяние это было лишь на одну минуту, ибо судьба его жертвы нисколько от этого не изменилась. И все же, кого призывает он теперь на Нерче? У него начали бесноваться две его сенные девушки, любимые служанки. Никакие колдовства не помогают. И вот он зовет не монаха, теперешнего отрядного священника даурского похода, но Аввакума: «Послушает тебя Бог». Но и на этот раз после положительного результата, у него сохраняется одно желание – избавиться от человека, в котором он чувствует свидетеля своих проступков. Аввакум сделал из этих служанок своих духовных чад, и воевода вновь разгневался: ему кажется, что исповедь – это хитрость, имеющая целью выведать у них его, Пашкова, тайны. Он запирает обеих женщин на ключ. Но они находят средства поддерживать отношения со своим спасителем: они убегают ночью, чтобы присутствовать на его домашнем богослужении[972].
Чтение Божественной службы было почти обязанностью для мирян, а тем более для священника. Аввакум даже в Сибири выполнял это правило по силе возможности. Однажды, однако, изнемогая от усталости и голода, он пренебрег его выполнением. Он был наставлен небесным указанием через свою дочь Агриппину. Естественно, он повиновался. Но ему было также велено приказать Пашкову читать вечерню и утреню. Трудная задача. Был момент, когда Аввакуму это удалось, так велик был его авторитет. Однако вскоре после этого Пашков стал утверждать, что видение было ложное, и перестал повиноваться Аввакуму[973].
А между тем как-то раз казак Яков из Красноярска сказал: «Токмо быде воевода по госудореву указу ехал прямою дорогою, и мы бы-де нужи такие не терпели». За это он был высечен и потом сожжен. Пашков велел бросить труп казака под окошко «зимовья» Аввакума в виде предупреждения[974].
Так, в новом остроге, основанном при слиянии Шилки и Нерчи, будущем Нерчинске, прошел конец 1659 года, а затем и весь 1660 год. Пашков попробовал связаться с отрядом Онуфрия Степанова, который должен был находиться где-то ниже по реке Амур. Вскоре он узнал, что Степанов и его 300 человек были уничтожены у притока Сингала (Сунгари) китайцами[975]. Итак, отряд оказался изолированным и лишенным поддержки. Ничего не было: несмотря на собранный урожай с засеянных полей, не было продовольствия, а самым непоправимым было отсутствие пороха и пуль; не было никакой надежды, в силу создавшегося положения, завязать сколько-нибудь успешные переговоры с богдыханом или с его представителями. Помимо этого, единственный китайский переводчик еще на Енисее скрылся[976]. Казаки держались в повиновении только страхом мучительных наказаний; многие уже убежали[977]. Из Москвы не было никакой помощи, никакого совета. Пашков продержался до конца зимы. Затем, воспользовавшись последним льдом, он пошел обратно и привел ядро своего отряда в Иргенский острог.
IV От Нерчи до отъезда
Весьма вероятно, что казаки приветствовали этот обратный переход, который приближал их, до некоторой степени, к их домашним очагам. Однако он сначала усложнил их тяжелый труд, сани должны были везти только поклажу; людям чаще всего приходилось идти пешком, делая громадные усилия, чтобы не упасть по гололедице. Из боязни упасть шли, тесно прижавшись друг к другу: стоило только одному поскользнуться, остальные летели кубарем на него. Так случилось с бедной Анастасией, которая с самого начала, не жалуясь, переносила все испытания, бывшие сокрушительными даже для мужчин. В минуту отчаяния она обернулась к мужу: «Долго ли муки сея, протопоп, будет?» Ответ был: «До самыя до смерти, Марковна!» Но она уже овладела собой, спохватилась и продолжала, вздохнув: «Добре, Петрович, ино еще побредем!»[978] Этот ужасный обратный путь из Даурии длился пять или шесть долгих недель.
В Иргенском остроге положение нисколько не улучшилось. Положение Аввакума тоже не изменилось, то он был предметом боязливого почитания, то находился на волосок от тяжких наказаний. Сам он относился к этому безразлично. Официально не выполняя никакой священнической функции, он осуществлял их, только когда к нему обращались. Мы легко можем себе представить, что после каждой сколько-нибудь большой несправедливости или жестокости он умел и без слов дать виновному понять все свое неодобрение, и виновный, наверное, после этого избегал его взгляда. На большее он, надо думать, не шел. Но бывали случаи, когда он не мог ограничиться только этим молчаливым порицанием.
Так, когда Евдокия послала к колдуну Арефе с просьбой исцелить ее маленького сына Симеона, которого крестил Аввакум и которого он каждый вечер благословлял, то мог ли Аввакум допустить подобное нарушение христианского долга? Мальчик вместо того, чтобы поправиться, погибал. Слуги приходили к протопопу и умоляли его вступиться, но он хотел, чтобы мать раскаялась – и резко отказывал в просьбе. Наконец, она послала к нему просить, чтобы он ее простил. Тогда он начал молиться и совершил над ним таинство елеосвящения и помазания, и мальчик обрел способность двигать своими членами. В тот день, когда Пашков об этом узнал, он поблагодарил Аввакума[979].
Весь левый фланг цепи новых поселений с Байкала до Амура был под постоянной угрозой нападения со стороны монголов. Во время похода отряд уже столкнулся с этими страшными наездниками, и Еремей одержал над ними славную победу. В августе 1661 года Пашков попытался, на этот раз уже в сердце самой Монголии, с 72 казаками и поддерживаемый 20 тунгусами и опять под предводительством своего сына, произвести набег на этих врагов. Вечером, перед тем, как выйти в поход, он открыто посоветовался с шаманом относительно исхода этого набега. Шаман перед всем отрядом, состоявшим из христиан, принес в жертву барана, вызвал духов, впал в транс и предсказал счастливое возвращение с большой добычей. Все обрадовались. Часто в Сибири русские соблазнялись верою туземцев[980]. Но в данном случае этот акт суеверия был официальным и коллективным. Аввакум не мог не знать обо всем этом. Впрочем, он наблюдал за ним, по-видимому, скорее с любопытством, чем с отвращением. Чтобы этот поступок был наказан и чтобы предсказание шамана не выполнилось, надо было, чтобы набег провалился, чего именно он с громким воплем и просил у Бога. В частной молитве он, однако, помолился за своего дорогого Еремея. Пашков тогда только рассмеялся над этим; он предпо читал своего колдуна-язычника, но, когда он увидал, что сын его не вернулся в назначенный срок, он вспомнил заклятия священника. Он приготовил все для его наказания. Своим спасением Аввакум был обязан только чудесному возвращению Еремея, единственно уцелевшему от общего избиения. Пашков готов был сожрать его живьем. Он ограничился, однако, тем, что сказал ему: «Это дело твоих рук: в гибели скольких ты повинен»[981]. Этим он признавал лишний раз духовное могущество Аввакума.
Вот как Аввакум мучил своего мучителя. «Я ли его мучил, то ли он меня?» Но, наконец, настал день, когда они освободились друг от друга. В начале 1658 г. в результате письма архиепископа Симеона, который жаловался на жестокости Пашкова, в Москве было принято решение послать в Даурию следственную комиссию под главенством, как и в 1652 году, Дмитрия Зиновьева. Пашков должен был быть отозван, а из Тобольска намечалось направить в отряд нового дьякона на место умершего в Братском остроге, так же как и другого священника вместо «протопопа Аввакума»[982]. Эти решения, однако, остались без осуществления, так как расследование Зиновьева было прекращено. Но 20 октября 1659 года, в ответ, вероятно, на просьбу Пашкова о своем отозвании, содержавшуюся в донесении, полученном 4 августа предшествующего года, Сибирский приказ предложил тобольским воеводам назначить заместителя Пашкову[983]. И, действительно, в следующем году на его место был назначен Иларион Толбузин. Он совершенно не торопился; он достиг Тугира только 2 октября 1661 года и оттуда на лыжах добрался до Нерчинского острога 5 марта 1662 г. Передача полномочий произошла в Иргенском остроге 12 мая 1661 г.; от личного состава великого похода 1656 г. в живых осталось только 75 человек и ни одного мешка зерна. «Мы все помираем с голоду, – писал сейчас же по приезде новоприбывший Толбузин, – и не будет никого, чтобы дань собирать». Пашков уехал 25 мая через Байкал[984], сопровождаемый частью конвоя, который привел с собою Толбузин. Переходы становились все более опасными из-за восстаний, которые сотрясали всю Сибирь.
Аввакум также получил, вероятно в то же время, что и Пашков, приказ или разрешение вернуться в Россию. Но Пашков не взял его с собой. В первый раз после стольких лет ему представился случай отделаться от столь его стеснявшего свидетеля; он им и воспользовался. Аввакум, со своей стороны, предпочитал свою независимость путешествию в свите Пашкова, хотя это путешествие и представляло бы ему известные удобства.
Оставшись один, он наконец крестил нового ребенка, которого ему в эти тяжелые времена подарила героическая Анастасия. То была маленькая Ксения. Затем, вместо того, чтобы бежать как можно скорее из страны, где он и вся его семья так страдали, он до конца выполнил свой долг: спасать людей. Он дал приют увечным, старикам, больным и раненым, покинутым воеводой. Он сделал больше: он хотел, заплатив за это определенную сумму денег, спасти от мщения казаков двух подручных Пашкова, которых казаки особенно ненавидели. Он спас первого, который в свое время бил его самого и чуть было не посадил его на кол, затем Аввакум взял его с собой. От одного расположенного к нему сотника он получил немного муки, корову, пять или шесть овец и кормщика. В обмен он как раз дал ему Кормчую книгу, уцелевшую от всех бедствий. Эти приготовления заняли целый месяц. 25 июня сели на одну из тех больших барок, которые собирали для навигации и затем опять разбирали и которые еще и теперь встречаются на Лене. По дороге приняли к себе другого приспешника Пашкова, которого надо было скрыть от его преследователей. Для этого Аввакум применил «ложь во спасение». Небольшой отряд из 18 человек, состоявший из одной женщины и ее маленьких детей, десятка убогих и больных и двух бывших палачей, углубился безоружным в мятежную Сибирь. Поплыли они на утлой ладье, с крестом на корме, отдавшись на милость Божью и надеясь на молитвы Его представителя на земле – протопопа Аввакума[985].
Как мог он сомневаться в том, что Провидение продолжает его хранить после того, как он получил столь яркие свидетельства Божественного попечения? В продолжение шести лет он подвергался всевозможным испытаниям: и водой, и усталостью, и холодом, и голодом; эти испытания погубили его товарищей, а он остался цел и невредим. Его преследовала совершенно особая ненависть воеводы, который имел право жизни и смерти над ним, так же как и над всеми другими, однако он всегда выполнял свои обязанности без страха, даже отважно; за это его били кнутом и батогами, он был на волоске от того, чтобы быть сожженным или посаженным на кол – и каждый раз он был чудесным образом спасаем. Однажды, когда он умирал от жажды, посередине замерзшего озера, лед вдруг разверзся, чтобы он мог напиться и затем снова закрылся[986]. Другой раз, когда он умирал, подавившись рыбной костью, неожиданная находчивость вдохновенной Богом маленькой девочки вернула ему дыхание[987]. Ему случалось делать совершенно непредвиденные большие уло вы рыбы там, где никто ничего не ловил, и после этого он понял, что вовсе не вода дарует рыб, а сам Господь[988]. Он много, много раз, когда облегчал страдания добродетельных людей или облегчал злодеяния дурных, убеждался в том, что его молитва не остается безответной. После этого было невозможно, чтобы духовно-рассудительный человек не воспринял бы с еще более твердой верой, что он находится под особым покровительством Божьим.
Сибири не пришлось закалять это тело и этот характер, которые уже и раньше были изумительно закаленными. Вместе с тем, считая себя обязанным все это время противопоставлять всей разнузданности среды оплот веры, нравственности и человечности, он не замкнул ни своего ума, ни своего сердца. Наоборот, в этих ужасных условиях он понял необходимость снисхождения для малых сих и слабых – то, чего он, может быть, не знал до сего времени. Мы вскоре увидим, как он начнет мучиться угрызениями совести, как в этих самых угрызениях совести проявится и огромная чуткость, и духовная осмотрительность. Его отчужденность от религиозных споров, которых он, по существу, видел только начало, позволила ему составить себе собственное мнение об окружающем. Перед нами рисуется человек, возвращающийся на Русь со свежей восприимчивой душой, человек удивительно глубоко в каждодневном опыте познавший многое и многое: и дикую природу; и добро и зло; и духовные опасности и путь спасения; и личные усилия и чудеса, творимые силой молитвы. Весь этот опыт последовательно каждый день у него и укреплялся, и уточнялся, и углублялся. И в результате он глубоко внутри себя прочувствовал и пережил, как нужно относиться к великим антитезам христианства: к духовной рассудительности наряду с полным отданием себя на волю Божию; к влекущей человека благодати Божией наряду с попущенным в меру сил дьявольским искушением; к свободе человека – впрочем, бессильного в отношении воли Провидения – наряду со всемогущей волей Божией, которая иногда, однако, в силу горячей молитвы может даже измениться.
С полным основанием Аввакум вскоре возблагодарит Бога за то, что он был первый в этих краях со своей женой и детьми, в таком страшном, а точнее, в таком полезном для него изгнании[989].
Глава IX Возвращение (июнь 1662 – февраль 1664)
I От Иргенского острога до Тобольска
Вскоре Аввакум со своими спутниками достиг Байкала; они шли по уже раз пройденному пути, шли по тем же местам, по которым направлялись в ссылку. Этот путь сейчас представлял меньше затруднений, ибо им пришлось плыть по течению. Но он все-таки вызывал немало тревог, были опасности как со стороны местных жителей, так и со стороны возможной нехватки пропитания, не исключалась возможность голода. Но Господь, мог ли он быть глух к мольбам своих верных? Они убили вола, мясо которого доставило им пропитание. У устья Селенги их ожидала новая удача. Устье этой реки славилось изобилием рыбы, и как раз на счастье там на месте оказалась ватага рыбаков. То были истинно русские люди, гостеприимные, сочувствующие всем несчастным, которые, наверное, никогда не закидывали сетей, прежде чем обменяться следующими словами. Старший, или башлык, произносил: «Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных!» Вся артель хором отвечала: «Аминь!» Старший затем, наклоняясь то налево, то направо от лодки, говорил: «Господи, сохрани!», артель же продолжала: «Господи, помози!»[990] Они приняли как братьев путешествующих, которые не были ни чиновниками, ни алчными искателями приключений: они их накормили, помогли им привести их утлый челн в надлежащее состояние, позволяющее ему переплыть через Байкал; для этого они установили на нем примитивный парус; наконец, рыбаки убедили их принять от них некоторый запас рыбы[991]. Но нельзя было задерживаться, если только отряд хотел достигнуть Енисейска до начала зимы.
Переход через озеро был очень тяжелым: в открытом море ветер отсутствовал, когда он так был необходим; близ берега же он поднялся, как настоящая буря, угрожая разбить суденышко о скалы.
Байкальское море, со своим непостоянством и со своим изобилием рыбы, окруженное высокими, изрезанными горами, которые, хотя и были покрыты роскошной и яркой растительностью, но вместе с тем представляли собой естественные башни и колонны, произвело на протопопа совершенно иное впечатление, чем когда он отправлялся в изгнание. Тогда присутствие Пашкова, беспорядок, царивший среди сорока дощаников, страх перед неизвестным будущим наполовину скрывали от него красоты природы. Теперь же он находился перед ней почти в одиночестве и наблюдал ее своим взором деревенского жителя, привыкшего к правильному и точному восприятию и умеющего применять явления природы к живой жизни: он видит луковицы, которые были крупнее, чем в Романове; рыбы такие жирные, что их и жарить нельзя; он наблюдает все с восторгом очарованного художника, открывшего новый мир, со всем его разнообразием, со всеми его яркими цветами. К его прямым наблюдениям примешиваются размышления философа о заботливости Создателя вселенной[992].
Достигнув другой стороны озера, они оказались перед Ангарой. Теперь тут, недалеко от предгорий, был основан новый сторожевой Иркутский острог[993]. Колонизация Сибири за эти шесть лет очень расширилась. Но хотя быстрая Ангара замерзает поздно, путешествующие спешили достичь Енисейска. Они достигли его только в октябре. Нам неизвестно, какова была судьба больных и слабых, а также и двух пашковских изуверов. К несчастью, мы также не очень хорошо знаем, как Аввакум со своей семьей провел зиму в Енисейске. Надо полагать, что, будучи вызван царем, он был неплохо принят воеводой Иваном Ржевским, который в 1659 году занял место Максима Ртищева[994]. Он, по-видимому, был порядочным администратором; ему было уже за пятьдесят; он был вдов, жена его была некая Милославская[995]. Аввакум с ним беседовал довольно-таки запросто, это может быть видно из того, что однажды он поведал ему свое тайное желание, свою самую сокровенную мечту, которую он уже ранее, до своего отъезда из Даурии, высказывал казакам: заставить Пашкова принять монашеский постриг[996]. Он использовал свое возвращение в более или менее культурные места, чтобы отдаться удовольствию, которого он был долгое время лишен, а именно чтению. Позднее он вспомнит о Цветнике, извлеченном из Патерика Скитского, который он читал в Енисейске[997]. Сомнительно, чтобы он мог получить тут сведения о состоянии церкви, которые он желал бы иметь. Неполные и неточные известия, которые он собрал среди людей, которые были больше заняты охотой на соболей, заготовкой продовольствия и разведкой недр, чем религиозными вопросами, не удовлетворили его. Отсутствие точных известий, вероятно, и способствовало его намерению ускорить отъезд и скорее достичь лучше осведомленных местностей.
Однако он достаточно узнал и наблюдал, чтобы понять, что русская церковь была уже в течение четырех лет без пастыря, что Никон сам покинул свое место служения 10 июля 1658 года и был низложен Собором в феврале 1660 года; вместе с тем, он не был никем замещен; понимал он также, что церковь была в состоянии острой тревоги, во власти неустройства и соблазна. Думая обо всем этом, Аввакум колебался между двумя чувствами: с одной стороны, желанием не вовлекать свою семью в новые тяжелые испытания, с другой стороны, перед ним стоял долг возвысить свой голос, всегда защищать истину. Может быть, как раз к этому времени относится одно событие, не точно датированное в Житии. Его жена, видя однажды, что он очень занят, подходит к нему, о чем-то его деликатно спрашивает. «Вы меня по рукам и ногам связали», – вдруг бросает он ей с отчаянием в ответ. Она же отвечает коротко: «Как ты так говоришь? Не так ведь нас учил! Добро, делай свое дело, обличай блудню еретическую, а о нас не тревожься. Все будет так, как Богу угодно»[998].
Вскоре, вероятно после вскрытия рек, вся семья воспользовалась первым судном, чтобы продолжать свой путь на запад. Несчастья все еще преследовали ее. На Оби она вместе со своими новым товарищами по путешествию попала в руки восставших туземцев; двадцать человек из числа их спутников были убиты; протопоп сам слышал, как дикари обсуждали его судьбу; впрочем, они затем отпустили его на свободу. Это были, очевидно, те остяки, которые, когда к ним приехал архиепископ Симеон, так сильно жаловались ему на лихоимство воевод и царских людей: Аввакум был совсем не из тех, кого они искали[999].
Несколько дальше, на Иртыше произошло такое же происшествие: остяки засели в засаду, чтобы во время перехода захватить караван, ежегодно поднимавшийся из Березова вверх до Тобольска. Купцы, военные и должностные лица были их злейшими врагами. Аввакум со своими товарищами причаливают, ничего не зная, как раз к этому месту. Их окружают. Но Аввакум не теряет своей твердой веры в Провидение; он дарует мир этим дикарям; он говорит им: «Христос со мною, а с вами той же». Туземцы сразу же опускают свои луки. Анастасия ласкова с женщинами. Завязались сношения. Аввакум закупает медвежьи шкуры. После того как последняя опасность исчезла, отряд отчаливает по направлению к Тобольску[1000]. Нельзя сказать, чтобы отряд не был напуган встречей с остяками. Однако от них отряд узнал, что Пашков, несмотря на свой конвой и оружие, был напуган еще больше.
II Аввакум в Тобольске
Итак, Аввакум прибыл в Тобольск в начале лета 1663 года. Оттуда он мог добраться до столицы в один или полтора месяца. Но он предпочел задержаться. Каковы же были его мотивы?
Архиепископа Симеона не было уже в Тобольске: он только что 1 марта уехал в Москву[1001]. Старшим воеводой был теперь другой Хилков, Иван, сын Андрея, увлекавшийся тем, чтобы организовать военное дело по польскому образцу. Город и предместья были полны военными: там были тысяча рейтаров и тысяча пехотинцев, вооруженных карабинами и мушкетами, четыре тысячи стрельцов, обученных иноземными офицерами[1002].
Число иностранцев в общем еще увеличилось поляками и литовцами – католиками, пленными, оставшимися после Смоленской кампании. Все это создавало не такую обстановку, чтобы удержать здесь Аввакума.
Но, с другой стороны, момент для перехода Урала был неблагоприятным. Оба склона его горных цепей были объяты восстанием, даже в более сильной степени, чем сама Сибирь. Тюменские и тарские татары, уфимские башкиры, степные калмыки, черемисы и вогулы из окрестностей Верхотурья, остяки Крайнего Севера, западная мордва, находившиеся все под предводительством сибирских царьков: Кучука, Довлет-Гирея и некоего Сеита, в 1661 году восстали, осаждая и сжигая то и дело монастыри, деревни и плохо укрепленные сторожевые посты, убивая крестьян, отнимая скот, часто при том ускользая, благодаря своей подвижности, от своих преследователей. В общем они завладели всей страной с севера до юга. Летом 1663 года русские власти были даже вынуждены пустить в ход уговоры, хотя бы для того, чтобы удержать в повиновении тех, кто еще не присоединился к восставшим царькам[1003].
В октябре полковник Дмитрий Полуектов со своими рейтарами смог нагнать большой отряд башкир и татар, которые как раз осаждали Киргинскую слободу, впрочем, он был позорно разбит и ранен. Воеводы считали, что если только весной не будут приняты широкие военные действия, то даже города будут находиться в опасности[1004]. Итак, Аввакуму, может быть, даже посоветовали подождать более удобного момента. Не выполняя никаких обязанностей, он был, тем не менее, хорошо помещен, обеспечен нужными удобствами и всем необходимым. Он снова пользовался почетом, присущим его сану, присутствовал на приемах у воевод. В Тобольске, особенно в отсутствие архиепископа, играл первую роль протопоп. Будучи протопопом, Аввакум пользовался здесь определенным уважением, и положение его здесь после Даурии было сравнительно сносным.
Однако можно сомневаться в том, что единственной причиной, побудившей его задержаться, была осторожность, хотя он не желал возвращаться в Москву до тех пор, пока не будет хорошо осведомлен о положении тамошних вещей. В Тобольске он был как раз в нужной ему среде. Там была масса высланных священнослужителей, только что прибывших из Москвы: дьякон Успенского собора Василий Иванов; канонарх Иван Назарьев[1005]; иподьякон Никона – Федор Трофимов[1006]; священник Лазарь из Романова[1007]. Всем им было что порассказать; оба последние, по крайней мере, были его друзьями.
Трофимов, к примеру, мог рассказать о причине своей немилости: в 1659 г. был опубликован новый Месяцеслов. Иродион, священник одной из дворцовых церквей, и он сам открыли там, среди других нововведений, и в частности, переноса праздников, возмутительную вещь, а именно: учение о том, что Пресвятая Дева якобы находилась в чреве своей матери 7 лет; они обвиняли в ереси главного справщика Арсения Грека и за это их судили; один был схвачен и закован, другой выслан в Сибирь[1008]. Между прочим, он передавал о Никоне бесконечные слухи: что будто он презирал русских святых, что он признавал и проповедовал эпикурейскую ересь, что он отказывался именовать Господа Иисуса Христа Сыном Божиим, что он покушался на права великого государя, наконец, что он позволял своим молодым дьяконам и иподьяконам «целоваться и щупать друг друга» на хорах собора: это, как утверждал Трофимов, «их жены рассказывали моей жене»[1009].
Лазарь в своих рассказах был много серьезнее. Вынужденное безделье в ссылке и тамошняя среда несколько деморализовали его; по-видимому, в иные вечера он хотел немножко разгуляться в тесном Тобольске и позволял себе рассказывать скабрезные анекдоты, в которых он потом раскаивался[1010]. Для члена кружка ревнителей благочестия это, конечно, было прискорбно. Но ведь он читал и критиковал новые книги, отметил все ошибки и все новшества Никона, собрал тексты и аргументы, чтобы противостать им. У него не было полета, темперамента, таланта, но зато у него были твердые убеждения, у него была диалектика; это был человек, говоривший с весом, умевший судить обо всем. Он умел относиться с почтением к выше его стоящим людям; если, как это возможно, в Москве у него не было времени посещать Аввакума, то в Тобольске он часто посещал его и проникся к нему, несмотря на разницу лет, привязанностью и восхищением, которые не изменились до самого конца.
У Аввакума была в Тобольске одна поучительная встреча: то была встреча с Крижаничем. Этот хорватский священник, обладавший большими познаниями, знавший всевозможные редкие и любопытные случаи из жизни, с детства чувствовал непреодолимое благородное призвание: приобщить всех своих славянских братьев к церковному единству католичества. План быстро созрел в его сознании: во главе славянской семьи должна была находиться Империя царей; пусть только царь признает главенство папы, пусть он увлечет за собой сербов и болгар – и единство вероисповедания будет восстановлено, в то время как будет обеспечена и победа славянского мира над его врагами, турками и германцами. Итак, необходимо было поехать в Москву, сделаться полезным царю, убедить его, склонить его к унии. Несмотря на опасность, несмотря на хорошо продуманные советы римской курии, разубеждавшей его, несмотря на недостаток рвения со стороны польских прелатов, такова, несмотря ни на что, была все-таки непреоборимая мечта духовно изголодавшегося грамотея-искателя. В 1647 году он смог сопровождать в Москву посольство Пака и Техановича; он оставался там с 15 октября по 9 декабря; вернулся он оттуда с более точными знаниями и с многочисленными книгами, среди которых была и Кириллова книга. Это короткое пребывание лишь усилило его пыл. Наконец, в 1659 г., 17 сентября, он предложил царю свои услуги для всех литературных работ, которые пожелали бы ему поручить. Увы! 20 января 1661 г., неизвестно по какой причине, он был уже выслан в Сибирь с иподьяконом Трофимовым.
Эти внешние злоключения нисколько не отразились на его убеждениях: его «Грамматика», написанная языком, понятным для всех славян, его «Политико-экономический трактат», написанный в Тобольске, раскрывают его любовь к русским, которая чувствуется даже в тех упреках, которые он им делает. Будучи католиком, он порицает раскол, но он почитает русскую церковь как таковую, ее обряды, ее святых, ее иерархию. Так же как в Нежине он прожил 5 месяцев у знаменитого протопопа Максима, беседовал в Москве с Морозовым и Ртищевым, он познакомился, вероятно через Трофимова, с попом Лазарем и принял его у себя[1011]. Затем, узнав, наверное, от Лазаря, о прибытии протопопа Аввакума, а также и всю его историю, он отправился к нему. Эти двое людей, столь замечательные каждый в своем роде, которые могли бы друг у друга многому поучиться, положат ли они начало отношениям, которые принесут им взаимную помощь? Увы, вот что произошло, по словам Крижанича:
«Он (Аввакум) вышел на крыльцо навстречу мне. Так как я намеревался встать на ступеньку, чтобы войти, он сказал: “Не подходи, стой там и признайся, какую веру исповедуешь!” Я: “Благослови меня, отец!” Он же: “Нет, я тебя не благословлю. Объяви сначала свою веру”. Я: “Я, досточтимый отче, глубоко верю всему, во что верит святая апостольская католическая Церковь, я почитаю благословение священника и я почтительно прошу его. Что же касается моей веры, то я готов объяснить ее епископу. Но перед всяким встречным, тебе подобным, сама вера которого находится под подозрением, я не буду ни распространяться, ни объяснять своей веры. Если ты откажешь мне в благословении, я получу его от Бога. Прощай”»[1012].
Так, без всякого результата, столкнулись эти два человека. Один, благодаря своему латинскому воспитанию, вежливый, однако непримиримый относительно того, что касается принципов; вместе с тем умеющий проникать в суть дел человеческих, чтобы, если можно, влиять на них; дипломат, полный терпимости по отношению к людям; интересующийся всем, ибо все, что благо, должно само обратиться во славу Божию, – и все же он называет Аввакума фарисеем. Аввакум – не таков. Нисколько не замыкаясь по своей природе от «внешнего» мира, но видя в конечном счете за этим миром только конечные судьбы: смерть, Страшный суд, рай или ад, зная только предания своей церкви, выполняя в точности завет апостола «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его»[1013], он относится к Крижаничу так, что тот для него не существует. Этот инцидент показывает, до какой степени Аввакум отличался даже от Лазаря, другого приверженца старой веры.
И как Аввакум мог иметь общение с латинянином, когда он решил бежать от православных церквей, применявших никоновские новшества? Они были введены тут совсем недавно; только после возвращения из Москвы, после марта 1662 года, Симеон издал приказ во всех церквах совершать службу по новым книгам, накладывать на просфорах печать латинского креста вместо восьмиконечного, крестить по-новому[1014] и, конечно, творить крестное знамение тремя перстами.
Реформа осуществлена была не везде, в частности она не полностью коснулась Сибири. Это, впрочем, зависело не только от нежелания ее применять: как могло хватить нескольких тысяч экземпляров Служебника или Требника, выпущенных Печатным двором, для десятков тысяч приходов и монастырей в стране? Все зависело от усердия самого епископа.
От него зависело переписать или не переписать новые книги. Пока каждая церковь не была ими снабжена, духовенство было в нерешительности: зная, что старые книги осуждены, но не обладая другими, оно могло по собственному мудрованию использовать книги старые или новые. Через год после постановления Симеона в Тобольске можно было наблюдать именно такую картину, – картину, которая уже в течение долгих лет наблюдалась в центральной части страны. И в Тобольске, как и повсюду, верующие были в смятении.
В Троицын день, 18 мая 1662 г., какая-то женщина из Абалака, одного из предместий Тобольска, слышала голоса: «Отреклись от старых обрядов и приняли латинские обычаи. Православные не должны ходить на эти латинские службы. Надо вернуться к прежним обрядам, иначе будет моровая язва, голод и огонь». Благочестивая вдова рассказала об этом воеводам. Отчет об этом был тут же составлен, передан архиепископу и отослан в Москву. Месяц спустя, 16 июня, один вольный ямщик из Тюмени также пришел к ним, чтобы довести до их сведения, что Богоматерь во время пения «Хвалите» обратилась к нему от Своего образа со следующими словами: «Иди, Петр, и скажи воеводам и всем честным людям, что обряды нарушены, церковь осквернена, крестное знамение искажено, гнев Божий снизойдет на землю и люди погибнут от бедствий, голода и жажды». Извещенный об этом Симеон передал этот рассказ в Сибирский приказ[1015].
Еще во время пребывания Аввакума в Тобольске, в день Преображения Господня, 6 августа, случилось в соборе чудо, о котором довели до его сведения. В момент, когда протодьякон возгласил «Двери, двери мудростию вонмем!», «тогда у священника со главы взяся воздух» и упал на пол. Затем, когда запели «Верую», воздух, покрывавший Агнца, соскользнул на другие четыре просфоры и после пения Херувимской снова вернулся на свое место. Это, конечно, были менее явственные знамения, но они внушали не менее страха[1016].
Из всей реформы Аввакум к этому времени ознакомился только с новым троеперстным крестным знамением и отменой некоторых земных поклонов. И то и другое он осудил. Он подозревал, что Никон зашел в своих новшествах еще и дальше, но в отношении всего того нового, что последовало в течение этих 10 лет, он еще не определил своего мнения окончательно. Лазарь называл все это ересью; однако Симеон принял это. Тот факт, что новизны внесли смуту в церковь, – говорил против них; с дру гой стороны, Неронов к ним, как говорили, присоединился, а благочестивый государь и епископы, по-видимому, придерживались их, ибо после падения Никона они их не упразднили. Надо было подробно ознакомиться с этими новшествами и разобраться в них. Правда, с момента, когда его жена от своего имени и от имени детей торжественно разрешила ему, в случае необходимости, открыто высказываться, Аввакум уже принял внутреннее решение, но он должен был еще увериться в том, что это было действительно необходимо. У него не было никакого злостного желания во что бы то ни стало поднимать смуту или растравлять еще больше зияющую рану, нанесенную Церкви.
Обуреваемый этими чувствами, Аввакум еще в начале своего пребывания в Тобольске пошел в собор Святой Софии. Будучи протопопом, он, хотя и избегал совершать богослужение, все-таки входил в алтарь. Сначала он был неприятно поражен новым порядком совершения проскомидии. Взятие частиц из просфор, в особенности из четвертой и пятой, которые полагались за живых и усопших в таком количестве, сколько поминалось имен, напоминало ему тараканов, грызущих хлебные крошки. Он не скрыл своего негодования. Он не мог не заметить также и изменений, внесенных в Символ веры: Святый Дух уже не именовался «истинным», к имени Исус было прибавлено еще одно «и», царство Христово было всецело перенесено на будущие времена. Теперь пели: «Его же царствию не будет конца», вместо «несть конца». Были еще и некоторые другие отклонения. Аллилуия теперь пелась трижды; «во веки веком» было видоизменено на «во веки веков». То были определенные новшества, по меньшей мере дерзновенные, может быть даже еретические. Однако его желание мира было столь велико, что он перестал высказываться и продолжал присутствовать на богослужениях. Так продолжалось до того дня, когда, вернувшись после всенощной в день ангела одной из великих княжон, он получил во сне от Христа страшное предупреждение: «Блюди, да не полма растесан будеши», – сказал ему Господь.
На следующий день он удовлетворился тем, что присутствовал на приеме у старшего воеводы, которому он сообщил свой сон, но к обедне не пошел. Он перестал ходить в церковь, где пели по-новому[1017].
III Новшества Никона и противодействие этим новшествам
Что случилось на Руси в течение этих шести или семи лет? Как только моровая язва ослабла, Никон снова начал использовать результаты собора 1654 г., чтобы усилить свое положение. Он призвал себе на помощь восточных патриархов: он письменно посоветовался с Паисием Константино польским[1018], он задержал в Москве на 16 месяцев Макария Антиохийского[1019], с которым он обнаружил необычайную общность взглядов. Вместе с ним и с Гавриилом Сербским[1020] он созвал два новых собора 1655 и 1656 годов, которые могут рассматриваться как роковые в истории русской церкви: тогда именно и произошел раскол.
4 марта 1655 года, в то самое воскресенье Недели Православия, когда в Тобольске Симеон отлучал от церкви Струну, Никон в Москве через Макария приказал объявить, что единственное законное крестное знамение, признанное на всем православном Востоке, есть троеперстие[1021]. 25 марта Никон созвал собор, на котором он соборно приказал принять разного рода нарушения установленных обычаев. Так, латинян больше не будут перекрещивать, вопреки собору 1620 г.; антиминс не будет больше прикреплен к престолу и покрыт платом, но таинство будет совершаться непосредственно на нем. Во время проскомидии не будет выниматься одна частица из третьей просфоры, предлагаемая в память всех святых – но будет выниматься девять частиц; в Символе веры должен быть уничтожен союз «а», введенный между словами «рожденна» и «не сотворенна», надо читать: «рожденна не сотворенна»[1022]. Должно изменить «несть конца» на «не будет конца»; будет исключено прилагательное «истинный» в отношении к Духу Святому. Наконец, вместо «Аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже» надо петь «Аллилуия» трижды. Все эти изменения были внесены в новый Служебник, предложенный собору и одобренный им без рассмотрения. Это не был тот Служебник, который был начат до моровой язвы, но совершенно новый, переработанный, содержащий в себе, помимо предыдущих изменений, еще много других, частных, совершенно не соответствующих древнегреческим и славянским рукописям, но заимствованных из общеупотребительного греческого Евхология, напечатанного в Венеции[1023] в 1602 г.
Этот Служебник был потом спешно напечатан и начал также продаваться с 24 сентября с такой поспешностью, что почти сейчас же – 26 октября – пришлось его изъять из продажи и переделать из него 95 тетрадей по 4 листа каждая. Новое издание было пущено в продажу 7 января 1656 г. и, кстати сказать, удовлетворило верующих не больше. Он был исправлен еще раз в течение года для третьего издания, которое состоялось в сентябре 1657 г.[1024] К Служебнику было добавлено предисловие, цель которого была в том, чтобы оправдать всю реформу; тут ловко излагалась история собора 1654 года, объяснялись решения, принятые на соборе 1655 года, закончившегося 31 марта ответом патриарха Паисия, полученным в Москве 15 мая; в предисловии утверждалось далее, что новая книга была отредактирована согласно древним греческим рукописям и внимательно сличена с ними; все это было двойной и дерзкой ложью.
16 декабря Никон созвал собрание из нескольких иерархов, которым предписал отказаться от выполнения одного обряда, чрезвычайно популярного как в русских, так и во всех восточных церквах, а именно – водосвятия в день Богоявления после обедни на реке или на источнике: отныне вода должна была освящаться только накануне праздника. Все это было согласно с тем, что он прочел по этому поводу в афонских рукописях, и, на этот раз, шло вопреки мнению Макария[1025].
22 декабря, после торжественной обедни в память святителя Петра, митрополита Московского, совершенной тремя митрополитами, присутствующие вдруг увидали, как Никон снял митру из мягкой шерсти и возложил себе на голову жесткую греческую митру, украшенную жемчугом и шитьем[1026].
В следующем году Никон пожелал конкретно осуществить реформу, которая лежала у него на сердце и которую он все еще не решался провести в жизнь, именно – троеперстие. 12 февраля, в день празднования памяти св. Мелетия Антиохийского и св. Алексия, митрополита Московского, в Чудовом монастыре была совершена торжественная всенощная; после чтения отрывка из житий святых (Пролога), излагавшего чудо, совершенное Мелетием, начертавшим крестное знамение (как раз текста, на который ссылались сторонники двуперстия), Никон спросил Макария, как нужно его понимать, на что последний снова заявил, что нужно креститься тремя перстами и что, наоборот, вытягивать большой и указательный пальцы значило совершать ошибку армян[1027]. Это была подготовительная мера; окончательное провозглашение было оставлено для более торжественного дня, воскресенья Недели Православия. 24 февраля, перед всем клиром, царь и бояре, присутствовавшие в Успенском соборе, патриарх Макарий и Гавриил, затем Григорий, митрополит Никейский[1028], последовательно произнесли анафему тем, кто крестился двумя перстами[1029]. Несколько позже это проклятие было письменно подтверждено тем же духовенством, а также новоприбывшим в это время Гедеоном Молдавским[1030]. Теперь надо было только, чтобы русские епископы утвердили это: соответствующий собор был созван 23 апреля. Никон изложил предыдущие осуждения, представил тогда же отпечатанную Скрижаль[1031] и 2 июня получил желаемое решение[1032]. Отныне крестное знамение, которое громадное большинство русских унаследовало как данное им их родителями и дедами, именовалось ересью, и те, кто будет продолжать его совершать, отлучались от церкви.
17 марта появилась Триодь постная, начатая в 1654 г.: часть, называемая «Марковы главы», была изъята, текст многих песнопений изменен[1033]. 24 июня Никон приказал напечатать повеление, где, одновременно призывая к пожертвованиям для своего нового Крестного монастыря, основанного им на далеком Севере, у устья Онеги, он излагал свое учение: четырехконечный крест вместо восьмиконечного, крестное знамение тремя первыми перстами, сложенными вместе. Повсюду имя «Исус» должно было теперь писаться с прибавлением еще одного «и». Формула «во веки веком» была модернизована; летосчисление надо было не считать больше с Сотворения мира, но с момента Воплощения[1034].
Скрижаль, пущенная в продажу 30 июля 1656 г.[1035], также очень отличалась от той, которая была передана печатникам два года тому назад, еще до моровой язвы. К переводу Божественной Литургии Нафанаила были приложены всякого рода добавления: Ответ патриарха константинопольского Паисия Никону[1036], письмо Макария, подтверждающее осуждение двуперстия; далее слово монаха и иподьякона Дамаскина в пользу троеперстия и формы священнического благословения, в котором перстами изображаются начальные буквы имени Исуса Христа[1037], текст Максима Грека, оправдывающего исправления, внесенные в Символ веры; Деяния собора 1654 г.; три трактата, приписываемые св. Афанасию Великому; сочинение Гавриила Филадельфийского относительно семи таинств; наконец, было приложено и длинное предисловие, направленное против противников Никона. В самом тексте также можно было отметить большое количество новшеств: говорилось, что Матерь Божия не была избавлена от первородного греха; отказывали в почитании предложенных для таинства хлеба и вина до Пресуществления; крест, на котором был распят Спаситель, считался составленным из двух древ, а не из трех; были и другие новшества[1038].
Итак, с середины 1656 г. облик русской церкви был искажен. Одно за другим, за какие-нибудь два года подвергались разрушительным нападкам столь существенные основы веры, как крестное знамение, «Верую», имя Исуса Христа, изображения на просфорах, Божественная Литургия; уничтожали хоры главного предела, запрещали воздвигать над святым местом легкие и изящные пирамидальные крыши (сени), столь любимые верующими; изменяли самую форму и облачения престолов; потихоньку вводили новые богословские взгляды о природе Божией Матери, о религии латинян, о возношении Святых Даров. Даже и теперь, в любой стране, для верующих, привыкших устанавливать определенную разницу между обрядами и догматами подобного рода, бесчисленные новшества произвели бы беспокойство и соблазн.
Никон изображал собой новатора, стремящегося с ожесточением искоренить все, что русские люди веками считали необходимым для своего спасения.
При всем том он утверждал, что он восстанавливает книги и обряды в их первоначальной чистоте, возвращает их к греческим источникам. Во многих отношениях он продолжал политику кружка боголюбцев: он продолжал через епископов рекомендовать единогласие и пение, соответствующее тексту богослужебных книг[1039]; он продолжал преследовать проклятые игры скоморохов и вожатых медведей[1040]. Он строго наблюдал за выполнением церковных канонов, приказывал соблюдать посты и общественные молитвы; он продолжал держать православных в отдалении от иностранцев[1041]. С 1654 г. он начал борьбу против икон, носящих на себе отпечаток западного влияния; ввиду того, что изображения на этих иконах были реалистичны и передавали лики святых в чертах, совсем не похожих на традиционно строгие, эти иконы вызывали восторг в высшем московском обществе. Никон приказал изъять их, и 4 марта 1655 г., в тот самый день, когда он получил от Макария грамоту в пользу троеперстия, он приказал принести ему эти подозрительные образа и стал бросать их один за другим на железные плиты соборного пола, называя по именам, чтобы пристыдить их, представителей знати, у которых они были изъяты. Они должны были быть сожжены. Царь, присутствовавший при этой сцене, не будучи предупрежден об этом, сказал тихо: «Нет, отче, не вели их жечь, вели лучше их зарыть». Никон дал на это свое согласие[1042].
Народ был менее возмущен появлением новых икон, которые все-таки изображали чтимых им святых, чем кощунственным уничтожением образов, произведенным патриархом. Верующие, которые еще во времена кружка боголюбцев питали мало симпатии к тому, что в его реформах являлось строгостью, принудительным предписанием или искусственно навязанным аскетизмом, теперь уже с отвращением наблюдали в действиях Никона то, что было продолжением и преувеличением той же церковной линии. Даже если он не нарушал установившегося уклада, он все же был ненавистен из-за своего самовластия и насилия. Но в новшествах своих он являл себя уже настоящим еретиком, слугой дьявола, посланным для того, чтобы разгромить русскую церковь, подобно самому антихристу или, по меньшей мере, его предтече. Напрасно он называл себя греком и выставлял себя таковым, ссылаясь на старые греческие книги и на греческих священников, его все-таки считали приверженцем латинян. Эти обвинения приходили особенно на ум ученым людям, которые хорошо знали, что главный сотрудник Никона – Арсений прошел науку в итальянских школах, что книги, служившие образцами для новых изданий, были напечатаны в Венеции, что поправленный Символ веры совпадал с «Верую» униатов и латинян, что многие греческие иерархи этого времени постоянно колебались между православием и унией; подобные обвинения постоянно встречались в соответствующих сочинениях. Но эти обвинения были также распространены и среди простого народа, ибо память о митрополите Исидоре еще не исчезла; вместе с тем, с самого Смутного времени ненавидели поляков, а все католическое вызывало в памяти ненавистное имя поляков.
В 1656 г. в Ростове три ремесленника, Сила Богданов, Федор Логинов и Алексей Постников, видя, в каком состоянии находилась церковь, пришли к страшному заключению. Первый был малограмотным портным, который говорил обо всем этом, не зная книг; несмотря на его неученость, у него были ученики. Вот что он проповедовал: «Соборная церковь находится в руках еретиков, и митрополит проклят, так же как и отец его патриарх; истину они заменили ложью, уничтожили обедню, и к семи Вселенским соборам прибавили восьмой и папскую ересь. Они поломали хоры, и их обедня – одна только насмешка. Лжепророки, зачем отменили вы благословение на Иордани? Почему заменили вы православный крест на просфорах на латинский и зачем стали искать новых обрядов в местах неподобных? Почему уничтожили вы исповедь до обедни и для чего изъяли вы имя Сына Божия из песнопения “Свете Тихий”? Почему запретили вы творить крестное знамение, как нас учил митрополит Варлаам и отцы наши? Нет, не пастыри вы, а хищные волки: любите вы хорошую и жирную еду, и учение ваше ложное и развратное». Он перестал ходить в собор и приходские церкви, превращенные, по его мнению, в вертеп разбойников. Он обращал к своим взглядам и других. Федор и Алексей – огородники – были троюродными братьями, знали только Часослов. Не сговориваясь с Силой, они действовали таким же путем. Втроем они были арестованы. Сила, допрошенный митрополитом 3 января 1657 г., а затем насильно отведенный в собор, отказался приложиться к кресту, а также и поклониться иконам Спасителя и Пресвятой Богородицы. Федор поступил таким же образом в Богоявленском монастыре. Митрополит Иона написал отчет об этом в Москву. По приказу царя они были доставлены туда. 3 февраля боярин Алексей Трубецкой потребовал от них, чтобы они указали в книгах на замеченные ими отступления, на что они ответили, что книг они не знают, но знают хорошо, что в церкви Божией все поставлено вверх дном. Им объяснили, что это были не отступления, а исправления, что в песнопении «Свете Тихий» имя Сына Божия повторяется даже несколько раз. Сила ничего не возражал против этого, исключая то, что «Службы церковные стали иные, чем раньше». Когда же ему сказали, что водосвятие в день Богоявления было отменено не без основания и что он должен доверять людям, более сведущим, чем он, то Сила захотел найти оправдание старому обычаю: «Водосвятие накануне – это крещение Иоанна, – сказал он, – но когда ходили на иордань в день Богоявления, то это истинное крещение Сына Божия». Таким образом, по ходу дела неизбежно появились со стороны преследуемых объяснения и богословские изыскания, конечно, неискусные и наивные. Сила добавил: «Образа Спасителя и Божией Матери и святых я почитаю и благоговею перед ними. Верую в нашего воскресшего Спасителя Исуса Христа. Книги же, которые вы мне показали, Послания и Деяния и проповеди Иоанна Златоуста, я о них слыхал и вовсе их не гнушаюсь, Иоанна Златоуста я почитаю и благоговею перед его образом. Но дело такое, что все переменилось, а я стою за то, что было раньше». После него отдельно допрошенные Федор и Алексей сказали только, что они творили крестное знамение, как их тому учили их духовные отцы, и что ради этого крестного знамения они готовы умереть. 19 февраля их предали пыткам и дали 7 ударов Силе, 8 – Федору и 10 – Алексею. При этом они ничего нового не сказали. 20 февраля страж, который наблюдал за Силой, донес, что, когда Силу уводили, то он достал из своей шапки тетрадь, говоря: «Я православных христиан учу и за то де умереть хочу!» Затем были допрошены духовные отцы Федора и Алексея, попы Иван Харитонов и Симеон Орех, которые подтвердили свою приверженность к новым книгам. Их отпустили. В это время Сила, вновь приведенный к допросу, по настоянию митрополита Ионы был спрошен относительно его отношения к государственным властям и патриарху. Он отвечал только: «Никакой земной власти я не боюсь», «а кто добавляет что к семи Соборам или по-иному перекладывает что от них, тот предтеча антихриста». Наконец, 20 августа 1657 г. царь повелел выслать трех ростовских ремесленников за неповиновение и извращение церковных уставов в Кандалакшский монастырь и держать их там под надзором, чтобы они не смогли убежать, одновременно принуждая их вести монастырские работы[1043].
Ростов был близ Москвы, и Иона, его митрополит, был одним из первых иерархов, принявших искренне реформы Никона. Вот почему мы наблюдаем там первые народные возмущения, вызванные новшествами. Эти возмущения совершенно основательно беспокоили власти, ибо они, по мере того как епископы стали бы обнародовать пресловутые новшества, могли не сегодня-завтра повториться везде, от одного конца Руси до другого. Уже в 1656 году в провинции у мирян были памятки для защиты старой веры, отвергающие новые книги. Они ходили по рукам среди народа, чтобы служить опорой для малоопытных защитников старой веры. Сила был одним из таких защитников. Он уже говорил, что надо избегать церквей, где служба ведется по новым книгам, надо отказываться от просфор с изображением латинского креста, не принимать от никоновских священников ни таинств, ни благословения, не надо также прикладываться к их кресту, ни признавать их водосвятия. Официальная церковь – это уже не церковь; ее учение от дьявола, а не от Святого Духа. Патриарх, доведший ее до теперешнего состояния, – предтеча антихриста. Епископы, которые ему повинуются страха ради и из любви к роскоши, – мучители, а не пастыри. Если царь, уже соблазнившийся этой верой, потребует повиновения – лучше принять муки. Впрочем последние времена уже близки. Все признаки того, что будет в дальнейшем названо «расколом», были уже налицо.
Сила и его товарищи, может быть, вовсе не были такими простаками, за которых они себя выдавали: очень вероятно, что они были наставлены Нероновым. Он короткое время был в монастыре в Кандалакше, спасся он оттуда бегством в лодке 10 августа 1655 года, сопровождаемый тремя своими духовными сыновьями – Алексеем, Силой и Василием. В Соловках он был принят архимандритом Илией, оттуда Неронов вернулся в Москву, где Стефан Вонифатьев скрыл его от розысков. Его трое товарищей, арестованные в Холмогорах, были по просьбе Стефана, рассказавшего все царю, освобождены. Вполне правдоподобно, что Сила и Алексей прибыли в Ростов и там снова были арестованы в январе 1657 года. Памятка Силы, о которой он говорил, что она у него «уже давно», была, видимо, от Неронова, который как раз из Кандалакши послал еще другие письмена Тихону, архимандриту монастыря св. Даниила Переславского.
Что же касается самого Неронова, то он в день Рождества 1655 г. по совету Стефана принял в Даниловом монастыре монашеский постриг с именем Григория; затем он вернулся в Москву к царскому духовнику, а после этого удалился в Игнатьеву пустынь на Ломе в своих родных местах[1044]. Никон, со времени его исчезновения из Кандалакши, разыскивал его повсюду; Неронов же скрывался, одевался в иное платье, менял место, был неуловим. Можно себе представить, сколько он приобрел повсюду сторонников старой веры, стоявших против новшеств. У Никона было одно оружие – отлучение от церкви. Это оружие было использовано: отлучение было произнесено во время обедни, совершаемой обоими патриархами, Антиохийским и Московским, в Успенском соборе. Архидиакон, после того как зачитал приговор, воскликнул: «Анафема ему!»[1045] Лица, совершавшие богослужение, пропели хором: «Анафема ему!», а певчие, затем иподиакон и все присутствующие повторили: «Анафема!» По монастырям были разосланы грамоты: арестовать монаха Данилова монастыря Феофана, а также и монаха, который в миру был протопопом Иоанном Нероновым[1046]. Дворянин Козлов с отрядом стрельцов был послан в Вологду, чтобы захватить беглецов. Он узнал об их присутствии тут. Они находились вместе с дьячком этого района и с татарином Андреем, преданным служителем Неронова; узнал он об этом от священника в Телепшине, служившего в вотчине Лукьяна Унковского, находившейся в 10 верстах от Игнатьевой пустыни: крестьяне способствовали их бегству[1047]. «Для тебя, Христов мученик, мы готовы все перестрадать, вплоть до самой смерти», – говорили они. Никоновские стрельцы повсюду, где они проходили, грабили и арестовывали; большое количество священников, монахов и мирян были закованы в цепи и увезены в Москву, где и умерли в тюрьме от пыток и изнурения. Какое замечательное подтверждение проповеди Неронова: воистину ложные пастыри, преследование христиан, близкий приход антихриста! Все это происходило около августа и сентября 1656 г.
Если Неронов больше года, не переставая проповедовать неподчинение официальной церкви, ускользал от розысков, то это было только благодаря тому, что повсюду как среди верующих, так и среди духовенства он находил сторонников. Повсюду, где распространялся слух о церковных изменениях, продиктованных Москвой, верующие начинали волноваться. В северных скитах, где благочестие уже давно носило апокалиптический характер, считали, что на царском престоле водворилась ересь и предсказанное великое отступничество накануне Второго пришествия. Странствующие монахи, паломники, полумиряне, полумонахи, в то время очень многочисленные, удовлетворяли свою жажду духовного подвига тем, что ходили по обширной Русской земле из одного монастыря в другой, разносили по городам и весям все эти тревожащие новости. У приходских священников, более степенных и чаще соприкасающихся с действительностью, были другие причины недоверия и неприязни по отношению к патриарху и епископам: они знали их по их бюрократическим притеснениям, их незаконным поборам, их позорной роскоши, по произволу и жестокости их управления. Никон, старавшийся так превозносить свою духовную власть, не сделал ничего, чтобы поднять условия жизни низшего духовенства; и, наоборот, епископы, которых он терроризировал, старались у себя подражать его великолепию, его властности и еще более угнетали своих подчиненных. Никогда еще пропасть между иерархами и простыми священниками не была так велика. Верующие, будь то деревенские жители или горожане, жаловались и на общественное устройство в целом; свободные общины все более и более подпадали под власть феодальных владельцев, города, подчиненные царскому двору, были переуступлены более требовательным помещикам, и Уложение царя Алексея Михайловича 1649 года делало невозможным переход людей от одного владельца к другому. Каждый чувствовал себя подчиненным: крестьянин своей общине, крепостной – своему помещику, ремесленник – своей слободе, все же чувствовали себя под бременем обычных и чрезвычайных налогов, наборов для войны, мобилизаций, трудовой повинности. Широким народным чаяниям морального и религиозного улучшения ответили лишь теоретическими реформами, интересовавшими единственно ученых, или же узкой и мелочной регламентацией. Единственный исход, чтобы обрести гражданскую и моральную свободу, – это было бегство. Чувствовалось, что можно было только бежать – бежать в свободные просторы Нижней Волги, Дона, Урала, Сибири, или же даже бежать куда-то в своих родных местах, бежать от общества, от официальной церкви, от ее принуждения, ее власти[1048]. Для народной души, религиозной и ищущей Бога, враждебной навязанным формам и внешнему принуждению, нет ничего более привлекательного, чем начать отрицать и церковь, и общество, считая, что и то и другое находится во власти дьявола и антихриста.
В этом заключалась настоящая причина глубокой вражды к новшествам, вводимым Никоном. Без сомнения, Никон совершенно этого не видел. Все его внимание было устремлено на пассивное сопротивление высшего духовенства. На всех соборах воля его торжествовала, но кажущееся единодушие было результатом скорее страха, чем убеждения. Извержение из сана Павла Коломенского[1049], совершенное самым грубым образом, из-за единственного случая проявленного им протеста, заставило трепетать даже строптивых[1050]. Молчаливая оппозиция некоторых иерархов – Макария Новгородского, Маркела Вологодского, Александра Коломенского[1051] – имела то преимущество, что они хотя бы в повседневной жизни своей епархии могли свободно выражать свои взгляды. Эти иерархи удовлетворялись тем, что не настаивали на выполнении новых правил, не требовали переписки и раздачи новых книг и вместе с тем не препятствовали пропаганде старой веры. Митрополит Казанский Корнилий обеими руками подписывался под деяниями всех имевших место соборов, но троеперстное крестное знамение было введено в его епархии только его преемником Лаврентием в 1658 г.[1052]
Наконец, в самой Москве тот человек, который видел возвышение Никона, более того, тот, кто способствовал его возвышению, – именно духовник царя Стефан, отнюдь не одобрял его. Порицал ли он все новшества или только некоторые из них, или же он осуждал только грубость, с какой они были введены? Есть все основания думать, что в то время никто не осмеливался выразить или высказать свои чувства. Духовником царя, однако, руководил не страх – его противодействие сдерживало его же желание всех примирить. Но отсутствие под важными актами подписи подобного человека, подписи, которая была так нужна, – служило уже достаточным доказательством того, что он в душе осуждал Никона. Скрывая Неронова, устраивая ему у себя свидания с многочисленными представителями духовенства, рекомендуя его в письме, собственноручно написанном Тихону, разве этим он не восстанавливал прежнее братство против воли Никона? Чувствовал ли он двойственность своего положения или только чувствовал упадок сил? Так или иначе, он скоро удалился от мира в свой родной монастырь, где вскоре и умер, 11 ноября 1655 г., приняв имя Савватия. Никон, так же как и Неронов, оплакивал его смерть[1053].
Перед этой могилой почитаемого наставника оба противника примирились. 4 января 1657 г. Неронов предстал перед Никоном: не переставая его упрекать за его новшества и его жестокости, не соответствующие апостольским заповедям, не принимая произнесенной анафемы, он все же признался в своем желании быть в единении с Церковью и с восточными патриархами. Никон принял это подчинение таким, каким оно было[1054]. Со своей стороны, он признал, что хороши все Служебники – как старые, так и новые[1055]. Вскоре он разрешил каждому, по желанию, сугубить или трегубить аллилуию[1056]. Итак, нет больше предтечи антихриста, как нет и анафемы! Оба устали от борьбы: один, очень потрясенный, несмотря ни на что, общим отношением к нему всей русской и восточной иерархии, другой, счастливый, что обезоружил указанной ценой своего самого страшного врага, причем происходило это как раз в тот момент, когда он чувствовал, что царь, умудренный годами и походной жизнью, с каждым днем ускользал из-под его влияния[1057]. Еще долго Неронов будет верен старому благочестию, но отныне не будет за него заступаться[1058]. Никон, со своей стороны, выкажет значительно меньше рвения к реформе, чем раньше.
Но делу был дан ход: отныне оно не зависело больше от Никона и тем более от Неронова; если бы даже они этого сильно желали, они не могли обезоружить своих сторонников. С 24 мая 1656 года исправленный Треб ник уже находился в печати. В нем было больше новшеств, чем в Служебнике: что касается крещения, в этом таинстве было уничтожено несколько молитв, а хождение вокруг купели должно было происходить с запада на восток, а не посолонь[1059]; в таинстве брака и освящения храма опять вводилась ересь, именно употребление нечистого вещества – мыла; в исповеди опускалось подробное перечисление грехов; в молитве над бесом тоже было добавление, именно «заклинания мученика Трифона», что было обрядом скорее языческим, чем христианским[1060]. В Номоканон тоже были внесены многочисленные исправления. Кроме этих изменений, ощутимых всеми, более ученые могли отметить здесь, как и в других книгах, много отдельных измененных мест, много неудачных формулировок. Так, была одна фраза, составленная таким образом, что священник крестя, казалось, взывал к злому духу[1061]. Трудно было удержаться, чтобы громко не возопить.
Требник появился только 10 декабря 1658 г.[1062] и был распространен в течение 1659–1660 гг. Появление в этот момент нового Служебника было достаточным, чтобы создать очаг организованного сопротивления новой церкви, где сосредоточивались как теоретическая критическая мысль, так и практическая оппозиционная деятельность.
Этот очаг, которого не коснулось отступничество Неронова, были Соловки. Там хорошо знали происхождение этих реформ. Знали Арсения Грека, которого Никон поставил во главе Печатного двора. Было известно, что он признался своему духовнику и наставнику Мартирию, что он трижды отрекался от Христа. Поэтому при первых вестях о реформе сразу же возникло большое волнение: «Горе! горе! Вера на Руси пала, как и в других странах. И убита она двумя врагами Христовыми – Никоном и Арсением». Так думали и говорили наиболее горячие ревнители. Особенно сильно изливал свою скорбь Мартирий, предупреждая свою паству и монахов против ренегата и еретика[1063].
Едва только появилась на Соловецких островах Скрижаль, как Герасим Фирсов принялся за опровержение положений относительно крестного знамения. Этот монах-писатель после своего пребывания в Москве был в курсе первых же споров, вызванных знаменитой «Памятью» 1653 года. Тщеславный, страдающий к тому же высокопарным и тяжелым слогом, он, тем не менее, написал работу, где удачно объединились с указанием источников многие аргументы в пользу двуперстия: чудо Мелетия, свидетельство Феодорита, Петра Дамаскина, Максима Грека, Стоглав, множество старых и современных книг, как печатных, так и рукописных. Тут был целый арсенал для будущих полемистов[1064].
В этом же самом 1657 году, в конце октября, в Соловки был привезен Служебник[1065]. Архимандрит Илия, келарь Сергий и соборные старцы спрятали 18 полученных экземпляров на складе старого оружия и об этом не говорили никому.
Большинство иеромонахов и иеродиаконов нисколько не интересовались этим и не стремились ознакомиться с новыми книгами. «Нам и так трудно читать старые Служебники, с которыми мы сроднились, – говорили они, – ведь не под конец же нашей жизни нам садиться изучать новые книги? Нет, мы никогда к ним не приспособимся. Скорее мы откажемся от священства». Рядовые монахи добавляли: «К тому же, если священники будут совершать богослужение по-новому, нам не надо их причастия. Как угодно нашему отцу-архимандриту! Откажемся все, как один!» Однако несколько монахов запротестовали и потребовали, чтобы им хотя бы показали эти таинственные книги. Герман и Евфимий разыскали одну книгу, по которой и совершили богослужение. За свое дерзновение они были биты кнутом. Илия счел необходимым на шестой неделе Великого поста 1658 г. составить постановление, в силу которого все священноиноки отказывались от новых книг: тут же он собрал со ответствующие подписи. Когда летом пришли паломники, он им посоветовал избегать церквей и священников, совершающих богослужение по-новому. Наконец, 8 июня, на общем монастырском соборе он воскликнул: «Глядите, братие, наступили последние времена: восстали лжеучители, которые совращают нас с пути преданий Святых Отцов и хотят заставить нас совершать литургию с латинским крестом и по новому Служебнику. Молитесь, чтобы Бог даровал нам умереть в православной вере, как и нашим отцам». Все ответили: «Нет, не желаем мы их латинских обеден, их еретической литургии. Не будем причащаться этими просфорами. Все мы с тобой!» Под бумагой, составленной после этого обсуждения, находится 51 подпись: 11 иеромонахов, в том числе и шесть прежних послушников, наверное, запуганных, 4 иеродиаконов, 4 монастырских скитоначальников и 32 монахов. Это была официальная декларация о неповиновении господствующей церкви[1066].
Когда это заявление пришло в Новгород и Москву, в сопровождении доноса Виталия и его товарищей, оно не вызвало там никакой реакции. Никона там уже не было, и налицо были другие заботы. 10 июля 1658 г., после совершения торжественной обедни в Успенском соборе Никон, ко всеобщему изумлению, обратился к народу со следующей речью: «Отныне я вам больше не патриарх, и если я когда-нибудь задумаю снова им стать, да буду я предан анафеме! Некогда вы меня именовали иконоборцем, потому что я приказывал изымать и замарывать множество икон, – и вы хотели меня за это убить. Но уничтожал я иконы латинские, написанные по образцам, привезенным немцем из его страны (…) Затем вы меня именовали еретиком: “он, мол, составил новые книги”, – так говорили вы. Я предлагал вам учение и свидетельство вселенских патриархов, а вы захотели побить меня камнями (…) Вместо того, чтобы быть побитым камнями и слыть еретиком, отныне я уже более вам не патриарх!» И сказав это, несмотря на протесты, он снял с себя патриаршее облачение, а также белый клобук и отложил посох митрополита Петра.
Перед этим имел место ряд характерных явлений: перебранка между патриаршим посланным и окольничим Богданом Хитрово, состоявшаяся при всем народе, затем многозначительное отсутствие царя на службе в Казанском соборе, и, наконец, накануне отречения от патриаршества Никон услышал высказанное ему князем Ромодановским обвинение: «Ты именуешь себя великим государем, тогда как у нас только один великий государь – царь»[1067].
То были явные признаки изменения расположения царя к Никону: ведь этот титул «великого государя», который носил еще Филарет, царь Алексей сам даровал Никону, и последний носил его на протяжении многих лет! Для Никона перестать разделять с царем власть над государством – означало полное падение. Лучше уж оставить патриаршество! Может быть, царь, столь еще юный, только становившийся самостоятельным, сам придет умолять своего духовного наставника остаться! В горячей вспышке, имевшей место 10 июля, это чувство обиды, видимо, не было чуждо Никону. Но и чувства, выраженные в речи, обращенной к верующим, были не менее искренние: в них чувствовалась усталость от борьбы, предпринятой против целого народа; мысль, что в конце концов не стоило смущать церковь из-за лишнего «аллилуия», или уничтожения некоторых молитв, или даже троеперстного крестного знамения, заимствованного у греков.
IV После ухода Никона – хаос. Нерешительность царя. Характеристика старой веры
Удаление Никона сразу же ставило два вопроса. Будут ли его реформы продолжать существовать? Как будет обеспечено управление церковью?
Второй вопрос был бы легко разрешен, если бы сам Никон его не усложнил. Владыка, сложивший с себя свои обязанности, удалился в Новый Иерусалим в великолепный Воскресенский монастырь, выстроенный им для себя на Истре, в 60 километрах от Москвы и расположенный в чудесной живописной местности; монастырь этот был богато наделен царскими щедротами. Отсюда, торопя сооружение величественного храма, возводимого по образцу Храма Гроба Господня, Никон в то же время продолжал следить за событиями, одновременно изводя царя протестами и указаниями. Оставив выполнение своих обязанностей, он все еще претендовал на титул и на прерогативы патриарха[1068]. В Москве Питирим, митрополит Крутицкий, с некоторой робостью выполнял функции патриарха, не имея на это настоящих полномочий[1069]. Это был благочестивый иерарх, миролюбивый, умеренный в своих воззрениях; впрочем, человек без всякого веса. Фактически, церковь была без главы.
Неронов вернулся в Москву и поселился в своем доме при Казанском соборе, который сохранил ему его сын Феофилакт; он играл теперь роль примирителя, роль, выпавшую когда-то на долю Стефана. Он счел своим долгом положить конец создавшемуся положению. Зная, что 22 октября был день праздника Казанской иконы Божией Матери и что царь, как обычно, будет присутствовать на богослужении в соборе, он составил большую челобитную, чтобы, пользуясь этим случаем, передать ее царю. Он описывал ему вдовствующее состояние церкви, остававшейся без главы в продолжение 15 месяцев; он представлял увеличившиеся распри и говорил ему о Божием гневе, проявившемся в неудачах шведской войны. Он просил царя созвать собор, чтобы вернуть душам мир, а стране благоденствие: «Даруй нам, – писал он, – пастыря, способного придать силу вере. Даруй нам наставника кроткого и смиренного сердцем (…) Не вводителя новшеств, но укротителя страстей». Наконец, не называя кандидата, он перечислял, согласно Св. Писанию и канонам, добродетели, требуемые от верховного владыки: знания, добрые обычаи, жизнь такую, чтобы нравы не расходились со словами, отсутствие гордыни: «Все владыки равны между собой, а патриарх не глава епископов, но епископ, занимающий лишь первое место, старший брат своих братьев».
В самый день праздника, после обедни, Неронов незаметно вложил в правую руку царя часть свитка, на котором была написана эта челобитная, и начал заклинать его со слезами, напоминая ему о неправедном судье и докучливой вдове (Лк. 18: 1–8), о том, чтобы он умиротворил церковь и защитил ее от противника; затем, вложив весь свиток в руку царя, он добавил: «Прочти его два-три раза, затем передай его царице и царевнам. Но пока ты не дашь делу хода, умоляю тебя, чтобы никто об этом ничего не знал»[1070].
Собор был действительно необходим. Сначала царь повелел собрать все свидетельства относительно обстоятельств ухода Никона, затем, в январе 1660 г. он созвал собор. Добрых полгода, с 16 февраля до 14 августа, проходили соборные присутствия. После очень добросовестного рассмотрения всего дела и после совещания с тремя греческими иерархами, бывшими в Москве, было признано, что патриарх, произвольно оставивший свой престол, должен считаться лишенным даже епископства, и что можно и должно принять меры для его заместительства[1071]. Приговор был единодушным, он клал конец вопросу, он мог вернуть спокойствие, однако царь не решался привести его в исполнение. Никон все еще внушал ему уважение. Хаос продолжался. Когда архиепископ Симеон прибыл из Тобольска в январе 1661 г., ему не к кому было обратиться. «Нет никого, кому можно было бы отдать отчет». В Москве нет патриарха[1072].
На следующий год Никон, который, очевидно, не смог привыкнуть к своей опале, решил пойти на новое скандальное дело. Он уже и раньше сильно жаловался царю, что без него рукополагали епископов, архимандритов, настоятелей и священников, теперь в письме, полном угроз, он оставлял за собой право быть единственным законным главой церкви, признаваемым всеми митрополитами[1073]. В воскресение Недели Православия, 16 февраля 1662 г., он решился на большее: он произнес гневную анафему против своего заместителя, митрополита Питирима за то, что тот шел во главе крестного хода в Вербное воскресенье, далее за рукоположение в епископа Мстиславского Мефодия и, наконец, за произнесение против него, Никона, бранных слов. Поневоле царю пришлось спросить совета у иерархов относительно действенности этой анафемы; все отрицали ее действенность[1074]. Паисий Лигарид, недавно прибывший грек, Газский митрополит в Палестине, даже пристыдил царя за его нерешительность. «Русь, – писал он, – является позорищем на показ всему миру, и все народы ждут разрешения этой трагикомедии». Вслед за этим он предложил ему свои услуги, чтобы написать по-гречески константинопольскому патриарху[1075]. Это новое дело долгие месяцы волновало общественное мнение[1076].
Между Никоном и Лигаридом завязалась полемика. Боярин Симеон Стрешнев, дядя царя по матери, который, как говорили, научил своего пса подражать своими передними лапами благословению, даваемому обеими руками Никоном[1077], и за это был отлучен от церкви, представил Лигариду список из 30 вопросов, касающихся Никона, и так как они были внушены царем, то Лигарид ответил на них без промедления 15 августа[1078]. Его памфлет распространился по Москве, и ловкий ливанец, умевший и писать, и говорить властно, сделался на некоторое время кремлевским оракулом в церковной политике.
26 ноября Лигарид провел весь день в беседе с царем, с его новым духовником Лукьяном и боярами[1079]. Без сомнения, он изложил еще раз свою точку зрения: ввиду того, что русские не могли решить вопрос своими собственными средствами, необходимо обратиться к восточным патриархам и созвать под их председательством большой собор. 21 декабря это решение взяло верх, и на следующий же день четырем патриархам были разосланы приглашения; они были посланы патриархам Константинопольскому, Александрийскому, Иерусалимскому и Антиохийскому, также как и Паисию, предыдущему патриарху Великой Константинопольской Церкви; одновременно каждому из них на это было ассигновано по 300 золотых[1080]. Сейчас же начались подготовительные работы; была составлена комиссия из Ионы Ростовского, Илариона Рязанского и четырех светских лиц. Боярину Петру Салтыкову было поручено расследовать, как Никон расходовал хозяйственные суммы[1081]. Деяния Собора 1660 г. были переданы на рассмотрение Лигарида, который не только признал их действительными, но и очень лестно отозвался по их поводу при царе и епископах[1082]. Поэтому 18 июля 1663 г. Лигарид и Иосиф, архиепископ Астраханский, направились к Никону, чтобы объявить ему запрет отправлять хотя бы какую бы то ни было епископскую функцию, но Никон тогда же не признал этого приговора и очень плохо принял послов.
23 июля, когда они вернулись с письмом, подписанным семью иерархами, он чрезвычайно разгневался и обозвал Лигарида «Иудой», «собакой», «разбойником». В своих письмах он продолжал осыпать его бранью[1083]. Вскоре он закончил свой ответ на вопросы, поставленные Стрешневым, а также и на положения Лигарида. Получился громадный трактат в 955 листов, в котором он не признавал за собой никакой вины, часто извращал истину, излагал прямолинейным образом теорию, которую он старался применять во время своего патриаршества: священство, говорил он, непосредственно исходит от Бога и, следовательно, стоит бесконечно выше, чем светская власть[1084]; обзывал несколько раз царя врагом Божиим, а бояр и епископов – антихристами. Устранившись от власти, Никон, как это часто бывает с надменными людьми, потерял всякое чувство меры, всякое психологическое чутье, всякое ощущение того, что он ставит себя в смешное положение, всякое осознание значения своего дела, так же как и всякое представление о благе церкви.
В начале 1664 г., как и в 1658 г., церковь не имела главы. Вопрос был решен только принципиально и ждал окончательного решения будущего собора, фактически же все стояло на мертвой точке. И, естественно, обвинения, которые бросали друг другу Никон, иерархи, Лигарид, бояре, равно как и низкие ухищрения, которым предавалась стая окружавших их клевретов, не способствовали поднятию дисциплины. «Духовенство во всем небрежно, все они пьют и напиваются; в монастырях архимандриты и игумены пиршествуют и приглашают иностранцев (…) никто не помышляет о молитве…»[1085]. Эти слова, сказанные Никоном в 1659 г., с каждым годом оправдывались жизнью все больше и больше. Бывший патриарх как будто забыл свои новшества, черпая аргументы в свою защиту в арсенале своих противников! В свою очередь, и он называл православных епископов антихристами, отвергал приговоры, вынесенные ему, взывал к сновидениям, видениям и указывал, что моровая язва и неудачные войны являются следствием ослушания его власти. Он шел и еще дальше, принимаясь даже непосредственно за царя.
Судьба реформ отнюдь не была решена его уходом. Конечно, ни царь, ни Питирим в глубине души не были их приверженцами. Но ни тот, ни другой ввиду отсутствия признанного авторитетного лица не считали себя вправе аннулировать их, ни даже временно прекратить их осуществление на практике. Отсюда вытекала и невозможность вести определенную политику. К смуте в церковном управлении прибавился еще невероятный хаос в связи с вероучением и выполнением церковной службы.
Что же касалось книг, то положение оставалось прежним. Епифаний Славинецкий и Арсений Грек были по-прежнему преданы Никону; вместе с личным составом Печатного двора они образовали крепкую группу специалистов, которая работала плодотворно уже в силу приобретенной сноровки. Когда им никто не мешал, они делали свое дело превосходно. Новый Требник, как и предыдущие новые книги, был разослан по местам. Это еще больше увеличило беспорядок на местах. В 1659 году вышли Святцы, в 1660 г. – Минея общая, в 1661 г. – Пролог (первая половина года) и новые издания Требника, в 1662 г. – второй том Пролога. В 1663 г. деятельность Печатного двора была более интенсивной, чем когда-либо раньше; помимо перепечатанной Триоди постной, Шестоднева, Минеи общей, Апостола в этом же году, в конце декабря была пущена в продажу Библия, над которой работали с сентября 1660 г.[1086]
2 мая 1663 г. на место Арсения, первого справщика, был поставлен грек Дионисий, прежний архимандрит Иверского монастыря с Афонской горы, поселившийся в Москве с 26 июня 1655 г. и пользовавшийся репутацией ученого человека; архиепископ Рязанский Иларион брал у него уроки греческого языка[1087]; у него просили переводов; с ним консультировались относительно обрядов и службы, установленных на Святой горе[1088]. Таким образом, принцип, заключавшийся в том, чтобы приблизить книги к их греческому образцу, если и не всегда, все же оставался в силе; Библия, однако, из-за соображений целесообразности, объясненных в предисловии, была без больших изменений перепечатана с Острожской и имела хождение в таком виде[1089].
Что касается внедрения новых книг и новых обрядов, то оно шло дальше в силу инерции, раз не было противоположных предписаний. На местах были новые иерархи, поставленные самим Никоном с целью содействия реформе. Так, Иларион, бывший настоятель монастыря св. Макария Желтоводского, 26 апреля 1657 г. заменил в Рязанской епархии Мисаила, убитого мордвой. Далее, 26 июля 1657 года новым Казанским митрополитом был назначен Лаврентий; наряду с этим, Стефан, архимандрит Нового Иерусалима, был послан в начале 1658 г. на кафедру в Суздаль. Последний, кстати сказать, не довольствовался необходимостью придерживаться нового Служебника; он начал служить по Чиновнику Никона; из-за прихоти или из-за вдруг нашедших на него сомнений, он постоянно изменял песнопения и обряды, сегодня у него служили так, завтра иначе. Он перемещал или совершенно уничтожал алтари, приводил в расстройство свой кафедральный собор, без всякого почитания обращался с гробницами похороненных там князей. Он грубо выбрасывал иконы частных лиц, с других икон он снимал золотые ризы и драгоценные украшения, чтобы взять их к себе и придать больший блеск своим собственным образам. В этом отношении он мог почти всегда сослаться на пример своего владыки Никона[1090]. Это все происходило в тот момент, когда в Москве уже никто не форсировал новшества, предоставляя им постепенно распространяться самотеком, укрепляться и делаться обязательными в епархиях, монастырях, деревнях.
Власть не знала, как вести себя по отношению к оппозиционерам. Когда Неронов пришел и разбудил Питирима, чтобы рассказать ему, что Спаситель явился ему и приказал ему снова выполнять богослужение, хотя священник, принявший монашество, даже по старому Служебнику считался лишенным этого права, то митрополит ограничился ответом: «Верю тебе на слово, Богу всякие чудеса возможны»[1091]. Однако когда бывший дьяк Сибирского приказа, Третьяк Васильев, который после своего удаления в Чудов монастырь использовал свое свободное время, чтобы исследовать старые и новые книги, обратился к царю с обоснованной жалобой против служащих Печатного двора, против Евфимия и иностранцев, вмешивавшихся в работу по исправлению, не знавших ни грамматики, ни философии, ни богословия и поэтому только извращавших все дело и творивших раздор, то по указу от 9 ноября 1659 г. он, этот старый служитель церкви, этот вдумчивый начетчик, этот тонкий книговед был выслан для покаяния в Кирилло-Белозерский монастырь[1092]. Однако ему устроили очную ставку со справщиками в присутствии архимандритов Чудова и Богоявленского монастырей.
Обвинения, посыпавшиеся в 1659 г. на суздальского архиепископа, были сложными в другом отношении. Они явно исходили от противников Никоновых новшеств; но, с другой стороны, они были столь важны и столь многочисленны, что игнорировать их было невозможно. Кампания велась священником суздальского кафедрального собора, до того времени неизвестным, но высказывавшим искреннюю приверженность к традициям, неутомимую деятельность и умение отстаивать свои мнения. То был Никита Добрынин. В Суздаль была направлена особая комиссия по расследованию дела, состоявшая из епископа Александра, переведенного в 1657 году из Коломны на новое место служения в Вятку, и дьяка Парфения Иванова. Здесь, в Суздале, было допрошено около тысячи лиц, и 23 марта 1660 г. соборное совещание под председательством Макария Новгородского присудило Стефана к тому, чтобы жить в покаянии в одном из монастырей с запретом выполнять какие-либо епископские обязанности. Это был первый процесс, учиненный за правонарушения не религиозного, а гражданского характера[1093]. Обвинениями служили произвол и превышение власти. Предметом рассмотрения второго дела были жалобы уже чисто религиозного характера. 9 августа 1660 г. Стефан должен был ответить на 50 обвинительных пунктов. Его объяснения сочли удовлетворительными относительно одних пунктов, его раскаяние было принято относительно других; в результате он был оправдан. Но ввиду того, что его и его духовенство ненавидели городские жители, он был лишен своей должности и причтен к клиру Архангельского собора в Кремле. Его главный обвинитель, поп Никита, обличенный в клевете, был отстранен[1094]. Никоновский епископ не подвергся порицанию, но и не получил поддержки в отношении противников; глава оппозиции был осужден, но ему не запретили излагать свои мнения. Этот двойственный приговор «и нашим, и вашим» чрезвычайно характерен для этой эпохи.
В декабре 1660 г. иподьякон Трофимов и поп Иродион пострадали за критику новых книг[1095] и, наоборот, 9 апреля 1661 г. Третьяк Васильев был освобожден от покаяния и приобщен к монахам Кирилло-Белозерского монастыря[1096], но не возвращен в Москву, где он служил раньше. Как раз в эти-то месяцы и было, очевидно, послано распоряжение о возвращении протопопа Аввакума из Даурии: может быть, Симеон ходатайствовал за своего прежнего любимца[1097]. Наряду с этим, в июле попа Лазаря высылают в Тобольск[1098]. А в мае 1663 года грек Арсений высылается на Соловки, для покаяния[1099]. Видимо, царь колеблется, все увеличивающиеся обвинения против новшеств мучают его совесть, он приказывает производить расследования и делать очные ставки; дает согласие на осуждения, затем наполовину милует, позволяет, однако, новшествам понемногу внедряться повсюду, но систематически сторонников старой веры не преследует. Теперь все зависит от него: у иерархов нет стойких убеждений; консервативная партия ослаблена вследствие смерти Макария Новгородского, умершего 14 ноября 1662 г., и Маркела Вологодского, скончавшегося 22 марта 1663 г., и среди епископов нет смелых людей, которые не подчинились бы приказу царя.
Среди приверженцев старого благочестия эта политика возбуждала два противоположных чувства: с одной стороны, ввиду того, что царь колебался, можно было еще убедить его вернуться к старому, добиться от него прежнего положения вещей; с другой стороны, невзирая на уход Никона, ненавистные новшества все же существовали и распространялись, что доказывало, что существующая церковь была развращена, предана антихристу. Сторонники старой веры были охвачены обоими настроениями зараз.
Те, кто больше надеялись на лучшее здесь, на земле, ожидали помощи от установленных властей. Александр Вятский со своим наперсником бывшим настоятелем Феоктистом подготовлял для предстоящего собора очень подробную памятную записку, где он отмечал все пункты, по которым Требник 1658 г. расходился со старыми московскими изданиями, так же как и с Требником Петра Могилы. Иногда он очень негодовал: «Ложь!», «Смешно и позорно!» – восклицал он. «Те, кто это издавали, что, они были пьяны или ум потеряли? Молю, чтобы мне ответили на это! Неужели мы должны зарываться в греческих книгах, напечатанных в Венеции, и принять свычаи и обычаи греков, взятые у латинян или язычников?» Но он надеялся, что после полюбовного соглашения относительно всех трудностей христиане снова обретут друг друга, объединившись в мире и в единой вере[1100].
Неронов также считал, что собор, который порешил бы все дела по наследию Никона, одновременно положит конец всем его неудачам. 25 октября 1661 г. он писал царю: «Хотят меня представить раздорником, виновником смуты. Разве у нас когда-нибудь был хоть намек на такую вещь? Нет, благочестивый государь, никогда не было у нас такой мысли! (…) Одна причина всей смуте – это новшества… Причину Божьего гнева, – я ее тебе поведаю! Начиная с 1654 года печатались книги, которые разнились между собой, а потому верующие, истинные служители Христа, находятся в великом смущении и скорби (…) Даруй церкви мир (…)». И, будучи уверен, что его прежняя мысль о соборе наконец-то принята, он просил, чтобы на этот собор также были призваны Никанор и его соловецкие друзья: Никанор по-прежнему поддерживал сношения с дорогим его сердцу монастырем после отъезда в 1657 г., делал туда вклады деньгами, книгами, образами, драгоценными митрами и, наконец, уже окончательно вернулся туда в 1660 г.[1101]; Спиридон Потемкин, Сергий Салтыков, Сергий, настоятель Толгского монастыря, также, по его мнению, должны были участвовать в соборе, ибо «без таких людей Собор был бы бессилен»[1102].
Оба Сергия были тогда, без сомнения, широко известны как преданные друзья истины. Первый принадлежал к влиятельной семье; он был – по крайней мере в 1658 году – попечителем небольшого монастыря, основанного в 1621 г. на Смоленщине его дедом, боярином Михаилом Салтыковым, во имя Воздвижения Святого Животворящего Креста Господня в Бизюкове[1103]. Другой Сергий уже доказал свои качества: энергию и умение повелевать – качества, которые в дальнейшем обеспечили ему блестящую будущность как иерарха.
Но Потемкин был личностью совершенно иного склада. Также уроженец Смоленщины, аристократ по рождению, он получил в польских школах западное образование, чрезвычайно редкое в то время в Московском государстве. Он знал греческий, латинский и польский языки, изучил довольно хорошо диалектику, риторику и богословие в той форме, как их преподавали на Западе под влиянием латинян; кое-где он даже цитирует Талмуд. Но он полностью сохранил свою приверженность к православным традициям. После взятия Смоленска царем Алексеем он прибыл в Москву, может быть даже против своей воли. Будучи дядей Федора Ртищева[1104], расположение двора к которому все увеличивалось, он также мог бы достичь при дворе или на дипломатическом поприще блестящей карьеры, но он предпочел посвятить себя изучению религиозных вопросов. «Вся дни живота своего над книгами просидел»[1105]. В декабре 1660 г., нося еще имя Симеона, он был уже авторитетом среди защитников старой веры[1106]. Вскоре после этого он принял в монастыре, подведомственном царскому духовнику, которого он, вероятно, знал и уважал, монашество под именем Спиридона[1107]. К этому времени он составил уже девять очень обширных проповедей («слов»), где он разобрал, с тем чтобы их отвергнуть, никоновские догматические новшества[1108].
Первая проповедь касалась крестного знамения, которое, как он полагал, должно было изображаться одинаковым образом, как для того, чтобы осенять себя, так и для благословения, ибо существует лишь единый Крест Христов. Вторая проповедь утверждала необходимость употреблять слово «истинный» в отношении Святого Духа. Третья проповедь отрицала необходимость реформы вообще, ибо церковь создана безупречной. Четвертая – говорила о торжестве церкви и о том, что сатана будет связан на 1000 лет, согласно Апокалипсису, и доказывала, что Никон противоречит себе, то принимая Стоглав, Кириллову книгу и «Книгу о вере», то отвергая их. Пятая – обличала предтеч антихриста, которых он научил скрывать яд их злобы под благочестивой внешностью. В шестой содержалось истинное учение о церкви. Седьмая говорила о несознательных христианах, именующих себя православными и осуждающих ошибки, но запутавшихся и этого не замечающих. Восьмая предупреждала еще верующих против тех, кто именует себя святым, а в действительности суть только приспешники антихриста. Девятая излагала учение о Пресвятой Троице.
Все эти проповеди были составлены научно-богословски, согласно приемам польских наставников Потемкина, однако же без рабского подражания им. Они были написаны языком ясным и образным, насыщенным цитатами из Библии, с четкими, ясными формулировками. Для этих проповедей, несмотря на их апологетическую и полемическую направленность, характерно было то, что в них отсутствовала грубость и они призывали к благоразумию. Известная легкость в раскрытии мысли, некоторые риторические приемы, вопросы к читателю, обращения, предполагаемые диалоги – все это делало чтение их привлекательным. Их много переписывали и читали; проповеди эти были объединены в сборник, и они чрезвычайно способствовали окончательному установлению старообрядческого учения.
Потемкин не углублялся, подобно многим, в анализ частных вопросов, он ими не пренебрегал, но пытался восходить до самых первоисточников. Церковь не может заблуждаться, ибо Христос в ней пребывает и царствует, она не может сойти со своего правильного пути ни в малейшем «догмате», ни в своем учительном писании, ни в обрядах, будь то записанные, будь то переданные по преданию. Поэтому всякий, кто намеревается изменять ее строй, извращает ее сущность. «Да будет проклят всякий, кто добавляет что-нибудь к чистой вере, переданной нам, или лишает ее чего-нибудь». Эти так называемые исправления заимствованы не в старых славянских рукописях, но в еретических книгах, напечатанных на греческом языке, пришедших из Рима, Парижа, Венеции, полных латинских ошибок. Новые книги – это сплетение лжи; русского в них только одно название; в них все перемешано с кощунственной римской верой. Если вся эта беда и случилась, то потому, что близки последние времена: сатана был связан в продолжении тысячи лет (о, счастливое тысячелетнее царство святых на земле!). После Седьмого Вселенского собора исполнилась тайна Божия – Рим отпал; прошло еще 600 лет – и появились униаты; протекло еще 60 лет – и Никон, следуя их примеру, отказался именовать Духа Святого «истинным»; что же произойдет через 6 лет, в срок, намеченный Апокалипсисом: 666 лет? Ясно, антихрист уже действует на этом свете; его предтечи многочисленны, они подготовляют ему путь, искажая изображение креста, Символ веры, Исусову молитву, пение аллилуии, молитвы при крещении, хвалебную песнь Богоматери, сея повсюду латинские ошибки. Уже отказываются слушать Евангелие, предпочитают языческих философов Христовым апостолам, – и верующие преследуются. Когда исполнятся времена, антихрист придет самолично. Настоящая жизнь не что иное, как малый промежуток между двумя пришествиями Христа. Будем готовы к концу мира сего и к Последнему суду[1109].
Спиридон Потемкин был ученым, затворником, очень образованным и уравновешенным, следовательно, он был мало способен извлекать из своего пессимистического учения выводы, требовавшие чрезвычайных и срочных мер. В общем его учение могло быть воспринято московскими сторонниками старой веры только чисто рассудочно, в Москве оно не могло служить таким призывом к активному действию, каким оно могло стать в других местах. В столице рассчитывали на царя, более, как казалось, осведомленного, на будущий собор; желали мира и примирения путем возврата к прежним обычаям и избегали пока что крайних решений.
На Соловках смерть архимандрита Илии в 1659 г. придала некоторую смелость приверженцам Никона. Новый избранник Варфоломей, вступивший в должность в сентябре или октябре 1660 г.[1110], был человеком без твердых убеждений, следовательно, покорный властям. 22 октября монастырский собор постановил отныне выполнять церковную службу в точном соответствии с установленными словами богослужения и по исправленным книгам. Очень вероятно, что это постановление не было выполнено, ибо в начале января 1663 г. Варфоломей счел своей обязанностью настоять на его выполнении. В этот день дьякон Нил при всем народе обвинил его вместе со всем старшим духовенством, сказав: «Ты еретик, поп Геронтий обучил тебя этой ереси, также как Арсений Грек обучил ей патриарха Никона, а Никон – царя»[1111]. Вскоре после этого, 12 января, Варфоломей был вызван в Москву, покинул монастырь, предоставив заботу о выполнении богослужения уставщику, тому же Геронтию. И сейчас же, с той же силой, что и раньше, поднялось волнение. 7 февраля во время обедни разразился скандал, так как дьякон читал Евангелие на непокрытом аналое, без свечей, а затем пономарь не снял с престола просфоры. Был еще и другой спор: с какой стороны престола должен был причащаться священник? Наконец, Варфоломей вернулся из Москвы, изгнанный оттуда неблагоприятной для него атмосферой; 16 февраля 1663 года священники и дьяконы монастыря собрались под его председательством и все вместе обязались положить конец препирательствам и взаимным обличениям и под страхом епитимьи не принимать и не вводить «никакого нового обряда»[1112]. Таким образом, вернулись к прежнему положению 1658 года: сам Варфоломей сделался верным исполнителем старых обрядов. Подтверждалось, что Соловки стали оплотом старого благочестия. Москва, между прочим, не проявляла никакого недовольства по этому поводу: царю чрезвычайно нужны были денежные пособия от богатого монастыря. В сентябре он потребовал у монастыря 50 000 рублей в качестве займа для продолжения войны «с латинянами»[1113].
Соловки не хранили истину только для себя. Через посредство своих подворий и угодий на материке и благодаря многочисленным паломникам, которым он оказывал каждое лето гостеприимство, этот большой монастырь, расположенный на островах Белого моря, был в постоянных сношениях со скитами, деревнями и городами громадного Поморья, начиная с Кольского полуострова на западе до далекой Печоры на востоке и вплоть до торговой Вологды на юге. Повсюду он был в почете как хранитель традиций святых Зосимы и Савватия и святого митрополита Филиппа; библиотека монастыря считалась знаменитой. Со времени Илии и первых тревожных событий соловецкие монахи ходили повсюду, проповедуя старую веру в рыбацких поселках Крайнего Севера, безразлично, зависели ли они от монастыря, или нет; ходили они и в бедные Онежские приходы, и в лесные скиты, где каждое новшество отвергалось, где все, что появлялось из Москвы, принималось с недоверием, где лишения, уединение, опасности среди первобытной природы закаляли людей, придавая им гордый, независимый характер, делая их безразличными к земным благам, устремляя их помышление к конечным судьбам. То, что царская церковь впала в заблуждение и была лишена милости Божией, что необходимо было избегать ее священников, ее книг, ее таинств, что царство антихриста было близко, – все эти катастрофические сообщения волновали и заботили их в силу самих обстоятельств. Уходя на промыслы, охоту или рыбную ловлю, во время весенней распутицы или просто из-за громадных расстояний и трудности пу тешествия они были вынуждены обходиться без священника и удовлетворяться домашней службой или пением в часовне под руководством старика-наставника. Не эти ли области царь имел в виду, когда писал в 1660 году: «Ведомо нам, великому государю, учинилось: есть некие, именуются всуе православные християна, (…) без покаяния всегда пребывают, отцов духовных у себя николи не имеют (…) и многие в совершенных летех, в тридесят, и в четыредесят, и в пятьдесят и выше, а иные долготерпением Божиим и до старости дошли, а к покаянию еще не пришли (…) а когда таковые в болезнех телесне и впадут, и тогда они, боящеся Бога, хотяще, дабы их у церкве погребли, и таковых неволное покаяние при смерти вмале приятно Богу»[1114].
Здесь, в Палеостровском монастыре, на одном из островов Онежского озера, уже в то время был заключен епископ Павел, и память о нем держалась в монастыре как о первом мученике, пострадавшем за старую веру[1115].
В 1657 году монах Епифаний, после двенадцатилетнего пребывания на Соловках, решил пойти проповедовать против новшеств; он получил на это благословение своего духовника и келейника; кроме того, получил книги и все необходимое, чтобы вести странническую и отшельническую жизнь, а также медный образ Божией Матери с Младенцем Христом; потом он, прося милостыню по дороге, пошел на Суну – реку, находившуюся в 400 верстах от монастыря.
На одном из островов этой реки, в 12 верстах к северо-западу от Онежского озера жил с 1640 года святой человек по имени Кирилл. Это был крестьянин Сунского прихода, ставший монахом в монастыре близ Олонца и затем живший в десятках разных монастырей и, наконец, нашедший себе покой в своей родной стране[1116]. Он построил себе избу, чтобы принимать паломников. У него был мельничный жернов, которым он пользовался, чтобы питаться самому и давать подаяние неимущим; остаток времени он проводил в молитве, созерцании, посте и пении псалмов. В 12 верстах от него находилась деревенька, где жили еще его отец и зять. Для исповеди он ходил далеко на юг, в монастырь св. Александра Свирского, близ Олонца около Ладоги. Это было целое путешествие через озера, леса, пороги и предательские трясины.
Епифаний устроился под его руководством, ибо Кириллу шел пятидесятый год, он стал жить в покинутой избе, про которую говорили, что в ней «нечисто», затем, будучи искусным плотником, он построил себе поблизости другую, и оба отшельника зажили дружно, рассказывая друг другу свои видения, вместе получая милостыню и раздавая ее, так как было много посещавших их, болящих плотью и духом. Они взаимно помогали друг другу в работе: Епифаний делал кресты, взамен чего ему приносили рожь и деньги[1117].
Таков был один из скитов, которых было так много в Западном Поморье.
Недалеко от Суны, на Водле, обосновался на короткое время необычайный странник по имени Корнилий. Юный крестьянин из Тотьмы, с северо-востока Вологодской области, Конон после смерти своих родителей решил, будучи пятнадцатилетним юношей, оставить все имущество и посвятить себя служению Богу: случайно встретившиеся ему на пути монахи направили его в скит к Капитону. После длительного преклонения перед подвижничеством и ангельской жизнью этого необычайного аскета – основателя данного скита, после чрезвычайно трудного искуса, он сделался послушником, а затем в монастыре св. Корнилия Комельского принял и монашество с именем Корнилия. Там он прожил 24 года. Затем снова начал паломничать по Святой Руси. В Москве еще он стал ризничим у патриарха Филарета, а затем хлебопеком у Иоасафа. В Новгороде он пек просфоры. Он с негодованием следил за развитием никоновских нововведений. Еще будучи в Москве, во время патриаршества Иосифа, он выполнял какую-то должность по монастырскому надзору. Позднее, когда он увидал, что новшества победили, он покинул столицу и отправился проповедовать старую веру на Севере и на Западе. Он добрался до Пудожа в Поморье, где было много друзей истинной веры. По их совету он ушел на Водлу. Небольшой грот, образованный скалами, стена из бревен как заграждение у входа, глиняная крыша – таково было его жилище. Верующие приносили ему питание и приходили слушать его поучения[1118].
В Андоме жил другой праведный человек по имени Евфросин: несмотря на то, что он взял на себя обет молчания, – у него были ученики[1119]. Естественно, что Епифаний, Кирилл, Корнилий и Евфросин знали друг друга. Они поддерживали друг друга в верности старой вере, в сопротивлении ереси, в ожидании Страшного суда. Насыщенная духовная жизнь оживляла эти заброшенные области, эти озера и леса, где порой обретали для пропитания только болотный мох или сосновую кору. Крепкая вера достигала окружающих деревушек и шла даже дальше вплоть до монастырей официальной церкви.
В монастыре св. Александра Свирского, например, введение новшеств натолкнулось на положительный отпор, доказательством чего служит тот факт, что 23 октября 1664 г. в день, когда игумен Симеон был рукоположен во архиепископа Вологодского и должен был соответственно прочесть исповедание веры, он с первых же слов «Верую» ошибся и сказал «рожденный, а не сотворенный» и из-за этого «а» чуть не лишился своей митры[1120]. Расстояние между Свирью и городком Тихвином, стоявшим несколько юго-восточнее, не было очень велико. В трех верстах от Тихвина находился небольшой монастырь, так называемый Николо-Беседный, существовавший с 1515 г.; с течением времени значение его затмил большой Успенский монастырь, основанный в 1560 г. Иваном Грозным. Впоследствии этот монастырь даже присоединил к себе Николо-Беседный монастырь. С 1662 г. настоятелем этого старого монастыря был Досифей, стойкий защитник старой веры[1121]. Это был человек поразительной активности, но рассудительный, известный не только своими мудрыми совета ми, но в такой же мере и святостью своей жизни. Именно ему удалось в 1663 году добиться независимости своего монастыря[1122].
Еще дальше на юг, близ Осташкова, находился монастырь св. Нила Столбенского, где жил еще второй тобольский архиепископ Нектарий. Этот монастырь надолго сохранил верность прежним обрядам[1123]. Затем в 21 версте от Зубцова, на юго-западе оттуда, находилась Ракова пустынь, которую привел к процветанию Иов Тимофеевич; этот поляк знатного рода знал еще Филарета, в бытность его пленником, последовал за ним в Россию, был им пострижен в монахи и рукоположен в иереи и с тех пор был полностью предан памяти покойного патриарха. Он мог только отвергать и порицать новшества. Он бежал от них в другое место спасения души, находившееся в 40 верстах от Зубцова, в монастырь св. Николы, что на Красных горах. От него исходило одновременно впечатление и достоинства, и смирения, свойственные священноиерею, глубоко покорявшие сердца и умы окружающих; у него был и ученики, которые ему слепо повиновались[1124].
Таким образом, от Белого моря до истоков Волги, до Дорогобужа, вдоль западной границы тянулся почти беспрерывный ряд оплотов старой веры.
На Востоке была другая Фиваида, скрытая в лесах, которые тянутся и поныне по левому берегу Волги между Костромой, Юрьевцем, Нижним Новгородом и Вяткой.
Близ Юрьевца, в Кривоозере, в скиту, где проживало около 20 иноков, также продолжали служить обедню по старым книгам, сугубить аллилуию, читать неисправленный Символ веры и креститься двумя перстами. Настоятель этого скита Сергий, принявший монашество и рукоположенный в 1644 году, не мог не знать Аввакума. Но размышляя о Страшном суде, он создал себе странные понятия: в этот страшный день у Сына Божия будет иной язык, чем у Отца, а у Святого Духа будет третий язык. Порой Сергий ходил навещать отшельников, которые сравнительно недавно обосновались на Ветлуге и Бельбаше: Игнатия, Максима и Макария, простых, неграмотных крестьян, принявших иночество и занимавших три келии, которые отстояли одна от другой на расстоянии одной-двух верст. Они общались также и с Богородицким монастырем в Пучежской слободе[1125].
Наконец, Сергий Кривоозерский поддерживал хорошие отношения с Ефремом Потемкиным. Ефрем был братом Спиридона Потемкина; он принял монашество в Бизюкове, затем выполнял некоторое время обязанности скитоначальника, или строителя, в Болдине, опять близ Дорогобужа[1126]. После того как военные действия заставили его покинуть монастырь, он отправился в Москву и оттуда, без сомнения с согласия своего брата, достиг Заволжья. В 1662–1663 гг. он основал другой оплот старой веры на реке Керженце. Болотистые и заросшие лесом берега этой извилистой реки дотоле посещали только рыбаки и искатели дикого меда. Ефрем жил там спокойно, вдали от сатанинских новшеств. Однако он иногда и выходил оттуда, чтобы отправиться в Нижний, Балахну, в Макарьевский монастырь «купить хлеба и соли». Здесь он останавливался то у Ивана, валяльщика войлока, то у подьячего Кириака Кириакова и всегда пользовался случаем посовещаться с друзьями – приверженцами старой веры. Он до такой степени избегал всего, что носило на себе печать Никона, что отказался от посвящения в сан и сам налагал на себя епитимьи, как, например, дополнительное чтение житий святых. На Керженце священников не было[1127].
Преданные делу проповедники отправлялись в поход на Юг. В 1661 г. в Царицыне были арестованы дьякон Сильвестр, монах Иосиф и дьячок Алексей, «занимавшиеся перепиской сочинений раскольничьих и безбожных»[1128]. Недовольные, убегавшие в свободную степь от принуждения московских властей или от крепостного ига, становившегося все более тяжелым, охотно воспринимали пропаганду, враждебную церковным властям.
Таким образом, в то время как в городах противники никоновских новшеств избегали порывать с церковью, поскольку их вера была как-то терпима, в отдаленных областях было много людей, предпочитавших скорее удалиться в пустыни, чем иметь хоть что-нибудь общее с иерархией, предавшейся антихристу. В 1663 г. уже наметились главные очаги сопротивления: Поморье, тяготевшее к Соловкам; Заволжье со своим духов ным центром Керженцем и, наконец, Москва, где благонамеренные люди продолжали ожидать более деятельного пастыря, чем Потемкин, и менее усталого проповедника, чем Неронов; в сущности, ждали апостола!
V Аввакум в Устюге: Феодор, юродивый Христа ради
В Тобольске Аввакум уже не нашел бедного Федора, который приветствовал его при отъезде: исцелившись от беса, он умер, прожив как настоящий христианин еще три года со своей женой и детьми[1129]. И вместе с тем там, наверное, было еще много прежних его духовных детей, тут же пришедших облобызать ему руку. Он снова мог – и с каким удовлетворением, и с какой кротостью – выполнять свою пастырскую обязанность: руководить душами. Так он провел часть зимы в Тобольске. Анна Калмычка, узнав о скором приезде протопопа, мучилась упреками совести; с разрешения Елеазара она поспешно укрылась в монастыре. Вскоре она явилась со своими двумя маленькими детьми к Аввакуму с повинной, плача и бия себя в грудь. Но внешне он был неумолим и осыпал ее бранью. Бес ее мучил по-прежнему. Однажды, когда она присутствовала на обедне, совершаемой Аввакумом, она стала испускать дикие крики, подобные крикам животных. Это произошло, как обычно, в самый торжественный момент, во время выхода со Святыми Дарами. Аввакум прервал Херувимскую песнь и с крестом, взятым с престола в руке, приказал бесу: «Полно, бес, мучить ее! Бог простит ей в сей век и будущий». Получив, таким образом, прощение, она обрела здоровье и окончательно привязалась к своему спасителю[1130].
Однако, чтобы использовать санный путь вплоть до Москвы – путь самый прямой и самый быстрый, – надо было отправиться в дорогу до конца зимы. Аввакум должен был покинуть Тобольск вскоре после Рождества. Он отправился в путь со своей семьей и Анной Калмычкой. Протопоп со своей женой снова увидели места, которые они проезжали немногим больше десяти лет тому назад в качестве изгнанников, под конвоем. Теперь же они были свободны и нравственно возвысились благодаря превзойденным испытаниям.
Мир на Урале еще не был восстановлен. Великий поход полковника Вилима Францбекова и Василия Бланка с их рейтарами и солдатами, обученными на польский манер, в то время только подготовлялся в Тобольске. А пока что башкиры и татары осаждали или поджигали монастыри, укрепленные посты и города: Покровское, Киргинскую слободу, Невьянск, уничтожали поселенцев и вообще избивали всех беззащитных русских, которых они только встречали. Небольшой отряд вздохнул свободно только под прикрытием стен и башен Верхотурья. Воевода Иван Камынин, увидя его, не скрыл своего изумления. «Христос пронес меня и его Пресвятая Матерь меня соблюла», – ответил протопоп. Камынин был его другом[1131].
В Устюге остановились снова. Это был город одновременно ремесленный и торговый и с интенсивной религиозной жизнью, где было около 30 деревянных церквей, группировавшихся вокруг Успенского собора, перестроенного в каменный, но очень пострадавшего от страшного пожара, бывшего 28 апреля 1649 г.[1132] Подобно другим городам, Устюг пережил религиозный подъем середины века: в 1648 г. купец Никола Ревякин построил там большую церковь Вознесения с шестью приделами и пятиярусным иконостасом[1133]. В монастыре св. Архангела Михаила можно было видеть, как вырастали на глазах одна за другой две каменные церкви: церковь Введения Пресвятой Богородицы, воздвигнутая в 1651–1653 гг., и собор св. Михаила Архангела, построенный несколько позднее[1134]. В 1656 г. церковь XV века во имя св. Иоанна, юродивого Христа ради, была перестроена в каменную, двухэтажную[1135]. Религиозный подъем, связанный со строительством церквей, не угасал. В 1663 г. в начале навигации из Ярославля прибыло 28 каменщиков для постройки еще более великолепного храма. Средства были собраны по подписке: воевода Петр Потоцкий, очень культурный поляк, подписался на 70 серебряных рублей, а его дьяк Сахаров – на 10 серебряных и 100 медных рублей; стоимость последних была в то время много меньше, так как это было в самый разгар инфляции. Почтенный протопоп Владимир и его сын, дьякон Василий, подписались на 50 серебряных рублей. Строительство развернулось вовсю[1136]. Новый собор должен был быть освящен во имя покровителя города св. Прокопия, юродивого Христа ради. В Устюге все время являлось множество святых: свв. Симон, Филипп, Леонид – все они, основавшие скиты, были прославлены вскоре после своей смерти, совсем недавно, именно в 1607, 1620 и 1654 годах[1137].
В этом городе в силу традиций, оставленных Прокопием и Иоанном, особенно сильно звучали слова 1-й главы Послания к Коринфянам: «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым». «Немудрое Божие премудрее человеков», «Мы безумны Христа ради», «Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне»[1138]. Еще во времена Ярослава дошедшие до Киева жития св. Симеона Емесского и св. Андрея Цареградского положили начало особого рода подвижничеству, осуществляемому под видом кажущегося безумия, и души, охваченные жаждой абсолютного подвига в самоуничижении, обеспечили в Московии этому подвижничеству невиданный ни в Сирии, ни в Греции подъем.
Юродивый того времени, преемник Николы Салоса, был героическим христианином, не только отказывавшимся, как и многие другие христиане, от всех внешних благ: богатства, домашнего очага, семьи, чистоты тела и даже наинужнейшего, как, например, одежды и зимой – обуви, но отказавшимся также и от некоторых духовных благ: общепринятых моральных норм и даже здравого смысла. Просить милостыню, жить в грязи, терпеть невыносимые боли во всех членах тела – всего этого ему было мало: он предавался поступкам смешным, позорным, порой даже смущавшим самое религиозное чувство – все это для того, чтобы вызвать против себя возмущение, презрение и даже побои. Но дойдя, благодаря этим духовным мерам, до полного внутреннего опустошения, он раскрывался одному только Богу. Юродивый читал в людских душах, читал в будущем, он парил выше всех человеческих интересов, уйдя из общества – он снова возвращался в него, чтобы поучать. Одни его отталкивали, другие – и они были в большинстве – почитали его. В его слезах угадывали бедствия; в его загадочных словах находили угрозы, советы; в тяжелые моменты верили только ему. Он бичевал без боязни власть имущих, он упрекал Иоанна Грозного за пролитую кровь, Бориса Годунова – за убийство царевича, и виновные склоняли перед ним голову. На юродивого Христа ради ни один насильник не посмел бы поднять руки. Чем больше власть государства давила народ, чем больше церковная власть подчинялась этой власти, тем более дело защитника угнетенных переходило к юродивым. В XVII веке юродивых было множество; они встречались в городах, деревнях, окружали царя Алексея, патриарха Никона. Не все походили на тот идеальный тип, который описан здесь: шарлатаны, умея избегать всех тяжестей, вытекающих из этого положения, могли извлечь из этого образа жизни выгоды; настоящие умалишенные могли быть приняты за юродивых Христа ради. Кроме того, настоящие юродивые Христа ради могли до известной степени выродиться либо в умалишенных, либо в шарлатанов.
Все эти разновидности юродивости, очевидно, существовали и в те времена, и впоследствии. Но юродство Христа ради является существенным видом религиозного служения русского народа, и в дальнейшем оно заняло свое место в истории старообрядчества[1139].
Аввакум заметил в Устюге одного из таких юродивых по имени Федор. Верный традиции, он бродил по городам босой, в рубахе, страдая летом от ожогов солнца, зимой от обморожения. Когда он возвращался в свой чуланчик, пристроенный к церкви, его несгибающиеся ноги стучали по полу, как палки; они причиняли ему жгучую боль; а на следующее утро – всего этого как и не бывало. В продолжение уже пяти лет вел он подобную жизнь. Он привязался к случайно приехавшему протопопу и стал относиться к нему как к своему духовному руководителю. Однажды Аввакум, заметив у него Псалтырь нового издания, упрекнул его за это. Конечно, Федор не крестился тремя перстами, но его религиозные познания этим и ограничивались, и он не мог понимать разницы между старыми и новыми книгами. Аввакум подробно объяснил ему все зло никоновских изданий и был при этом так красноречив, что Федор схватил свою Псалтырь и бросил ее в печь[1140]. Эта твердая вера, этот героизм простого человека глубоко тронули протопопа, перед ним он признал себя слабым, слишком осторожным, чрезмерно рассудительным. В лице Федора он приобрел одновременно и духовного сына, и критика, вместе и ученика, и наставника. Когда отряд покинул Устюг, состав его пополнился еще одним лицом. То был Федор, юродивый Христа ради.
Глава X Между возвращением и ссылкой (начало февраля – 29 августа 1664)
I Аввакум и его сношения с царем, Пашковым и близкими
Как были приняты в Москве высланные, Аввакум повествует об этом сам: «Яко ангела Божия, приняша мя государь и бояря, – все мне ради»[1141]. И все же, это возвращение, после одиннадцати истекших лет было овеяно грустью: Стефан – духовник царя – умер, Неронов словно отсутствовал душой и вообще стал холодней и равнодушнее. Братство было рассеяно, большинство его членов исчезло, Евфимий и другой брат его умерли от моровой язвы, так же как их семьи и множество родных и друзей. Аввакум, возможно, временно приютил свою семью у одного из двух оставшихся в живых своих братьев, у Герасима – священника церкви св. Димитрия Солунского у Тверской заставы[1142]. Затем он посетил единственного своего покровителя, который еще оставался на месте, Федора Ртищева.
Федор в ту пору был осыпан милостями: он в 1652 году был пожалован окольничим за то, что получил от Сапеги признание за московским государем титула царя Малыя и Белыя Руси, ему было поручено заведывание несколькими приказами, а именно: Литовским, Дворцовым судным и Приказом Большого дворца. Он даже стоял во главе царской канцелярии, до ее превращения в независимый приказ. Однако он терпел и личные неудачи, и даже публичные оскорбления. Его печи для обжигания извести в Путивле и Олешне были уничтожены гетманом Выгодским с крымцами и окрестными жителями. Во время июльского восстания 1662 года беднота обвиняла его в том, что он сделал жизнь невозможной из-за дороговизны хлеба и соли, а также из-за обесценения медных денег. Говорили, что он действует на руку полякам, и он чуть не подвергся самосуду[1143]. Он был загружен всякого рода работой, но ничего не утратил из своей прежней горячей приверженности к духовным и умственным запросам; он по-прежнему относится с большой любовью и вниманием и к людям, и к идеям. Днем, как пишет его биограф, он выполнял свои обязанности, а ночи, невзирая на потребность в отдыхе, проводил в обществе людей праведных и искушенных в знании Священного Писания. Иногда он почтительно беседовал с ними до утра, с тем чтобы с наступлением дня снова возвращаться к своим служебным обязанностям[1144].
Еще большей заслугой Ртищева было то, что он не отказывался ни от одной из своих прежних привязанностей. Он часто пытался побудить Никона изменить свой образ действия, невзирая на то, что тот его резко отталкивал; Ртищев оставался верен Никону даже в постигшей его немилости. Он заверял Никона в своем постоянном добром расположении, посылал к нему своего двоюродного брата Федора Соковнина и даже соглашался передавать послания Никона царю[1145]. Когда Аввакум явился к Ртищеву в его хоромы, тот бросился к нему навстречу, упал к его ногам, испрашивая благословение, затем увлек Аввакума в свою горницу, откуда не выпускал его в течение трех суток[1146]. Им было что рассказать друг другу; нужно было обсудить столько важных вопросов.
Ртищев доложил царю о возвращении протопопа. Царь тотчас допустил его к целованию. Свидание, по-видимому, носило отпечаток одновременно и дружелюбности, и одержимости, ибо прошлое было полно как хороших, так и плохих воспоминаний. В будущем же предстояли еще более горестные расхождения. Свидание было кратким. Царь дал Аввакуму наглядное доказательство своей благосклонности, поместив его рядом с собой, в Кремле, на монастырском подворье. Но на этой публичной аудиенции у царя не было возможности, а может быть не было и желания, расспросить его относительно понесенных им несчастий и его намерений на будущее[1147]. Поэтому Аввакум обратился к нему с челобитной.
Челобитная Аввакума:
«От Высочайшая устроенному десницы, благочестивому государю, царю-свету Алексею Михайловичу, всеа Великия и Малая и Белыя России самодержцу, радоватися. Грешный протопоп Аввакум Петров, припадая, глаголю тебе, свету, надеже нашей. Государь наш свет! Что ти возглаголю, яко от гроба возстав, от далняго заключения, от радости великия обливаяся многими слезами, свое ли смертоносное житие возвещу тебе, свету, или о церковном раздоре реку тебе, свету?
Я чаял, живучи на Востоке в смертях многих, тишину здесь в Москве быти; а я ныне увидял церковь паче и прежняго смущенну. Свет наш государь, благочестивый царь! Златоустый пишет на послание к Ефесеом: «ничтоже тако раскол творит во церквах, якож во властях любоначалие, и ничтож тако прогневает Бога, якоже раздор церковной». Воистинно, государь, смущенна церковь».
Затем Аввакум напоминал о предупреждениях Провидения: о его собственном страшном видении в Тобольске, о моровой язве. «Агарянской меч, – говорил он, – стоит десять лет безпрестани, отнележе разодрал он церковь». Далее он продолжал с горечью:
«Лучши бы мне в пустыни Даурской, со зверми живучи, конец прияти, нежели ныне слышу во церквах Христа моего глаголющи невоскресша[1148].
Вем, яко скорбно тебе, государю, от докуки нашей. Государь-свет, православной царь! Не сладко и нам, егда ребра наша ломают и, развязав, нас кнутьем мучат и томят на морозе гладом. А все Церкви ради Божия стражем. Изволишь, государь, с долготерпением послушать, и я тебе, свету, о своих бедах и напастех возвещу немного».
Затем следует живой и взволнованный рассказ обо всех злоключениях в Лопатищах, Юрьевце, Москве и в особенности в Даурии. Вслед за этим он пишет:
«Не прогневайся, государь-свет, на меня, что много глаголю: не тогда мне говорить, как издохну! А близ исход души моей, чаю: понеже время належит. То не отеческой у патриарха вымысл, но древняго отступника Иулияна и египтенина Феофила, патриарха Александрова града, и прочих еретик и убийц, яко християн погубляти. Мне мнится, и дух пытливой таков же Никон имать, яко и Феофил: понеже всех устрашает. Многие ево боятся, а протопоп Аввакум, уповая на Бога, ево не боится. Твоя, государева-светова, воля, аще и паки попустишь ему меня озлобить: за помощию Божиею готов и дух свой предать. Аще не ныне, умрем же всяко и житию должная послужим: смерть мужу покой есть; смерть греху опона.
А душа моя прияти ево новых законов беззаконных не хощет. (…) и хотящии ево законы новыя прияти на страшнем суде будут слыть никонияне, яко древнии ариане».
Далее Аввакум перечисляет некоторые нечестивые новшества Никона; затем останавливается особо на двух положениях, которые особенно его волновали.
«… а время отложит Служебники новые и все ево, Никоновы, затейки дурные! (…) Потщися, государь, исторгнути злое ево и пагубное учение, дондеже конечная пагуба на нас не прииде и огнь с небесе или мор древний и прочая злая нас не постигло. А егда сие злое корение исторгнем, тогда нам будет вся благая: и кротко, и тихо все царство твое будет (…).
Молю тебя, государя, о воеводе, которой был с нами в Даурах, Афонасей Пашков, – спаси ево душу, якож ты, государь, веси. А время ему и пострищись, да же впред не губит, на воеводствах живучи, християнства. (…) не вели, государь, ему, Афонасью, мстити своим праведным гневом царским, но взыщи ево, яко Христос заблуждшее овча, Адама».
Это послание кончалось просьбой даровать ему частную аудиенцию: «наедине светлоносное лице твое зрети». Челобитная сопровождалась памяткой, где были перечислены все жестокости Пашкова по отношению к его подчиненным – царским людям: это была простая памятная записка, очень сжатая, без особых выводов[1149].
Была ли дарована аудиенция? Мы этого не знаем[1150]. Царь ничего так не боялся, как принимать решения в деле Никона и по вопросу о новшествах. Итак, послание беспокойного протопопа показывало, что ссылка ничего не изменила в его мнениях. Возможно, что Алексей Михайлович не счел нужным остаться с глазу на глаз с Аввакумом. Так как царь выражал ему свою признательность, он ему оказывал всякого рода знаки внимания: проходя мимо его окна, будь он пеший, или верхом, или в карете, он всегда его почтительно приветствовал. И свита его следовала его примеру. Он принес ему в жертву даже Пашкова, которого отдал ему в его полное распоряжение. Материально жизнь прежнего ссыльного была обеспечена: главные сановники, начиная с Ртищева и вплоть до нового царского духовника, осыпали его подарками[1151]. Если бы Аввакум подчинился, он обрел бы всю прежнюю милость, он сделался бы влиятельной личностью в Церкви. Если бы он, по крайней мере, ограничился только нападками на Никона лично, то в этом никто не признал бы ничего неподобающего. К несчастью, он был против Никона принципиально из-за его новшеств: он требовал отказаться от пересмотренных книг, возвратиться к старым обрядам – и тогда, когда он говорил это, лица омрачались. Царь желал покоя. Он послал своего верного Родиона Стрешнева сказать вкратце своему дорогому протопопу: «Хочу созвать собор, который все установит. Умоляю тебя, помолчи до того времени»[1152].
Аввакум мог согласиться на просьбу, выраженную таким образом. «Помолчать», в конце концов, значило не надоедать царю, не мучить его призывами обратиться к совести[1153], но дать ему спокойно спать: оказать ему доверие до созыва собора. Это не исключало ни проповеди среди верных, ни встреч с друзьями.
Аввакум занялся душами людей, заботу о которых он взял на себя. Пашков, чтобы откупиться, предложил ему много денег. «Нет, – сказал ему Аввакум, – мне не деньги твои нужны, но твое спасение. Иди в монастырь, и Бог тебя простит». Бедный Афанасий был стар, царь его покинул – царь, которому он был предан душой и телом. У воеводы, попавшего в немилость пробудилось сознание христианина. Он уступил тому, который и ранее, во времена его всемогущества, порой казался ему человеком Божиим. Он призвал его в свои хоромы. Протопоп смог увидеть «даурского хищника», распростертого у его ног, как мертвый; он услыхал, как мучитель признал свое полное поражение: «Делай со мной, что хочешь». Какое поразительное общение! У Пашкова был дом, еще полный слуг, привезенных им против их желания из Сибири: он от всего отказался. Аввакум его простил, затем отвел его в Чудов монастырь, постриг его и облачил в монашеское одеяние. Все еще недовольный, он испросил для него у Неба испытание болезнью: Пашков потерял способность движения. Конечно, в момент его смерти Аввакум заставил его принять великую схиму.
Какое новое чудо, содеянное молитвой[1154].
Жена Пашкова также удалилась в Вознесенский монастырь, и Аввакум заставил принять туда и сенных девушек Марью и Софью[1155], которых он некогда излечил от беснования. Вскоре ему пришлось похоронить там же, в Вознесенском монастыре, жену Еремея – добрую Евдокию[1156]. Так же, как он покорил семью Шереметева, который хотел бросить его в Волгу, так этот человек, покорявший всех и вся своей могучей волей, восторжествовал и над семьей Пашкова, который в течение семи лет держал его на грани смерти.
Однако у Аввакума остались мучительные воспоминания от прежнего ужасного обращения. Его терзали страшные приступы ревматизма. Иногда, как он писал царю, он думал, что его последний час близок. У него так болела спина, что он был не в состоянии встать, чтобы совершить полунощницу и положить нужные земные поклоны. Тогда его новый друг, Федор, приходил ему на помощь; так как Федор спал с ним во второй горнице избы, он будил его, тормошил, стыдил, приподнимал, чтобы заставить его прочесть его молитвы; одновременно он клал за Аввакума земные поклоны[1157].
Но как только приступ проходил, Аввакум снова становился отцом своих домочадцев, строгим и неутомимым. Как когда-то в Лопатищах или в Москве, семья эта была многочисленна: около двадцати человек. Дом был полон. Тут была и его неутомимая жена Анастасия Марковна, управляющая хозяйством, не прибегая к помощи извне, но всегда готовая помочь протоиерею и следовать за ним. Детей, после смерти двух, было еще пятеро: старшие Иван и Агриппина, которым было около двадцати лет, затем шли Прокопий и Акилина, наконец Ксения, которой шел двадцатый месяц[1158]. Шестой должен был родиться[1159]. Иван, вероятно, женился на Неониле[1160]. Затем были слуги, во главе которых находилась достойная вдова Фетинья Ерофеевна со своим сыном. Затем шли находящиеся под покровительством протопопа: Федор, юродивый, который забирал все больше и больше власти; покаявшаяся Анна, страстно привязавшаяся к своему спасителю; Филипп, несчастный бесноватый, привязанный цепью к стене в общей комнате[1161]. Федор всех распекал. Фетинья, благодаря своему возрасту и своим функциям заведующей хозяйством, открыто выражала свои мысли. Филипп тянул цепь и кричал; Федор читал над ним Псалтырь и учил его краткой, но горячей молитве: «Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных!» Но даже сам протопоп с крестом и со святой водой совершенно не мог с ним сладить. В этой патриархальной семье случались моменты, когда мир бывал нарушен.
Однажды, вернувшись домой, Аввакум нашел Анастасию в ссоре с Фетиньей. Будучи расстроен спорами, которые у него были с еретиками-никонианами, – он вспылил и, ругая их обеих, даже побил. При виде этой необыкновенной сцены Филипп начал кричать и отчаянно бесноваться. Весь дом сбежался на этот шум. Аввакум оставил обеих женщин, чтобы наброситься на одержимого; но затем протопоп вдруг ослабел, почувствовал, как его кто-то схватил, кто-то его разрывает, услышал, как дьявол обращается к нему со словами: «Попал ты мне в руки». Тогда он пришел в себя. Он увидел свой грех перед Богом и перед обеими женщинами, вспомнил, что греховное состояние лишает человека, будь он даже священником, его власти над дьяволом; дал одержимому себя поколотить еще, чтобы искупить свой грех, и затем принял героическое решение. Он покорно пошел просить прощения у Анастасии и у Фетиньи и, вернувшись в горницу, распростерся там на полу: каждый член семьи, включая детей, должен был ударить виноватого отца пять раз плетью. И, так как они колебались, он приказал им это выполнить под угрозой проклятия[1162].
Когда Аввакум бил свою жену и служанку, он был человеком, созданным из плоти и нервов, послушным примитивной нравственности своего времени: он был во власти грубости, пренебрежения к женщине; таким же образом ему случалось произносить разные ругательства[1163], так же как это делал царь, который писал их и затем зачеркивал. Но затем Аввакум, налагая на себя необычайную епитимью, превращался в христианина, поднимавшегося до высокой святости. Этот контраст и позволяет понять исключительную высоту его души.
II Аввакум и московские приверженцы старой веры
Протопоп никогда не сидел дома. Целыми днями он ходил по делам. Повсюду у него были друзья, он разыскивал сторонников истины и древнего благочестия.
В Вознесенском монастыре, в Кремле, он был как у себя. Настоятельница его Мариамна Викуловна Пальчикова, назначенная в 1660 году, была малоразвитой женщиной, которая не разбиралась в объемистых богослужебных книгах. Богослужение было в руках уставщицы Елены Хрущевой, молодой монахини из хорошей семьи, образованной, цельного и гордого характера. Новшества Никона были в этом монастыре неизвестны. Благодаря общей смуте такое положение могло там еще удерживаться. Продолжалось оно еще и в 1664 году. Елена продолжала повелевать; вскоре она подпала под руководство Аввакума. Он поддерживал, таким образом, в этом монастыре, одном из наиболее значительных в Москве[1164], правую веру. Он вводил туда своих духовных детей, он совершал там церковную службу.
Сколько было в Москве среди этих небольших приходских церквей, из которых каждая обслуживала несколько десятков домов, таких, которые ввели у себя никоновские новшества, – сказать этого никто не мог; впрочем новшества вводились не все сразу. Какой-нибудь священник мог служить по-новому, а исповедывать по старому Требнику. По-видимому, несомненным было то, что большинство священников повиновались или делали вид, что повиновались, а паства следовала за ними. Во все времена и в каждой стране толпа склонна подчиняться. Фанатики новизны, так же как и фанатики старины, были всегда в меньшинстве.
Из воинствующих никониан того времени нам известны только трое. Первым, идет Иродион Федосеев, этот священник Ризоположенской церкви во дворце, который пострадал за старую веру, получил приход церкви св. Софии, церкви, недавно построенной в Садовниках в Замоскворечье, напротив Кремля. Там он проявил себя еще своими речами против архимандрита грека Дионисия, нового справщика; последний опорочил в алтаре Успенского собора иподьякона, который в письменной форме признал это. Иродион показал это письменное признание епископу Александру и галицкому протопопу Михаилу, дьякону Успенского собора Федору и рассказал всем, кто только хотел послушать, о происшедшем. Аввакум, прибыв в Москву, тоже услыхал об этом[1165].
Далее идет Иван Фокин, в 1656 г. священник церкви Введения в Барашевской слободе, который также долго критиковал новшества[1166]. Но во время Великого поста 1663 года в эти пылкие души проникло сомнение. После Троицына дня, то есть в середине июня, Иродион и Иван отправились в Новый Иерусалим к Никону. Затем они второй раз поехали туда вместе со своими прихожанами. Их было десять из Софийской церкви и приблизительно семьдесят из Барашевской слободы[1167]. Низложенный первоиерарх, приняв тех, кого он почитал своими возможными союзниками, сумел так хорошо убедить их своими словами и заласкать подарками, что по возвращении Иван заменил у себя в церкви в ектениях и возгласах формулу «святейшие вселенские патриархи» формулой «святейший патриарх Никон». Он был тут же наказан за свою дерзость и 17 июля 1663 года выслан на покаяние в Кирилло-Белозерский монастырь. Послан он был туда «в кандалах и закованный в цепи». Кстати сказать, он был освобожден в октябре того же года и получил свой приход обратно[1168]. Более ловкий Иродион выжидал и только во время следующего Великого поста в 1664 году согласился принять новые книги[1169]. Весьма вероятно, что прежний священник Григорий Исидоров из храма св. Марии Египетской, приписанного к Сретенскому монастырю на Сретенке, был другом Ивана и Иродиона и прошел тот же путь, как и они[1170].
Эти совсем недавние противники новшеств уже в 1664 году стали самыми ярыми их поборниками, самыми яростными врагами старой веры. В то время, когда епископы действовали предписаниями, ученые – объемистыми книгами, царь – полицейскими мерами, они вместе со своим низшим духовенством, живя в самой гуще народной, по слободам, одни только были в силах по-настоящему бороться с активными защитниками старой веры. Поэтому последние и осыпали отступников насмешками и обвинениями, доходившими даже до того, что подвергали сомнению их веру. Один из этих священников-никониан отсоветовал одной бедной женщине просить выздоровления своему одержимому бесом брату у святителей московских: «Какие де оне чюдотворцы?», а о «чудотворных» веригах великомученика Никиты сказал: «И на Земском дворе или в Стрелецком приказе такие же вериги». Испуганная простая женщина донесла об этих нечестивых словах священнику приходской церкви св. Никиты, что в Толмачах, в Замоскворечье, и с ее слов происшедшее было все записано[1171]. Аввакум столкнулся с этим тремя никонианами: «ублюдки» никоновские, «приспешники» Иларионовы, «волки жадные», пожирающие стадо Христово[1172], так характеризовал он их.
И наоборот, в районе Китай-города, населенного ремесленниками, стрельцами и торговцами, было много церквей, где Аввакума принимали как друга. В церкви попа Козьмы, «праведного человека», он смиренно пел на клиросе, в то время как священник совершал богослужение; там же причащал, хоронил своих духовных чад[1173]. Может быть, в этой церкви, а может быть и в другой, он совершал богослужение и сам, принося Бескровную Жертву «на семи просфорах», по древнему обычаю, а также и проповедовал, поучая о старой вере и увлекая своим учением многих прихожан из Софийской церкви[1174]; он называет в качестве места пребывания также церковь св. Николы на Болоте, расположенную как раз очень близко от Садовников[1175]. Он считал уже, наверное, среди своих учеников по пов Исидора и Стефана, которые позднее переписывались с ним; Акиндин Иванов, молодой священник, рукоположенный при Никоне, был его духовным сыном[1176], так же как и Дмитрий, священник при домовой церкви Анны Милославской, равно как и его жена[1177].
У дьякона Федора не было прихода, который он мог бы предоставить протопопу, так как он сам был прикреплен только к приделу Благовещенского собора в Кремле, вместе с тем его личные достоинства возвышали его в глазах всех старообрядцев, которые смотрели на него как на выдающуюся личность. Он был внуком попа, который был сам крестьянским сыном и который после моровой язвы всецело привязался к князю Сергею Одоевскому из Дмитровского уезда; отец его был священником из села, принадлежавшего боярину Николаю Одоевскому и расположенного в Дмитровском уезде. Тетка его по матери была замужем за священником церкви св. Евдокии, в Кремле; это способствовало тому, что Федор прибыл в Москву и получил в 1658 году место при Благовещенском соборе[1178]. Одно время он поступил, как его дядя Иван, и, не разбираясь, принял новые книги[1179]. Но со времен своей юности, проведенной среди духовенства, у него осталась любовь к чтению; он начал серьезно работать над книгой. Он прочел около шестидесяти исторических и богослужебных книг, напечатанных в Москве, добыл себе киевские и острожские издания, сербские и болгарские книги, вел беседы с греческими монахами, с учеными Запада, вообще со всеми способными просветить его[1180], и мало-помалу у него составилось убеждение, что новые издания вовсе не были исправлены по древним рукописям, но по новым печатным изданиям, притом не авторитетным, и что они друг другу противоречат, что реформы Никона представляют собой ничем не оправданные новшества подозрительного происхождения, а следовательно, неприемлемы, и что древнее благочестие было истинным. У него был ум несколько узкий, без полета, но настойчивый и точно-мыслящий, способный разобраться в богословских вопросах, могущий оперировать богословскими формулами, не стремясь проникнуть в их сокровенную тайну. У него был уравновешенный характер, без энтузиазма, без эсхатологических устремлений, но стойкий, индивиду ально выраженный, без намерения навязывать свои мысли другим и, при наличии твердой веры в свои убеждения, недоступный страху и унынию. И, однако, он не был кабинетным ученым; то был апостол старой веры. Он не был награжден Провидением гениальными способностями, подобно протопопу Аввакуму, но он был несомненно наделен большими редкими способностями[1181].
Естественно, что Федор познакомился с Аввакумом. Может быть, даже он попал под его руководство[1182]. Так начались в 1664 г. отношения, которые длились до самой смерти обоих, сначала дружеские, затем – омраченные разными бурями.
Аввакум, наверное, не встречался в Москве с епископом Александром, вернувшимся в начале февраля 1664 года в свою унылую епархию в Вятке; вероятно, он сожалел об этом[1183]. Но он нашел своего старого знакомого, одного из первых учеников Неронова, одного из первых противников Никона, оставшегося в столице в качестве советчика при епископе; то был бывший игумен Феоктист. Он также подробно исследовал книги. Он снимал копии с документов, с полемических статей, челобитных, с различных текстов, дававших материал для полемики, и все это тщательно у себя сохранял: он выполнял функции архивариуса старой веры[1184].
Юродивые Христа ради были посредниками между духовенством и верующими, естественно, они были сторонниками старой веры. После Вавилы в милость к царю попал некий Киприан, родом из Холмогор на Севере. Он постоянно ходил по улицам нагой, и поэтому его прозвали «Нагим». Уже в 1656 году Павел Алеппский видел его за патриаршим столом, где патриарх самолично его обслуживал и считал за честь допивать последние капли из чаши, из которой он пил[1185]. Другой раз, Никон посадил его рядом с собой и сказал ему: «Блажен еси, Киприяне, яко чистоты ради и девства твоего второй еси Амврий». Киприан же принимал Никона как бы за бога, что продолжалось до того дня, когда некая Устинья открыла ему глаза[1186]. Это событие произошло, очевидно, много раньше, ибо в 1657 году Киприан был уже послан на покаяние в Печерский монастырь в Нижнем Новгороде[1187]. Но в 1664 году мы снова находим его в милости в Москве, ибо еще 21 октября ему было поручено передать тридцати монахиням своего родного города значительное подаяние от царя – 15 рублей, которые, без сомнения, он, возможно, вместе с другими испросил для этих монахинь[1188]. Однако он усердно поддерживал отношения с приверженцами старой веры, между прочим, и с Аввакумом.
У Киприана были заслуги: его вера, его положение «божьего человека», его популярность и его приверженность к правому делу. Юродивый Гавриил оставил после себя меньше воспоминаний[1189]. Но третий юродивый, Афанасий, который также ходил зимой и летом в одной рубашке и босой, был более одарен духовными способностями, чем они. Аввакум почувствовал к нему особую дружбу; он почитал его даже выше Федора, ибо он был менее неистов и действовал более рассудительно. Он обладал удивительным даром слез[1190], что является несомненным признаком чистоты и святости сердечной. И кроме этого, он был образован: он не только умел читать и писать, он мог помогать в составлении различных статей для распространения и защиты веры. Это, однако, не мешало ему питать к своему духовному отцу горячее чувство, полное нежной дружбы и наивного восхищения.
Таковы были вместе с Аввакумом духовные вожди – пастыри или, по крайней мере, некоторые из них[1191]; паства же их была многочисленна. У каждого священника были прихожане, которые деятельно ему помогали. У дьякона Федора были свои приверженцы: бывший дьячок архангельского монастыря Козма Иосифов, сторож Благовещенского собора Андрей Самойлов[1192], Дмитрий Киприанов, калачник из прихода св. Георгия в Замоскворечье, Иван Трифонов из прихода св. Козмы и Дамиана, тоже в Замоскворечье[1193]. У юродивых были свои поклонники. У Аввакума были свои духовные дети и близкие к нему верующие: Василий Рогожка, Онисим Фокович[1194], Федор Железный, Мартин, Дмитрий молодой, Иван Сахарный, Агафон[1195], Тит Мемнонов, Меркурий Лукьянов[1196], родственник жены его старшего сына[1197] – все люди простые, но преданные делу; еще был Исаия, крепостной боярина Салтыкова, который благодаря своей добродетельной жизни и своему уму сделался дворецким и доверенным лицом своего господина и поддерживал его в старой вере, равно как и его брата Андрея и его сестру Марию[1198]; наряду с ними было еще и множество женщин и девушек. Аввакум посещал знатные дома: бывал у Хованских; стольник Иван, младший сын боярина Ивана Никитича и племянник Петра Салтыкова, молодой человек около двадцати лет, был его учеником[1199]. Учениками его были наряду с этим: Иродион Греков, московский дворянин, который вскоре попал в плен к крымским татарам[1200], Алексей Копытовский[1201] и некий Афанасий и его сын Борис[1202]. Через близкого ему священника Дмитрия он знал ревнительницу старой веры, Анну Петровну, урожденную княжну Пожарскую, вдову по первому мужу Афанасия Репнина, а затем боярина Ивана Милославского, умершего бездетным в 1663 году: «он был ее постоянным гостем»[1203]. Но в особенности он был духовным руководителем дома боярыни Морозовой.
III У боярыни Морозовой
Боярин Глеб умер почти тогда же, когда и брат его, бывший старшой боярин Борис, именно в 1661 или 1662 году; Феодосия, которая только что лишилась своего отца, оказалась в тридцать лет сразу же вдовой и сиротой, притом с сыном, которому шел десятый год и которого она горячо любила. Сестра ее, Евдокия, вышла замуж на 5 лет раньше ее за князя Петра Урусова, который был тогда только «есаулом», но в 1659 году был назначен кравчим, то есть главным виночерпием и жезлоносцем царя[1204]. Князь был крепким рубакой и вместе придворным. Поэтому Евдокия перенесла избыток своей любви на Феодосию. Обе сестры постоянно навещали друг друга.
Феодосия по-прежнему выполняла свои обязанности при царице Марии. Она унаследовала громадные имения: в мае 1656 года владения Глеба Морозова насчитывали две тысячи семьдесят семь дворов, расположенных в воеводствах Московском, Дмитровском, Угличском, Ярославском, Костромском, Галичском, Алатырском, Арзамасском, а равно на Вятке и в других уездах[1205]. На его землях было восемь тысяч крестьян[1206], в ее особняке было триста слуг, и богатства ее были оценены в двести или двести пятьдесят тысяч рублей. За ней ухаживала и ее оберегала масса друзей, которых она навещала в возке, украшенном золотом и серебром, запряженном шестью или двенадцатью персидскими лошадьми с цепочками, на которых позвякивали бубенчики, в сопровождении сотни или двух сотен слуг и служанок, которые охраняли ее высокое достоинство.
Но боярыня Морозова была истинной христианкой. Ничто – ни тщеславие окружающего ее светского общества, ни ее сестра, ни ее сын – не могло отвлечь ее от приготовления к смертному часу. В среде, стремившейся прежде всего следовать разным прихотям царя, она никогда не хотела покоряться новым обычаям: она всегда крестилась двумя перстами. Она проводила целые часы за молитвой, проливая слезы, глубоко вздыхала и падала ниц, чтобы вымолить прощение как за свои грехи, так и за грехи других. Под своими роскошными уборами она носила белую власяницу с короткими рукавами, которую, к ее великому неудовольствию, обнаружила у нее ее сноха Анна, жена Бориса Морозова. После богослужения и благочестивого чтения она вся отдавалась заботам о своем большом доме, наказывая одних палкой, поучая других с христианской любовью и терпением. Иногда она бралась за прялку и пряла. Из этой пряжи она ткала и шила своими руками рубахи, которые вечером она, одетая в рубище, раздавала вместе со своей верной Анной Амосовной бедным. Или же, скрывая свое имя, она обходила богадельни и тюрьмы, широко раздавая милостыню деньгами или натурой[1207].
Боярыня Морозова имела теперь все основания искать общения с Аввакумом, возможно, впрочем, что она была знакома с ним и раньше. Вскоре она сделалась его духовной дочерью, и, конечно, княгиня Евдокия тут же истребовала его к себе и получила ту же милость. Аввакум проводил целые дни в палатах Морозовой[1208] в Георгиевском приходе к северу от Кремля[1209]. Туда приходила княгиня Урусова, приводившая с собой своих детей – Васю, мальчика семи или восьми лет, Настю и Евдокию, совершенно маленьких, но добрых и сострадательных девочек, как и их мать[1210]; приходила туда и подруга обеих сестер, менее знатного происхождения, но не менее стойкая и добродетельная, Мария Герасимовна, жена славного головы рейтаров Иакинфа Данилова[1211].
Здесь Аввакум не метал громов, не являл собой ни пророка, ни наставника. К этим женщинам он чувствовал уважение и восхищение. Он ласкал детей, говорил просто о том, что он одобрял и что он порицал, вспоминал свои испытания и случаи, когда он чувствовал, что Провидение непосредственно проявляет себя, чтобы наказать его или наградить; как бы мимоходом вставлял советы и находил в этом обществе одновременно и пользу, и духовный отдых. Все они жадно впитывали каждое его слово и готовы были броситься за него в огонь. Весь дом знал Аввакума: вдова Анна Сидорова, казначей Иван со своей женой Анисьей, домоуправитель Андрей со своей женой Любавой, а также и разные другие: Игнатий Иванов, Анна Соболева, Стефания, Анна Амосовна[1212]. Не делая над собой никаких усилий, он вполне умел держаться на простой ноге как с боярынями, так и с обслуживавшими их людьми. Каждому, соответственно его положению, он назначал определенное правило и давал соответствующий урок, чтобы тот мог спасти свою душу, а в нужном случае и постоять за веру.
Феодосия, Евдокия и Мария составляли для него почти нераздельное триединство. Однако у Феодосии было больше сил и самостоятель ности; она, будучи вдовой, имела больше свободы действия, больше возможностей: помимо воли он привязался к ней сильнее, чем к другим женщинам. Из этих отношений между молодой вдовой, жаждавшей веры и христианской любви, которая знала ранее только любовь старика, и между протопопом, достигшим высокого нравственного уровня, – человеком, отвечавшим всем запросам как сердца, так и ума, человеком, пережившим мученичество и полном истинной горячей веры, – вскоре возникло чувство, пыл которого у обоих был ослаблен только благодаря героической преданности долгу. Можно сравнить эту дружбу, более чем чисто-духовную и, однако, совершенно чистую, развившуюся между духовным отцом и духовной дочерью, только с дружбой, существовавшей между св. епископом Франциском Сальским и праведной вдовой Жанной де Шанталь.
Аввакум поставил себе целью переплавить в чистое серебро, довести до совершенства эту душу, которая доверялась ему. Он не изменил ничего в ее внешней жизни. Император Феодосий так же носил под своей пурпурной мантией власяницу и одновременно выезжал в роскошных колесницах; приготовлял сам себе пищу, переписывал рукописи, трудился для бедных. Но он ободрял ее в отношении исполнения ее послушания и побуждал ее еще шире открывать двери своего дома несчастным и странникам; она служила им, обмывала их раны, ела с ними из одной миски. В особенности же он утверждал ее в старой вере, вооружал ее доводами, побуждал ее принимать участие в спорах; с того времени видели, как она смело выступала против никониан – как мужчин, так и женщин, подобно льву перед лисицами, и доказывала им их ошибки[1213].
Часто ее противниками были Ртищевы. Ее дядя, старый Михаил Алексеевич, приходил к ней специально, чтобы побудить ее вступить на путь официальной церкви, не расходиться со своими родичами: делай, «как все делают», «крестись тремя перстами!» – говорил он. Сторонница Никона, Анна, распекала ее еще сильнее[1214]. Только один добрый Федор, если он присутствовал при этих спорах, видимо, находил удовольствие слушать доводы обеих сторон и уважал все мнения.
IV Непримиримость в теории и компромиссы на практике
Таковы были круги истинных православных, которые можно было видеть в Москве. Они существовали в разных слоях населения и во всех районах города. Естественно, что члены этих кружков встречались между собой: Афанасий приходил к Морозовой; Федор встречался с Феоктистом[1215]; Тит Мемнонов жил у попа Дмитрия[1216], Андрей Самойлов знал Аввакума уже с 1653 года, когда он приходил в Благовещенский собор, чтобы побеседовать со Стефаном Вонифатьевым, и с той поры избрал его своим «другом и советником»[1217]. Таким образом, составилась своего рода община. Московская община находилась в связи и с другими общинами, возникавшими повсюду на Руси. Аввакум, вероятно, вел переписку непосредственно с монахом Григорием, то есть с Нероновым: его отношение к новшествам не было ясно выражено, говорили даже, что он принял «троеперстие» – но протопоп сохранил по отношению к своему старому духовному руководителю неизменную любовь: «А про старцово житье мне не пиши, – сообщил он вскоре одному своему другу, – не досажай мне им: не могут мои уши слышати о нем хульных глагол ни от ангела. (…) Да исправит его Бог, – надеюся!»[1218]
Феоктист вел переписку с Устюгом, где его брат Авраамий бы монахом монастыря св. Архангела Михаила, и в особенности с епископом Александром[1219]. Разве не ценно было иметь близкие связи с членом высшей иерархии, хотя бы лишь только для того, чтобы иметь возможность сдать ему на хранение компрометирующие документы?
У Авраамия, юродивого Христа ради, были влиятельные друзья[1220], Спиридон Потемкин сохранял дружественные отношения с единоверцами в Смоленске и через своего брата Ефрема имел связи также и с Керженцем и с Нижним. Дьякон Федор принимал суздальского священника Никиту[1221]. У протопопа Михаила сын был в Казани. Иван Трифонов в свое время принес в тюрьму Антонию, бывшему муромскому архимандриту, свитки рукописей, иллюстрированные изображениями перстосложения[1222]. Соловецкий архимандрит Варфоломей провел в 1664 году несколько месяцев в столице. В Соловках находился Никанор: Аввакум ему писал[1223]. Все эти сношения в конечном счете концентрировались вокруг Аввакума. Он поощрял их, давал им ход, снабжал апологетов старой веры текстами, аргументами, вопросами. Брожение умов распространялось по всей Руси.
Существовало ли тут определенное вероучение? Сначала было одно только отрицание: отказ от новшеств, введенных с момента прихода к власти Никона. Осуждение касалось книг, обрядов, обычаев. При этом опирались на многочисленные аргументы: новые книги противоречат друг другу; они основывались не на древних рукописях, но на современных изданиях, искаженных неправославными; Никоновы новшества были внушены либо латинянами, либо современными греками, которые были ничем не лучше; эти новшества прокляты Богом, как это доказывали бедствия, обрушившиеся на Русь, как то: моровая язва, войны, татарские нашествия[1224], раскол в церкви. Затем следовали частные доводы относительно того или иного пункта: новым «догматам» противопоставляли либо тексты отцов церкви и самые древние книги, написанные на пергамене, либо рассуждения, сводившиеся к тому, что, осуждая старые обряды, тем самым осуждают святых, которые их выполняли; провозглашая трегубую аллилуию, выдумывают четвертое лицо Троицы; поносят памятники старины, где высятся венчающие купола восьмиконечные кресты, а равно имеются иконы, где святые благословляют двумя перстами. Все это было ясно, все было изложено в большом количестве писаний: в письмах Неронова, в «Прениях с греками» Арсения Суханова, в выписках из Стоглава, в трактате Герасима Фирсова о крестном знамении, в словах Спиридона Потемкина, в различных выписках из Св. Писания и отцов церкви, сделанных Аввакумом и Даниилом относительно крестного знамения и поклонов[1225].
Относительно этого все были согласны. Можно было только умножить количество ошибок, найденных в новых книгах, открыть новые прегрешения Никона, составлять новые собрания выписок. Ученые сторонники старой веры и пользовались этими возможностями. Феоктист и Александр сличали книги; Аввакум во время своего пребывания в Москве также принялся за них. В виду того, что никонианское духовенство приняло для ношения греческую рясу с широкими рукавами, Аввакум нашел тексты, обличающие и это нововведение: «Я посещу князей и сыновей царских и всех одевающихся в одежду иноплеменников», – так написано у пророка Софонии[1226]. Он приказал юродивому Христа ради Федору переписать эти тексты и раздал их: у Андрея Самойлова был этот текст, так же как и выписки из других духовных книг. Так распространялось здравое учение и словом, и писанием[1227].
Вынести суждение относительно официальной церкви и, следовательно, определить свое отношение к ней было уже более сложным. Теоретически эта церковь потеряла милость Божию, она была во власти дьявола, ее иерархия пала, ее таинства не были благодатными, ее обряды были кощунственными. Аввакум знал, чего ему стоило присутствовать в Тобольске на никонианской обедне. Наставления других духовных наставников московской общины, наверное, не отличались от его поучений. Церковь, таким образом, уже больше не была церковью.
Этими рассуждениями не ограничивались: всем казалось, что наступили времена антихриста. Все признаки пришествия были налицо: число зверя – 666, преследование христиан, отступничество большого количества верующих, лжехристы, всенародные бедствия. Никон слыл, по меньшей мере, предтечей антихриста, и, без сомнения, на его счет ходили разные легенды, склонявшиеся к тому, чтобы подтвердить этот слух. Эти мрачные мысли преследовали Спиридона Потемкина и Афанасия. Аввакум был менее обеспокоен, но совершенно не противоречил им. Если все это было верно, то надо было отвергать решительно все, связанное с антихристом, бежать от него, все должно было быть отвергнуто: священники, рукоположенные Никоном, крещение, совершенное ими, брак, освященный ими, даже все гражданские власти вплоть до самого царя – все это приспешники антихриста. Надо было отпасть от церкви, как это сделал Ефрем Потемкин, уйдя в болота по ту сторону Волги. И тогда приходилось бы слиться с учениками Капитона; строгим верующим угрожала опасность впасть в полное отрицание всего церковного устройства.
И действительно, то религиозное направление, которое уже к 1630–1640 годам приводило умы в состояние великой скорби по отношению как ко всему мирскому, так и к Церкви[1228], со времени появления Никоновых новшеств лишь утвердилось и распространилось. Капитон, ускользая от всех преследований, все время увеличивал число своих учеников. В середине века он жил на Шоше в Костромском воеводстве; там он управлял группой монахов и мирян, преимущественно молодых людей, живших в разбросанных по району избах; среди них был уже известен некий Вавила. 31 октября царь приказал арестовать его и его приверженцев и послать их на суровое покаяние в Ипатьевский и Богоявленский монастыри, и держать их там впредь до нового распоряжения, особо наблюдая за тем, чтобы они оттуда не убежали[1229]. Эта строгость говорит одновременно об обостренных отношениях, которые существовали между сторонниками церковных новшеств и их противниками, и о той большой опасности, которая грозила ревнителям старой веры.
Однако и на этот раз Капитон ускользнул, и на протяжении всего этого периода, столь полного иными заботами, опасность отошла. Что значила для Никона и его последователей какая-то горстка мужиков в северных лесах? Поэтому движение получило возможность свободно развиваться, понемногу передвигаясь на восток, сосредотачиваясь в основном ближе к Москве, к югу от Волги, между Шуей и Вязниками. Там оно обосновалось крепко. Вот что, согласно одному доносу, происходило там в 1664 году[1230].
«За рекою де за Клязмою в бору поселились незнаема какие люди, старцы и бельцы, и келии поставили, и в земле норы поделали, и к церкви Божии не ходят, и людем к церкви Божии ходить не велят. И которые у них помирают бес причастия и бес покаяния, и тех у церкви Божии не погребают; а погребают в лесу бес попа сами. И про церкви Божии гово рят, что де от церкви святыня отошла, и называют церкви простыми храминами, и не велят никому к церкви ходить, и причастия приимать не велят. А кто де у них побывает или у кого они побывают в дому и кус хлеба съесть дадут, и те люди все к ним и обратятца, и к церкви Божии не ходят, и отцов духовных ни в чем не слушают, и на покаяния не приходят и с святынею ни с какою к себе в дома не пускают; а кто де к ним с святынею и придет, и они де перехоронятца, из двора уйдут, а к святыни не приходят. А про тое пустыню ведает Вязниковские слободы покровской протопоп Меркурей Григорьев и Благовещенскаго монастыря игумен Моисей. И к тем людям они ходят, и служат они по старым служебником, и церкви святят, и антимисы пришивают к срачицам под индитию. И кто по новым служебником служит, и он игумен и протопоп на исповедь к тем священником ходить не велят. А (в) Введенском девиче монастыре стариц двесте с лишком; и как де он поп Василей служит по новым служебником и на его де неделях нихто не причащаютца из стариц; а товарищ де ево, поп Лев Матвеев, служит по старым служебником, и стар(и)цы де на ево неделях и причащаютца»[1231].
Ясно, что тут имеется неразрывная связь между тремя довольно различными группами верующих. Осмотрительные монахини, которые, доверяясь только старым обрядам, допускают, однако, к службе официального священника; последовательные сторонники старой веры, порвавшие с новой церковью, но сохранившие втайне алтари, священников и истинные таинства; наконец, люди, совершенно обходящиеся без священнослужителей и без церкви. Эти последние – ученики Капитона: «капитоны», как их скоро будут именовать.
Поскольку старая вера была отвергнута, ее ушедшие в оппозицию приверженцы роковым образом должны были встретиться с принципиальными противниками церкви как таковой. На обширных пространствах, простиравшихся на восток и на север от Москвы, в Суздальской земле, в Вязниках, Муроме, Нижнем Новгороде, Костроме и Вологде[1232], исключая города и поселения, находившиеся под непосредственным наблюдением воевод, протопопов и архимандритов, завязывались таинственные связи; созывались потайные церковные совещания. Религиозная мысль трудилась над разрешением тревожных проблем, ставших в этот момент особенно трагически-актуальными. То были извечные проблемы борьбы Бога с темной силой, спасения мира, войны Церкви с антихристом. Но прежде всего росла огромная волна морального возмущения, где по очереди оттенки то сливались, то контрастировали друг с другом. Волна эта все нарастала и нарастала.
Все это происходило среди людей или очень простых, или очень экзальтированных. Ибо у людей, отдающих себе отчет в окружающем, у людей, основательно и прочно устроившихся, у людей, живущих в городах, жила, несмотря на все, надежда получить от царя возврат к прежнему благочестию. Практически же создавался некоторый компромисс; от церкви, где были новые обряды, удалялись, группировались вокруг священников, оставшихся верными старой вере, но избегали претворять этот образ действия в категорическое правило. Боярыня Морозова, например, не ставила себе в укор присутствие с царицей на официальных религиозных службах. Остерегались называть благочестивого царя Алексея приспешником антихриста. Кстати сказать, непоследовательность была присуща не одним только старообрядцам; когда в октябре 1664 года Питирим, местоблюститель патриаршего престола, сделавшись новгородским митрополитом, рукополагал в иеромонахи и иеродиаконы тринадцать соловецких монахов, он совершил это, согласно их просьбам, по старым обрядам, и при том без малейшего затруднения[1233].
V Западные влияния. Симеон Полоцкий
Умиротворение было бы вполне возможным, если бы к богослужебным и книжным спорам, которые разделяли приверженцев и противников новшеств, не присоединились две различные точки зрения относительно самой жизни.
Расхождения между Никоном и его противниками в начале были незначительными. Никон вбил себе в голову подражать грекам, его противники также ссылались на греков, исключая греков современных, зараженных ересью. И греки, и русские – у них была ведь одна и та же основа; у них то же чувство непосредственного присутствия высших сил, одно и то же убеждение в ничтожности тела по сравнению с душой; одинаковая вера в силу молитвы, покаяния и одна и та же аскеза. Никон объявлял войну различным привезенным с Запада модам. После своего удаления он обратился к своим преемникам и к царю с упреками, которые порой поразительно напоминали упреки старообрядцев: он также предвидел пришествие антихриста[1234].
Однако, если антихрист – это не что иное, как отказ от старой русской набожности, то ведь не кто иной, как сам Никон проложил ему путь. Он вел образ жизни, подобающий больше царю, нежели монаху, – а ведь патриарх должен непременно быть монахом[1235]. Думая больше всего о своей личной власти, он не колебался подчинять религиозные требования мирским соображениям: из-за гигиенических соображений он во время моровой язвы запретил исповедовать умирающих; из-за полицейских соображений он запретил исповедовать приговоренных к смерти[1236].
Во время его патриаршества канонизация, некогда столь частая, а во время существования кружка боголюбцев – столь торжественно проводимая, совершенно прекратилась[1237]. Русскому церковному пению, хотя и испорченному некоторыми злоупотреблениями, но сохранившему строгость и степенность, он предпочел красивость чарующих киевских хоров, со светскими мелодиями, которые, казалось, так и ждали аккомпанемента гуслей[1238], связанных с размашистым движением рук, покачиванием головы и притоптыванием[1239]. Все это было началом регресса религиозного сознания. Не зависящие от желания патриарха обстоятельства ускорили развитие этого движения. Смоленская кампания, присоединение Малороссии, военные операции, продолжавшиеся на Западе до 1666 года, снова привели москвичей в соприкосновение с польской культурой. Так же, как и в Смутное время, это было сильным увлечением москвичей. Многие не устояли, когда появился такой разительный контраст между требуемой строгостью и всеми мирскими радостями, между порабощением и свободой, между убогим существованием и материальным благосостоянием. Правда, контраст этот был скорее внешний, чем внутренний, но он все же бросался в глаза!
У Ордина-Нащокина, старшего боярина Посольского приказа, был сын, образование которого он, подобно многим другим высоким особам, поручил пленным полякам. Юноша научился латыни, немецкому и польскому языкам, путешествовал с отцом или по его поручениям за границей, живал в Ливонии, в Варшаве. Он возненавидел все, что было русским; в 1660 году он перешел на сторону Яна Казимира с имевшимися у него секретными документами и деньгами[1240]. Многие другие люди, только с менее цельными характерами, так же, хотя и потихоньку, устроили себе на Руси жизнь, которая все больше и больше отходила от старых обыча ев! Артамон Матвеев, несмотря на свое скромное происхождение, достиг в 1651 году, в возрасте 25 лет, чина стрелецкого головы. Это был энергичный и упорный человек, с приятной внешностью. Царь, который его высоко ценил, посылал его с дипломатическими поручениями в Польшу и Литву. В 1664 году царская благосклонность к нему возросла еще больше. Однако Матвеев был убежденный поклонник западных обычаев: он искал знакомства с иноземцами, с их наукой, книгами, их произведениями искусства, их мебелью, их безделушками. Он не побоялся жениться на шотландке, урожденной Гамильтон. Другой вельможа, Федор Нарышкин, который был сотником, а затем полуголовой под начальством Матвеева, был также женат на некой Гамильтон[1241]. Подобные браки уже никого не шокировали. Царь сам, казалось, устал от однообразия московской жизни: в 1660 году он выразил желание иметь при дворе труппу комедиантов[1242].
Дипломатические сношения с иностранными государствами становились все более частыми и более тесными. В июне 1660 года в Москве был принят шведский посланник Эберс, прибывший в Москву в качестве резидента[1243]. В мае 1661 года прибыло большое посольство императора [Леопольда I][1244]. С декабря 1661 года по июнь 1663 года в Лондоне постоянно проживали дипломатические представители московского царя, и один из них, Желябужский, между прочим, был в Венеции и Флоренции; в феврале 1664 года прибыл в Москву посол Карла II граф Карлейль со своей семьей, с французским секретарем и со свитой, состоявшей из восьмидесяти лиц[1245]. Часто переговоры не приводили к желаемым результатам, но от них все же оставался какой-то след: все больше русских сближались с западной культурой.
Иностранцы, несмотря на все еще бывшие в силе ограничения, буквально наводняли Московию. Тут были представители всех стран. Из них греки были в официальных кругах самыми желанными гостями, ибо они были православные, однако они не были ни самыми многочисленными, ни самыми влиятельными из числа представителей иностранной колонии. Преобладали англичане и голландцы.
В Московии были и военные: в 1661 году посол Мейерберг был поражен их громадным количеством и лично познакомился более чем с сотней иноземных генералов и полковников. Только в одном 1661 году из Польши прибыли один полковник с тремя офицерами, среди которых были шотландцы П. Гордон и Менезий, на долю которых и выпало счастье сделать на царской службе блестящую карьеру; из Германии прибыли два полковника, один майор и тридцать девять рейтаров; из Любека приехало около двадцати рейтаров; из Дании – два полковника с тридцатью девятью офицерами и солдатами; из Аугсбурга – три полковника, двенадцать капитанов, полтораста офицеров и солдат[1246]. В июне 1661 года один генерал и три иностранных капитана были направлены к Ивану Андреевичу Хованскому, которому предлагали не стеснять их свободы действий и доверить генералу пехоту и стрельцов [105].
Большинство военных вносили в московские нравы только грубость и пороки. Наряду с ними проживали купцы и мастера, которые обогащали московскую торговлю иностранными соблазнительными и разнообразными изделиями, которые порождали все новые потребности и возбуждали стремление к комфорту и роскоши. Вскоре, в феврале 1665 года, один из них, а именно Петр Марселис, был послан в Вену с особой миссией: чтобы испросить одновременно посредничество у императора Леопольда и завербовать мастеров по всем видам ремесел[1247].
Весь этот люд чувствовал себя в своей Немецкой слободе, как дома, там у них были свои храмы; они вели веселую и широкую жизнь, посещая различные празднества и балы. В 1664 году часто ходила туда, чтобы поразвлечься, и свита Карлейля; однажды они разыграли там комедию; к концу зимы двенадцать человек из них решили на английский манер устроить состязание на лучшую игру в мяч, причем эта игра происходила совершенно открыто, публично, при всем народе, в сельской местности близ города; она сопровождалась разными другими развлечениями, устроенными в присутствии посла; весной же происходили скачки[1248]. Немецкая слобода была постоянным соблазном для москвичей, ибо если они, с одной стороны, и опасались этих еретиков, они, тем не менее, не могли не заметить их умения полностью использовать все радости повседневной жизни.
Были тут и образованные люди, подобно английскому врачу Самуилу Коллинзу, который провел при дворе семь лет[1249]. Были и художники: их можно было встретить в Оружейной палате, сделавшейся своего рода Академией художеств; среди иконописцев, граверов, чеканщиков, резчиков по слоновой кости и дереву, ювелиров, эмальеров, работавших на царя, в 1662 году насчитывалось около шестидесяти иноземцев. Каждый из них, приглашенный по определенному договору, обязан был подготовить и русских учеников. Не было ни одной отрасли искусства, куда бы не проникло западное влияние; оно затрагивало все: миниатюры, орнаменты, мебель, фрески во дворцах и даже в церквах[1250]. В 1657 году царь позволил поляку Станиславу Лопуцкому написать с себя портрет на холсте; в 1659 году он приказал отделать своей трон «на польский манер»[1251].
Прежние московские иконы, казалось, были уже недостойны Бога и святых. Нападали теперь уже не на образа массового производства, кое-как написанные бесталанными, равнодушными ремесленниками, их и прежде считали позорными; против них говорили постановления Стоглава и другие, более поздние постановления[1252]. Нет, теперь ставился под вопрос самый характер творчества новгородских, строгановских и московских иконописцев. Изысканных и избалованных любителей уже не удовлетворяли эти вытянутые лица с резкими контрастами, эти небольшие, словно сжатые губы, этот темный колорит, эти упрощенные пейзажи без рельефа, вся эта живопись, выражавшая преимущественно духовное начало, молитвенное настроение. В этом искусстве находили сотни недостатков[1253]. Иноземцы же писали священные изображения и лики в той же манере, что и предметы светского характера: они тоже писали иконы, но по-своему, и эти иконы нравились тем, что походили на саму жизнь, что они были реалистичны. Была также книга, только что появившаяся в Москве, доставлявшая наслаждение всякому, кому только удавалось ее полистать: то была Библия, иллюстрированная голландским гравером Пискатором (Visscher), где было двести семьдесят семь картин[1254]. Эти пленительные гравюры, более или менее удачно воспроизведенные на отдельных листах с описанием изображаемого переведенными с латыни русскими стихами, вскоре распространились все дальше и дальше по всей Руси[1255]. Лучшие русские художники подпадали под притягательное влияние этой новой манеры письма. Один из них, благодаря своей способности выдвинуться, так же как и благодаря своему таланту, создал новую русскую школу иконописи и достиг в этом определенного успеха. То был молодой крестьянин из владений князя Дмитрия Черкасского по имени Симон Ушаков[1256]. По приезде в Москву в 1648 году в возрасте двадцати двух лет он был принят в царскую художественную мастерскую. Будучи замечательным рисовальщиком, он творчески принялся за работу над образцами для вышивок, орнаментами для карт и планов и узорами для церковных сосудов; это было особенно замечательно в то время, когда даже хорошие художники работали только по шаблону. Совместно с другими, он работал и над заказанной Никоном в 1656 году большой митрой. Но в это время он уже писал и иконы для московских церквей: в 1652 году образ Владимирской Божией Матери, заказанный Архангельским собором; в 1657 году икону «Ты еси Иерей вовек по чину Мелхиседекову» для церкви Грузинской Божией Матери, которая была его приходом; для той же церкви в 1658 году он написал Нерукотворный образ Спаса и в 1659 году икону Благовещения, обрамленную двенадцатью изображениями событий, поясняющих акафист. Эта икона вызвала многочисленные толки: до этого момента Ушаков был верен традиционному стилю письма, теперь же он, где только мог, допускал новшества. В этой иконе он изображал до тех пор совершенно неизвестные события и облекал известные образы в новые формы. На иконе была изображена осада Византии; далее, царь и царица приняли соответственно облики св. Марии Египетской и Алексия, человека Божьего; архитектурные украшения, изображенные одеяния, мебель – все было чрезвычайно богато и разнообразно; лики были динамичны, в них чувствовалась жизнь, и на ланиты лика Пресвятой Девы, находившейся в центре иконы, был чуть заметно наложен кармин. Этот новый способ живописи придавал образам невиданную до сих пор естественность. Ушаков усердствовал как мог в течение всех этих лет, руководя начатыми работами в Кремле, реставрируя фрески в Благовещенском соборе. Картиной, изображавшей царский смотр войскам в Семеновском в 1663 году, он положил в Москве основание официальной исторической живописи. Он создал школу учеников, в которой, в частности, был Иван Башмаков, крещеный еврей, которого ему поручили обучить живописи в 1664 году. Чем больше он работал, тем больше он дерзал: его икона св. Феодора Стратилата, созданная им в 1661 году, была написана в светлых тонах, подражавших природе[1257]. Эта манера писать вызывала смешаные чувства и некоторого любопытства, и нежности, и чувственности и была очень далека от московской строгости.
Но это очаровывало общество – то общество, которое Игнатий Иевлевич, этот полоцкий игумен, вызванный на собор 1660 года, привел в восторг своими польскими комплиментами[1258] и которое как раз в это время восхищалось многообразным талантом Симеона Полоцкого. Этот другой уроженец Белой Руси, Самуил Ситнианович (таково было его имя в миру), был блестящим учеником знаменитой коллегии Петра Могилы. Он проникся всеми тонкостями поэтики и диалектики, глубоко усвоил их, научился латыни и даже прослушал курс богословия где-то на Западе в католическом университете. Затем он постригся в Богоявленском монастыре в Полоцке, приняв имя Симеона. Именно в Полоцке в 1656 году после того, как он прочел царю Алексею одно свое стихотворное произведение, ему посчастливилось быть ему представленным. Он был дидаскалом, или учителем, в монастырской школе. В 1660 году он прибыл в Москву вместе с Игнатием, в сопровождении двенадцати своих учеников, и все они выступили со своими приветственными речами перед очарованными ими царем Алексеем и Ртищевым. После неудачных попыток князей Хворостинина и Катырева-Ростовского Москва больше не слыхала эти силлабические вирши, которые оканчивались гармоничной рифмой. Никогда еще добрый царь Алексей не слыхал, как его сравнивают с солнцем, а скромную Марию – с луной. Это пребывание Симеона в Москве, длившееся несколько месяцев, было для образованных москвичей чарующим. В 1661 году Полоцк был снова взят поляками, и Симеон ничего не пожелал иного, как окончательно устроиться в Москве. Мы находим его там в июле 1663 г.; его поселили в Заиконоспасском монастыре, где вскоре он и открыл школу для юных писцов государева Тайного приказа. Блестящий наставник и поэт повсюду проявил себя незаменимым человеком. Зная латынь и церковнославянский язык, он служил переводчиком другому знаменитому иностранцу, Паисию Лигариду, не знавшему церковнославянского языка; он обучал латыни по Альваресу; не было при дворе ни одного торжества, куда бы он не был приглашен для чтения своих произведений. Язык его был полон полонизмов, непонятных народу, но для людей утонченных слушать его было сплошное удовольствие. Будучи в тесных сношениях с уважаемыми иерархами Белой Руси, как, например, Мефодием, мстиславским епископом, Лазарем Барановичем, черниговским епископом, Иоанникием Голятовским и другими, он одновременно также давал советы и московским епископам, стремившимся увеличить свои знания, как, например, митрополиту Казанскому Лаврентию, архиепископу Илариону и, в особенности, архимандриту Чудова монастыря Павлу, в дальнейшем митрополиту Крутицкому, уже знавшему немного латинский и польский языки. Эти иерархи не колебались доверять ему писать для них речи и проповеди, а вскоре и завещания[1259].
Симеон был самым деятельным и самым влиятельным из всех духовных лиц Малой Руси, завоевавших себе определенное положение в Московии; вместе с тем со времени присоединения Малой Руси в 1654 году немало было и других украинских, а равно и белорусских монахов, поселившихся в северных монастырях; они жили там целыми колониями или небольшими группами; оба монастыря, основанные Никоном – Иверский и Новоиерусалимский, были в их руках, так же, как и подворья соответствующих монастырей в Москве; большинство монахинь Новодевичьего монастыря были из Белой Руси; Андреевский монастырь, основанный Ртищевым, в большинстве своем состоял из монахинь из Малой Руси; в Чудовом монастыре, где жил Славинецкий, келарь Иоаким, бывший военный, был великоруссом, но он принял монашеский постриг в Межигорье, близ Киева. Даже в провинции повсюду находились монахи малороссы, либо добровольно выполнявшие свой иноческий обет, либо высланные в монастыри на покаяние. Это было только начало того наплыва, который с каждым годом увеличивался все больше и больше. Эти монахи, обычно предприимчивые и гордившиеся своим образованием, понемногу начали завладевать управлением монастырей, вслед за чем они пробрались и к епископским кафедрам[1260]. Ввиду того, что они, в сущности, были русскими, православными и что язык их был славянским, они, в противовес другим западникам, пользовались доверием, по крайней мере в высшем обществе, и москвичи поддавались их кажущемуся превосходству; таким образом, благодаря новым людям, непрерывно прибывавшим с Юга и с Запада, польские и латинские нравы и обычаи встали на место нравов греческих. В 1664 году в хоромах Ртищева некий монах Варлаам обучал детей польскому и латинскому языкам[1261].
VI Аввакум – поборник аскетического христианства
Теперь уже дело касалось не только того, как следовало писать и читать имя Исус, с одним или с двумя «и», следует ли сугубить аллилуию или петь ее трижды, знаменовать себя крестным знамением двумя или тремя перстами. Эти вопросы, вызывавшие разделение верующих, конечно, сохраняли всю свою важность. Но в московском обществе совершилось и другое, новое разделение, уже делавшее первое бесповоротным. Правящие круги, столкнувшиеся с иноземной цивилизацией, были готовы оставить прежнее мировоззрение, полное героизма и аскетических устремлений, оставить монашеское христианство, бывшее дотоле традиционным в Московии. Оставив его, они были готовы перейти к другому миропониманию, еще пока плохо определившемуся, но как будто открывающему широкие возможности и для культа материальной стороны жизни. Рождались новые потребности. Стремление к возможным рискованным начинаниям и к наживе овладело всеми общественными классами. Царские люди, военные, судьи, даже священнослужители – все хотели торговать. Царь тоже увлекался торговлей. Иноземцы были прямо поражены этой жаждой наживы[1262]. Аввакум отдавал себе ясный отчет в происходящих изменениях. Ведь всем этим затрагивалась сама религия!
В то время как другие защитники старого благочестия, вроде Федора, Потемкина и других, понимали это благочестие в узком значении слова, в смысле обряда и богослужебных формулировок, он чувствовал всю подлинную степень опасности. И он так же при всех случаях писал относительно искаженного Символа веры, против троеперстия, упраздненных поклонов; он гневно протестовал против справщиков, отрицавших воплощение и воскресение Господа Исуса Христа, вводивших «Его царствию не будет конца» вместо «Его царствию несть конца» и не именовавших Духа Святого «истинным»; он снова и снова называл этих неверных униатами, латинянами, исчадием ада[1263], идущими одним путем с Иродионом и его последователями, с Лукьяном Кирилловым, новым царским духовником; он постоянно вел жаркие споры относительно никоновских новшеств[1264]. Но всякий раз, что ему представлялся к тому случай, он переносил дискуссию на философскую и моральную почву.
Нужно ли понимать христианство во всей строгости его заповедей? Если наше пребывание здесь, на земле, является только временным искусом перед светлым райским будущим или осуждением, разумно ли отвлекаться, хотя бы на минуту, на предметы, правда, не преступные, но бесполезные для спасения души? Или может быть, все то, что является истинным, все, что является прекрасным на свете Божием, все это, наряду с чистым добром, тоже способствует очищению души? – Вечная проблема, которая стояла во все времена существования церкви, стояла перед раз ными отцами церкви, стояла перед Фомой Аквинским, св. Франциском Ассизским и св. Домиником, перед отшельниками Порт-Рояля и янсенитами, перед Рансэ и Мабильоном, перед аббатом Бремоном и их противниками и которую множество святых решило по-разному.
Аввакум восставал против широкого образа жизни вращавшихся при дворе иерархов. Хорошо есть, иметь румяное лицо, жить, не лишая себя ничего – было, по его мнению, признаком никониан. И действительно, по свидетельству Павла Алеппского, оба протоиерея – Благовещенского и Архангельского соборов – были уже в 1665 году поперек себя шире, с огромными животами и очень толстые[1265]. Иларион, архиепископ Рязанский, был иерархом усердным, набожным, даже отважным, который в продолжение всей своей жизни хранил благоговение, приобретенное им во время его пребывания в Макарьевском монастыре, где он проходил начальные стадии монашества. Но он последовал Никону и новому образу жизни своего века. Его земляк и друг детства протопоп Аввакум не избегал его, но говорил ему всю правду в лицо: он сам указывает на это в своем Житии, вспоминая о том неприятном чувстве, которое в нем возбуждал этот человек, который берет уроки греческого языка у монаха с такой подмоченной репутацией, каким был архимандрит Дионисий. Он горько упрекал Илариона за его обычаи, говоря ему, что он придворный иерарх. Можно себе представить, что он ему говорил в лицо после прочтения всего того, что он будет потом писать о нем: «В карету сядет, растопырится что пузырь на воде, сидя на подушке, расчесав волосы, что девка, да едет, выставя рожу, по площади, чтобы черницы-ворухи-унеятки любили. Ох, ох, бедной!» И он противопоставляет эту изнеженность состоянию Мелхиседека, идеального иерарха, который, согласно Библии, был отшельником на горе Фаворе, питаясь «вершием древес» и «вместо пития росу лизаше». «Прямой был священник, не искал ренских, и романей, и водок, и вин процеженных, и пива с кордомоном, и медов малиновых и вишневых». Он противопоставлял ему его же прекрасное прошлое, исполненное молитвы, труда и апостольского служения[1266].
Аввакум восставал также против новых икон, как это нам известно из письма, написанного ему одним из его старых друзей, учеником Неронова, Андреем Плещеевым, примкнувшим к официальной церкви[1267]. Что он говорил тогда об этом, мы можем легко догадаться по тому, что он писал несколько позднее, ибо ни в Мезени, ни в Пустозерске он не видел тех новых образов, о которых он говорит:
«Пишут Спасов образ Еммануила: лице одутловато, уста червонная, власы кудрявые, руки и мышцы толстые, персты надутые, тако же и у ног бедры толстыя, и весь яко немчин брюхат и толст учинен, лишо сабли той при бедре не писано. А то все писано по плотскому умыслу: понеже сами еретицы возлюбиша толстоту плотскую и опровергоша долу горняя. (…) Якоже фрязи пишут образ Благовещения Пресвятыя Богородицы, чреватую (…) А Христа на кресте раздутова: толстехунек миленькой стоит, и ноги-те у него, что стулчики. (…) Русь, чего-то тебе захотелося немецких поступков и обычаев?»[1268]
Аввакум проклинал эти иконы, отражающие нравственный и религиозный упадок тех, кто их писал и кто ими восхищался.
Наконец, он осуждал «внешние знания», то есть всякое любопытство, не ведущее к спасению души. Этот вопрос, наверное, часто поднимался в течение его бесед с добросердечным Ртищевым. Однажды он привел ряд текстов из Св. Писания в доказательство своих положений. Он отыскал их в Евангелии: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос» (Мф. 23: 8); «Ибо Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить, ни противустоять все противящиеся вам». (Лк. 21:15). Он нашел множество подтверждений своему мнению и в «Беседах» св. Иоанна Златоуста, объемистой книге, напечатанной в Киеве[1269]: «Аще хто от християн не истощит от своего помышления всяку премудрость внешнюю и всяку память еллинских философов, спастися не может»; «Премудрость еллинская мати всем лукавым дохматом»; «Чюдно рещи, яко по приятии учения Христова невежество ключаемо есть наипаче, нежели премудрость внешних философов»; «Толико християня мудрейши суть еллинских мудрецов, елико посредство Платону и Духу Святому». Он нашел у св. Ефрема Сирина следующую фразу: «И кроме философии и кроме риторики и кроме грамматики мощно есть верну сущу препрети всех противящихся истине»[1270]. Из книги Барония[1271] он заимствовал повесть о том, как св. Григорий Назианзин порицал своего брата св. Григория Нисского за то, что последний предпочел имя ритора имени христианина[1272]. Он прибавил к этому собранию текстов несколько своих собственных размышлений:
«Внимати подобает гонящим философию, диалектику и риторику, каков конец ваши учителя прияша: и ни в веце сем славу приобретоша, и память бо сих оскверняет воздух. Рыбари же к богоразумию вселенную уловльше, по Бозе быша бози и по Господе господския, и свет миру всему показашася, и память их во веки пребывает, удивляема бо суть аггелы и человеки.
Многия отцы и матери драгою ценою купят детем своим вечную погибель, живота вечнаго даром взяти не хотят, глаголет мудрец. К сему прочти Исуса Сирахова главу первонадесятую и познаеш, како тя превратит иноземец во всех путех твоих и сотворит тя быти посмеянна всему миру. (…)
А на первом вселенском соборе некоему философу диякон велел умолкнути, и философ онемел, и ничто же тогда могл глаголати. Главу я пропамятовал, протопоп. Мощно разуметь от Спиридона епископа Тримифийскаго, како кроме философии препре еретик и верных сотвори, толика сила веры и простоты, паче же, реку, Божия премудрость, нежели философии и риторики з диалектиком – внешния премудрости.
Свет мой, Феодор Михайлович, и я тебе вещаю, яко и Григорий Нисский брату его: возлюби зватися християнином, якоже и есть, нежели литором слыть и чужю Христа быть. (…) Лутче тебе быть с сею простотою, да почиет в тебе Христос, нежели от риторства аггелом слыть без Христа.
Простота, государь, о Христе с любою созидает, а разум от риторства кичит. Попросим мы с тобою от Христа, Бога нашего, истиннаго разума, како бы спастися, да наставит нас Дух Святый на всяку истинну, а не риторика з диалектиком.
Протопоп Аввакум с сими глаголы и коленом твоим касаюся.
Писанейце же, государь, сие мне отдай, а пьяным философом не кажи, понеже плотская мудръствуют и тебя обманывают, и не приемлют духовная.
Мир ти о Господе. Аминь»[1273].
27 июля протопоп представил эти свои письменные размышления своему другу, и, может быть, в тот же день состоялся еще один бесконечный бурный спор с «пьяными философами», имен которых мы не знаем; конечно, это наименование «пьяные философы» было взято в переносном смысле. Если верить предисловию, которым непосредственные ученики Аввакума снабдили это сочинение, то выходит, что не кто иной, как Ртищев поставил вопрос: «Нужно ли изучать риторику, диалектику и философию?» Споры, состоявшиеся в этот знаменательный день, были достойны войти в историю. Вопрос ставился тут о чем-то совершенно ином и более важном – он не касался ни перстосложения, ни добавления или убавления слогов, ни обряда[1274].
Как раз в этот момент Аввакум, взвесив все, счел себя обязанным нарушить молчание, обещанное им царю. Это молчание было, впрочем, относительным. Но каково бы оно ни было, для человека, привыкшего громко, «благовременно и безвременно» высказывать свои убеждения, и это относительное молчание длилось слишком долго. Аввакум вспомнил об Иоанне Златоусте: «Священнику надлежит обличать зло; молчать – значит быть врагом Бога и людей»[1275]. Состояние церкви становилось все хуже и хуже: у Никона еще были его приверженцы, сомневавшиеся в законности действий Питирима; каждый священник служил по-своему, народ не знал уже больше, кому повиноваться, и старые обычаи понемногу исчезали. В первых числах августа Аввакум написал царю. Он просил у него две вещи: восстановить прежнюю веру и даровать церкви патриарха, смиренномудрого и без всякого снисхождения к ереси[1276]. Он предлагал в качестве кандидатов Сергия Салтыкова, Никанора и некоторых других, среди которых окончательный выбор, как полагалось, должен был совершить жребий[1277]. Иначе дьявол мог пожрать Русь!
Он был в это время болен. Боли в спине причиняли ему очень большие страдания, поэтому или же потому, что у него не было больше доступа к царю, Аввакум решил поручить своему верному Федору передать царю письмо. Федор же, вместо того, чтобы действовать обычным путем и отнести челобитную по назначению в Приказ тайных дел, воспользовался выходом царя, чтобы лично приблизиться к нему. Его состояние юродивого Христа ради разрешало ему все! Однако царь приказал отвести его к стрельцам – страже Красного крыльца; челобитную его взяли только там, узнав при этом, что он посланец Аввакума. Он сейчас же был ото слан к своему духовному отцу. Но ему взбрела в голову злополучная мысль пойти опять предстать пред царем, наверное, чтобы узнать о результате своего поручения. Царь еще был в церкви; он подошел еще ближе к нему, увлекая за собой Аввакума и предаваясь своим обычным чудачествам. Царь Алексей был уже и так недоволен челобитной. Он уже чувствовал повторение неотступных просьб и надоевших напоминаний докучливого протопопа. Он разгневался и отослал юродивого к архимандриту Павлу в Чудов монастырь, приказав посадить его на цепь. Одно мгновение повелитель страны и протопоп находились лицом к лицу: они обменялись взглядами, поклонились друг другу, не проронив ни слова. Вскоре в хлебне Федор совершил чудеса: «Божиею волею железа разъсыпалися на ногах пред людми. Он же, покойник-свет, в хлебне той после хлебов в жаркую печь влез» и нимало от того не пострадал. Царь пришел проведать его и тут же освободил его. Но дружба между Аввакумом и царем порвалась[1278]. Вместо того, чтобы замолчать, Аввакум снова принялся за старое. Он принял решение: ибо не от сильных мира сего получал он повеление проповедовать истину, а свыше чувствовал он указание говорить. В своей первой челобитной он излагал свои принципиальные взгляды, вскоре после нее он направил царю вторую челобитную, касавшуюся уже конкретного случая. То был содомский грех, совершенный, и притом не раз, греком Дионисием в алтаре Успенского собора над иподьяконом – скандал, разглашенный священником Иродионом, которому сам потерпевший рассказал об этом, и теперь ставший достоянием всех; то было кощунство, требовавшее очищения святого места. «Пес убо, аще скочит в церковь, ино освящение есть: а то такая скверна, ея же ради Содома и Гомора пять градов погибе!» За это требуется примерное наказание! А епископ закрывает глаза на это дело! Хуже того, Иларион, зная обо всем этом, обучается у этого безбожника греческому языку и внешней мудрости. «Вонми молению» моему, «не клеветы ради тебе, государю, известно творяща, но да гнев Божий таковых ради вин все государство не постигнет. А се и безчестие всему государьству от странных сих. (…) И аще архиереи исправити не радят, поне ты, христолюбивый государь, ту церковь от таковыя скверны потчися очистить!»[1279]
VII Царь склоняется принять новую церковь: Аввакум выслан
Аввакум принялся за епископов. Последние донесли на него царю: он нарушил свое обязательство, он проповедовал «по улицам и по стогнам градским», он учил верующих не ходить в приходские церкви; надо освободить церковь от него, снова его выслать![1280]
Этот момент, август 1664 года, является решающим. До этого времени Алексей Михайлович колебался, отказывался принять решение. Теперь же он решился категорически заявить, что он против Никона лично, но что он за его новшества. Новая церковь соответствовала его недавно пробудившимся вкусам, его стремлениям к веселой и блестящей жизни, соответствовала его уважению к иноземной цивилизации. И не случайно, что как раз в этот момент в иерархии произошло движение, в результате которого Павел, архимандрит Чудова монастыря, был возведен в сан митрополита Крутицкого (21 августа); одновременно во главе Чудова монастыря встал келарь Иоаким; и опять одновременно (5 августа) митрополит Питирим, относившийся терпимо к старой вере, лишается сана патриаршего местоблюстителя, а, по-видимому, даже и его временных функций, выполняемых до назначения заместителя. Таким образом, должности иерархов, фактически управляющих церковью, находятся в руках новаторов, если и не полностью убежденных, то, во всяком случае, достаточно решительных.
Павел был бывшим протопопом Введенского собора и духовником Милославских, овдовев, он принял монашество в Новоспасском монастыре и вскоре, в 1659 году, сделался архимандритом Чудова монастыря. Он знал латынь и польский язык, восхищался такими блестящими умами Запада, как, например, Игнатий Иевлевич и Симеон Полоцкий, вел с ними диспуты относительно трудных мест в Св. Писании и относительно богословских вопросов, собирал греческие и церковнославянские книги, интересовался философией и астрономией, давал переписывать музыкальные рукописи, писал сам и в то же время любил посещать двор и знать[1281]. Это был ранний представитель тех современных иерархов, которые предпочитают размышлению о смерти и спасении всевозможные услаждения как ума, так и чувств. Он, в сущности, не имел ничего против старых книг и обрядов, но он ценил в новой церкви более удобную религию, в особенности же веру царя. «Да нам бы царя оправить, того ради мы стоим за новыя книги, утешая его», – сказал он вскоре дьякону Федору с достаточной откровенностью[1282].
Один современный историк считает, что Павел Крутицкий и Петр Белорусский одно и то же лицо[1283]. Новый архимандрит Чудова монастыря, хотя и русский по своему происхождению, принял постриг в Малороссии.
Иоаким, в то время еще Иван Савелов, родился в 1621 году в Можайске, в семье мелких помещиков и вел сначала такую же жизнь, как и все окружающие его помещики: скудное образование, частые призывы на царскую военную службу, скромные должности. Находясь в Малороссии в 1655 году, он совершенно неожиданно удалился в Межигорский монастырь близ Киева[1284]. Будучи послан оттуда в Москву для сбора пожертвований, он там задержался[1285]. В сентябре 1657 года Никон приказал принять его в свой малороссийской Андреевский монастырь. В Москве желали, чтобы этот новооснованный монастырь служил для русских монахов примером; было совсем естественно, чтобы он находился под строгим надзором бывшего кавалериста. Оттуда он около 1662 года перешел в качестве келаря в Новоспасский монастырь: это было многообещающее продвижение. Он, впрочем, показал себя таким прекрасным администратором и в то же время таким бережливым хозяином, что не замедлил столкнуться с монахами, обвинившими его в том, что он урезывал им их порции и кормил их тухлой рыбой; даже во время тревожных дней коломенского возмущения против него вспыхнуло восстание: он с ним справился. Итак, новый архимандрит Чудова монастыря был прежде всего человеком крутого нрава. Он был рукоположен в иереи только 19 августа. Есть указания на то, что, будучи по этому случаю спрошен, по приказу царя, боярином Михаилом Ртищевым – отцом известного деятеля, удалившимся в этот монастырь, относительно своего вероисповедания, этот славный вояка ответил: «Аз-де, государь, не знаю ни и старыя, ни новыя веры, но что велят начальницы, то и готов творити и слушати их во всем»[1286]. И в самом деле, он в дальнейшем выказал себя как усердный блюститель порядка, без всяких угрызений совести или мягкости приказывая выполнять полученные сверху распоряжения.
Подобное духовенство должно было ненавидеть в Аввакуме все: и его строгость, и его неподчинение властям. Со своей стороны, царь, раз приняв определенное решение, тут же согласился с архиереями: протопоп был в Москве неприемлем. Однако, из уважения к нему как к человеку и как к своему прежнему другу, он поручил высокопоставленному лицу, боярину Петру Салтыкову, передать ему вкратце следующее поручение: «Въласти-де на тебя жалуются: церкви-де ты запустошил, поедь-де в ссылку опять»[1287]. Это было одновременно и приговором, и извинением.
В день, когда стрельцы взяли Аввакума, чтобы увезти его вместе с женой и детьми на Север, то есть 29 августа, Алексей Михайлович постарался не быть в Кремле: накануне он уехал на всенощную в Коломенское и затем присутствовал на обедне в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове, к югу от Москвы[1288].
Аввакум со своей семьей покинул столицу, которую он надеялся вернуть к старому благочестию. Верный Андрей Самойлов сопровождал отряд высылаемых до Яузы, чтобы получить от протопопа последнее благословение, но не имел даже возможности говорить с ним, «а никого другого с ним не было»[1289].
Глава XI Нравственные терзания и окончательный разрыв (29 августа 1664 – 29 августа 1667)
I Холмогоры и Мезень: обрагцение в православие Евдокии Цехановецкой
Местом ссылки был назначен Пустозерск[1290] на Печоре, недалеко от Ледовитого океана, на восточной окраине Европейской России. Итак, осужденные снова направились по дороге, которая им была хорошо известна: Троица, Переславль Залесский, Ярославль, Вологда, затем, очевидно, они плыли вниз по Сухоне и Северной Двине, но, вместо того, чтобы после Устюга направиться в Вычегду, они проследовали водным путем на северо-запад, в Холмогоры.
Холмогоры оставались, несмотря на развитие Архангельска, столицей Севера и были одновременно крепостью, торговым городом и административным центром. Там находился воевода, лицо весьма значительное ввиду имевшихся сношений с иностранцами. В то время эту должность занимал князь Щербатов, бывший в чине окольничего; гарнизон состоял из пятисот человек; с 1665 года смоленские и дубровские «гайдуки» сменили стрелецкий полк, вызванный в Москву; они, естественно, пришли туда со своими женами и детьми; наконец, там насчитывалось около пятисот домов, или «дымов», горожан. С точки зрения церковного подчинения этот край зависел от Новгорода, находившегося на расстоянии более чем тысяча верст от Холмогор, поэтому Холмогоры пользовались сравнительно широкой независимостью. Однако в чисто духовном отношении Холмогоры зависели скорее от Соловков, которые имели в Холмогорах подворье с монастырским экономом – дома, амбары и солехранилища[1291]. Очень вероятно, что никоновские новшества, если они уже и проникли в Преображенский собор Холмогор, были еще неведомы большинству тамошних приходов, так же как и местным монастырям, как, например, монастырю св. Антония Сийского, а равно и Успенскому монастырю в самом центре города.
Путь от Холмогор до Пустозерска был еще весьма долог и, принимая во внимание время года, не мог быть пройден водным путем; необходимо было выжидать санного пути. Воевода взял Аввакума к себе и, надо полагать, предоставил ему некоторую свободу: Аввакум обрел возможность продолжать свою апостольскую миссию; он снова начал «людей Божиих» поучать, а «пестрообразных зверей» обличать[1292].
Его навестил Андрей Самойлов, арестованный на следующий день после отправки Аввакума по поводу его перебранки с дьяком церкви св. Софии [в Садовниках] и также сосланный после допроса. Он прожил у Аввакума месяц, прежде чем отправиться на место своего нового назначения[1293]. Но мысль, что он снова обречет свою семью на жизнь в негостеприимных местах, где они будут во власти холода и голода, терзала отцовское сердце протопопа.
Вскоре в Холмогоры прибыл юродивый Киприан: это был его родной город; его возвращение не должно было возбудить подозрений, и, вероятно, московские верующие выделили его для того, чтобы он служил связным с Москвой. Аввакум сейчас же послал его со следующей грамоткой, где выражалось его беспокойство:
«Христолюбивому государю, царю и великому князю Алексею Михайловичю, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцу, бьет челом богомолец твой, в Даурех мученой протопоп Аввакум Петров.
Прогневал, грешной, благоутробие твое от болезни сердца неудержанием моим; а иное тебе, свету-государю, и солгали на меня, имже да не вменит Господь во грех.
Помилуй мя, равноапостольный государь-царь, робятишек ради моих умилосердися ко мне!
С великою нуждею доволокся до Колмогор; а в Пустозерской острог до Христова Рождества невозможно стало ехать, потому что путь нужной, на оленех ездят. И смущаюся, грешник, чтоб робятишка на пути не примерли с нужи.
Милосердый государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец! Пожалуй меня, богомолца своего, хотя зде, на Колмогорах, изволь мне быт, или как твоя государева воля; потому что безответен пред царским твоим величеством.
Свет-государь, православный царь! Умилися к страньству моему, помилуй изнемогшаго в напастех и всячески уже сокрушена: болезнь бо чад моих на всяк час слез душу мою исполняет. И в Даурской стране у меня два сына от нужи умерли. Царь-государь, смилуйся»[1294].
Эта челобитная была вручена Киприану 21 ноября. Она могла возыметь известное влияние, так как в это же самое время Неронов встретился с царем, который посоветовал Неронову обратиться к нему с челобитной, испрашивая у него освобождения Аввакума, и вместе с тем передать одновременно копию в Тайный приказ[1295]. Царь не решался взять на себя инициативу, чтобы принять меры к помилованию, но он, в сущности, был не прочь даровать его Аввакуму! Челобитная Неронова была передана по назначению в Хорошеве в Николин день, 6 декабря. Она была составлена в точности в том же духе, как и челобитная Аввакума, ссылалась на те же самые доводы, но была составлена с большим весом: «оклеветали ево тебе»; шесть лет страдал он в Даурии и двое детей его умерли там с голоду; «не вели, государь, в том пустом месте во изгнании ему и с челядию конец прияти, и чтоб маленким ево сироткам в зимное время на нужном пути до Пуста-озера от студени безгодною смертию не помереть». Неронов просил, как милости, чтобы Аввакум был выслан в его, Неронова, Игнатьеву пустынь: «Пусть он там живет со мной, чтобы там мы были неразлучны, оплакивая грехи наши»[1296]. Нам думается, что Аввакум дал Киприану также письмо и к Неронову. Неронов, принимая во внимание свою роль посредника между обеими сторонами, был, конечно, наилучшим защитником челобитчика!
Между тем царь дал по этим челобитным иное решение: он приказал Аввакуму продолжать его безысходно тягостный путь по направлению к Ледовитому океану; однако остановил его на Мезени. Там находились в глубоком северо-западном заливе Белого моря, много ближе к Холмогорам, чем к страшному Пустозерску, две слободы – Окладникова и Кузнецова, разделенные между собой пустырем. Окладникова слобода было более зна чительным пунктом. Дважды в год там проходила ярмарка, куда приезжали самоеды для обмена своих мехов на порох и охотничье снаряжение. В эти времена кеврольский воевода переселялся туда для сбора ясака, то есть натуральной дани. В Окладникове находилась съезжая изба, таможня и кабак. Но в обычное время местечко было в запустении: с ноября его заносило снегом, летом население, жившее в первобытных условиях, погибало от комаров. Переписчики насчитывали там «сорок пять крестьянских дворов», где жило сто шесть душ, считая малолетних (но без женщин); было еще два «дыма» безземельных бобылей с тремя душами; шесть «дымов» с нищими и сорок восемь «покинутых дымов». Эти «дымы» были покинуты, так как их владельцы ушли в разные другие города из-за отсутствия хлеба, или же умерли в разное время, или же, наконец, утонули в море[1297]. В слободах жили исключительно ловлей семги и охотой на тюленя.
В этом запустелом местечке Аввакум со своей семьей прожил весь 1665 год и всю зиму 1666 года. Семья, вероятно, занимала какой-нибудь покинутый дом. На свое ежедневное пропитание она получала: 1 грош, или 2 копейки, на взрослого, 3 денежки, или 1 ½ копейки, на детей; правда, может быть, несколько больше на самого протопопа[1298]. Несмотря на то, что Аввакум находился под надзором, он, благодаря положению вещей, пользовался довольно-таки широкой свободой. Протопоп крестил тут своего последнего новорожденного – Афанасия. Он смог даже отслужить обедню и причастить младенца[1299]. В этих местах старая вера была едва затронута новшествами.
С Москвой снова быстро завязались сношения. Новости были неутешительными. Неожиданное решение царя: после терпимости – преследования; всякие неприятности по отношению к такому умеренному человеку, как Неронов, которого перевели к новому архиепископу в Вологде; архиепископ Симон обвинил его в том, что он сеет «раскол и раздор»[1300], – все это произвело среди верующих глубокое разочарование и известного рода панику. Многие верующие покинули Москву или собирались это сделать. Едва возникшее братство готово было распасться. Согласие между дьяконом Федором, обладавшим рассудительным характером, и юродивым Афанасием, так же как и с Гавриилом, не было полным[1301]. Кое-кто сердился на Аввакума: «Это он из-за своей деятельности, своего нетерпимого характера навлек царев гнев»; «Было бы лучше, если бы он там в Даурии умер», – так открыто говорили некоторые люди, не стесняясь своей подлости. Самые достойные из окружающих находились в растерянности. Чтобы оправдаться, а особенно, чтобы восстановить единство и придать бодрости, Аввакум написал Феоктисту и «всем братьям» письмо. Он начал со смирением:
«И то, отче, не моею волею, но Божиею до сего времени живу. А что я на Москве гной разшевелил и еретиков раздразнил своим приездом из Даур: и я в Москву приехал прошлаго году не самозван, но взыскан благочестивым царем и привезен по грамотам. (…) Не кручинтеся на меня, Господа ради, что моего ради приезда стражете».
Затем он поучает следующим образом:
«Отче, что ты страшлив? Слышишь ли: есть о нас промышленник! Феоктист, что ты опечалился? Аще не днесь, умрем ж всяко. Не малодушьствуй: понеже наша брань несть к крови и плоти. А что на тебя дивит! Не видишь. Глаза у тебя худы. Рече Господь: ходяй во тме, не весть, камо грядет. Не забреди, брате, со слепых-тех к Никону в горкой Сион! Не зделай беды, да не погибнем зле! Около Воскресенскова ров велик и глубок выкопан, прознаменует ад: блюдися, да не ввалисся и многих да не погубиши»[1302].
Далее он продолжает снова:
«И ты не кручинся на меня, миленкой! Я поехал от вас с Москвы паки по городам и по весем словесныя рыбы промышлять: а вы там бегайте от никониян! Поминайте реченное: не бойся, малое Мое стадо, яко Отец Мой благоизволил вам дати царство».
Он посылает свое благословение всему братству, просит прощения у тех, кого он мог обидеть и кончает личными советами.
Да отпиши ко мне кое о чем пространно, – не поленись, или Афонасья заставь. А я жду на Мезени вашева писма до весны. (…) По сем мир ти, господине, и брате, и отче! И жена моя и дети благословения просят, и Фетинея, и Григорей»[1303].
Письмо это было получено в Москве дьяконом Федором[1304]. Феоктист сначала уехал в Переславль, затем в январе он отправился к своему покровителю вятскому епископу Александру в Успенский монастырь[1305]. Положение не улучшалось: дьякон Федор вручил царскому духовнику челобитную, где просил даровать Аввакуму свободу, духовник же с чрезвычайной яростью бросил ее дьякону в лицо[1306]. Однако небольшая паства, объединенная вокруг нескольких стойких столпов веры, таких как дьякон Федор и окружение гостеприимной боярыни Морозовой, постепенно отходили от своей первоначальной тревоги. Вести, приходившие от Аввакума, который даже в своем изгнании продолжал уловлять души, могли только придавать бодрости этой небольшой пастве.
В самом деле, Аввакум и на Мезени готовился одержать победу, и притом немалую. Он отвечал на постигшую его немилость тем, что обращал к старой вере жену воеводы. Оба были поляки и, перейдя на царскую службу, приняли православное крещение: воевода Алексей Цехановецкий принял его только формально, оставаясь в глубине души католиком, жена же его, Евдокия, приняла его от всего сердца. Несмотря на то, что Аввакум был сосланным, для обоих поляков, затерянных в северных льдах, он был неоценимым собеседником. Он прибыл из столицы, он мог столько рассказать о всем том чудесном и изумительном, что постигло его в прошлом, о боярах, о патриархе, даже о самом царе. И в то же время, повествуя обо всем этом, он поучал. Очарование его пламенной души покоряло Евдокию. Когда после родов она заболела, то она выбрала своим духовником именно его. Он защищал ее от злых духов. Она говорила с ним с неописуемой экзальтацией; в видении она видела его уже спасенным в раю, она проклинала троеперстие, римскую веру, своего мужа; она хотела быть с ним, Аввакумом, на небесах. Протопоп успокоил ее, вернулся к себе домой. Но после неудачного вмешательства мужа ее нервное состояние повторилось: бегут за Аввакумом, он бранит мужа, «пан» его выгоняет вместе с доброй Анастасией, которая также пришла туда. Его зовут снова, он возвращается и присутствует при ужасной сцене между несчастной женщиной и ее мужем. Он выставляет вон сначала мужа, затем изгоняет злых духов, причащает Евдокию, которая умирает спокойно, с христианским достоинством, творя истинное двуперстное крестное знамение[1307].
II Аввакум возврагцен в Москву. Экспедиция Лопухина. Арест Федора, Никиты и Неронова
Сосланные начинали было привыкать к своей судьбе, как вдруг они были потрясены новым приказом из Москвы: то был приказ о разлучении его с Анастасией. Этот указ появился, очевидно, в январе или в начале февраля 1666 года. До этого времени чета разделяла между собой все жизненные удачи и неудачи, радости и горести, а тут впервые Аввакум расставался с Анастасией! Для нее наступил день, который она предвидела по приезде своем из Сибири! Здесь, на земле, им пришлось свидеться, может быть, только на одно мгновение, когда отлученный протопоп снова проехал через Мезень, в сопровождении стрельцов, направляясь к месту своего последнего изгнания. Отныне они уже больше не будут поддерживать друг друга, но ни тот, ни другая не сдадутся[1308].
Аввакум был увезен со своими старшими сыновьями, Иваном и Прокопием, мать же с другими детьми были оставлены на свободе в своем доме. Этот приказ не был следствием новых жалоб против протопопа; он был вызван решительной кампанией, предпринятой Собором против всех инакомыслящих, какого бы толка они ни были. Желание покончить с ними было сильно еще и потому, что религиозная смута ослабляла Русь перед лицом иностранцев[1309].
В течение 1665 года положение особенно ухудшилось в районе Вязников. Священник, донесший о собраниях «капитонов», по возвращении был убит[1310]. Затем осенью митрополит Иларион, предупрежденный монахами Макарьева монастыря, вскрыл новые факты. В дремучих лесах целые села с женщинами и детьми уклоняются от господствующей церкви: это становилось опасностью как для церкви, так и для государства. Они бегут от антихриста или его предтечи. Они говорят о царе такие мерзости, что их даже написать невозможно. Они предрекают конец мира на этот год. А монахи, что живут на Кшаре-озере, учат, что еще до прихода антихриста нужно уморить себя голодом; соблазненные этими монахами, многие мужчины, женщины и девушки умерли от истощения… Они зарывают их живыми в землю, или кладут под кельями, или же хоронят в ямах. А в свое оправдание они говорят: «Мы де сей путь Лукияна мученика проходим». Среди самых опасных были названы Вавила и Леонид[1311].
В Москве были испуганы размахом и характером движения. Шведский резидент Лилиенталь говорит в своих донесениях о шести тысячах «религиозных отщепенцев», собравшихся «вокруг Костромы и близ Казани», которые снимают образа в церквах, уносят их в леса и там сжигают их, они же грубо поступают и со священниками[1312]. Князю Ивану Прозоровскому было поручено большое дело: очистить огнем и мечом охваченный заразой район. К нему прикомандировали стрелецкого голову Авраамия Лопухина, дьяка Тайного приказа Федора Михайлова и еще голову Артамона Матвеева; на воеводу Зубова была возложена ответственность за положение дел в Вологодском воеводстве[1313].
Лопухин со своим отрядом и монахом Серапионом в качестве проводника прочесал леса по ту сторону Клязьмы, сжигая на своем пути скиты и захватывая каждого, кого только мог. Допросили монахиню Мариамну, монаха Леонида, Стефана Малого, Вавилу и многих других: у них у всех спрашивали, не знают ли они, где находится Капитон и инокиня Евпраксия, та самая, которая повсюду посылала «лжепророков». Те, кто отрекались от своих заблуждений и обещали больше не повторять их, как Тимофей или Стефан, сын Ивана Лисина, даже те, кто были активными вербовщиками новых «капитонов», получали свободу и были отсылаемы по месту жительства. Другие же были «примерно наказуемы». В январе «за свою глупость» был сожжен живым Вавила[1314]. Настоятель Моисей был арестован, так же как и протопоп Меркурий[1315]. Но инокиня Екатерина, приведшая в 1664 и 1665 годах в пустыню весьма многих, а также и Евпраксия ускользнули от ареста; что же касается Капитона, то узнали, что он совсем недавно умер[1316].
В марте Лопухин и его стрельцы углубились на лыжах в болота и леса Нижегородского края по ту сторону Волги и, после того, как прошли двести верст, идя по следам искателей дикого меда, достигли келий Ефрема Потемкина. Потемкина арестовали 23 марта, отослали его в Москву и сожгли его келии. Затем Лопухин направился через Нижний в Мурашкино и Лысково[1317].
Лопухина все же не был до конца уверен, что он полностью уничтожил очаг неповиновения, поэтому после своего отъезда он поручил Серапиону продолжать искоренять его. В действительности же большая часть «бунтарей» просто разбрелась: в скором времени Серапион их и обрел. Некоторые продолжали проводить в жизнь учение, завещанное Капитоном своим ученикам, прежде чем преставиться: «Вашего спасения ради старайтесь умирать от истощения»[1318]. Ведь этот вид добровольной смерти вовсе не требовал активного вмешательства со стороны человека; этот вид смерти менее всего навлекал на себя упрек в самоубийстве. Вместе с тем некоторые соблазнялись и очистительной силой огня. В Вологодской стороне, при приближении воеводы Зубова в марте 1666 года, четверо людей, после того как они наполнили избу сеном, заперлись в ней, подожгли ее изнутри и сгорели. Семеро других, украдкой от своей деревни, однажды ночью пришли в поле, заперлись в сарае для дегтя, сами его подожгли и сгорели. В Нижегородском воеводстве монахи, когда пришли стрельцы, заперлись в своих кельях и также сожглись[1319]. Если это и было самоубийством, то люди, хорошо знавшие жития святых, обладали в достаточной мере соответствующими примерами, чтобы оправдать его[1320].
Нельзя было ожидать ничего от этих, отрицающих все, людей. Напротив, думалось, что увещания и авторитет Собора могут воздействовать на более умеренных «раскольников». В то самое время, когда действовал Лопухин, в Москву было привезено много сосланных. 2 ноября 1665 года состоялся настоящий наплыв привезенных из Тобольска ссыльных; то были: игумен Адриан, попы Федот, Терентий, Доментиан, Полиевкт, Лазарь, дьяконы Иван Семенов и Федот, иподьякон Федор Трофимов, дья чок Федор Стрекаловский[1321]. Это был, очевидно, самый оплот старой веры в Сибири[1322]. Однако, что касалось Доментиана, Лазаря и иподьякона, состоялась отмена распоряжения; они вскоре были снова высланы из Москвы в Пустозерск[1323]. Лазарь успел только передать царю свиток, содержащий около семидесяти обвинений против новых книг и обрядов[1324].
Те, которые были дотоле еще на свободе, теперь были арестованы. 9 декабря 1665 года дьяк Никита Казанец со стрельцами ворвался к дьякону Федору, захватил его книги и бумаги, полный ящик личных документов, выписки из Священного Писания, разные рукописи и отвел его в резиденцию митрополита Крутицкого, где его и допросил митрополит Павел[1325]. Он заявил, что он признает только старые книги и действует по примеру Григория Неронова, Аввакума и Спиридона Потемкина, которые все, по его убеждению, были добродетельными мужами; относительно же тех, кто служил по новым Служебникам, он отказался высказаться: «Судит им Бог!» Доверяя, очевидно, справедливости Собора или же, возможно, не желая унижать себя молчанием, он признал все свои сношения со сторонниками старой веры. Наконец, он подтвердил, что до вынесения решения Собора он не изменит своего мнения о новых Служебниках. После этого его передали под надзор монаху Сосфену и посадили на цепь[1326]: в таком положении он оставался пять недель. 13 декабря он должен был дать новые объяснения относительно захваченных у него при обыске бумаг[1327].
Между 9 и 13 декабря был арестован в Суздале священник Никита. Захватили все его бумаги, его заковали в цепи и привезли в Москву; здесь его отвезли в Симонов монастырь для наложения епитимии[1328]. В то же время начали рассматривать его длинную обвинительную челобитную в отношении никоновских новшеств, показанную им дьякону Федору и возбудившую уже кое-какие слухи в Москве. Эту челобитную перед этим нашли у него, частично в черновиках, частично же переписанную набело[1329].
Более сложным было поручение, данное архимандриту Новоспасского монастыря Иосифу и келарю Симонова монастыря Иосифу Чиркову; они должны были отправиться в Вятку, собрать сведения о состоянии здоровья епископа Александра и передать ему царскую грамоту от 4 января, в которой требовалось выдать без промедления бывшего игумена Феоктиста, относительно которого было известно, что у него в келье имелось много рукописей, направленных против церкви: «Того б тебе отнюдь не учинить, что ево, Феоктиста, архимандриту Иосифу и строителю не отдать и писем ево в кельях своих осмотреть архимандриту и строителю не дать, и в зазор себе того не поставить, что в кельях твоих ево, Феоктистовы, письма осмотрены будут», – было написано в грамоте[1330]. Богатый архив сторонников старой веры был захвачен, но владелец его был уже далеко. Он покинул Вятку в день Богоявления, 6 января, чтобы направиться к Неронову. Кстати сказать, он сделал большой крюк в северном направлении, чтобы повидаться в Устюге со своим братом Аврамием, который нашел себе приют в Михаило-Архангельском монастыре. Там, по-видимому, он и был арестован полуголовой Александром Каралдеевым. 15 февраля он предстал в Москве перед теми же двумя Иосифами, которым, чтобы объяснить происхождение найденных бумаг, помогал патриарший дьяк Денис Дятловский[1331].
Неронов провел начало 1665 года в своем скиту. Он был в очень плохих отношениях с архиепископом Симоном и общался постоянно с простыми людьми, которых оскорбляли нововведения архиепископа. Симон вынес из храма алтарный образ Божией Матери и небрежно обращался с ним. Он сказал: «Женщинам в алтаре делать нечего!» Крестьянку, которая пришла к нему, чтобы рассказать, как св. Игнатий Ломский исцелил ее парализованную руку, он посадил на цепь и запретил почитать образ этого святого. Наконец, разве это не он запретил 9 мая праздновать Николин день в церквах, которые не были построены во имя св. Николы? Группа паломников, вошедших 9 мая в собор св. Софии, была потрясена этим небрежением к святому Николе, и к тому же тут же они услышали, что архи епископ обозвал великого чудотворца – «мужичьим сыном»[1332]. Есть основания думать, что Неронов был в начале июля арестован по жалобе архиепископа, а затем допрошен в Москве митрополитом Крутицким. 24 августа он был отправлен под крепкой стражей в Переславль Залесский, в Горицкий монастырь, куда он прибыл 26-го[1333], отсюда через некоторое время он был направлен в Вологду, в распоряжение местного архиепископа, который освободил его и отослал в его же скит[1334]. Но едва он вернулся к себе, как множество местных жителей пришли к нему пересказать кощунственные слова попа Сысоя Андреева. В четверг на седьмой неделе после Пасхи этот Сысой, оказывается, произнес перед всеми фразу, что иудеи правильно поступили, распяв Христа за его возмущение. Между прочим, этот Сысой был новгородским уроженцем и верным приверженцем Никона: в декабре 1664 года он выполнял обязанность посредника между бывшим патриархом и его незадачником-другом Зюзиным[1335]; за это он в апреле 1665 года был сослан в Вологду. В тот день, когда он изрекал свое богохульство, он был пьян, но Неронов упрекал бы себя, если бы оставил ненаказанным подобное преступление, ведь Сысой был его подчиненным! Он прибыл в Вологду, чтобы пожаловаться архиепископу. Последний воспользовался, со своей стороны, удобным случаем, чтобы помучить столь упорного своего противника, постоянно причинявшего ему всякого рода беспокойства: он заставил его внести 5 рублей за свою пустынь в качестве платы за житие в течение пятнадцати лет; сутки он продержал его в цепи, так туго закованного в железо, что он не мог ни сесть, ни стоять; он приказал допросить его о состоянии его пустыни; наконец, он отослал его, по-прежнему закованного в цепи, в Спасо-Прилуцкий монастырь с приказом, чтобы он, в виде наказания, все время просеивал муку. Только 17 сентября, благодаря вмешательству воеводы Степана Зубова, Неронов, еле живой, получил свободу, но он не счел себя побежденным: он довел до сведения царя всю историю с Сысоем, он написал о ней своим друзьям, между прочим, дьякону Федору – и в результате выиграл. Был дан приказ расследовать дело[1336]. 8 февраля 1666 года дьякон Федор, состоявший теперь в Покровском монастыре, а также и некий монах Ферапонт из Ниловой пустыни (находившийся в это время у Неронова) были допрошены по этому поводу митрополитом Питиримом[1337], и Сысой, признан ный виновным, был отправлен в Соловки, чтобы содержаться там в тюрьме[1338]. Неронов недолго пользовался своей победой, ибо 14 марта его снова посадили под замок, на этот раз в Иосифо-Волоколамском монастыре.
1 марта 1666 года Аввакум прибыл в Москву[1339]. Его сыновья, очевидно, устроились у своего дяди, священника церкви Козмы и Дамиана. Аввакум же, как и другие, были отведены в Крутицы к митрополиту Павлу[1340]. Там происходили длительные собеседования, где все участники выказывали упорство; царю так хотелось заполучить подчинение своего протопопа! Иерархам так важно было обезоружить того, кто был самым ярым защитником и самым стойким оплотом старой веры! И только 9 марта архиереи были вынуждены, вследствие его непоколебимой стойкости, согласиться отослать его в монастырь св. Пафнутия Боровского. Он совершил этот путь в девяносто верст закованный в цепи[1341]. В ту пятницу был ясный день и снег таял; ночью был мороз[1342]. Монастырь св. Пафнутия находился в трех верстах от городка Боровска. Это был знаменитый монастырь, основанный в 1444 году благочестивым и ученым отшельником, сделавшимся впоследствии наставником Иосифа Волоцкого. Затем этот монастырь стал крепостью на границе западных владений Московского государства, за что он и был предан огню и мечу в 1610 году вторым Лжедмитрием. Восстановленный царем Михаилом, монастырь был теперь окружен оградой длиной почти в сто двадцать саженей, с одной круглой башней и с пятью квадратными башнями, каждая в три этажа, с прикрытыми бойницами; в монастыре находился гарнизон и много пушкарей с пушками. Поэтому он часто служил тюрьмой[1343].
В Москве не теряли надежды привлечь Аввакума на свою сторону. К нему отправляли посланцев одного за другим: «Долго ли тебе мучить нас? Соединись с нами, Аввакумушко!» – говорили они. Среди этих посланцев был один, которого Аввакум чуть было не склонил к старой вере: то был Козма, дьякон из Ярославля, который когда-то прибыл в Москву, чтобы остаться на службе у Никона. Слыхали, как он проповедовал своим собратьям в Успенском соборе о том, что нужно уничтожить правила, запрещающие священнослужителям прикасаться к священным сосудам и другим святым предметам, прежде чем они не очистятся телом и душой, если предыдущую ночь они имели сношения со своими женами. Открыто, при народе, при патриаршем писце, его сопровождавшем, он обращался к Аввакуму с официальными увещеваниями. Тайно же он ободрял его, уговаривая настаивать на своих убеждениях: «Мы – слабоумные, мы гибнем, Никон меня околдовал. Хоть ты потерпи до конца!» Аввакум был поражен при виде этого слабодушия, так мало похожего на его собственную сильную волю; он сделал все, чтобы помочь этому бедному человеку обрести себя; ему, впрочем, так и не удалось узнать, каково было истинное исповедание Козьмы. Все же он его благословил и поручил ему передать в Москве свой отказ подчиниться[1344].
III Собор 1666 года и отлучение
Собор был в разгаре своей деятельности. Но этот собор, увы, был очень далек от того собора, которого требовал Неронов, который царь обещал Аввакуму, о котором с наивной доверчивостью взывал Никита и столь многие сторонники старой веры. Конечно, были созваны только русские архиереи, за исключением нескольких иностранных, находившихся в то время в Москве. Но, в отличие от предыдущих соборов, белое духовенство либо не было приглашено, либо не имело права голоса при решениях: нет ни одной подписи протопопа под Соборными деяниями. Перед официальным открытием члены собора, по мере того, как они зарегистрировались, приглашались ответить письменным заявлением с подписью на три следующие вопроса: 1) являются ли патриархи Константинопольский, Антиохийский и Иерусалимский, хотя и живущие под игом неверных, православными? 2) Греческие книги – печатные или рукописные, которыми пользуются восточные патриархи, и их обряды – правильны ли они и истинны ли они или нет? И, наконец, 3) Собор, состоявшийся в Москве в 1654 году под председательством Никона, должен ли он почитаться как имеющий силу?[1345] Этот ловкий прием предварительного опроса сразу уничтожал споры. Епископы и архимандриты, захваченные врасплох, каждый в отдельности, написали то, что от них требовалось, и их заявления, сложенные вместе, установили правило веры, согласно которому не оставалось ничего другого, как «пытать о вере и судить»[1346]. Сторонники старой веры уже больше не стояли перед собором, мнение которого они могли склонить в свою пользу; они представлялись, как обвиняемые перед судом. Однако на соборе предпочитали скорее подчинять их убеждением, нежели прямо осуждать их. В продолжении долгого времени, когда шли приготовления к собору, занявшие месяцы март и апрель, каждый упорствующий архиерей был неоднократно вызываем отдельно на собеседо вание с митрополитом Павлом или архиепископом Иларионом, самыми учеными иерархами официальной церкви. Здесь их обрабатывали то приводимыми доводами, то применяя к ним грубую силу и угрозы; порой обращались с ними и с мягкостью. Надо было быть очень стойкими в своей вере и иметь закаленный характер, чтобы устоять от этого страшного двойного нажима, выражавшегося, с одной стороны, в утверждении якобы единодушного мнения всей церкви, а с другой стороны – в угрозе преследований, которых, безусловно, можно было ожидать в будущем.
Александр был, без сомнения, первым епископом, подвергшимся этому испытанию. Для него, прибывшего в Москву с целой кипой обличительных документов против новых книг, подготовленных с участием Феоктиста и дьякона Федора, для него, намеревавшегося документально доказать бесчисленные ошибки справщиков, разочарование было потрясающим. По существу своему это был человек молитвы и богословской науки, а не полемист. После нескольких собеседований он признал себя побежденным и заполнил требуемое заявление. Но в виду того, что он долгое время колебался, от него потребовали дать более точные объяснения. Он должен был ответить, что он во всех отношениях соглашался с тремя пунктами, о которых шла речь, и принимал их, между прочим, принимал троеперстие и уничтожение прилагательного «истинного»; он должен был подтвердить, что вера его отныне была именно такова, что «от сего дня он к ней прилепился, ничтоже сумняшеся и исповедовал ее из глубины своего сердца»; как доказательство своей искренности, он должен был присоединить к заявлению переписанный его собственной рукой Символ веры в исправленном виде. После того как он сделал все требуемое, ему было разрешено заседать вместе со своими собратиями. Его заявление воздействовало и на других священнослужителей[1347].
Никита Суздальский, с того самого момента как у собора появилась его Челобитная, казался самым опасным сторонником старой веры. Это был самый важный документ изо всех, им написанных дотоле в пользу старой веры; свиток был более чем в пятьдесят восемь метров длины на приблизительно пятнадцать сантиметров ширины, исписанный порой почер ком правильным и четким, порой мелким и сжатым. Никита проработал над этим сводом доказательств около семи лет. В этом документе было перечислено все: все ереси, которые были сформулированы в «Скрижали» и других отпечатанных со времени патриаршества Никона книгах, все подозрительные новшества, введенные в обряды и обычаи – все это было подробно разобрано и блестящим образом опровергнуто с помощью множества доводов. Никита использовал все возможные источники: Св. Писание, каноны, древние рукописи, касающиеся литургии, жития святых, деяния св. отцов, Стоглав, Хроники. Автор ссылается на археологию, на архитектуру древних иерусалимских и константинопольских церквей, на антиминсы, алтари, иконы, фрески, церковные сосуды и священные предметы. Он ссылался на свои беседы с патриаршим дьяком Парфением Ивановым, с дьяконом Федором, на сторонников суздальского архиепископа Иосифа и его преемника Филарета. Вся эта аргументация была использована искусно, выдержанно и добросовестно. Стиль был прост и ясен, без вульгаризмов и изысканностей; тон спокойный, серьезный и скромный, совершенно лишенный ругательств, столь обильных в ту эпоху[1348].
Труд Никиты обладал всеми данными для того, чтобы быть глубоко воспринятым народом, так же как и образованными людьми, и привлекать новообращенных. Не знать его было невозможно. Челобитная была передана на рассмотрение Паисия Лигарида, который считался наилучшим богословом, а также Симеона Полоцкого, с тем чтобы тот перевел ее Паисию на латинский язык. Что же касается самого автора, то с ним велись частные собеседования, на которых у него спрашивали объяснения относительно того или другого пункта, одновременно стремясь вернуть его на путь нового православия.
Ввиду того, что в деле с Никитой ничего не помогло, и вследствие того, что во второе воскресение после Пасхи, 29 апреля, собор уже был торжественно объявлен открытым речью царя и ответом Питирима от имени епископата, в первых числах мая приказано было Никите предстать перед собором. После чтения его Челобитной, или, вернее, выдержек из нее, после того как Никита признался, что он ее автор и действительно изложил в ней свои собственные мысли, постарались в последний раз убедить его и заставить признать свои заблуждения. Он был непоколебим. Тогда собор вынес свой приговор: поп Никита лишен священнического сана, отрешен от церкви и подвергается анафеме – он сам и его ко щунственные сочинения[1349]. Суд над ним длился несколько дней, самый обряд отлучения был совершен 10 мая[1350].
Дьякон Федор, бывший в Покровском монастыре, также несколько раз вызывался в Кремль для собеседования и допросов[1351]. 11 мая он официально предстал перед собором, собравшимся в патриаршей церкви. Ему задавали вопросы, сделавшиеся с того времени критерием православия. «Что думаешь ты о вселенских патриархах? – Никто, – отвечал Федор, – не говорит, что они неправославные; но нам известно из “Проскинитария” Арсения Суханова, что у греков нет больше православного крещения, ни истинного крестного знамения. – Но в конце концов, ты-то считаешь их православными или нет? – Они не православные, раз они придерживаются крещения через обливание и творят крестное знамение тремя перстами». И в подтверждение дьякон показал копию книги «Прения с греками», переписанную его собственной рукой с оригинала, принадлежащего Неронову[1352]; он сослался и на признание, сделанное митрополитом Иконийским Афанасием Серапиону, бывшему смоленскому протоиерею, находившемуся в тот момент в Симоновом монастыре. Что же касается патриархов, которые крестят по преданию и творят крестное знамение подобно Мелетию, Феодориту и Максиму Греку, мы их почитаем нашими духовными отцами и наставниками. – А епископы российские, православные ли они? – Вы все? Господь вам судия! Вы проповедуете и заставляете проповедовать относительно Символа веры и пения аллилуии и относительно крестного знамения догматы, противные церкви, мерзостные, нечистые и кощунственные, которым Никон научился у сатаны[1353].
Дьякон передал собору еще небольшой свиток из двенадцати склеенных листов, которым он очень дорожил. Сначала он, «убогий и невежда», поставил архипастырям собора, «обученным диалектике и философии», небольшой вопрос: как вы понимаете стихи Апокалипсиса XX, 1–3; XII, 4; XIII, 18? Если же они не понимали их сущности, то он объявлял себя готовым, с разрешения царя, объяснить их. Без лишних слов, он перечислил им основы своей веры относительно крестного знамения и аллилуии: положения Мелетия, Феодорита, Петра Дамаскина, Петра, митрополита Московского, Максима Грека, Стоглава, Требника Филарета, а также и положения из множества других книг, древних рукописей, российских, сербских, греческих и прочих, которые он сам видел. Затем, чтобы оправ дать прилагательное «истинный» в отношении к Святому Духу в Символе веры, он сослался на все книги первых пяти московских патриархов, на патриархов сербских, болгарских, молдавских, валашских, моравских, на иерархов острожских, киевских, на Евангелие, на отцов церкви, на Дионисия Ареопагита, на Большой Катехизис, на Пролог; это были труды, которым он всецело отдавал предпочтение перед рукописями, ему противополагаемыми; ведь все эти источники, он их внимательно прочел и изучил! В одной рукописи есть «Господь», но нет «истинный», в другой «истинный», но нет слова «Господь», и даже в одной нет ни слов «Господь», ни «истинный», но только «и в Духа Святаго животворящаго». Как верить столь различным символам? Где тут истина? Он назвал еще одну икону из Успенского собора, на которой был написан Символ веры. Он указывал на те же самые расхождения относительно буквы «а» между «рожденным», «несотворенным» – это «а», – говорил он, – вонзенное св. отцами, подобно острию, в скверное сердце Ария; говорил он и о том, что надо читать «несть конца». Наконец, по этому поводу он излагал свое объяснение числа 666 из Апокалипсиса; через шестьсот лет после отступничества римлян малороссы изменили Символ веры, приняли «не будет конца» и исхождение Святого Духа от Сына. Кроме того, один униатский епископ, по имени Мелетий Смотрицкий, уничтожил слово «истинный»; шестьдесят лет спустя здесь, в Великой Руси, Никон, наученный еретиком Арсением, принялся за Символ веры и ниспроверг все догматы; вышло шесть новых Служебников – и все они противоречат друг другу! «А по шести летех что явится, не вем, – время бо открывает. И о сей тайне сокровенной аще вам даст Бог инако разсудити добре: буди, и аз, убогий и невежда, повинуся вам. Ныне же тако сердцем в правду верую и усты исповедую по вышеписаных свидетельством святых книг»[1354].
Его ответы нисколько не походили на оскорбительный памфлет. Это было рассудительное изложение своих убеждений, глубоко продуманное и основанное на авторитетных источниках, без риторических тонкостей, без грубых формулировок, плод деятельности необычайно уравновешенного разума. От его работы веяло не только искренностью, она отражала глубокое волнение верующих перед реформами, которые казалось, извратили веру, перед расколом, который последовал затем, перед предсказаниями Апокалипсиса, которые, по-видимому, точно относились к настоящему времени. Однако все это убедительное изложение его взглядов на новшества Никона и весь пыл его религиозных убеждений не привели ни к чему[1355].
После того как 11-го дело Федора было окончено, перед собором, очевидно 12-го в субботу, предстал Аввакум. Его привезли накануне из монастыря св. Пафнутия Боровского, посадив на плохонькую лошаденку. Весь путь по распутице он совершил без остановок. Без того уже изможденный сидением на цепи в продолжение двух месяцев, он прибыл в Москву полуживой. Утром его ввели в церковь, где происходило заседание собора. Его начали допрашивать, и он стал отвечать. Но после одного его резкого ответа, переданного Козмой, уже невозможно было даже предположить, что он изменит свои твердые взгляды. Приговор был быстро вынесен[1356].
На следующий день, в воскресенье 13 мая, в Успенском соборе приступили во время обедни к лишению сана и отлучению от церкви первых двух осужденных, Аввакума и Федора. Обряд начался после Великого выхода. Протопоп с горечью увидал, как к нему приблизился, чтобы остричь ему волосы, дьякон Афанасий, а также его охранник в Тобольске Матфей Ломков, только теперь его имя было Митрофан и он был ризничим у митрополита Павла. Вот был еще один, которого дьявол сразу же поглотил![1357] Лишение сана было произведено грубо: сорвали все отличительные знаки священства, у Аввакума сняли все то, что подобало его сану, у него также отняли рясу, в которой он ходил. Затем последовало изгнание из алтаря жезлом, пение стиха «Ныне Иуда Наставника своего предает и к дьяволу приобщается». В то же время оба хора, подобно яростным громам, перекликаясь, гремели снова и снова: «Анафема! Анафема!» Аввакум не выдержал и самым громким голосом, насколько хватало сил, также закричал: «Анафема! Анафема! Злым архиереям!» Дьякон Федор тоже закричал вслед за ним по их адресу: «Анафема! Анафема!» «Зело было мятежно в ту обедню», – написал позднее об этом протопоп[1358].
В последний момент, уже в Успенском соборе Федор передал архимандриту Чудова монастыря Иоакиму новый запечатанный свиток в двенадцать листов, с надписью в виде адреса: «Сего писания никому не распечатать и не прочести, кроме самого царя, и с сим писанием хощу аз судитися с вами на страшном суде Христове»[1359]. То не была обстоятельная защитительная речь, это было своего рода завещание. И вместе с тем дья кон, льстя себя какой-то последней надеждой, собрал в своей рукописи, правда, расположив их несколько беспорядочно, большое количество заблуждений, противоречий и произвольных изменений, найденных им в книгах, напечатанных со времени Никона. В «письме» поданном собору, дело касалось только главных вопросов; здесь же говорилось и о подробностях; тут фигурировали: буква «и», добавленная к имени Исус, низведенному, таким образом, до имени Иисуса Навина и Иисуса сына Сирахова[1360]; Божия Матерь, названная просто «детородительницей», и сокращение песнопения «Свете Тихий». «Блудят, государь, што кошки по кринкам, так нынешние переправщики по книгам, и яко мыши огрызуют божественная писания», – писал дьякон. Только в конце своей рукописи он возвращался к принципиальному вопросу: Церковь, говорил он, не могла заблуждаться до такой степени, чтобы надо было восстановить ее в том объеме, как они это утверждали; «Как, государь, прародители твои держали веру и отец твой, государь наш: тако и мы те же догматы хощем держати и спастися, а претворяти их не хощем. (…) Мы, государь, ни от чево не отпали (…). Сами же (…) своя небывалая вносят, и нас силою приводят и хотят покорити мучением». Истинная Церковь сама терпит преследования, а не других преследует. «Не поверь, государь, одному Никону, патриарху бывшему (…). И ныне кажется ученик Христов быти, ноги умывает водою: а иным те же ноги ломает дубиною, а иным кнутом кожю одирает. Христос Спас наш тако не творяше (…) сам бит был, а никово не бил». Федор заклинал царя не верить своим советчикам, искать самому правду, дозволить обеим сторонам свободно говорить и, в конце, говорил о Страшном суде. Затем он отпустил шпильку: «А о том, государь, что у Никона патриарха слышал аз поносныя слова на тебя, царя, – о том скажю, ково ты, государь, зная, пришлешь, или сам спросишь, и об иных тайных делех великих, ихже достоит тебе, государю, ведать»[1361]. Какое жалкое падение, какая некрасивая уловка, достойная лишь заурядного осужденного!
Между тем, когда анафематствованные были в присутствии громадной толпы изгнаны из собора, Федор проявил большую и прекрасную стойкость: сложив пальцы, он начертал ими так высоко, как только мог, знамение запретного креста, воскликнув: «Братья, за эту истину я страдаю и умираю, а равно и за другие церковные догматы!» Оба расстриженные были заперты, каждый отдельно, на Патриаршем дворе, под надзором крепкой стражи. Отныне они принадлежали светской власти. Через два дня (15 мая) за три часа до рассвета, рассказывал Федор, за ним пришли царские стрельцы и отвели его к Красному крыльцу. Сверху сошел какой-то голова и спросил: «Верно ли, что это дьякон Благовещенского собора?» Стрельцы ответили: «Да!» Тогда он приказал стрельцам отвести его к сторожевому посту у Каменного моста. Уже начинало светать, когда появился полуголова, приказавший ему и страже без оружия следовать за ним до Трехсвятительского моста[1362]. Туда прибыл дьяк Тайного приказа Дементий, который сказал Федору: «Поедь, куды повезут, и не кручинься: сердце царево в руце Божии».
Федор вообразил, что царь был в селе Коломенском и собирается сам его допросить о его челобитной. Но у заставы он увидел вооруженных стрельцов с телегами: его посадили на одну из них и повезли по незнакомой дороге, не по той, которая вела в Коломенское[1363].
Аввакума извлекли из его темницы намеренно несколько позднее Федора и подвергли его такому же обращению. Он подумал, что его собираются бросить в реку! Но Дементий, вернувшись с Трехсвятительского моста, ожидал его у Тайницких водяных ворот. «Протопоп, велел тебе государь сказать: не бось-де ты никово, надейся на меня!» Во время всех этих событий царь был в своем селе Преображенском[1364]. Он поручил своему доверенному лицу, человеку, выполнявшему тогда во многих отношениях роль министра тайной полиции, выразить свою благосклонность тем, которых он одновременно предавал величайшим оскорблениям! Аввакум ответил: «Челом бью на его жалованье!» Эта тонкая ирония была единственным возможным ответом. Идя по мосту, Аввакум вспомнил стих псалма относительно непостоянства князей века сего: «Не надейтеся на князя…»
Так как это был его первый выход после лишения сана, без бороды ему было не по себе. Нелепый хохол, оставленный на лбу, делал его похожим на поляка. За двумя мостами его ожидал полуголова Осип Салов со своими вооруженными людьми. Ему приказали сесть на телегу. Скоро, покинув дорогу, поехали вдоль Москвы-реки, по болотистым местам. И только тогда Федор, обернувшись, и Аввакум, все время смотревший только впереди себя – эти оба проклятые и отлученные – издали увидели друг друга. Это разобщение, этот увоз ранним утром, этот необычайный путь объяснялся одним: от верующих хотели скрыть место заключения их пастырей[1365].
IV В Николо-Угрешском монастыре; Никита и Федор поддаются, Аввакум – непоколебим
К восьми часам после полудня путешествующие могли различить купола, а затем и стены монастыря св. Николы что на Угреше, построенного Дмитрием Донским после Куликовской битвы на месте, где он нашел на сосне образ святителя Николы Мирликийского[1366]. Подобного рода монастыри-крепости были в то же время и тюрьмами. Два стрельца взяли Аввакума под руки, накрыли ему голову епанчой и втолкнули его в боковые ворота, выходящие в рощу. Таинственность продолжалась! Федор, увидев исчезновение своего товарища, подумал, что они уже больше никогда не увидятся. В свою очередь, и на его голову накинули большую рогожу, покрывавшую его до пят, и уволокли его таким же образом. Когда стрельцы оставили его одного, он оказался в пустой башне с бойницами, замурованными каменной кладкой, и с запертой дверью[1367]. Аввакум был брошен в «палатку студеную» над ледником. У них был, хотя они этого и не знали, соузник – поп Никита.
Стража, находившаяся под начальством полуголовы, была строгая и многочисленная. Настоятель Викентий, только что избранный на эту должность и сделавший в последствии во владимирском Рождественском монастыре, а затем и в Троице-Сергиевом монастыре такую блестящую карьеру, вовсе не был намерен рисковать своим положением из-за осужденных. Заключенных держали в полнейшей изоляции, в особенности сначала. Федор попробовал было сообщить о себе жене из боязни, как бы она, обезумев от его исчезновения, не наложила бы на себя рук. Он получил от своего тюремного стража категорический отказ на просьбу дать ей о себе весточку.
Все трое осужденных познали тогда одни и те же внутренние терзания. Борец против неправды, глава партии сопротивления нередко видит только ближайшую осязаемую цель: если его постигнет неудача и если он человек с твердым характером, он будет думать только о том, как бы эту неудачу исправить, наперекор всему и всем. Но человек с большой совестью, как бы тверда ни была его вера, постоянно задает себе вопрос: прав ли я, виноват ли я? В случае неудачи, когда он видит всех и вся восстановленных против него, его неудачи претворяются в сомнения, а сомнения, в свою очередь, превращаются в навязчивую идею. Не быть в общении с другими, быть одиноким является ужасным испытанием, для русской души в особенности. Конечно, говорит он себе, мои аргументы все те же, они по-прежнему имеют всю силу, но прав ли я все же перед лицом стольких противников, перед всеми епископами, перед царем, перед учеными богословами? Не был ли я во власти самообольщения, гордыни? В вынужденной бездеятельности тюрьмы, в безысходном одиночестве эти навязчивые идеи становятся уже сущим мучением: даже среди людей сильных духом только самые сильные могут устоять, другие же не выдерживают и гибнут.
Аввакум первый оказался охваченным этими мыслями:
«Тогда нападе на мя печаль и зело отяготихся от кручины и размышлях в себе, что се бысть, яко древле и еретиков так не ругали, яко же меня ныне: волосы и бороду остригли, и прокляли, и в темнице затворили никонияня».
Искушение было ужасное, но он стал молиться:
«И о том стужах Божеству, да явит ми, не туне ли мое бедное страдание. И в полунощи во всенощное, чтущу ми наизусть святое Евангелие утреннее над ледником на соломке стоя, в одной рубашке и без пояса, в день Вознесения Господня, бысть в Дусе весь, и ста близ меня по правую руку ангел мой хранитель, улыскаяся и приклоняяся ко мне, и мил ся мне дея; мне же чтущу святое Евангелие не скоро и ко ангелу радость имущу, а се потом изо облака Госпожа Богородица яви ми ся, потом и Христос с силами многими, и рече ми: “Не бойся, Аз есм с тобою”. Мне же ктому прочетше х концу святое Евангелие и рекшу: “Слава Тебе, Господи”, и падшу на земли, лежащу на мног час, и, егда отъиде слава Господня, востах и начах утреннюю кончати. Бысть же ми радость неизреченна, еяже невозможно исповедати ныне»[1368].
Для Аввакума испытание было коротким, ибо Вознесение в этом году выпало на 24 мая. Затмение солнца, бывшее во время Петрова поста, 22 июня, казалось ему, являло собой гнев Божий против его преследователей и еще более утвердило его[1369].
Его соузники были в худшем положении. Дьякон Федор также просил Бога открыть ему, не было ли в старой вере какой-нибудь ошибки и не была ли новая вера правой. В продолжение трех суток он не ел, не пил и не спал. Ему было указано свыше: надо умереть за истинную веру и не принимать никаких новшеств. Но после поста, заболев, он стал подумывать, что, если бы он попросил вызвать духовника, он мог бы сообщить о себе своей семье и, узнав, что первое условие этого было подчинение церкви и собору, он подписался под документом, что «во всем повинуется святой восточной соборной и апостольской церкви и всем православным ея догматом»; он умолял царя освободить его из тюрьмы и возвратить его к его бедной жене и малым детям[1370]. Заявление можно было понимать и так и сяк, но это уже был какой-то первый шаг.
Никита, менее благоразумный и более импульсивный, чем Федор, не мог далее сопротивляться своему пребыванию в тюрьме: он сообщил, что желает признать свою вину и исправиться. Власти ответили готовностью выполнить его доброе намерение. Настоятелю Викентию, впрочем, поручили добиться от Никиты более явно выраженного подчинения. 2 июня Никита и Федор подписались под всеми требованиями, которые составил настоятель[1371].
Никита, вступивший на этот путь, его уже так и не покинул: 21 июня состоялась «искренняя исповедь», в которой он признавал православными греческих патриархов, книги, которыми они пользуются, русских епископов, Никона, «Скрижаль» и предавал проклятию свои собственные сочинения; через несколько дней появилась новая исповедь, уже обращенная непосредственно к собору и внесенная в его Деяния; позднее, когда он был восстановлен в церкви, состоялась снова публичная подробная исповедь[1372].
Федору оставалось только ждать последствий своей капитуляции. Наконец, 27 августа, Мария Ильинишна подарила царю двенадцатого ребенка; по этому случаю были объявлены всякого рода милости. В тот же день Федор был возвращен в Москву, подписал еще одно заявление, не оставлявшее уже никакого сомнения в его вероисповедании[1373], и был помещен на Крутицком подворье вместе с монахами, жившими в доме митрополита Павла[1374]. Никита же через несколько дней после описанных событий был выпущен[1375].
То был момент, когда перед собором проходили один за другим приверженцы старой веры, признавая наперебой свое подчинение, то были: 17 мая – Серапион, бывший смоленский протоиерей[1376]; 30 мая – Сергий из Кривоозерского монастыря близ Юрьевца[1377]; 1 июня – Ефрем Потемкин[1378]; 30 июня – Антоний, архимандрит муромского Спасского монастыря[1379], Авраамий, монах Казанского монастыря в Лыскове[1380], и, может быть, также Сергей Салтыков[1381] и Игнатий из Соловков[1382]. 1 июля – сам Неронов[1383], Феоктист[1384], Герасим Фирсов[1385]. Архимандрит Варфоломей из Соловков, очевидно, также уже изъявил свое безоговорочное присоединение к решениям собора[1386].
2 июля иерархи сформулировали свое решение в целом. Возмущение против церкви объяснялось либо невежеством, либо распущенной жизнью или неоправданной гордостью, либо усердием не по разуму. Собор доказал, что новые книги не содержат в себе ничего противоречащего православию, поэтому все священники должны выполнять церковные службы по пересмотренным Служебникам и Требникам, употреблять просфоры, носящие печать четырехконечного креста, осенять себя только троеперстным знамением, в молитве Исусовой употреблять «Боже», а не «Сыне Божий», трегубить аллилуию, а благословлять двумя пальцами, изображающими имя Исуса Христа. Это решение должно было быть послано по всей Руси и переписано у благочинных подчиненными им священниками[1387]. Таким образом, налицо было торжественное осуждение старой веры, долженствовавшее немедленно быть приведенным в исполнение.
Однако собор понимал, что немотивированное осуждение никогда не сможет убедить верующих, «вступивших на путь заблуждения». Их доводы были сконцентрированы, главным образом, в двух сочинениях: в Челобитной Никиты и в «Свитке» Лазаря. Было решено, что будет срочно напечатано подробное опровержение этих сочинений: Паисий Лигарид написал его по латинскому тексту Симеона Полоцкого, но его схоластические, отвлеченные понятия, которыми он пользовался, и его напыщенный слог оказались мало пригодными для назначенной цели[1388]. 7 мая Симеону было поручено переделать опровержение. 18 мая он впрягся в эту работу, и 13 июля книга была закончена: она была названа «Жезл правления». Это была обширная работа, в которой без всякой последователь ности, не считаясь с выражениями оригинала и, что было еще важнее, не считаясь с доводами авторов, трактовались и были отвергнуты тридцать тезисов Никиты (1 часть) и семьдесят тезисов Лазаря (2 часть). Эта работа, однако, была все же в общем выполнена добросовестно, вразумительно, написана языком, доступным образованному читателю; при всем том она была полна презрительных бранных слов. Книга эта, одобренная собором и отданная сейчас же в печать[1389], сделалась вскоре неисчерпаемым кладезем премудрости для защитников официальной церкви. Одновременно Герасим Фирсов, также известный как искусный полемист, обязался написать «опровержение своих заблуждений»[1390].
Все это должно было служить целям будущего. Теперь же, в качестве ближайшей задачи, собор постарался полностью уничтожить ересь. 16 июня он направил Ефрема Потемкина в сопровождении монаха Филарета и дьякона Василия «в те самые места, где он посеял плевелы»: в Балахну, Нижний, в Макарьев Желтоводский монастырь для того, чтобы объявить народу, что его прежнее учение было дьявольским наваждением и отвратительной ложью, а также прочесть публично свое изъявление раскаяния, что и было им точно выполнено.
В Нижнем было созвано два больших собрания духовенства и царских людей, от воеводы и до дворян; одно под председательством архимандрита Печерского монастыря, другое, на следующий день, в Благовещенском монастыре. Посланные от собора прочли там решение царя, затем Ефрем повинился в своих заблуждениях, прочел исправленный Символ веры и сотворил напоказ всем крестное знамение тремя перстами. Тогда присутствующих спросили, принимают ли они этот Символ веры и это крестное знамение. Все единогласно заявили: «Принимаем их и присоединяемся к ним!» Затем священники собрали в приходах своих верующих; прихожане заявили: «Мы не противники церкви, мы во всем вам повинуемся», причем никто не сказал ничего противного.
После этого посланные 10 июля направились в сопровождении охраны из двадцати человек в Макарьев монастырь, где тогда была ярмарка. Через глашатая созвали они весь народ в церковь и после окончания обедни приступили к тому же. Дьякон Василий отвечал на сомнения, выраженные собравшимися. Находившийся тогда на покое Симеон, архиепископ Тобольский, присутствовал при этом. То же самое было повторено 13-го в церкви и дважды 15-го на самой ярмарке. Весь народ слушал с радостью, и не было никакого беспорядка, только один человек из Мураш кина громко вскричал: «Новая де вера ныне учала быть!» За это его поволокли в тюрьму в Нижний, где он обещал отныне повиноваться.
20-го посланные были в Балахне: воевода потребовал к себе священников, дьяконов и других низших церковнослужителей всего уезда, также и городское духовенство, и в воскресенье, после обедни, Ефрем прочел еще раз в церкви свое «повинное письмо»; затем Василий также прочел его с возвышенного места в центре городка, так как Ефрема не мог слышать весь народ. И там так же весь народ закричал: «Принимаем!», – и не было никакого беспорядка. В третий раз Ефрем прочел письмо на базарной площади.
26-го в Нижнем посланные созвали еще три собрания, чтобы никто не остался неосведомленным, и каждый раз говорили более часа относительно книг и таинств, и все с тем же успехом. Они получили письменные заявления от духовенства, поступившие от двух архимандритов, одного игумена, двух протопопов, двадцати восьми священников и шести дьяконов из Нижнего, шести монастырских старцев из окрестностей, в общем от ста шестидесяти шести священнослужителей.
Однако попы Стефан из церкви св. Илии, Дионисий из церкви свв. Петра и Павла и Иаков из церкви св. Николы, что на Торгу, исчезли, не подписавшись. На некоторых других священников Нижегородской епархии, так же как на одну игуменью из Лыскова, а равно и на некоторых мирян были сделаны доносы, но те, которых нашли, все сейчас же изъявили свою полную покорность[1391].
Таким образом, собор послал в один из главнейших очагов сопротивления настоящую «миссию». Она имела целью отчасти наставить верующих, а скорее, их устрашить и принудить, хотя бы и требованием обещаний и подписей[1392]. Повсюду, до самых отдаленных окраин, старая вера преследовалась церковными и гражданскими властями; от нее отрекались вчерашние ее сторонники и наставники, даже и самые пылкие; не было, казалось, ни одного уголка, где она могла еще существовать; она как будто умерла. При этой грандиозной катастрофе, в этом общем отступничестве остался тверд в своей темнице один Аввакум.
Кончилось тем, что место его пребывания стало известно. Слух о его видении в день Вознесения распространился. У него были, как он говорил, другие небесные видения, помимо посещения его ангелом-хранителем. Однажды в монастырь прибыл царь: Аввакум видел, как он ходил в нерешительности вокруг его темницы, как говорил с начальником стражи и как он вернулся обратно, не решаясь на большее. Боярин князь Иван Воротынский, большой сановник, земляк Аввакума по Нижегородскому краю, как-то попросил свидания с ним, попытался передать ему некоторую сумму денег – и получил отказ[1393]. Были и более удачные посещения. В субботу 7 июля, за час или два часа до наступления ночи, оба сына Аввакума, Иван и Прокопий, со своим двоюродным братом Макаром, сыном попа Козмы, вошли с толпой молящихся в Николо-Угрешский монастырь, провели ночь в трапезной и по окончании всенощной стали бродить под окном Аввакума: в тот момент он был в «палатке» под церковью. Так как было еще темно, стража сразу их не обнаружила. У них было время спросить у Аввакума, жив ли он еще. Он им ответил: «Живите де не тужите». Естественно, их заметили, схватили и отвели к настоятелю Викентию. Испуганные, они выдали себя за детей попа Козмы. Перед патриаршими судьями они вынуждены были обнаружить свою личность и свои намерения. Только один, Прокопий, признался, что он обменялся несколькими словами с заключенным[1394]. После этого Иван и Прокопий были заключены в Покровский монастырь. Макар и его отец получили свободу только благодаря поручительству одиннадцати человек, среди которых был Герасим из церкви св. Дмитрия, при том было поставлено условие ежедневно являться властям впредь до нового распоряжения. Однако 4 сентября митрополит Павел, по их прошению, распространил на сыновей Аввакума амнистию по случаю рождения нового царевича, и 20 сентября они были освобождены, опять-таки под поручительство, с письменным обязательством не отделяться от церкви, никому не рассказывать лжесновидения их отца Аввакума и ежедневно являться на поверку, впредь до нового приказа[1395]. Итак, то, чего боялись больше всего, – это распространения слухов о видении в день Вознесения, которое было известно и придавало бодрости сторонникам старой веры[1396].
В это время, кстати сказать, Аввакум был уже удален из московских пределов. 3 сентября игумен Викентий передал его страже, которой было поручено снова отправить его в монастырь св. Пафнутия Боровского[1397].
V Перевод. Перед собором 1667 года. Страдания Лазаря и Епифания и приговор о ссылке
5 сентября[1398] небольшой отряд – один десятник и три стрельца из полка Ивана Зубова, на этот раз под командованием Григория Салова[1399], с заключенным выступил за стены монастыря св. Пафнутия Боровского. «И как к вам ся наша великаго государя грамота придет и протопопа Аввакума к вам привезут, и вы б ево Аввакума приняли и велели посадить в тюрму и приказали ево беречь накрепко с великим опасением, чтоб он с тюрмы не ушел и дурна никакова б над собою не учинил, и чернил и бумаги ему не давать и никого к нему пускати не велеть, а корму давать, как и прочим колодником». Таков был наказ, данный игумену Парфению и его братии[1400]. Вместо того чтобы попасть под амнистию 27 августа, Аввакум подвергся усиленному наказанию.
Какая была бы одержана победа, если бы удалось сломить его сопротивление! И какое облегчение было бы для царя, если бы его политика и его чувства могли действовать заодно! Закованный в цепи, без света, в тюрьме, воздух которой был отравлен, ибо его никогда не выпускали, Аввакум не имел даже нравственного покоя. 12 сентября некий дьякон, вдовец, бывший пушкарь, по имени Василий Васильев пришел его увещевать с тетрадями, полными богословских текстов[1401]. После этого Аввакуму предоставили несколько недель передышки.
Столь желанные приглашенные, святейшие вселенские патриархи Антиохийский Макарий и Александрийский Паисий были на пути в Москву. Приняты они были торжественно; состоялось это в пятницу 2 ноября, в этот день шел снег и было ветрено. 5 ноября они тайно совещались с царем с 5 ч. до 10 ч. вечера; тогда-то, очевидно, и был установлен порядок работы собора. 7 ноября начинались совещания с русскими иерархами[1402]. Немедленно перед архиереями предстал поп Лазарь, который, будучи только недавно привезен из Пустозерска[1403], не мог появиться перед собором 1666 г. Но произошел непредвиденный случай. Лазарь предло жил прибегнуть к суду Божьему: «Пошлите меня на костер; если я сгорю, ваши новые книги правы; если же не сгорю, то правы старые книги». Смущенные греки отказались продолжать прения и спросили совета у царя. Царь не принял никакого решения[1404].
Подготовительные совещания следовали одно за другим. Новый собор открылся 1 декабря судом над Никоном: 12 декабря приговор о низложении был прочтен бывшему патриарху его прежним любимцем Иларионом Рязанским. Теперь предстояло перевести осужденного в назначенное ему место покаяния, очень бедный монастырь Вологодской области, именно Ферапонтов монастырь. Туда он прибыл только 21 декабря. Все это дело, впрочем, не обошлось и без споров[1405].
Ввиду того, что собор 1666 года одобрил реформы Никона, восточным патриархам, логически рассуждая, оставалось только утвердить приговор 1660 года, исполнение которого не было осуществлено из-за колебаний царя, и затем избрать нового патриарха. Однако сочли нужным снова начать весь процесс, добавив к прежним жалобам новые, которые сводились к следующему: Никон неправильно критиковал царскую власть, он написал, что митрополит Филипп был замучен царем Иоанном, назвал Уложение безбожным, жаловался, что царь Алексей назначает епископов, созывает соборы и судит духовных лиц, негодовал, что иерархи и монастыри должны доставлять государству людей, деньги и зерно, выразил свое мнение, что царь угнетает и разоряет народ.
Осуждение Никона означало и осуждение его великой идеи: господства патриаршества над государством, его абсолютной власти в делах религиозных и его права наблюдать за гражданскими делами. Это осуждение подтверждалось и осуждением епископов, которые утверждали тот же принцип, независимо от Никона, основываясь на словах Иоанна Златоуста, что «священство выше всего, как дух выше тела». Эти епископы были Павел и Иларион: из-за своих заблуждений «никонианских и папистских» они были отлучены и с них не спускали глаз. Собор, правда, определил, что каждая из двух властей была верховной в своей области, но Лигарид и два патриарха столько раз утверждали во время прений, что ослушание царю наказуемо анафемой, что царь – святой, что царь – Бог, что это определение в действительности означало не что иное, как то, что «гражданская власть превыше всего»[1406].
Ревнители благочестия хотели поднять достоинство священства настолько высоко, чтобы оно распространяло свое духовное влияние и на гражданскую власть; Никон же извратил эту мысль, облекши ее в материальную оболочку; из-за этого оказывалось, что священство бессильно, как только оно покидало свою узкую область, притом еще слишком слабо очерченную и могущую быть произвольно суженной гражданской властью; гражданская же власть отныне находилась вне поля религии. Неважно было, что было упразднено государственное управление церковным имуществом и что архиереи были освобождены от своих гражданских дьяков; это была смехотворная цена, которую государство платило за свое освобождение от церковной опеки[1407].
Споры заняли январь месяц вплоть до 25-го числа. В четверг 31 января, собор избрал патриархом всея Руси Иоасафа[1408], бывшего архимандрита владимирского Рождественского монастыря, в данный момент возглавлявшего Троице-Сергиев монастырь, нигде ничем себя не проявившего; его посвящение задержалось из-за болезни Паисия Александрийского до 10 февраля[1409]. Затем собор разрешил разные вопросы, как перекрещивание католиков, которое было категорически воспрещено[1410], а после этого наступили праздничные дни Пасхи, выпавшей на 7 апреля. И только потом перешли к обсуждению старой веры.
20 апреля Никанор, который, наконец, сдался на приглашение царя[1411], представил письменное удостоверение своего полного подчинения[1412]. 21 апреля поп Амвросий, дьякон Пахомий и соловецкий монах Никита поступили так же и даже обещали вернуть церкви отпавших. Они были прощены. Бывший поп Никита из Суздальского кафедрального собора был также опять присоединен к церкви[1413]. Подобно тому и Неронов, неизвестно только когда, изложил свое исповедание веры по-новому, на этот раз полное и окончательное[1414]. Этот собор с тремя присутствовавшими патриархами, представлявшими всю восточную церковь, был, казалось, еще более внушителен, чем предыдущий.
Чтобы покорить Аввакума, пустили в ход всяческие способы нажима. 4 декабря игумен Парфений лишил его в течение трех дней его скудного пайка и перевел его в ледяную темницу. Его и без того уже суровый режим сделался еще более суровым. Келарь Никодим, который до сего времени был с ним довольно мягок, стал, без сомнения получив на то приказ, напротив – жесток: все отдушины были наглухо закрыты лубьем и законопачены, и протопоп испытал весь ужас погибнуть от удушья. И только Иван Камынин, прежний воевода Верхотурья, вернувшийся теперь на Русь и живший в своих владениях, пришел навестить своего старого друга; увидев все, он чрезвычайно разгневался и своими руками сорвал со слухового окна все, что мешало проникновению воздуха. Этим он прекратил мучения протопопа. Так как он был вкладчиком монастыря, то с его волей пришлось посчитаться. Однако когда в честь Великого дня Пасхи Аввакум попросил позволения подышать воздухом и посидеть у порога, то келарь ему и в этой милости отказал. На этот раз он был чудесным образом отомщен. На следующий же день Никодим смертельно заболел; ночью в видении Аввакум поставил его на ноги; во вторник же утром он, действительно, выздоровел. Никодим пришел поблагодарить его и благодарил без конца, несмотря на то, что Аввакум говорил, что он не при чем. Никодим просил у него прощения, просил взять его под свое руководство: «Как мне жить теперь во Христе?» Аввакум посоветовал ему не покидать официальной церкви, ни даже своей службы келаря, но хранить втайне старое благочестие.
После этого не могло быть и речи о суровом режиме для него. Все монастырские жители искали благословения человека Божия. Стража его превратилась в его соучастников. Когда приходили его навещать, то стража делала вид, что она ничего не знает. Пришли повидать его и его дети. Федор, юродивый Христа ради, приходил к нему за советами. В момент отъезда Аввакума на Мезень Федор был принят Морозовой в ее хоромах, но он вовсе не пожелал жить взаперти; он чувствовал после решения собора 1666 года, что его преследуют по двум линиям: как сторонника старой веры и как юродивого. Он ведь был уже однажды арестован, послан на покаяние в Рязань, изведал хлесткий кнут Илариона. Ему удалось убежать чудом, но перед ним теперь вставал вопрос: надо ли продолжать юродствовать, ходить в одной рубашке или же, может быть, начать одеваться, как все люди? Аввакум приказал ему одеваться обычным образом и скрываться[1415].
Мучения, которым предавали Аввакума, как было ясно, не достигали никакого успеха; тогда перешли к увещаниям. 30 апреля Аввакум снова увидел вдового дьякона, но этот странный посланник оказался пьян и хотел его убить. 30 апреля Аввакум был привезен в Москву[1416] и оставлен сидеть на цепи в подворье монастыря св. Пафнутия Боровского[1417]. Много раз совершал он путь через весь Китай-город с Посольской улицы в Чудов монастырь. 3 мая, по приказу царя, накануне уехавшего в Коломенское, архимандриты Иоаким и Сергий увещевали его снова и старались соблазнить его: все было безрезультатно! Что могли сделать эти новоиспеченные архимандриты, первый от Чудова монастыря, второй от Ярославского Спасского монастыря, первый – бывший военный, скорее слепо преданный порядку и дисциплине, чем вере и милосердию, второй же – своего рода ренегат, еще в прошлом году бывший в прекрасных отношениях с дьяконом Федором! 11 мая по приказу царя и патриархов последовали со стороны тех же лиц те же самые увещания[1418]. Хорошо было бы, прежде чем подтвердить приговор против старой веры, объявить о подчинении Аввакума! Но свидание было бурным: Аввакум не уступал. «Грызлися, что собаки, со мною власти», – писал он потом. Но надо было переходить к другим вопросам: 13 мая собор снова повторил анафему упорствующим. Затем он уточнил даже то, что только подразумевалось в 1666 году[1419], а именно что осуждение касалось не только неповиновения, но и старых обрядов как таковых, названных еретическими. Теперь не было больше спасения, невозможны были никакие прения: были определены две церкви, одна бесспорно ложная, другая истинная.
Это постановление могло только укрепить Аввакума в его убеждениях. 17 июня решено было, чтобы все упорствующие предстали перед собором. И перед собором, во всем его полном составе, Аввакум был более тверд, чем когда-либо. Попытались «открыть ему глаза» элементарными доводами, благодаря которым удалось так хорошо убедить других. Но после короткого обмена репликами он перешел в наступление: «Вы, патриархи, говорите, что де я один остался творить крестное знамение двумя перстами. Но до Никона вся Русь крестилась двумя перстами, и Стоглав тому порука. И как смеете вы представлять православие, вы, которые находитесь под мусульманским игом. Вы, русские, говорите, что наши рус ские святые глупы были и неученые, как-де можно им верить? Они грамоте не ведали – однако ж греки приходили у них поучаться благочестию».
Среди русских самыми ожесточенными были Павел и Иларион. Это они, эти ученые мужи, кричали: «Наши святые глупы были». Иона Ростовский ограничивался тем, что сидел с важностью, «как будто он знает что-то». Тут Аввакум перешел на брань.
Такого рода дерзость в устах человека, надлежащим образом осужденного и отрешенного от церкви, вызвала целый вой. Аввакум же стал еще сильнее «лаять», как гончая собака. Он довел их до бешенства, закончив речь словами: «Чист есмь аз, и прах прилипший от ног своих отрясаю пред вами, по писанному: лутче един творяй волю Божию, нежели тмы беззаконных!» Беззаконные! Это слово было оскорблением, брошенным в лицо всему собору. Патриархи, которым все переводил архимандрит Дионисий, епископы с Иларионом и Павлом во главе, архимандриты – все бросились на богохульника. Он погиб бы под их ударами, если бы не начальник Судного приказа Иван Калитин, который увел его. Может быть, в этот самый момент Иоаким сжалился над ним и дал ему испить квасу.
У двери церкви, где происходило заседание собора, Аввакум нашел возможность пристыдить своих противников: «А вы, убивше человека, как литоргисать станете?» Тогда иерархи сели. Аввакум же лег у порога, показывая тем самым, что он не участвует в соборе и, вместе с тем, что он насмешливо перед ними уничижается, и сказал «Мы уроди Христа ради! вы славни, мы же бесчестни! вы силни, мы же немощни!» Его опять привели. Приступили ко второму вопросу, к вопросу об аллилуие. Ему, очевидно, попытались доказать, что житие Евфросина Псковского не имеет никакого значения; он же ответил словами Дионисия Ареопагита. Изо всех только один этот человек, человек, измученный заключением в тюрьме, продолжавшимся целый год, остался непокоренным. Келарь Чудова монастыря, ученый монах Евфимий заключил с досадой: «Прав-де ты – нечева-де нам болши тово говорить с тобою»[1420].
В своей тюрьме Лазарь пережил немало душевных невзгод. Сначала, по-видимому, он пользовался некоторой свободой передвижения. Но затем он познал всякого рода жестокое обращение: оскорбления, удары, цепи на шее и на ногах. Тогда он соблазнился желанием предложить царю компромисс: соблюдать молчание, только бы ему оставили старые книги. Но в субботу на пятой неделе Великого поста, 23 марта 1667 года, он видел во сне пророка Илию, который приказал ему пристыдить еретиков[1421]. Тогда к нему вернулось мужество. Выступая перед собором, он сыпал упреками и издевался. Он был отлучен.[1422].
Был и другой непримиримый сторонник старой веры, который недавно только объявился: то был инок Епифаний. Прошлый год, когда он был на Водле, ему явился архимандрит Илия и приказал ему написать царю, чтобы уничтожить заблуждения и вернуть его к истинной вере. Тогда он сказал своему собрату по скиту: «Брат Корнилий, пойдем-ка в Москву никонианское беззаконие обличать и за веру пострадать. Время пришло действовати». Он постился шесть недель, дошел почти до смерти из-за истощения, чтобы узнать от Бога, истинно ли было их намерение. Затем он, положив себе на грудь свою вдохновенную челобитную, отправился в путь. Он хотел спасти царя! Он был арестован, как и другие; его убеждали, но он ничего и слушать не хотел. Он предстал перед собором 17 июня и был предан анафеме[1423]. С тех пор неведомому никому иноку предстояло разделить участь людей самых выдающихся, духовных лиц, исповедовавших старую веру.
Царь, уехавший 14 июня в свое село Преображенское, вернулся 19-го, чтобы узнать, что случилось с Аввакумом, и посовещаться с патриархами; вечером того же дня он вернулся обратно[1424].
В один из следующих дней полуголова с тридцатью стрельцами прибыли, чтобы забрать узников и отвести их на Воробьевы горы[1425]. На Епифания и Лазаря, только что расстриженных, тяжело было смотреть. Аввакум был счастлив, что наконец-то вместе с ним были братья по вере. Он, конечно, познакомился с Епифанием и предвидел в этом простом и чистом человеке, воодушевленном единственно только духовными дарованиями, своего будущего духовного наставника.
Воробьевы горы возвышаются на юго-западе от Москвы, в двух верстах от Кремля; у подножья их, за рекой, виднелись золоченые купола Новодевичьего монастыря. Великие князья оценили красоты этой возвышенной и покрытой яркой растительностью местности. Иоанн III построил себе там загородный дом, который Василий расширил, превратив его в дворец, затем сгоревший и подвергнутый перестройке. Алексей же был вообще большим прожектером и любил создавать образцовые хозяйства: он разбил вокруг дворца два плодовых сада, фрукты из которых продавала казна[1426].
Узники мало что могли видеть от этой прекрасной природы: они были снова разлучены и помещены в разные места заключения; за ними был учрежден беспрерывный надзор; ночью у них зажигали свечи. Стрельцы исполняли свою функцию надсмотрщиков по совести, не отпуская узников ни на шаг. Они, однако, одновременно буквально лезли из кожи вон, чтобы оказать им дозволенные услуги. Это были грубые люди, которые пили и ругались, но инстинктивно чувствовали моральное превосходство узников, которое они и уважали. Протопоп чувствовал себя с ними ближе, нежели с резонерами-монахами в греческих клобуках. Он обрел бы среди этих стрельцов духовных чад, если бы этот короткий отдых не был вскоре прерван[1427]. 26 июня к нему явилось целое посольство от царя. Глава его – Тимофей Марков увещевал Аввакума вежливо и вместе с тем сентиментально: этот посланник был не только дьяком Конюшенного приказа, но одновременно и наперсником Алексея, его правой рукой в Тайном приказе; он же был и организатором Измайловского поместья[1428]. Религиозные доводы были поручены посланнику, который был не кто иной, как Неронов. То было жестокое свидание, поразившее Аввакума в самое сердце! Его старый духовный наставник, которого он все еще продолжал любить, человек, о котором он, невзирая ни на что, не позволил сказать ни одного дурного слова, – пришел убеждать его, чтобы он отрекся от своей веры! Много было тут сказано друг другу крепких слов, много было крика, о чем впоследствии оба не могли вспоминать без стыда. Позднее, дополняя рассказ об этом периоде своей жизни в Житии, Аввакум предпочел умолчать о Неронове и назвал только Тимофея.[1429] После этого скандала он почувствовал необходимость облегчить себя и написал царю дружеское послание, посылая ему и его семье свое благословение. Он поручил отнести это письмо сотнику, своему стражу Ивану Лобкову[1430].
30 июня узники были отвезены на Андреевское подворье: оно находилось на берегу Москвы-реки, но ближе к городу. Это был тот самый знаменитый учительный монастырь, который был некогда основан Ртищевым, чтобы поселить там киевских ученых. Узников заперли в конюшне. Тут снова возобновились увещания, по крайней мере в отношении Аввакума. 4 июля его навестил Башмаков: теперь Аввакума обрабатывал сам ловкий начальник[1431]. Отсюда заключенных перевезли в Са вину слободку, все в том же районе, но на другом берегу Москвы-реки, ближе к Новодевичьему монастырю[1432]. Оттуда же 20 июля их снова направили в Николо-Угрешский монастырь. Может быть, эти постоянные переводы делались со специальной целью подействовать на нервы узников? С другой стороны, может быть, они были и результатом растерянности царя, который не знал, на что ему решиться. 22 июля бедный Алексей, ободренный посланием Аввакума и все-таки надеясь на невозможное, послал в Николо-Угрешский монастырь Юрия Лутохина: этот стрелецкий голова, также прикомандированный к Тайному приказу, не был, по всей видимости, лишен дипломатических способностей, так как ему часто доверяли такого рода поручения[1433]. Свидание было по крайней мере миролюбивым. Царь Алексей передал Аввакуму через Лутохина: «Разсудит де, протопоп, меня с тобою праведный Судия Христос». Он просил у отлученного молиться за него, за его жену и детей! Говорили они и о том, и о сем[1434].
Но на соборе царь отрекся от Аввакума. Ночью с 4 на 5 августа его с его соузниками снова привезли в Москву, на подворье Николо-Угрешского монастыря на Покровке, близ Ильинских ворот Китай-города. Там их передали трем архимандритам, тому же самому Сергию Ярославскому, Иосифу Хутынскому из монастыря близ Новгорода и Филарету Владимирскому[1435]. Этот последний был родом из области, давшей Руси великих подвижников благочестия. Он родился в окрестности монастыря св. Макария, там, будучи юношей, он принял монашество; в 1658 году он заступил место Илариона в Печерском монастыре в Нижнем Новгороде, затем был назначен в ноябре 1659 года архимандритом в Рождественский монастырь во Владимир, где он и принимал восточных патриархов, направлявшихся в Москву, и снискал их благоволение[1436]. Он сделался, может быть по убеждению, а может быть из-за честолюбия, ярым противником старой веры. На этот раз дело шло о некоторого рода официальном собеседовании, касавшемся спорных вопросов: настаивали, чтобы узники подписались под особой бумагой, после чего им обещали свободу. Собеседование было прервано, но затем продолжено. В конце концов Аввакум передал допрашивавшим «сказку», написанную его рукой[1437], без сомнения, совершенно отличную от той, которую у него требовали. Лазарь и Епифаний сказали, что у них уже взяли «сказки» об их правоверии; первый из них, очевидно, подразумевал под «сказкой» свою челобитную; второй – свиток, переданный Трофимовым.
Тогда на них стали напирать еще настойчивее, еще чаще увещать. Ночью 8 августа к ним опять пришел Башмаков. 10 августа пришел еще какой-то архимандрит и Артамон Матвеев. В особенности донимали Аввакума. Все они повторяли слова царя: «Протопоп, ведаю-де я твое чистое и непорочное и богоподражательное житие, прошу-де твоево благословения и с царицею и с чады, – помолися о нас!» «Пожалуй-де послушай меня: соединись со вселенскими теми, хотя небольшим чем!» Аввакум, растроганный, плакал, но отвечал: «Аще и умрети ми Бог изволит, с отступниками не соединяюся. Ты, реку, мой царь (…) Я, реку, не сведу рук с высоты небесныя, дондеже Бог тебя отдаст мне!»[1438]
11 августа, уже в Чудовом монастыре, Павел Крутицкий и Иларион Рязанский, старый друг его детских лет, снова принялись его увещать. 11 августа архимандрит Чудова монастыря Иоаким тоже пришел к нему.
22 августа Артамон пустил в ход добрые чувства, и слезу, и угрозы: над последним Аввакум смеялся. 23 августа Артамон снова вернулся к Аввакуму в сопровождении нового лица, известного киевского монаха «философа», Симеона Полоцкого. Они оба повторили свое посещение 24 августа. Оба эти поклонника современного Запада – первый по преимуществу из-за материальных благ, другой из-за своих богословских знаний и стихотворений – были менее всего способны понять душевное состояние такого человека, каким был Аввакум. С Иларионом, сыном попа, с Павлом, бывшим протопопом, все было общее, исключая богословские разногласия. С Симеоном же даже самый язык был чуждым. Это были два противоположных мира, которые тут столкнулись. Однако свидание, благодаря красноречию и диалектике Симеона, было все же продолжительным. Через некоторое время он подытожил следующим образом свое впечатление: «Столь острый ум! Но, к сожалению, какое бесконечное упорство! И какое невежество в отношении научных знаний!» Аввакум же ответил на это суждение «учителя» чисто мужицкой манерой: он плюнул на пол и сказал: «Сердит я есмь на диявола, воюющаго в вас, понеже со дияволом исповедуеши едину веру и глаголеши, яко Христос царствует несовершенно, равно со дияволом и со еллины исповедуеши во своей вере» (это относилось к словам «несть конца» вместо новой формулировки «не будет конца»). Артамон тоже много говорил и приводил новые доводы, близкие ему как военному: «Смотри, как бы тебя не казнили, если будешь упорствовать!» Аввакум на это ответил: «Смерть мужу покой есть, смерть грехом опона, не грози мне смертию; не боюсь телесныя смерти, но разве смерти греховныя». Тогда Артамон перешел на кротость: «Что, стар, сказать государю?» – «Скажи ему мир и спасение и телесное здравие!» Затем Артамон, пораженный таким спокойствием и величием, низко поклонившись Аввакуму, удалился, очевидно, уже после Симеона. Аввакум думал, что он был искренне тронут, может быть, даже потрясен. Он захотел заронить в его душу несколько слов, способных умиротворить ее, и сказал: «Ты ищешь в словопрении высокие науки, а я прошу у Христа моего поклонами и слезами: и мне кое общение, яко свету со тмою, или яко Христу с велиаром». Но Артамон ограничился тем, что пробормотал сквозь зубы: «Нам-де с тобою не сообщно»[1439].
Другие узники были объектом таких же уговоров[1440], не менее тщетных. К Лазарю и Епифанию посадили еще двух: Никифора и Федора.
Первый был бывший симбирский протопоп. Патриархи Макарий и Паисий, проезжая через этот город в середине сентября 1666 года, воспользовались своим пребыванием, чтобы обследовать местные церкви. Новые обряды там не были в почете[1441]. Никифора сочли за это ответственным. Уличенный в «непослушании», признанный отступником в том, что касается троеперстия, так же как виновным в том, что не совершал богослужение по новому Служебнику, он был низложен, расстрижен и заключен в тюрьму[1442]. Ввиду того, что это быстрое осуждение все-таки требовало и подтверждения, патриархи потащили его с собой в Москву. Там он выказал себя «закоренелым еретиком» и был осужден на ссылку.
Федор был тем самым бывшим дьяконом, который раскаялся и затем снова впал в «раскол». Он находился на Крутицком подворье около двух месяцев, затем был переведен, с момента приезда патриархов, в Покровский монастырь[1443]. Но, узнав там о всех унижениях, которым Никита должен был подвергнуться, прежде чем вновь присоединиться к церкви, он предпочел от всего отказаться. Поэтому около апреля или мая 1667 года он оставил свою келью, взял жену и детей и скрылся подальше от столицы[1444]. Освободившись от принуждения, он вернулся к старой вере. Свобода его длилась недолго: были пущены в ход особые приказы о его пресле довании, друзья беглеца были допрошены и арестованы, верующие, может быть, также выказывали мало доверия отступнику: Федор сам отдался в руки властям. Это был для него лучший исход. Его будущее поведение оправдало его более надежным образом, чем то небольшое сочинение, которое он написал, чтобы попытаться объяснить свое отступничество[1445]. Дело его рассматривалось собором 4 августа, наверное, он на нем не присутствовал[1446], но судьба его не была решена сразу. Он оставался заключенным в Богоявленском монастыре, в подземелье[1447].
И наоборот, дело Аввакума, Никифора, Лазаря и Епифания было решено царем 26 августа: для них всех был вынесен приговор о ссылке их в Пустозерск, и сверх того двум последним казнь, обычная для богохульников, – урезание языка. Никифор был избавлен от этого наказания, очевидно, из-за своего возраста, а Аввакум благодаря заступничеству царицы. Осужденным была предложена еще одна последняя возможность спасения: если только – так было сказано в приговоре – они испросят прощения у святейших вселенских патриархов и у всего собора»[1448].
Рано утром 27 августа Аввакум и Никифор были взяты и увезены во весь опор за тридцать верст от Москвы, в Братошино, первую остановку царей, когда они отправлялись на паломничество в Троице-Сергиев монастырь: там был дворец и караульное помещение[1449]. В то же самое время Лазарь и Епифаний были с большой поспешностью отведены головой Василием Бухвостовым и его стрельцами на место казни; это была обширная площадь, именовавшаяся Болотом, между Москвой-рекой и ее южным рукавом. Им была быстро зачитана их вина перед церковью; им напомнили о долгой снисходительности к ним собора и об их упорстве, наконец, их отлучили и передали гражданским властям; наконец, им объявили вынесенный царем и боярами приговор. На месте были две плахи и два заранее приготовленных топора: палачи сделали свое дело.
Прежде всего палач взял в клещи язык Лазаря и обрезал его так, что от него остался, однако, кусок[1450]. Сразу же он потерял много крови, выплю нул наполнявшую ему рот кровь и затем заговорил «ясно и чисто, без всякого затруднения»; своей правой залитой кровью рукой он благословил присутствующих. Позднее он сказал, что пророк Илия велел ему таким образом исповедовать истину. Епифаний подвергся такой же казни, но говорить не смог. Сейчас же после этого обоих посадили на тележку и увезли во весь опор из Москвы. Их повезли кружным путем, сначала к Калужской заставе, на юг, затем громадным обходным путем, позади монастырей Симонова, Новоспасского и Андроникова, через слободы и поля, чтобы, наконец, достичь на севере дороги к Сергиеву посаду и Переславлю: там, пересадив претерпевших казнь в почтовые повозки, повезли их в Братошино. Лазарь не переставал двигать своей кровоточащей рукой. Епифаний, потерявший меньше крови, но рана которого заживала менее быстро, мучился невероятным образом от боли и от жгучего сокрушения: «Если бы я остался в монастыре или в своем скиту, у меня был бы цел мой язык»!
В Братошине все четверо ссыльных встретились. Там они оставались три дня, в разных избах, но которые все же сообщались между собой. Лазарь рассказал Аввакуму о казни на Болоте, «с веселым лицом, улыбаясь». Епифаний улегся на печь и все время вздыхал: «Хотел я спасти царя, а сам погиб. Не могу и выразить, что хотел бы сказать. Как теперь жить буду?» Затем он поднялся, сел на скамью. Аввакум видел его в этом состоянии; видел его бескровные губы, закрытый рот, весь он был в слезах. Это посещение придало Епифанию несколько бодрости: он принялся промывать образ Божией Матери, думая робко: «Если бы через Ее заступничество я смог бы говорить!» И тут он вдруг почувствовал, как у него глубоко во рту вырос язык, вплоть до зубов, и, произнеся благодарение Богу, он заговорил ясно.
Аввакум дал волю своим чувствам в письме к верующим:
«Аз, грешный Аввакум, не сподобихся таковаго дара; поплакав над ними, перецеловав их кровавыя уста, благодарив Бога, и яко сподобихся видети мученики в наша лета, и зело утешихся “радостию велиею” о неизглаголемем даре, яко Лазар светло глаголаше и яко отцы и братия моя пострадали Христа ради и Церкви ради. Хорошо так и добре запечатлели, со исповеданием кровию, церковную истинну! Благословен Бог, изволивый тако!
Ну, светы, молите о нас, а мы, елико можем, о вас. Посем от нас вам мир и благословение. И мученики вам, мир дав и благословение, челом бьют».
Он кончал свое послание, когда стрелец пришел и сказал ему от имени Епифания: «Не кручинся-де обо мне; мне-де дала язык Пресвятая Богородица, говорю-де и аз благодатию Божиею». Аввакум прибежал к нему в избу. Епифаний вскричал, увидев его: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу» и, как пишет Аввакум, прочая – «ясно во услышание всем». И оба они, вместе, в порыве радости и благодарности запели хвалебную песнь Богородице: «Достойно есть, яко воистину блажити Тя, Богородице». После этого Епифаний смог подробно поведать о своем злострадании. Аввакум же поспешил дополнить свое послание, которое он закончил следующими словами:
«О, великое Божие милосердие! Не вем, что рещи, но токмо: “Господи, помилуй!” И Дамаскину Иоанну по трех днех рука приросла, а новым сим мучеником Христовым – Лазарю в той же день язык Бог даровал, а старцу во второй день. Дозде Аввакум».
Это послание было сейчас же доставлено в Москву[1451], где оно способствовало чрезвычайно необходимому утешению небольшой пастве, безутешной от отречений, устрашенной мучением своих пастырей. Бог за нас, что нам преследования, когда нам помогают подобные чудеса!
Глава XII Первые годы ссылки (30 августа 1667 – 14 апреля 1670)
I Пустозерск. Челобитные Лазаря и прибытие Федора
Из Братошина выехали 30 августа. Заключенные вновь увидели проходившие перед их глазами печальные этапы бесконечного пути изгнания на Север: Вологду, Холмогоры, Мезень.
Весьма правдоподобно то, что Аввакуму здесь представилась возможность вновь повидаться с семьей: три с половиной месяца пути, тогда как нормально требовалось два, это заставляет предполагать наличие достаточно длительных остановок; с другой стороны, было мало сторожей, способных устоять перед моральным превосходством протопопа. Аввакум, более чем когда-либо, продолжал оставаться отцом семейства после почти двухгодичной разлуки и накануне новой, срок которой был неизвестен. Его дорогая Анастасия все еще была мужественной и была готова оказать ему любую помощь, какая ей была по силам. Если не хватало обоих старших сыновей, задержанных в Москве, то остальные дети по своим нравственным устоям стояли на уровне старой набожности. Эта встреча, о которой нам, впрочем, ничего неизвестно, была, конечно, плодотворной и дала нравственное отдохновение протопопу.
Летом отправляются от Мезени в Пустозеро, или Пустозерский острог, через Усть-Цильму, где грузятся, чтобы затем спуститься вниз по Печоре. Зимой получается скорее двигаться прямо по замерзшей тундре, в санях с оленьей упряжкой. Для этого требуется две недели. Чем больше продвигаешься вперед на восток, тем более редкими становятся русские деревни. На юге живут финны, зыряне, на севере кочуют ненцы-самоеды; все они язычники, а последние, кроме того, очень воинственны. Не проходило года, чтобы не было сражений между ними и русскими рыбаками, рассеянными по всей этой области. Пустозерск был укреплен в 1499 г. для взимания налогов с большеземельских самоедов и чтобы держать в страхе карских. Он охранял, таким образом, всю окрестность от вооруженных нападений, но главным образом, служил защитой северным берегам Московии от торговых налетов соседних государств. Для этой именно надобности в Пустозерске был поставлен воевода и гарнизон, таможня, а также кабак. Служащие и стрельцы все-таки, благодаря заботам царя, кое-как снабжались.
Зато гражданское население, неуверенное в завтрашнем дне, было всегда готово задать тягу. В этой низменной местности, влажной летом и вымерзающей с октября, где тощие северные березы, кое-какие грибы, ягоды и трава составляют главнейшую растительность, единственным средством к существованию служат рыболовство и охота на водоплавающую птицу местных озер и Печоры: тут водятся все разновидности лосося, лебеди, дикие гуси и утки. Самые смелые отправляются на моржовую охоту в открытый океан, добираясь до острова Вайгач и до Новой Земли, подвергая себя при этом огромным опасностям. Все это коптится: какая-то часть потребляется на месте, часть обменивается на муку, привозимую в течение навигационных месяцев в каяках с верховьев Камы через Усть-Цильму и Печору. Если же по той или иной причине не хватало дичи либо рыбы – наступал голод.
Памятным остался 1645 год: из пятидесяти четырех хозяйств в 1638 г. оставалось к 1646[1452] лишь тридцать восемь. «Уехали в Сибирь», «умерли от голода», так сообщала перепись 1679 года, говоря о покинутых дворах. К рассматриваемому периоду времени Пустозерск вновь заселился, но был, тем не менее, весьма странным поселением: восемнадцать семей, имеющих кое-какую возможность самостоятельного существования, четыре вдовы, одинокие либо обремененные малолетними детьми. В итоге – двадцать два жилых двора и двадцать шесть дворов оставленных. На сто семьдесят четыре жителя мужского пола – включая детей – приходилось восемьдесят четыре взрослых, не имевших собственного дома, и среди них шестьдесят семь нищих[1453].
Эта опустошенная, унылая местность была как бы уготована для пребывания изгнанников. Немногим раньше, в 1656 году, из Красноярска в Пустозерск были направлены семнадцать осужденных, которые, кстати сказать, в ужасе от предстоящей перспективы обратились в бегство по направлению к Березову[1454]. Около 1658 года бывший игумен Феоктист чуть не умер там с голода[1455]. В июле 1662 года там находилась группа польских заключенных в одно время с неким Юшкой Федоровым, высланным из Москвы за разбой[1456]. Именно в Пустозерск были направлены: Аввакум в 1664 году[1457]; в сентябре 1665 года Андрей Самойлов с женой[1458] и детьми; в 1666 г. иподьякон Трофимов и попы Дементий и Лазарь; они приехали туда после краткого пребывания в Москве, а их семьи прибыли туда из Сибири непосредственно в последних числах июля[1459]. Новые ссыльные прибыли на место 12 декабря 1667 года.
Сразу же они причинили крупные неприятности воеводе, Ивану Саввичу Неелову[1460]. В отличие от предыдущих ссыльных, живших в Пустозерске, одни из которых жили нищенством, другие же небольшими пособиями от казны, иные трудом, но все были свободными, вновь прибывшую партию «страшных» преступников нужно было держать под стражей. Но так как в Пустозерске не было тюрьмы, указ предписывал построить таковую, притом «крепкую», окружить ее «тыном вострым» в 10 сажень, внутри же поставить четыре избы, где держать ссыльных, а избы отгородить одна от другой подобным же дощатым забором. Кроме того, иметь караульное помещение для сотника и стрельцов. Но в декабре подобная работа была невозможна: вода, увлажняющая тундру, превратилась в лед, и, кроме того, не было леса. Воевода доложил об этом в Новгородский приказ, от которого зависело все это дело, и временно разместил вновь прибывших в четырех избах, из которых выселил жителей. В то же время он велел своим подчиненным заготовить необходимый лес и переправить его по Печоре тотчас же после ледохода. Однако его хлопоты этим не закончились. Весной 1668 года вместо леса он получил две челобитные: 20 мая гарнизон Пустозерска попросили о помощи жители Ижмы и Усть-Цильмы; последние 8 июня отказались от всякого рода оброков. Москва, предупрежденная об этом, ответила: делай что знаешь, но тюрьма должна быть построена. На этот раз сослались на низкий уровень воды. Прошел 1668 год: ни леса, ни плотников. В 1669 году при приближении вес ны воевода отправил строгий наказ: 10 марта крестьяне уведомили его через своего выборного, что они отправили челобитчика в Москву и будут ждать его возвращения. Вслед за этим Москва запросила, были ли прецеденты тому, чтобы жители Ижмы и Усть-Цильмы использовались для нужд Пустозерска: было сказано, что если нет, то не нужно их к этому принуждать. 4 июля пришло угрожающее напоминание от Дементия Башмакова. Выбившись из сил, Неелов сложил всю тяжесть работы на жителей Пустозерска. В августе постройка тюрьмы была уже на ходу, по крайней мере, он так писал[1461] в Москву. Но и 14 октября тюрьма еще не существовала, за отсутствием строительного леса[1462]. Она была занята заключенными лишь к концу года.
У воеводы было слишком много своих серьезных забот, чтобы интересоваться четырьмя никому не известными «фанатиками»; устроил их с грехом пополам в тюрьме и дело с концом. В феврале 1668 года остяки из Обдорска, объединившись в большом количестве с карскими самоедами[1463], приблизились к озеру, захватили рыболовные снасти, топоры, выделанные кожи и продовольствие – богатства воистину тут незаменимые. Тревога была велика: Неелов немедленно потребовал из Холмогор подкрепления в пятьсот человек, но прибыло лишь пятьдесят. В Пустозерске русские чувствовали себя осажденными: они не смели выходить за ограду города[1464]. Оленей уводили стадами либо убивали, рыбная ловля была затруднена, налоги и подати не поступали, а Москва все требовала и требовала и спрашивала даже недоимки. Кроме того, она предписывала организовать экспедиции для поисков руды на Урале и на острове Вайгач[1465].
При таких обстоятельствах, естественно, первыми пострадали заключенные: «А хлеба дают нам, – пишет Лазарь, – по полтора фунта на сутки, да кваса нужнова, – ей, ей, и псом больши всего метают! – а соли не дают, а одежишка нет же, ходим срамно и наго»[1466]. Аввакум писал: «А корму твоего, государь, дают нам в вес – муки по одному пуду на месяц; да о том слава Богу. Хорошо бы, государь, и побольши для нищие братии за ваше спасение»[1467]. Однажды, правда, он напишет: «Я веть богат: рыбы и молока много у меня»[1468]. Но ведь он был аскетом! С какой благодарностью получали небольшие добавления к скудному пайку, посылаемые с Мезени или из Москвы: гречневую и овсяную крупу, ячневую муку, мед, малину, пирожки[1469]. Узники пользовались в течение двух добрых лет своего рода автономией, они зависели только от своих стражников: сотника Федора Акишева и его девяти стрельцов[1470]. Но не было случая, чтобы русские люди, находясь вместе, не пришли к соглашению. Чем дольше продолжалось их совместное житие, тем более те и другие несчастные, занесенные на край света москвичи чувствовали себя солидарными. Тюремщики превращались мало помалу в их сообщников, а автономия в относительную свободу. Можно ли было удалить от Лазаря его жену и трех малолетних детей, если они находились рядом? Однажды ночью Аввакум и один из его товарищей вышли вместе из ограды и пошли к «брату» Алексею вместе побеседовать с пришедшим с Мезени человеком, неким Поликарпом[1471]. Эта смелость была не единственной в своем роде.
Лазарь первым вновь взялся за перо. Его «Свиток» был опровергнут во второй части «Жезла». Этот труд появился в августе, и он смог с ним познакомиться. Его возражения не были воспроизведены честно. И не все они были рассмотрены[1472]. Он считал необходимым продолжить полемику. Тотчас по прибытии, невзирая на то, что он был лишен в течение десяти лет всяких книг, и на то, что память его, вследствие горестей, ослабела, он начал новое обращение к царю. Он напоминал ему о его обязанностях монарха, покровителя православия, ставил ему в пример его отца и деда, святейшего патриарха, которые никогда не терпели ни малейшего искажения в вере и поэтому были избранниками Божиими; затем появился Никон… Здесь возобновлялась дискуссия, возобновлялся спор о пагубных новшествах, введенных этим волком в овечьей шкуре; работа сопровождалась иногда оригинальным толкованием текстов и обрядов и искусным объяснением Апокалипсиса. В заключение Лазарь просил об очной ставке с архиереями и «новолюбными книжники» в присутствии представителя от царя. Кроме того, он предлагал, так же как и ранее Собору с участием вселенских патриархов, суд Божий: «Предо всем царством самовластно взыти на огнь во извещение истинны, и да явленно будет благочестие отец твоих, и отымется всяко сомнение от душа благочестивых, и соединится святая церковь»[1473]. В то же время он предупреждал: «Власти наши (…) говорят тебе, бутто мы одне стоим в книгах и в законе отеческом. Ей, ей, не одне. Есть в Великой Русии и сто тысящ готовых умрети за законы отеческия; по писанию же, и страха ради властительска, прикровенны суть»[1474].
Эта челобитная[1475] была смелой: требовать от царя нового разбора дела! Видели ли когда-либо еретика, выносящего приговор еретику? Разве когда-либо сатана изгоняет сатану? Так спросил позже по этому поводу дьякон Федор[1476]. Однако тридцать глав челобитной были все-таки написаны; Лазарь же составил другое послание («Сказку») в пятнадцати главах, адресованное уже патриарху. В нем он настаивал – этому посвящены семь глав – на пришествии антихриста, предсказанном святыми Ефремом Сирином и Ипполитом: его предтечи уже наложили нечистую печать на просфоры, на чело и руки христиан! Он настаивал, главным образом, на том, что священнический сан, дарованный ему при Филарете митрополитом Варлаамом, оставался в силе, несмотря на отлучение от церкви. Но, видимо, ожидая меньшего от патриарха, чем от царя, он не высказывал никакого конкретного пожелания. Он ограничивался констатацией фактов: нужно, чтобы всякий верующий боролся до конца. «Блаженны умирающие о Господе». Однако он делал заключение: «Сам себе вразумляй, нас же юзников благослови, содержащих закон отец твоих, да и сам от Бога благословен будешь»[1477].
Эти два текста были закончены в феврале 1668 года[1478]. На обратной стороне первой страницы тетради, содержащей послание к Иоасафу, инок Епифаний изобразил досточудный крест Господень, о котором говорилось в тексте: то был крест восьмиконечный, воздвигнутый на Голгофе, с главой Адама внизу, имеющий по бокам орудия Страстей Господних и различные священные начертания. Документ был запечатан, и Лазарь передал его воеводе как «великое тайное дело, касающееся царя и патриарха». Все доносы, касающиеся царя, должны были пересылаться в Москву без предварительного рассмотрения и безотлагательно! Лазарь и его друзья надеялись таким образом доставить свое послание по адресу. Однако воевода потребовал прочтения послания и на отказ Лазаря позволить ему сделать это вернул ему весь свиток; в конце концов, он согласился отправить в Москву лишь жалобу, составленную Лазарем в связи с этим. Оба документа пролежали под спудом в Пустозерске целых два года[1479].
Следующий день после этой неудачи ознаменовался большим событием: прибытием дьякона Федора. 21 февраля ему был вынесен окончатель ный приговор: отрезать ему язык и под охраной выслать в Пустозерск в сопровождении Перфилия Чубарова из полка Артамона Матвеева и четырех стрельцов из того же полка[1480] и сдать его на руки Федору Акишеву. 25-го во втором часу палач выполнил свою обязанность и в тот же самый день Федор был отправлен в путь. Он прибыл в Пустозерск 20 апреля[1481].
Перфилий должен был вернуться в Москву. Ничто не помешало Аввакуму использовать этого гонца, чтобы доставить царю краткое письмо следующего содержания:
«Список з грамотки. Государь царь, державный свет, протопоп Аввакум не стужаю ти много, но токмо глаголю ти – радоватися и здравствовати о Христе хощу, и благоволит душа моя, да благословит тя Господь и света мою государыню царицу, и детишек ваших, и всех твоих, да благословит их дух и душа моя во веки. (…) Протопоп Аввакум не помнит тово ничево, благодатию Божию, что над ним делается. (…) Да и заплутаев тех Бог простит, кои меня проклинали и стригли. (…) Не оне меня томят и мучат, но диявол наветом своим строил. (…) Прости ж, государь, уже рыдаю и сотерзаюся страхом, и недоумением содержим есмь; помышляю моя деяния и будущаго судища ужас. Брат наш, Синбирский протопоп Никифор, сего суетного света отыде; по сем та жа чаша и меня ждет: Ох, увы мне окаянному и горе! Како отвещаю безсмертному Судии, Царю всех и Богу? (…) Подобает, государь, и во всем нам помышляти смерть, ад, небо; и отца нашего, протопопа Стефана, учение помнить. (…) Изволь, самодержавне, с Москвы отпустить двух сынов моих к матери их на Мезень, да, тут живучи вместе, за ваше спасение Бога молят; и не умори их с голоду, Господа ради. А обо мне, якож Богу и тебе годе: достоин я, окаянный, грехов ради своих, темнице Пустозерской. Умилися, святая душа, о жене моей и о детех»[1482].
Федор должен был содержаться в особом срубе, дабы он не встречался с другими заключенными и не говорил бы с ними, но все это писалось в расчете на постройку тюрьмы, но так как таковая в действительности не существовала, Федор мог свободно общаться со своими товарищами.
II Соловки в открытом возмущении
Вновь прибывший, возможно, и не привез важных новостей из Москвы, но он не мог не знать, так как ехал через Холмогоры, об открытом мятеже на Соловках.
Уже в течение многих месяцев положение там было напряженным. Варфоломей мог дать собору 1666 года полное удовлетворение и воздержаться от подачи челобитной, испрашивавшей по крайней мере для Соловков сохранение прежних обрядов[1483]. Он мог сам трусить и колебаться. Это никоим образом не изменяло настроений огромного большинства монахов и даже по существу могло лишь побудить их к требованию его замещения более преданным настоятелем. Под предлогом разного рода преступлений, грехов и лихоимства умолили царя его низложить и назначить архимандритом Никанора, уже избиравшегося в 1653 году, либо ризничего Вениамина[1484]. То были верные сторонники старой веры. Не ожидая более ничего, заменили келаря Савватия, друга Варфоломея, Азарием.
С другой стороны, если Москва и не хотела ничего форсировать, у нее не было и намерения уступать в самом главном. 11 июля было подписано повеление, призывающее всех монахов безоговорочно подчиниться собору, строптивые же будут, как было сказано, объявлены отлученными от церкви. Они обязаны были строго повиноваться царскому посланцу под страхом самой тяжкой кары[1485]. Этим посланцем был архимандрит Сергий из Ярославля, которому было поручено осведомиться о жалобах, высказанных против Варфоломея, и получить согласие крупнейшего монастыря принять реформы. Он отправился в путь 14 августа во главе многочисленной свиты из духовных лиц и в сопровождении сотника Елисея Ярцева и десяти стрельцов, высадившихся на Соловках 4 октября 1666 г.[1486]
Комиссию по расследованию ждали. Встречена она была сразу же очень плохо. До всяческих переговоров отправили в Москву послание, в котором под видом просьбы легко можно было прочесть твердое решение ничего не изменять в унаследованных от святых Зосимы и Савватия обрядах. Послание сопровождалось угрозой покинуть монастырь, который ведь являлся также и пограничной крепостью. К этому посланию приложили руку все семьдесят монахов, умевших писать, остальные заставили грамотных расписаться за них; таким образом, единение в борьбе за старую веру теперь было полным[1487]. Это стало особенно хорошо видно, когда 6 октября собрался большой монастырский собор для прений с Сергием в присутствии всех жителей монастыря – итого, тысячи человек. Чтение официальной грамоты вызвало восклицания: «Мы де указу великого государя послушны и во всем ему, великому государю, повинуемся, а повеления о Символе веры и о сложении триех первых великих перстов к воображению креста Господня на лицах наших, и трегубыя аллилуии (…) и о новоизданных печатных книг (…) не приемлем, и слышати не хотим, и готовы все пострадати единодушно». Затем слово взял Никанор: «То де учение, что велят крестится тремя персты, есть предание латынское, печать антихристова, – и велел всем того отнюдь не примать, – а я де за всех вас готов к Москве ехать и пострадать». Своими одобрительными восклицаниями все скрепили этот отказ. По просьбе Сергия для обсуждения с ним каждого пункта был выделен иеромонах Геронтий, но всеобщий шум вскоре прервал беседу[1488]. После того как все разошлись, Сергий получил письменное заявление, в трогательных словах заверяющее о повиновении и преданности Соловков царю; оно, однако, заканчивалось так: «Аще ли великий государь царь на нас грешных фиял гнева своего излиет, лучше нам убогим временною смертию живот во веки получить, нежели началников своих, преподобных отец наших Зосимы, и Саватия, и Филиппа митрополита московского и всея Руси, и прочих святых предания оставити»[1489]. 11 октября великое посольство с поникшей головой покинуло непокорный остров.
После этого, за исключением одного путешествия Никанора[1490], связь между Соловками и Москвой была почти прервана; так продолжалось вплоть до приезда нового посольства. То был уже новый архимандрит, назначенный царем[1491], бывший начальник соловецкого подворья в Москве – Иосиф; с ним были Варфоломей, который должен был ввести его в должность, и Никанор, который после своего раскаяния добился возвращения в свой монастырь[1492]. Первые двое высадились на одном из островов архипелага 14 сентября 1667 года. Монашеский собор тут же предупредил их, что, если они будут служить по старым обрядам, их охотно примут, если же нет, то в них не нуждаются. На следующий день все монахи, с келарем во главе, отправились к Иосифу. Так как он объявил себя в единении с собором, то они его захватили силком и увели скорее как пленника, чем как настоятеля. Затем они тут же разнесли те тридцать девять бочонков водки и пятнадцать бочонков пива и меда, которые тот привез из Вологды. Собрание, состоявшееся 16 сентября, было более чем бурным: Варфоломея чуть не разорвали на куски. Монахи отказались подойти под благословение Иосифа; их представитель новый казначей Геронтий прочел составленные им писания, где старая вера искусно оправдывалась; он даже отказался посмотреть новые книги, привезенные из Москвы. Иосиф должен был ограничиться тем, что подал в Москве короткое переданное ему заявление: «Повели, государь, нам быти в той же нашей старой вере, в которой (…) вси благоверные цари и великия князи (…) и вси святии отцы угодили Богу. Аще ли ты (…) нам в прежней (…) в старой вере бытии не благоволишь (…), милости у тебя, государя, просим: помилуй нас, не вели (…) болши того к нам учителей присылать напрасно, понеже отнюдь не будем прежней своей православной веры пременить, и вели (…) на нас свой меч прислать царской, и от сего мятежнаго жития преселити нас на оное безмятежное и вечное житие (…), от всея души (…) милости о сем просим и вси с покаянием и с восприятием на себя великого ангельского чину на той смертный час готовы»[1493]. Тон этих челобитных из решительного становится теперь уже вызывающим.
Никанор, который предпочел не появляться с ненавистными спутниками, высадился в Соловках 20 сентября. Первым же монахам, встретившим его, он объявил: «Буду благословлять вас по старому». Этим он сразу отвергал московское свое отречение. Ставши перед Азарием и Геронтием, он поспешно снял свой греческий клобук. «Мне его силой надели!» Тут же состоялось примирение[1494]. Никанор фактически принял на себя управление монастырем. Два дня спустя переписанный начисто труд Геронтия был отослан в Москву с особым гонцом[1495].
Положение к концу 1667 года было следующим: двойной оплот – и православия, и царства – на Белом море вел себя по отношению к царю и официальной церкви, как независимая республика. Она нисколько не бунтовала; при всяком случае она высказывала в трогательных словах свою любовь к царю. Но в том, что касалось веры, в этом она не могла ему повиноваться, и она об этом объявляла каждый раз печально, но стойко. Пусть принуждает ее силой оружия, пусть выполняет царь свое дело! Она лучше умрет, чем изменит своей вере. Великий северный монастырь возобновлял в XVII веке спасительный завет: «Лучше повиноваться Богу, чем людям».
В то же время Соловецкий монастырь вновь взял на себя свою прежнюю функцию: он становился духовным наставником народа. Труд, над которым работал Геронтий около двух месяцев, не был уже больше коротким воззванием, подтверждающим некоторые положения веры и утверждающим решимость за нее держаться, – это уже был развернутый документированный манифест старой веры. При его составлении трудолюбивый казначей должен был изучить предыдущие работы: работу Герасима Фирсова о крестном знамении, Челобитную Никиты, «Свиток» Лазаря, только что появившийся трактат «Жезл правления», не говоря уже о богатой библиотеке самого монастыря. На этот раз все доводы были собраны вместе, все было приведено, чтобы показать, что Никон и его преемники ввели на Руси новую религию, неслыханную, созданную по их прихоти, кощунственную и искаженную. Скрижаль на листе 466 спрашивает: «Кая (…) польза, или кая добродетель есть носити кому крест на раме своем?» На листе 766 говорится о Христе, распятом «за некое погрешение». В переводе «Небес» Иоанна Дамаскина, сделанном Епифанием Киевлянином (глава 27, лист 56), «проповедуют Сына Божия еще в плоть не пришедша, но впредь пришествовати его сказывают». В Служебниках и Триодях в некоторых песнопениях «воскресение Сына Божия отставлено». Требник, лист 42, при крещении допускает обращение с молитвой к духу лукавому; на листе 873 он заставляет освящать, а скорее осквернять, церкви мылом, веществом, содержащим «всякую нечистоту и скверность»; вместо помазания елеем усопшего велят посыпать пеплом. Само имя Господа Исуса Христа изменено; латинский крест теперь уже предпочитается истинному кресту Христову, состоящему из трех древ: сосны, кедра и кипариса, предсказанных еще Исаией (Ис. 60, 13) и воспеваемых в песнопениях; прежнее истинное крестное знамение подвергается осуждению; аллилуия, вопреки Стоглаву, трегубится; в молитве Исусовой слова «Сыне Божий» отменены, «Дух Святый» перестал быть истинным; в вечерню на Троицын день слушают стихиры, не преклоняя головы; к Трисвятому добавили слова, что уже осуждалось при царе Феодосии; в Номоканон внесены чрезвычайно тяжкие правила, между тем как нарушается монастырский устав: монахам разрешается ходить в церковь и по торгам без рясы, «аки иноземцы или кабацкие пропойцы»; вся Божественная служба изменена, церковные книги изменены против прежних и вся православная вера «извращена» «на их разум». Можно думать, что будто и до них не было христианства на Руси и они поучают нас новой вере, словно как мордву или черемисов. А ведь наша старая вера была засвидетельствована бесконечной цепью чудес и прославлением святых, вселенскими патриархами Иеремией и Феофаном, назвавшими Москву по ее набожности «Третьим Римом», так и написано в книге Кормчей, листы 15 и 26. Нужно ли нам теперь, когда приходит конец века сего, получать новое крещение и отбросить наших святых и чудотворцев? Нет, нет, мы такие же православные, какими были они. А теперешние греки, которые не умеют даже правильно творить крестное знамение и живут уже столько лет в рабстве у турок – язычников, они печатают свои книги у латинян. И к нам греки приехали не для того, чтобы восстановить церковь, а чтобы собрать побольше золота и серебра – все наши богатства и нас разорить! Можно ли верить их книгам, подделанным еретиками, которых ведь всегда у них было много? Не вынуждай же нас изменять истинной вере, утвержденной семью Соборами; не заставляй нас клеймить позором отцов твоих и дать чужакам повод злорадствовать и клеветать на православную церковь! Но если ты так уже делаешь, мы повторим тебе еще раз то, о чем тебе и раньше писали: «Лучше нам временною смертию умереть, нежели вечно погибнуть»! Пусть твои новые учителя предадут нас огню и мукам, пусть четвертуют нас! – от святой апостольской веры мы не отречемся!
Этот текст, так блестяще составленный, сила и волнующее содержание которого так и сквозили в его чрезвычайно холодной и сжатой форме, предназначался в меньшей степени царю – можно ли было на него надеяться? – чем верующим. Сразу же быстро распространились многочисленные списки с него, иные из них отяготились новыми жалобами[1496]. Воззвание Соловков имело огромный и длительный успех у всего христианства, и Федор, без сомнения, прослышал об этом.
Он также должен был знать и об ответе властей: 27 декабря царь, установив неподчинение монастыря, конфисковал его владения, капиталы, запасы провизии и доходы и запретил всякие ему поставки[1497]. В то же время собор предавал анафеме, то есть вечному проклятию, всех тех, кто тут же не приходил с покаянием[1498]. Эти решения были объявлены 23 февраля 1668 г. сотником Василием Чадуевым, с которым следовал многочисленный отряд стрельцов. Монахи отвечали новым, еще более полным перечислением неприемлемых новшеств и снова заявили о своем желании умереть в вере святых и уверяли, что до последнего вздоха будут молиться как келейно, так и всенародно за царя[1499].
Таким образом, несмотря на собор и угрозы, старая вера обладала на Севере духовной твердыней, более сильной, чем когда-либо. Такая духовная сила должна была придать монахам мужество, поощрить их к продолжению своего апостольского подвига. Не имея возможности проповедовать, они могли пользоваться пером, и Федор был в этом отношении ценным помощником им.
III Ответ православных и письма Аввакума своим московским духовным детям
С общего согласия дьякону поручили составить изложение догматов старой веры «Ответ хулителям православных защитников о Символе веры и иных истинных догматах» («Книга – ответ православных»). Благодаря знанию книг и диалектическому образу мысли, он был тут самым способным, чтобы составить такого рода систематическое произведение. И справился с этим делом очень хорошо.
В своей работе дьякон сначала обсуждал внесенные в Символ веры изменения, умело пересыпая свои доводы текстами из рукописных и печатных источников, ссылаясь на иконы, различные рассуждения, толкования Священного Писания, богато украшая мысль возмущенными и умоляющими обращениями, пространными пояснениями, историческими отступлениями и даже рифмованными строками. Затем он переходил к Служебнику, к крестному знамению и к вопросу об аллилуие, соединяя снова богатое знание с художественным изложением; он рассказывал поочередно и историю о белом клобуке, говорил о злоключениях Максима Грека и о свидетельствах Мелетия Антиохийского, Смотрицкого и Евфросина Псковского, о гнусностях современных греков; он писал без чрезмерной краткости и без длиннот, возвращаясь к старым рукописям и книгам, которые видел своими глазами, чтобы неожиданно перейти к пыткам, примененным к истинно верующим, которых на краю света морят голодом, лишают языка, разлучают с женами и детьми! Эта первая часть заканчивалась ярким видением последних времен, когда должны появиться ложные христы, искажающие Святое Писание.
После оправдания прежней формулировки Исусовой молитвы следовало изложение «о превращении новых книг и богомерзских ересех в них». Далее шла история последовательных нападок сатаны на Русь; попытки папы склонить на свою сторону Александра Невского, Флорентийский собор, ересь жидовствующих, история Григория Отрепьева, Брестская уния. Наконец, он говорил о Никоне, чьи новшества заключали в себе все ереси Северия, Диоскура, Евтихия, Савеллия, Македония и Не стория. Автор снова обсуждал вопрос об «истинном» применительно к наименованию в Символе веры Святого Духа; обсуждал имя Исуса, греческие книги, отпечатанные в Риме, Париже и Венеции, то, что было заимствовано у латинян. Обсуждались и все шесть выпусков Служебника, как несогласных между собой, так и имевших большое количество мелких погрешностей. Тут вереницей проходило все содержимое материалов, уже собранных Федором в то время, когда он сличал старые и новые книги. Труд заканчивался предвидением близкого карающего прихода Христа: «Се гряду скоро и мзда моя со мною, воздати комуждо по делом его»[1500].
Это сочинение отличалось от других, уже имевшихся в литературе трудов по старой вере тем, что предназначалось не для искушенных людей, которым для понимания положения достаточно было малейшего намека, но для тех, кому нужно было все объяснить с самого начала: кто был Максим Грек, как Филарет стал патриархом, почему Арсений Суханов побывал в Палестине, каково было поведение Никона во время чумы и много другое. Это сочинение было гораздо более вразумительным, чем, например, Челобитная Никиты и послания из Соловков. Некоторым верующим, правда, не нужно было быть осведомленными, им требовалось лишь подтвердить необходимость устоять против соблазна и указать правильный путь среди трудностей нового существования в окружении приспешников сатаны. Исполнение этой задачи было в дальнейшем осуществлено Аввакумом. Федор, со своей стороны, обращался к новому поколению. Все изгнанники, впрочем, по-братски сотрудничали между собой.
Верующие Москвы, сразу лишенные своих чтимых учителей, ежедневно сталкивались с мучительными вопросами. Было ясно, что разрыв с официальной церковью завершен; всякое общение с ней было кощунственным. Но в повседневной жизни линия поведения не была достаточно ясной. Как быть в целом ряде вопросов? С какого времени нужно исчислять падение церкви? С первых постановлений Никона 1653 года, со времени церковного собора 1654 года или с собора 1666 года? Это имело громадное значение для признания действительности священства. Затем вставал вопрос: вновь посвященный, но совершающий богослужение по старым книгам, мог ли он быть допущен? Либо прежде посвященный, но впавший в лжеучение, а затем вернувшийся к старой вере – как нужно было поступать с ним? Что нужно мыслить о единогласии? Его предписывала церковь и раньше, но оно казалось неотъемлемым от никонов ских книг и воспринималось как новшество, так как было введено лишь в 1651 году. Многие осуждали его. Были такие строгие старообрядцы, которые интуитивно и, кстати сказать, довольно справедливо возводили новшества к патриарху Иосифу и отбрасывали книги, изданные во времена его патриаршества, признавая лишь книги филаретовские и иоасафовские. Нужно ли было чтить недавно написанные иконы?
Наконец, самой волнующей проблемой был вопрос, от которого зависело все: антихрист, приход которого, очевидно по Спиридону Потемкину, совпадал с «последним отступничеством» и со временем Никона, пришел ли уже или еще придет? Конец света, ожидавшийся в 1666 году, не произошел: либо плохо было понято звериное число и антихрист только подготавливал себе путь своими предшественниками и самое бытие христианства могло пока еще пользоваться некоторой отсрочкой, либо антихрист мог уже быть налицо, пусть невидимым, безличным, образуя нечто единое с новшествами и с гонениями. В таком случае многое в Писании приходилось понимать не буквально, а духовно, символически: предсказанное Ипполитом и в Апокалипсисе возвращение на землю Еноха и Илии существовало лишь как притча; воскресение мертвых, предсказанное 1 Посланием к Коринфянам, существовало лишь символически[1501]. Умы волновались, образовались группировки; малое стадо делилось, обвиняя друг друга в ереси. Аввакум должен был послать своему другу попу Стефану письмо, полное одновременно и строгости, и любви, письмо, напоминающее о святом учении церкви и милосердии.
«Список з грамотки отца Аввакума слово в слово.
Юзник темничный и грешник, протопоп Аввакум, всем святым, живущим в духовном Содоме и Египте, паче же священнику Стефану и брату нашему со всеми верными радоватися и здравствовати о Христе.
Слышал бо, отче, твое богоподражателное житие и возрадовахся дух мой о Бозе, Спасе моем, яко цвет посреде терния, или семя благое посреди земли Гоморстей прораст, и зело величит душа моя Господа о вас светах моих и рабах Христовых.
Но токмо, отче, имею мало на тя, яко держиши учение не по преданию отеческому и гнушаешися единогласного пения. Се бо есть не православно, но и зело богопротивно. Златоуст нас понуждает единогласно пети во церкви: ищи его Нравоучение в Беседах Апостольских, по главам найдешь, и егда прочтешь, тогда и сам себе постыдишися.
Да многие-де наши духовныя люди возмутилися и хулят книги Иосифовы патриарха (…) книги добры Иосифовы, я и всех приемлю, и, чевствуя, лобызаю. (…)
Да у вас же слышим нецых непоклоняющихся иконам, которые писаны ныне. Златоустый учит нас по подобию написанному образу Христову и восколиятелному поклонятися, а нежели воображенному шары. Аще и еретик истинно вообразит образ Христов, или Пречистыя, или святаго: пад, поклонися и облобызай честне. А аще неправе и с каракулами, сиречь с Малаксиным благословением: и ты таковой не поклоняйся, но видя на подписи имя Исус-Христово, не ругай ево, но, воздохня, пройди мимо, да вселится в тя сила Христова.
Еще инии глаголют Илиино, и Енохово, и Иоанново пришествие быти и твари изменение в притчи, а не истинно. И то бо есть мудрование их – вражда на Бога. Чти Апокалипсис, главу 12, о Илии и Енохе. И Иполит глаголет тамо быти Иоанну. И многия богословцы чювственне им глаголют быти, а не в притчи и гадании, сиречь телесне постражют от противнаго духа, сиречь от сына погибельнаго. Такоже и вся тварь изменится, – от работы тления в свободу славы чад Божиих, – истинно, а не притчею и гаданием. Писание глаголет; и мы изменимся волею Божею: подобает бо тлеему сему облещися в нетление и прочая. И тогда будет пожерто мертвенное животом, а не в притчи и гадании.
Блюдитеся, не впадите во Ариеву ересь. Затекаете во многом мудровании своем, и уже друг друга гнушаетеся и хлеба не ядите друг со другом. Глупцы, от гордости, што черьви капустные, все пропадете.
Ну, простите же меня, я пред вами согрешил, прогневал вашу святыню.
Посем мир вам и благословение. И отцы вам, резаные языки, мир дав и благословение, и челом бьют. Молитеся о нас, да же вашея любви не отлучимся зде и в будущем веце. И сия до зде. Аминь»[1502].
Таковы были убеждения Аввакума: верность учению в соединении с практическим умом, строгость в соединении с милосердием. Таков был его способ предупреждать, возвращать на правильный путь и направлять властно, но без высокомерия, с грубоватостью крестьянского ума, с мудростью ученого, с настойчивой ревностью апостола и с любовью христианина. Как на то указывает конец, письмо выражало мысли всех четверых изгнанников.
Другому обратившемуся к нему ученику, Ивану, ответил уже Федор: по необходимости можно принять благословение[1503] от священника, прежде посвященного, но не устоявшего в вере, а затем вернувшегося к истине. Но от вновь посвященных, даже если они и совершают служение по-старому, следуя канонам, нельзя принимать никакого благословения, ни крещения, ни молитвы, так как рукою еретиков они были не посвящены, а осквернены. Иначе как при чрезвычайных обстоятельствах не нужно обращаться к раскаявшимся, так как они нарушили свой долг в отношении веры. И даже в том случае, если кто не уверен, что покаявшийся твердо решил умереть за старую веру и не предавать ее больше, если все кто боится, что тот вновь не устоит, тогда лучше обойтись без пастыря, чем следовать за дурным пастырем, согласно словам св. Иоанна Златоуста в толковании Послания к Евреям, беседа 34. То было важное решение, вынесенное в те дни, когда священники, посвященные «до чумы» и оставшиеся все же верными, были так редки! Корреспондент Федора и так уже уверял, что нелегко найти кого-нибудь лучшего, чем раскаявшийся священник. Далее дьякон утверждал, что последнее предсказанное отступничество было не чем иным, как отступничеством Никона, что после падения «Третьего Рима» оставалось лишь ждать Страшного суда, что предтечи антихриста уже проложили ему готовые пути, но что он сам еще не появлялся. Таково было учение Спиридона: «чюден муж бысть словом и делом, и в премудрости инаго таковаго ныне несть». Аввакум написал на полях письма: «Сие Аввакум протопоп чел и сие разумел истинно, к тому и руку приписал. Сия до зде. Аминь»[1504].
Однажды протопоп получил записку от своего духовного сына попа Акиндина. Верный древнему благочестию, он был, тем не менее, отвергнут сыном Аввакума Иваном как посвященный Никоном. Иван предупреждал о нем верующих, чтобы не называли его священником. Даже Феодосия Морозова, духовным отцом которой он был, стала было сомневаться в нем. К довершению несчастья его церковь в Зюзине сгорела и была вновь освящена по новому обряду. Можно ли было совершать там обряд венчания над Титом Мемноновичем и даже вообще совершать богослужение?[1505]
Нам, к несчастью, неизвестно, как Аввакум разрешил этот трудный вопрос: позднее в некоторых случаях он допускал вновь посвященных[1506]. Но одно несомненно, что высланные «отцы», и в особенности Аввакум и Федор, продолжали издалека направлять московскую общину по пути спасения. Связь между Пустозерском и столицей держалась через Мезень: это был самый близкий центр. Туда часто ездили по делам, а стрельцы постоянно курсировали туда и обратно по поручению воеводы: оказии были частыми. Аввакум писал Анастасии и присоединял к этим письмам послания в Москву; часто он посылал их открытыми; протопопица прочитывала их, запечатывала и отправляла куда следует. Всегда находился какой-нибудь сочувствующий, бравший на себя доставку дружеского послания.
Если послание было компрометирующим, прибегали к хитрости. Инок Епифаний изготовлял кресты, которые отправляли на Мезень, где они встречали вдвойне благосклонный прием: как кресты и как изделие исповедника веры; в обмен Анастасия добывала то, чем можно было поддержать узников. Для ловкого мастера было нетрудно умело приготовить внутри креста тайник, в который клали тайные послания[1507]. Однажды Епифаний смастерил тайничок даже в бердыше – правда, это стоило Аввакуму его шубы и полтины, пришлось заплатить стрельцу, чтобы он покрыл дело[1508]. С Мезени эти послания направлялись в Москву Ивану, а Иван передавал их Титу, который, в свою очередь, рассылал их по назначению.
Тит часто должен был являться в хоромы Морозовой, так как между Феодосией и Аввакумом переписка была очень активной[1509]. Хотя ее духовным руководителем и был ловкий человек, земляк Неронова, Прокопий Иванов, которому, несмотря на его преданность старым обрядам, удалось с 1657 года удержаться в должности приходского священника в церкви святого Саввы Стратилата, что на Знаменке[1510], она никогда не упускала случая, несмотря на дальность расстояния, посоветоваться с тем, кто, по существу, был для нее выразителем воли Божией. Она заботилась о его благосостоянии. Она посылала Анастасии для него деньги, которые, правда, не всегда доходили, а равно и различные вещи[1511]; однажды по его просьбе она отправила венчик [ «главотяжец»] и саван[1512].
От этой переписки осталось очень немного. От Морозовой сохранилось четыре письма или отрывка, охватывающие период 1668–1670 го дов. Рядом с любимым отцом, светом и радостью ее души, она ничтожество, грешница, ленивая, повергнутая в грех, невыносимая для всех людей; она молит его дать ей благословение. Затем она изливает свои горести. Московская община раскалывается: наши духовные лица тянут вкривь и вкось, почти нет людей, стоящих за правду. В особенности она пишет:
«А дети твои не так живут, как ты: пошли за Федором ходить и у него переняли высокоумье великое на себя, и гордость положили, и никого человека не поставили, и всех стали обманывать. (…) не познали за грех, за него умирают. (…) А я сама такова была, чаяла себе доброго спасения, да немного душу не потеряла. Лют сей человек! (…) И сам ты, свет мой, уразумел, и мне говаривал, и я, грешница, мало слушала, у тебя же молила: “Вели жить!” (…) Меня Бог помиловал, что нет его у нас! (…) Пиши, свет, детям своим гораздо и запрети, чтобы им с ним не знаться, и помолися за меня, чтобы и меня Бог избавил от него. И тому Федору во всем запрети, чтобы в покаянии был. (…) А что к тебе ни пишет – то все ложь, прости меня Христа ради! Ну да, чу, послушает ли тебя? Бога забыл и детей твоих всякому злу научил. Зато та на меня твои дети и печальниы были».
Сзади, на полях она приписала: «Прости меня, грешницу, жалея так писала со слезами».
Также с оборотной стороны этого же листа, так как у него не было бумаги, Аввакум отвечает строго:
«Я детям своим велю Федора любить – добрый он человек: прежде тебя его знаю и давно мне сын духовный. Такова то ты разумна: не смогши с корову, да подойник о землю! Себя боло тебе бить по роже той дурной, как и я себя, четками»[1513]
Зная кипучий, нетерпимый характер своего Федора, Аввакум не хотел сначала помещать его у Морозовой, но та, видя в нем лишь аскета, святого, настояла на своем. И все же Федор посеял в ее доме смуту и раздоры: он представил ей духовных детей Аввакума «высокомерными» и «непостоянными», недостойными ее милости. Он соблазнил, если верить весьма смутным намекам, княгиню Евдокию Урусову, несчастливую в своей семейной жизни, которая была на волосок от полного падения[1514]. Тогда Феодосия выгнала его. В отместку он восстановил против нее всех, даже этих же самых духовных детей Аввакума. Он так ее оклеветал, что было невозможным не только об этом написать, но и даже сказать[1515].
Аввакум смотрел выше всего этого. Он не обращал никакого внимания на россказни Ивана и Прокопия о Морозовой и ее близких – Ксении и ее брате, о матери Александре, которая могла против них настроить боярыню, по-видимому, ненавидевшую Анастасию и ее сыновей. Он знал, что Федор мог нарушить свой долг смирения и христианской любви и что он вел жестокую борьбу со своей плотью. Но юродивый ведь был героем: этот героизм покрывал его каждодневные грехи. Он не мог запретить ему причастия, как того хотела Феодосия. К тому же он и его не щадил. Но Феодосия? Жалел ли он ее бедную мятущуюся душу? Не должен ли он был мягче относиться к ней? Феодосия в то время была еще, правда, милосердной и добродетельной, но все же знатной «верхней» боярыней, фактически не отказавшейся от светской изысканности. Но именно потому что он чувствовал ее необыкновенную чистоту, ее душу, он обходился с ней резко, грубо, испытывая ее, чтобы довести ее до подлинного подвижничества. И вот – он обвиняет ее.
Он ей повторяет, что лучше бы она сама себя обвиняла, чем бранить других. Он упрекает ее в том, что она дает обирать себя разным паразитам, красноречивым на слова, и гонит от себя поборников правды, обильно угощает любителей романеей и рейнскими винами и в то же время считает по грошам те милости, что выдает страдальцам, пролившим свою кровь во имя Христово:
«Ну, полно мне того говорить! Помирися с Федором, помирися с детьми моими – добро ти будет; аще ли ни – то нехорошо будет. Напрасно покидаешь и Марковну: Марковна – добрый человек; я ее знаю. (…) Пожалуй, Бога ради, не отринь от себя детей моих духовных, Дмитрия попа с попадьею, а то слышу, что ты их изгоняешь»[1516].
Будущему предстояло оправдать как для юродивого, так и для боярыни поведение Аввакума.
Конфликт, столь пагубный как морально, так и материально для небольшой московской общины, вскоре прекратился. В самый острый момент уехали на Мезень Иван и Прокопий, Федор сопровождал их. Это произошло в конце 1668 года или в начале 1669 года. В течение некоторого времени Морозова еще смогла жаловаться на то, что на Мезени вскрывали ее письма к Аввакуму или его ответы[1517], но протопоп вскоре навел порядок и все позабылось[1518].
IV Почта 1669 года; послание к царю
Прибытие Ивана с женой Неонилой, дочкой Марьей, Прокопия, Федора и еще одного ученика Аввакума – Луки заполнило весь дом в Окладниковой слободе. Вся большая семья была почти восстановлена, как в 1664 году в Москве. Тут был младший из мальчиков Афанасий, все три дочери: Агриппина, Акилина и Ксения; бережливая и достойная вдова Фетинья Ерофеева со своим сыном; молодая девушка Ксения, вероятно служанка, и несколько таинственных «вновь окрещенных», возможно, привезенных из Сибири, возможно, самоедов, недавно обращенных протопопом в веру на Мезени; наконец, некий Григорий, учитель Афанасия, который, увы, к концу своей жизни отказался от старой веры[1519].
Для четверых ссыльных эти многочисленные и преданные домочадцы, жившие в относительной близости, были твердой точкой опоры. Иван, более осведомленный и образованный, был более, чем Анастасия, способен установить связь с Москвой и другими старообрядческими общинами. С той поры послания, исходившие из Пустозерска, можно было переписывать, размножать, сохранять и пускать по всем направлениям с меньшей опаской, чем из столицы.
Если Аввакум и его друзья были руководителями душ и, следовательно, людьми, обязанными следить за событиями, писать письма и грамоты, чтобы наставлять верующих, они ни в какой мере не были ни политиками, ни писателями. Они прежде всего были духовными лицами и учили старой вере только лишь потому, что в ней была вся их жизнь. В изгнании духовная жизнь Аввакума оставалась той же, что в Москве.
В Пустозерске в 1679 году было три церкви: церковь Спаса, Введения и Никольская церковь[1520]. Приходской священник Введенской церкви по имени Андрей служил по старому Требнику[1521]. Было бы удивительно, если бы десятью годами раньше не нашлось священника, совершающего богослужение по старым книгам. Не исключено, что Аввакум имел возможность посещать храм и более или менее тайно совершать там богослужение, даже обедню на антиминсе старого освящения. По крайней мере, он получил там надлежащим образом освященные Святые Дары для самопричастия и для причастия своих собратьев. Тем не менее самыми доступными религиозными обрядами были те, что не требовали никакой помощи извне: домашние молитвы и чтение – у них были кое-какие книги и, кроме того, Аввакум всю Псалтырь знал наизусть[1522]. К этому нужно до бавить земные поклоны, умерщвление плоти, созерцание, духовные размышления и молитву. Самой силою вещей религия заключенных должна была становиться все более вдумчивой, богословски обоснованной и мистической.
Великий пост 1669 года начался 22 февраля. Как обычно, протопоп провел первые четыре дня, с понедельника по четверг, в полном воздержании от пищи. В пятницу, начав псалмопение, он почувствовал сильный озноб. Лежа на печи и стуча зубами, он продолжал повторять наизусть псалмы; за дрожью последовали судороги. Еще в течение недели он оставался без еды, не имея силы совершать богослужение, он читал одно лишь правило. Наконец, в ночь с четверга на пятницу второй недели Великого поста ему было следующее чудесное откровение:
«…распространился язык мой и бысть велик зело, потом и зубы быша велики, а се и руки и ноги велики, потом и весь широк и пространен, под небесем по всей земле распространился, а потом Бог вместил в меня небо и землю и всю тварь. Мне же молитвы безпрестанно творящу (…) и бысть того времени на полчаса и больши, и потом возставши ми от одра лехко и поклонившуся до земля Господеви, и после сего присещения Господня начах хлеб ясти во славу Богу»[1523].
Таким образом, Аввакум уподобился Аврааму: согласно его «Откровению», изложенному в Палее[1524], ему, заключенному в тесной тюрьме, Бог даровал небо, землю и всю вселенную! Не переставая думать о своей скорой кончине, он видел в этом знамении одобрение и поддержку. Можно быть уверенным в том, что после этого он с удвоенной энергией продолжил свою деятельность.
В течение лета узнали, что сотник Акишев, закончив свой двухгодичный срок пребывания в Пустозерске, собирается к новому году вернуться в Москву[1525]. Поручал ли ему воевода доставить официальные сообщения, в которые можно было вложить что надо из «сказок», согласился ли он просто взять на себя добавку грамот, чтобы перевезти их тайной почтой – как бы то ни было, это был необыкновенный гонец и заключенные решили воспользоваться им в полной мере.
Лазарь, не получивший ответа на свое первое обращение, составил второе: не соблаговолит ли царь приказать воеводе отправить, не вскрывая, два тайных заявления, в которых он, Лазарь, умолял его помочь его жене Домне и трем детям. Уже пять лет бродят они из дома в дом, не имея ни пищи, ни крова, изнывая от голода и холода. Здесь милостыни не попросить: у злосчастных здесь у самих хлеба нет и питаются они одной квасной гущей. Прикажи, чтобы ее с малолетними перевезли на Русь, куда сам захочешь[1526].
Аввакум написал длинное послание царю. Правда, дело было сделано и не подлежало больше обсуждению. Но горе и потери, возможно, смягчили сердце царя: 3 марта царица Мария умерла от родов[1527], а 18 июня умер царевич Симеон, в возрасте четырех лет[1528]. Само небо, казалось, ему посылало одно предупреждение за другим. Вся Украина была охвачена мятежом. Крымскими татарами на Днепре была разбита целая армия. Вся Москва была охвачена пожаром[1529]. Что, если рассказать ему теперь о видении в день Успения в церкви святителя Николы, а также о видении во время последнего поста, неужели он не даст себя поколебать? Другие уже потеряли всякую надежду, но Аввакум не мог примириться с мыслью, что Алексей для него потерян навсегда. Он пишет:
«Царь государь и великий князь Алексей Михайлович, многажды писахом тебе прежде и молихом тя, да примиришися Богу и умилишися в разделении твоем от церковного тела. И ныне последнее тебе плачевное моление приношу, – ис темницы, яко из гроба, тебе глаголю: помилуй единородную душу свою и вниди паки в первое свое благочестие, в нем же ты порожден еси с прежде бывшими тебе благочестивыми цари, родители твоими и прародители. (…)
И не покручинься, царю, что тако глаголю ти: ей, истинна тако. Господин убо есть над всеми царь, раб же со всеми есть Божий. Тогда ж наипаче наречется господин, егда сам себе владеет и безместным страстем не работает, но споборника имея благочестива помысла, непобедимого самодежца безсловесных страстей, иже всех матеря похоти всеоружием целомудрия низлагает. (…)
Блядословят о нас никонияны, нарицают раскольниками и еретиками в лукавом и богомерском Жезле, а инде и предотечами антихристовыми. Не постави им Господь греха сего, не ведят бо, беднии, что творят. Ты, самодержче, суд подымеши о сих всех, иже таково им дерзновение подавый на ны.
Не вемы в себе ни следу ересей коих – пощади нас Сын Божий от такова несчастия и впредь – ниж раскольства: Бог свидетель и Пречистая Богородица и вси святии! Аще мы раскольники и еретики, то и вси святии отцы наши и прежнии цари благочестивии и святейшия патриархи такови суть. О, небо и земле, слыши глаголы сия потопные и языки велиречивыя! Воистину, царь государь, глаголем ти: смело дерзаете, но не на пользу себе. Кто бы смел рещи таковыя хульныя глаголы на святых, аще бы не твоя держава попустила тому быти? Вонми, государь, с коею правдою хощеши стать на Страшном суде Христове пред тьмы ангельскими и пред всеми племены язык верных и зло верных. (…)
И ты не хвалися. Пался еси велико, а не востал, искривлением Никона богоотметника и еретика, а не исправлением; умер еси по души ево учением, а не воскрес. И не прогневися, что богоотметником ево называю. Аще правдою спросиши, и мы скажем ти о том ясно с очей на очи и усты ко устом возвестим ти велегласно; аще ли же ни, то пустим до Христова суда: там будет и тебе тошно, да тогда не пособишь себе нимало. Здесь ты нам праведнаго суда со отступниками не дал, и ты тако отвещати будеши там всем нам; а льстящии и ласкающии тебе, им же судом судиша нас, також и сами от Христа и святых Его осудятся, и в ню же меру мериша нам, возмерится им от Сына Божия. Несть бо уже нам к ним не едино слово. Все в тебе, царю, дело затворися и о тебе едином стоит. Жаль нам твоея царския души и всего дому твоего, зело болезнуем о тебе; да пособить не можем, понеж сам ты пользы ко спасению своему не хощешь.
А о греческих властех и вере их нынешной сам ты посылал прежде испытовати у них догматов Арьсения Суханова, и ведаешь, что у них иссяче благочестие. (…) Ведаешь ли, писано се во Истории о белом клобуце, и, ведая, почто истинну в неправде содержиши? Сего ради открывается гнев Божий на вас, и бысть многажды ты наказан от Бога и все царство твое, да не позналися есте.
А еже нас не велишь умерших у церкви погребать и исповеди и святых тайн лишать в животе сущих еще коих, да Христос нас не лишит благодати своея: Той есть присно с нами и будет, надеем бо ся нань крепко и никто ж человек смертной и тленной отлучити нас от Него возможет – с Ним бо стражем и умираем. А по смерти нашей грешная телеса наша добро так, царю, ты придумал со властьми своими, что псом пометати или птицам на растерзание отдати. Вемы бо, да и ты слышишь по вся дни в церкви, яко святым мучеником ни единому честнаго погребения не бысть от убивающих их или в темницах уморяющих, но метаху их в безчестные места и в воду иных, и в ровы, и в кал, овых же и сожигали мощи, да Христос их нигде не забыл; тако ж и нас негли не забудет Надежда наша и купно с первыми соберет кости наша в последний день и оживотворит мертвенная телеса наша Духом Святым. Несть мы лутши древних мученик и исповедник – добро так нам валятися на земли. (…)
Прости, Михайлович, свет, либо потом умру, да же бы тебе ведомо было, да никак не лгу, ниж притворяяся, говорю: в темнице мне, яко во гробу сидящу, что надобна? Разве смерть? Ей, тако.
Некогда мне молящюся о тебе з горькими слезами от вечера и до полунощи и зело стужающу Божеству, да же бы тебе исцелитися душею своею и живу быти пред Ним, и от труда своего аз многогрешный падох на лицы своем, плакахся и рыдая горко, и от туги великия забыхся, лежа на земли, и видех тя пред собою, или ангела твоего умиленна стояща, подпершися под лице правою рукою. Аз же возрадовахся, начах тя лобызати и обымати со умиленными глаголы. И увидех на брюхе твоем язву зело велику, исполнена гноя многа, и убоях, вострепетах душею, положих тя взнак на войлок свой, на нем же молитвы и поклоны творю, и начах язву на брюхе твоем, слезами моими покропляя, руками сводити, и бысть брюхо твое цело и здорово, яко николи же боле. Душа ж моя возрадовалася о Господе и о здравии твоем зело.
И паки поворотив тя вверх спиною твоею, видех спину твою загнившу паче брюха, и язва больши первыя явихся. Мне ж, тако же плакавшуся, руками сводящу язву твою спинную, и мало посошлася, и не вся исцеле.
И очютихся от видения того, не исцелих тя всего здрава до конца. Нет, государь, большо покинуть мне плакать о тебе, вижу, не исцелеть. Ну, прости ж, Господа ради, дондеж увидимся с тобою».
Сообщив еще о других знамениях, которые он получил по милости Божией, Аввакум преднамеренно тут же заканчивал послание, видимо желая оставить царя под впечатлением той последней и страшной встречи с горними силами, которая у него была.
«По сем, государь, мир ти и паки благословение, аще снабдиши, о нем же молю твою царскую душу; аще ли же ни, буди воля твоя, яко ж хощеши. Не хотелось боло мне в тебе некрепкодушия тово – веть то всячески всяко будем вместе; не ныне, ино тамо увидимся, Бог изволит»[1530].
После этого обращения к суду Божиему царю оставалось лишь сдаться, иначе все взаимоотношения между протопопом и им были в сем мире раз и навсегда кончены.
Отъезд сотника заставил себя ждать; его преемник Иларион Ярцев занялся приемкой узников лишь 20 сентября[1531]. Но еще до этого была оказия на Мезень: добряк Поликарп, посланный Анастасией, отправлялся в путь в первых числах месяца. Ему была передана, для большей уверенности, копия послания Аввакума; она ведь предназначалась столько же верующим, сколько и царю. Ему доверили еще одну большую драгоценность: подлинник «Ответа православных», законченный наспех и теперь начисто переписанный. Автор подписался зашифрованным образом «гонителей ради»: имя автора было обозначено цифрой 258, а его священнослужительский сан цифрой 155. Складывая цифровые значения, придаваемые буквам славянского алфавита, – находили соответствующие слова. Эта тайнопись в те времена часто применялась. В результате для посвященных получалось: «диакон Феодор»[1532]. Строго православное содержание этого труда было подтверждено всеми четырьмя узниками, «пустозерскими отцами». Иван Аввакумович должен был дать верному человеку переписать хорошим почерком и книгу, и послание и затем переслать их и Соловки, и в Москву[1533].
Наряду с этими важными, чисто религиозными посланиями были и более личные весточки. От дьякона Федора было письмо семье протопопа: он благодарил Анастасию за съестные припасы, которые она ему переслала через Лодьму и с «лодкой Ивана»; просил прислать еще, так как его жена, оставшаяся в Москве, посылала на это деньги. «Брата» Ивана просил потрудиться на благо Церкви и поступать, как его отец учил, а также сообщить о нем жене его и Максиму и ему сообщить о них, что узнает. Он заканчивал замечаниями о малом стаде верующих и о малом числе истинно православных священников: «Да сие все про себя знайте, а письмо раздерите мое мучителева ради имени»[1534].
В праздник Преображения Аввакум смог совершить водоосвящение и окропить верующих святой водой. Существовал обычай посылать святую воду тем, кого особенно любишь и уважаешь. Нет сомнения, что он передал через Поликарпа бочонок с богоявленской водой своей семье[1535]. Также, наверное, пошли от него и милые посланьица жене и Морозовой, то есть тем, кому он вообще обычно писал, были, наверное, послания и для иных мятущихся душ в Москве и других местностях.
Пришла зима. На Крещение Аввакум еще смог снова освятить воду. Вскоре после этого через некоего Машигина, привезшего посылки от Анастасии, он послал своей семье еще бочонок святой воды вместе со следующим письмом:
«Всем без разбору – благословение; Марковну Бог простит. Пришли с Машиги[ным] ваши все посылки. Я Огрофене холстинку послал, да неведомо, до нея дошла, неведомо – нет; ушто ей, бедной, некому о том грамотки написать? ушто она бранится з братиею? А я сетую: не весть – дошла, не ведомо – нет. А о рубашках я с Тимофеем писал про холстинку и про него, что он сплутал, нам посылку с Москвы не привез. И он ушто то и отодрал? Три рубахи пришлите. Да и рубахи надобно: часто наг хожу. Да и башмачишков нет – какие бы нибудь. Да и ферезиш ков нет. Да и денженец нет. Грамотки, Иван, бояроне в столпчик запечатай, да пошли. Послал ныне богоявленской воды боченку, а летом августовы; а нынешную и первую сам святил. О мире преж всего писал я вам – Федор, что об одном деле двожды говорить? (…) К Маремьяне попадье я грамотку с Иваном Архиповым послал – велю жить с попом; что она плутает? Апостол глаголет: святит бо ся муж неверен о жене верней. Многонко там писано, а ныне с Стефаном… послал с сестрою, неколи много писать, надобе боло итить.
В Соловки-те Федор хотя бы подъехал; письма-те спрятав, в монастырь вошел, как мочно тайно бы, письма-те дал, и буде нельзя, ино бы и опять назад совсем».
На полях сделана приписка, адресованная Федору:
«Хто тебя научил указывать тово мне, чтоб я Феодосье той запретил? Плутаешь иное и ты много. Ведаю веть я и твое высокое житье, как, у нея живучи, кутил ты! Горе биешь те мне с вами стало»[1536].
Это письмо написано на обороте того, которым Иродион Греков благодарил протопопа за то, что тот ему написал, и просил писать и впредь, ибо после того как пробыл пленником в Крыму у мусульман, он очень нуждался в его советах. Он припадал к его стопам и молил о благословении. Этот Иродион был не кем иным, как новым воеводой на Мезени[1537].
Таким образом, Аввакум с далекого устья Печоры, несчастный узник, не имевший даже во что одеться, наблюдал за своей семьей, старался водворить в ней нарушенный Федором мир, пробирал последнего, одновременно давая ему опасное поручение; был духовным наставником воеводы, делал важное каноническое указание, напоминая о том, что даже отступничество священника не было для его жены поводом его оставить; все время сохранял связь с Соловками. И все это молнией проносится в свете одной сохранившейся очень краткой записки!
V В Москве. Морозова и Авраамий. Преследования
Дьякон Федор и, конечно, другие «отцы» были, и не без основания, сильно озабочены тем впечатлением, которое должно было произвести в Москве послание Аввакума и книга «Ответ православных»[1538]. Сотник Акишев передал бумаги по назначению 28 ноября 1669 года[1539]. Тут же, по видимому, было начато серьезное расследование в отношении приверженцев старой веры.
Раскол стал угрожающим не только для церкви, но и для государства.
Соловки, которые надеялись привести к капитуляции, конфисковав монастырское имущество, оставались твердыми в своем сопротивлении. Начиная с лета 1668 года царская армия безуспешно осаждала Соловки. Монахи, чтобы полностью проявить свою решимость стоять до конца, отпустили всех подозрительных и колеблющихся; таковых оказалось около двадцати человек в декабре и человек двенадцать в июле 1669 года. В январе 1669 года они ответили посланцу воеводы Волохова, что не хотят новых книг и заключили себя здесь, чтобы здесь и умереть, и если Волохов пришлет к ним еще посланца, его посадят в тюрьму. Даже в селах на берегу Белого моря перестали молиться за царя[1540].
На другом конце Руси, на Дону, также поднимался новый мятеж. Казаки, едва добившись прощения за постыдную авантюру у берегов Персии, уже стали наводить ужас на астраханских и царицынских воевод[1541]. Их атаман Степан Разин находился где-то между Доном и Волгой, привлекая на свою сторону недовольных, увлекая всех тех, кто жаждал свободы: крепостных, крестьян центральных областей и верующих, готовых бороться за свою веру[1542]. Там тоже были сильно встревожены. Задавались вопросом, не существует ли взаимоотношений между Соловками и Разиным. Не имели ли и московские старообрядцы связи с ним? Когда же узнали, что их главари, высланные, искалеченные и измученные, все же продолжали свою агитацию пером, то уже сочли необходимым принять решительные меры.
С другой стороны, жестокие меры были лишь осуществлением постановлений церковного собора, доселе не реализованных или смягченных из-за сомнений царя и благодаря заступничеству царицы. Теперь набожной царицы уже не было, а царь за все эти годы очень изменился. Он проводил меньше времени в паломничествах, в церквах и монастырях. Гораздо больше времени отдавал он теперь развлечениям и мирским удовольствиям, равно как и политике[1543]. Он усиленно смотрел теперь уже не в сторону греков, а на запад: в сторону Польши, Англии. Он отвлекался от духовной жизни всевозможными удовольствиями, новыми выдумками, заимствованными рифмованными стихами, а вскоре и театральными представлениями. Его новый духовник, Андрей Постников, ничуть не обладал прежней строгостью[1544]: он любил книги как таковые, а также иконы, отражающие живую жизнь, любил светлые краски, причудливую архитектуру, пиры, музыку, партесное пение, фиоритуры, короче говоря, все соблазны и похоти ума, плоти и очес. Его любимым советником был Артамон Матвеев[1545]. Наставником царевичей был Симеон Полоцкий. Когда скончалась Мария Ильинишна, были сильные и многочисленные проявления скорби – выдавалась особая милостыня, служились заупокойные службы, но не прошло и года, как царь стал подумывать о новом браке, хотя и имел трех наследников[1546]. 17 января 1670 г. его старший сын Алексей в возрасте 16 лет был также унесен внезапной и таинственной смертью[1547]. Тем не менее продолжала показываться во дворце[1548] Наталья Нарышкина, будущая царица, питомица Матвеева. Казалось, что, отказавшись от старой веры, царь одним махом отбросил и строгость нравов, и религиозное рвение. Несчастный был теперь уже совершенно неспособен понять сомнения и чаяния тех, кто в его глазах были отныне лишь невеждами, упрямцами и мятежниками.
В Москве, со времени всех отъездов, изгнаний и отступничества, преданная христианская община группировалась вокруг особняка Морозовой и инока Авраамия.
До самой смерти царицы Феодосия не оставляла последнюю, выполняя свои обязанности возле нее: 1 октября 1666 года, по просьбе царицы и в честь новорожденного царевича (Ивана), ей были возвращены прежде конфискованные поместья[1549]; 1 сентября она еще присутствовала на пиру[1550], а ее сын Иван уже начал свою карьеру стольником; 21 марта 1670 года они оба внесли вклад в Новоспасский монастырь в память своего мужа и отца боярина Глеба[1551]. Вращаясь в придворных кругах, благородная боярыня внешне держала себя как прежде. Но из своего дома она сделала настоящий монастырь. Монахиня из Жабынской пустыни, находившейся недалеко от городка Белева, по имени Мелания, названная матерью Александрой, исполняла обязанности игуменьи, ей все повиновались и даже сам Аввакум называл ее своей «матерью» и «начальницей». Это была женщина благородного происхождения и очень рассудительная; она властной рукой вела свою паству и не боялась ничего[1552]. Помимо Прокопия и Акиндина, своего духовника и руководителя, Феодосия принимала и проезжих гостей: монаха Спиридона, также из Жабынской пустыни, некоего дьякона Феодосия из Перевысьевской пустыни, находившейся в Вологодском крае и основанной когда-то одним другом Неронова[1553], и, конечно, многих других. Она получала письма с Мезени и из Пустозерска. Таким образом, она общалась с верующими как столицы, так и провинции. Она находила способы приютить и укрыть их посланцев, через своих слуг передавала им новости и оказывала им всяческую помощь. В других знатных семьях Москвы были свои приверженцы старой веры, как, например, у Салтыковых, Хованских, Долгоруких, Хрущевых, Хилковых, Волконских, но вдова Морозова имела перед ними то преимущество, что не зависела ни от кого и могла свободно располагать как своим временем, так и состоянием.
Однако не женщина правила ими всеми. Настоящим духовным и нравственным руководителем московского старообрядческого христианства был, хотя и находившийся сам под властью пустозерских «отцов», Авраамий, прежде юродивый во Христе Афанасий, ставший ныне монахом. Он провел некоторое время в скиту. Затем возвратился в Москву. У него была сильная поддержка, которой он широко пользовался для своих верующих, в лице Бориса Остолопова, племянника патриарха Иоасафа, находившегося тогда во Владимире: туда он совершал частые поездки верхом на лошади, деньги за которую ему выплачивала община[1554]. К этим временным заботам о нуждах верующих присоединялось его убеждение в скором приходе антихриста: много размышляя по этому поводу, он дошел даже до особого толкования Писания. Согласно его мнению, антихрист должен был появиться не на Западе, а на Руси; Никон, кстати ска зать, весьма на него походил[1555]. В этом он расходился с Аввакумом, но нисколько от этого не любил и не уважал его меньше прежнего, почитая его как «настоящего ученика Христова» и как своего наставника во всех добрых делах. Он посылал ему пироги, высказывал свои сомнения[1556], а главным образом, хранил, переписывал, перерабатывал и распространял его сочинения. Например, он составил в 1668 или 1669 году новую редакцию его первой челобитной к царю по возвращении из Даурии, содержавшую рассказ о его испытаниях: это был любопытный, наново сделанный труд, в котором язык приближается к простонародному и где в датах был наведен определенный порядок. Вместо «уже в течение десяти лет проливается кровь христиан» тут читалось «уже пятнадцать лет». Здесь же эпитеты «православный, благочестивый, христолюбивый» по отношению к царю, а равно и выражения покорности ему и дружбы к нему, как и звание патриарха, оставленное Никону, были неуклонно упразднены. Столь глубоки были изменения, происшедшие в умах за эти пять лет[1557].
Авраамий с благоговением принимал все то, что шло из Пустозерска. В толстую книгу вписывал он повествования и тексты как напечатанные, так и рукописные, как свои собственные, так и другие: все пригодное для служения старой вере; он не преминул, в частности, внести туда отрывки из «Ответа православных» и письмо дьякона Федора какому-то монаху[1558]. Добрая слава об этом деятельном и плодовитом распространителе истинного учения, которого еще не затронуло ни одно запрещение, ни одно суждение, была велика даже в официальной церкви[1559].
Однако началось следствие. Дознание это Морозовой пока не коснулось: она стояла слишком высоко и, кроме того, сумела вовремя спрятать подальше своих самых компрометирующих сторонников и тех, кто знал слишком много, как, например, ее слуга Игнатий Иванов[1560]. Зато Авраамий был обретен следственными органами в церкви Троица-на-рву, где он жил затворником; его повлекли оттуда, крича, что не может быть отшельников средь бела дня в городе[1561], и потащили на Мстиславский двор. Это случилось ночью в субботу 13 февраля 1670 г. При нем нашли письма, полученные от Феоктиста, Антония, Неронова, недавние записки от дьякона Федора и Аввакума. Его допросили на следующей же неделе, первой неделе поста, то есть между 15 и 21 февраля. При допросе митрополит Павел особенно настаивал на его взаимоотношениях с Аввакумом. Тут обнаружилась роль Тита и с недавних пор Ивана, сына Аввакума[1562]. Было ясно, что все нити вели в Пустозерск и на Мезень. Решение было принято быстро: 23 февраля Иван Елагин получил пятьдесят рублей на путевые издержки, чтобы отправиться на Север и совершить скорый суд на Мезени и в Пустозерске[1563].
Елагин получил все полномочия, чтобы вести следствие и предпринять нужные меры воздействия. Но была одна оговорка: не трогать Аввакума. Единственное воспоминание, которое царь сохранил о своем прошлом, – это было его дружеское отношение к протопопу.
VI Казни на Мезени и в Пустозерске
Около середины марта – зимой путешествуют быстрее – Елагин прибыл в Окладникову слободу. Он был военным, полуголовой в одном из тех стрелецких полков, которым со времени смут 1662 г. царь поручил охрану своей особы. Он знал местность и тамошних людей, так как служил там раньше воеводой с 1661 по 1663 год[1564]. Он не собирался вступать в богословские споры. Местный воевода, добряк Греков, попробовал было вступиться, но он его отстранил. Кстати сказать, Греков и двух лет не пробыл на Мезени[1565]. Затем он велел привести обвиняемых: жену и сыновей Аввакума, Федора и Луку. Допрос заканчивался решающим вопросом: «Как ты, мужик, крестишься?»
Иван и Прокопий сначала были тверды. Елагин приказал их повесить. Тогда они отреклись: смерть внушала им страх. Ведь и апостол Петр отрекся от своего Учителя! Об Анастасии нам ничего не известно: невероятно, чтобы она проявила малодушие, как они, и к тому же ее муж ей этого не простил бы. Но ведь она была женщина: судья обрек ее на участь ее детей. Всех троих заключили в земляную тюрьму, без сомнения, то была на половину врытая в землю изба, не имевшая иного доступа света, кроме как через узкое слуховое окно. Таким образом думали уничтожить всякое общение с Мезенью.
Юродивый Федор показал, что не был двуличным: он без колебаний принял повешение.
Лука был молодым мещанином из Москвы: двадцати пяти лет, единственный сын вдовы, сапожник по профессии. Его знали как кроткого, мягкого, не по летам вдумчивого человека. Он полностью проявил себя. Он ответил: «Верую и творю крестное знамение, как мой духовный отец протопоп Аввакум». Других обвинений против него не было: Елагин не посмел казнить его своей властью. Он заключил его в тюрьму и запросил Москву. Есть все основания думать, что он велел его повесить, уже проезжая через Мезень при своем возвращении и получив ответ из Москвы[1566].
После этого чрезвычайный комиссар отправился в Пустозерск. Следуя инструкции, он должен был заставить четырех ссыльных подписать формуляр, которым они высказывали свою покорность церкви и церковному собору, свое признание измененного Символа веры и нового крестного знамения. В таком случае они получали помилование и свободу; в противном случае их ждала казнь. Они составили свою формулу исповедания: «Мы святых отец церковное предание держим неизменно, а палестинскаго патриарха Паисея с товарыщи еретическое соборище проклинаем». Затем они высказывали свое мнение о ересиархе Никоне и о иных вещах. В течение трех дней Елагин убеждал их уступить – они отказывались.
На четырнадцатый день апреля в четверг на Фоминой неделе протопоп Аввакум, поп Лазарь, дьякон Федор и инок Епифаний были извлечены из своей тюрьмы и приведены на место казни: палач, плаха, топор – все было готово[1567]. Они ждали, что им отрубят голову, так как Елагин им сказал, что все будут обезглавлены.
Собрались все жители Пустозерска. Они благословили их всех вместе и простились с ними, давая последние наставления: «Не прельщайтеся Никоновым учением! за истинну страждем и умираем». Аввакум благословил плаху: «То де наш престол стоит», – сказал он. Затем, ожидая пока им отрубят голову, они благословили друг друга и дали друг другу лобзание мира.
Тут им прочли приговор: «Изволил-де государь, и бояря приговорили, тебя, Аввакума, вместо смертные казни учинить струб в землю и, сделав окошко, давать хлеб и воду, а прочим товарищам резать без милости языки и сечь руки».
Услышав это, Аввакум плюнул и сказал: «Плюю де я на ево хлеб, не ядше умру, а не предам благоверия»[1568]. Елагин отослал его. Он залился слезами, крича и скорбя, что его разлучают с братией.
Остальные сложили руки в крестное знамение, показали их народу и подняли глаза к небу.
С помощью двух стрельцов палач схватил Лазаря за руки и стал вставлять ему между зубами деревянный «жеребей». Это им не удавалось, так как у них дрожали руки. Тогда Лазарь сам взял язык рукой: язык был весьма мал с того времени, когда ему его отрезали в первый раз и его нельзя было ухватить клещами. После этого он стал сам же резать его у самого основания горла. Он принимался резать его раз десять, потому что пальцы его дрожали. Наконец, ему это удалось и он бросил отрезанный язык наземь, как кусок мяса. Затем он произнес сильным, как и прежде, голосом: «Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных!» Все присутствовавшие, пораженные ужасом и изумлением, дрожа от страха, громко рыдали и, как бы остолбенев, повторяли лишь: «Господи, помилуй!»
Лазарь сказал: «Мужик, мужик, скажи царю: Лазарь без языка говорит и болезни не чаю». Однако кровь текла обильно, и от нее стали красными два больших полотенца. Лазарь бросил одно из них в толпу: «Возьмите дому своему на благословение!»
Затем его схватили за правую руку и положили ее на плаху. Лазарь сам подготовил все и направлял топор. Ему отсекли руку у запястья. Пальцы были вытянуты, но, когда рука упала с плахи, пальцы сложились в крестное знамение, как бы проповедуя истину. Лазарь сказал: «Подайте ми руку». Ему ее отдали. Он принял ее и облобызал. Пальцы снова сложились для крестного знамения. Тогда он спрятал ее на груди. Кровь рекой лилась у него из руки и горла. «Кровь-де, – сказал он, – мне мешает говорить, а не язык». Однако он говорил ясно и продолжал обличение: «Власти не праведно судят, обольстили царя еретики»[1569].
Когда дошла очередь до Епифания, то он с лучезарным лицом стал умолять Елагина отсечь ему голову. Тот отказал ему в этом. Тогда, видя подходящего к нему с ножом и клещами палача, он глубоко вздохнул и сказал, глядя на небо: «Господи, помози мне!» Вслед за этим он тут же погрузился в сон и едва, как бы во сне, почувствовал, как ему обрезали язык. Затем положили на плаху его руку; палач хотел было ему отсечь пальцы на суставах, чтобы скорее затянулась рана, но он, упорно желая смерти, сказал, чтобы отсекали поперек костей. Ему отсекли четыре пальца, он их взял и положил в карман[1570].
Дьякону Федору отрезали язык целиком, оставив лишь небольшой кусочек, срезанный наискось. Но это было не проявлением милости, а скорее ошибкой: нож выскользнул из рук палача. Затем ему отсекли правую руку поперек ладони[1571].
Замученные были затем отведены в свои темницы. Считая свою жизнь конченной и вверяя ее только Господу, они роздали все, что имели, не оставив себе даже и рубах. Они отказались от принятия пищи[1572].
Глава XIII В земляной тюрьме: перед лицом великого гонения (14 апреля 1670–1672)
I На следующий день после изувечения
На следующий же день после казни Аввакуму захотелось удостовериться: он провел рукой по рту Лазаря. Но сколько он ни щупал, все было гладким, никаких следов языка не было! Оба стали шутить: «Щупай, протопоп, забей руку в горло-то, небось, не откушу!» – «Чево щупать? на улице язык бросили!». – «Собаки оне, вражьи дети! пускай мои едят языки!» Лазарь без языка говорил также чисто, как и с языком[1573]. Федор со своим обрубком языка говорил кое-как. Но вскоре этот обрубок стал расти, выступил даже за пределы губ, стал вновь нормальным языком, только немного слабоватым, и дьякон стал говорить так же чисто и ясно, как раньше[1574].
Что касается Епифания, то он трижды думал, что умирает, так много крови терял он из своей культи; в отчаянии взывал он к Богу: «Возьми душу мою к себе, не могу я больше терпети». Но по прошествии пяти дней десятник Симеон, по его просьбе, омыл его рану, обмазал смолой и забинтовал. На седьмой день во сне ему явилась Богоматерь; она коснулась его больной руки, и вся боль пропала. Он стал мысленно говорить келейное правило – читать псалмы и молитвы. Говорил он только носом.
Либо ободренные этими милостями Провидения, либо обретя снова какое-то желание жить, заключенные к концу второй недели стали уже принимать пищу. Епифаний был сначала в очень затруднительном положении. Ему нечем было ворочать пищу во рту. Тогда из супа, рыбы и хлеба, что ему приносили, он приготовлял своего рода похлебку, которую и глотал одним глотком. На месте, занимаемом раньше языком, у него вытекало столько слюны, что если он лежал, то все, что было под головой, становилось мокрым. Он очень горевал. Однажды, когда он читал «Помилуй мя, Боже» и дошел до стиха: «Возрадуется язык мой правде Твоей», слезы выступили у него на глазах, он смотрел на крест и изображение Господа Исуса Христа и думал: «Господи, кому во мне возрадоватися, у мене и языка нету, чем возрадуюся!» Каждый раз, как встречались подобные слова в псалмах, он смотрел на изображение Господа и вздыхал: «Господи, дай ми язык бедному на славу Тебе свету, а мне грешному на спасение». Так продолжалось более двух недель, и вот однажды, когда он возлежал на ложе своем, то вдруг увидел себя на бескрайнем светлом поле: слева от него, чуть повыше его, висели оба его языка, – «московский» и «пустозерский», первый немного бледный, второй очень красный. Он протянул левую руку, схватил красный язык, взял его правой рукой и долго на него смотрел: язык трепетал. В восхищении он его ворочал и переворачивал обеими руками. Затем он вложил его в рот, приложив к отрезанному месту, и он подошел сюда превосходно. Это было лишь сном, но с того дня его язык стал понемногу удлиняться, вырастая до самых до зубов. Скоро он стал таким, каким был со времени рождения, и пригодным ко всему, и есть, и молиться, и читать псалмы и священные книги. Язык был только несколько короче прежнего, но более плотный и широкий. Обретя язык, он воспел хвалу Господу![1575]
Темница, в которую узники были переведены незадолго до казни, состояла из четырех срубов в одну сажень с таким низким потолком, что они касались его головами[1576]. Это были скорее клетки, чем дома. Елагин велел засыпать их землей, оставив лишь небольшое слуховое окно для передачи пищи и дров. Вокруг каждой избы поставили частокол из высоких заостренных кольев. Теперь это были настоящие склепы, в которых Аввакум, Лазарь, Федор и Епифаний были заживо погребены.
Но даже и в этих склепах жизнь их как-то наладилась. Сначала все было совершенно ужасно: темнота, мрак, пыль, нагромождающиеся нечистоты, дым и зола от печки. Они задыхались от зловония, а едкий дым разъедал им глаза. У Епифания шел обильно гной, и он не видел достаточно хорошо, чтобы даже подбрасывать дрова в огонь, не говоря уж о чтении. Несчастные обвиняли Провидение, как Иов, проклинали день своего рождения, пренебрегали молитвой[1577]. Затем каждый понемногу при норовился. Освобождались от нечистот, выбрасывая их деревянной лопатой через слуховое окно[1578]. Чтобы избавиться от дыма, можно было лечь ничком и прижаться ртом к земле[1579]. Как-никак была скамья, на которой можно было спать. У каждого была своя икона, своя лестовка и по меньшей мере одна Псалтырь на всех. У Аввакума было кадило[1580]. А когда уехал грозный Елагин, то были допущены некоторые облегчения.
Епифаний рассказывает, что однажды сотник принес ему куски кедрового дерева, чтобы он мог делать кресты; в то же время он вернул ему его рабочие инструменты, нож и стамеску, которые он после казни забросил. «Зделай мне крестов Христовых не мало таки, – сказал сотник, – много надобе мне вести к Москве и давать боголюбцем». – «Не вижу, а се и рука сеченая болна». Так как тот настаивал, узник послал его испросить благословение на это дело Аввакума. Сотник благословение принес. Тогда Епифаний помолился Богу и всем святым и принялся за работу. Глаза его оказались достаточно здоровыми, рука все-таки довольно ловкой. Он смог вернуться к своему ремеслу. Каждый раз, как он заканчивал крест, он торжественно, в зависимости от его размера, клал или ставил его на должное место и склонялся перед ним. Затем он читал похвалу Честному Животворящему Кресту с многочисленными земными поклонами. Этот труд доставлял ему большую радость. Иногда ночью он слышал чудесные голоса, утешавшие его: окруженный сиянием юноша обращался к нему с обычно принятым монашеским приветствием: «Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». Он отвечал: «Аминь». Затем вставал. В тот день его работа была особенно плодотворна. Когда раньше он изготовлял ящики, ведра или иные деревянные предметы, он часто ранил себе руки или ноги, но вот уже в течение около тридцати лет, как он делал кресты, он никогда не причинил себе ни малейшего вреда[1581].
Инок Епифаний был поистине хорошим человеком: его наивная набожность не нуждалась в углубленном раскрытии божественных тайн; чуть более изнеженный, чем его сотоварищи, не то из-за возраста, не то потому, что он был менее крепкого телосложения, он плохо переносил физическую боль и простодушно предавался жалобам и сожалениям, вслед за чем, впрочем, у него неизменно наступало раскаяние. Он не стремился руководить кем-либо, не занимался сличением книг, предпочитая изготовлять свои кресты с такой же верой и любовью, как такой далекий ему фра Беато Анжелико писал красками свои иконы. Он не вступал ни в какие пререкания, но своей молитвой помогал всем, кто только обращался к нему. Он питал особое пристрастие к Аввакуму, чтил его, благоговел перед его превосходством. С другой стороны, этот исключительный человек, который иной раз мог поддаться запальчивости и стремлению к господству, а равно и другим искушениям, связанным с его активной деятельностью, почувствовал необходимость подчиниться этой несложной простой душе. Руководство оказалось, впрочем, обоюдным, так как Епифаний, не любивший писать, по указанию Аввакума составил свое собственное житие, книгу, чудесную по своей наивности, полную бессознательной и подлинной жизненной правды, где фигурируют и ряд допущенных им оплошностей. Друзья Епифания, люди действия, едва оправившись от своих ран, сразу стали подумывать о том, чтобы сообщить верным о свершившихся с ними чудесах. Был даже составлен своего рода протокол всего происшедшего. Хотя бы только из-за физической возможности, Аввакум, оставшийся один невредимым, должен был взяться за перо[1582].
II Великое гонение 1670 и 1672 годов и центры сопротивления: Поморье, Керженец, Дон, Стародубье
Из Москвы и иных мест дошли печальные вести. Они говорили о новых гонениях. Никогда еще старообрядцы не преследовались так систематически и столь безжалостно.
Уже давно Русь не была в таком смятении: Степан Разин, повсюду, где он только проходил, поднимал восстание угнетенных и бедняков против помещиков, купцов, а равно и против гражданской и церковной власти вообще. Он взял штурмом Астрахань, осадил Симбирск; его сподручные жгли Алатырь, были с восторгом встречены в Лыскове, грабили Макарьев монастырь, окружили Тамбов, на севере дошли вплоть до Унжи. Волга была целиком в руках восставших; торговля была фактически прекращена, ранее лишенные своих наделов местные племена возвращались к своим землям, а в господских особняках Москвы крепостные уже начинали питать странные надежды[1583]. Разин в действительности ничего не понимал ни в старой, ни в новой вере и даже слыл не за очень исправного христианина. Но именно потому, что он не любил официального духовен ства, он казался возможным союзником старообрядцев[1584]. Летом, начиная с Пасхи до 1 сентября, во многих местах вспыхнули таинственные пожары; их насчитано было от тридцати до тридцати пяти[1585]. После дождливого и морозного года был плохой урожай[1586]. Правительство, которому казаки оказали упорное сопротивление, захотело избавиться от своих наименее опасных врагов и стало безжалостно преследовать противников установленной религии.
Репрессии, начавшиеся арестом Авраамия, все разрастались. Не довольствуясь тем, что заключали в тюрьмы и ссылали наиболее упорных, уже стали казнить. В течение этих лет у старой веры не только были свои мученики, у нее были целые легионы мучеников[1587].
Прежний казначей архиепископии в Казани, монах Иона Красенский, в конце 1658 г. испустил в соборе крик ужаса, услышав, что новый митрополит Лаврентий проповедует троеперстие; в 1666 году он отбыл наказание в Троице-Сергиевом монастыре; вслед за этим его четвертовали – «разрезали на пять частей» в Кольском остроге[1588]. В Холмогорах юродивый во Христе Иван был сожжен живым[1589]. В Боровске был сожжен священник Полиевкт и с ним четырнадцать человек[1590]. В Нижнем был сожжен один, во Владимире – сожжены шесть человек; в Казани – тридцать, в Киеве той же участи подвергся стрелец Иларион: вот то перечисление, которое было сделано Аввакумом в начале 1674 г.[1591] Иван Красулин, писец из Свияжска, высланный в 1668 г. в Кольский острог, постригшийся в монахи в Печенгском монастыре, изобличенный в том, что сказал, будто бы царь будет гореть в аду, как когда-то горел город Ярославль, был по патриаршему повелению расстрижен и предан гражданскому суду, а царем приговорен к смерти. Ему всенародно отсекли голову в 1671 г., очевидно, в феврале[1592]. Иван Захарьев был сначала мирянином, писцом на Соловках, затем, после октября 1666 года, он обосновался в одиноком скиту на материке с другим тоже соловецким монахом Пимином и своим учеником Григорием; в 1670 году они были изобличены «в ереси». Их кельи были сожжены, а они сами заключены в Сумском остроге. Из своего заключения Захарьев писал трем ростовским мещанам, заключенным с 1657 года в Кандалакше, а именно Силе и его друзьям, но письмо его затерялось и было вручено только 10 марта 1671 года Иосифу, архимандриту, назначенному на Соловки, но не принятому там. После донесения в Москву его подвергли пытке, сделали ему очную ставку с единоверцами и обезглавили в субботу после Троицына дня, 17 июня 1671 года[1593].
Эти казни, конечно, не были единственными: Аввакум в Житии говорит о «многом множестве (…), их же число Бог изочтет»[1594]. Авраамий еще раньше упоминал о «многих других, что были сожжены». Нельзя сомневаться в том, что систематическое и кровавое гонение свирепствовало по всей Руси с 1670 по 1672 год.
Как общины верующих откликнулись на это? Было отступничество, были и мученики. Но главным образом произошло рассеяние верующих. Из городов, где зажигались костры, они бежали на далекие окраины, чтобы там молиться так, как молились их отцы, а также и чтобы заполучить здесь новых учеников. Так как это бегство совершалось часто либо целыми семьями, либо группами людей, то нарождались новые очаги сопротивления и укреплялись прежние. Старая вера не теряла ничего, скорей, наоборот, укреплялась.
Одним из центров этой относительной безопасности было Поморье. Там большинство приходов и монастырей оставались верными древним обрядам и прежней набожности. Население отказывалось от всяких религиозных перемен, особенно от новшеств, исходивших из Москвы или Новгорода. В Кеми, куда в феврале 1669 года архимандрит Иосиф послал некого монаха Иосифа служить по новым книгам, население бежало от него, как от антихриста; крестьяне покинули церковь, пономарь Яков Кивроев исчез, приходской священник Симеон бежал в Реболу. В Реболе, когда стрельцы вознамеривались арестовать Симеона, жители встретили их с топорами[1595]. Сопротивление Соловков повсеместно вселяло бодрость и силы.
Более чем когда-либо по Поморью ходили странствующие проповедники, сохранившие более или менее близкие отношения со знаменитым монастырем. Дьякон Пимин, отпущенный после казни Захарьева в середине 1672 года, не остался на берегу Белого моря, а ушел в глубь Карелии; он выходил из своего уединения, чтобы проповедовать в селах, и славился своими строгими постами и веригами[1596]. Герман, привезенный в Москву в июне 1672 года, затем освобожденный либо сбежавший из тюрьмы, отправился в Каргополь и, несмотря на новые аресты, стал не менее деятельным[1597]. Игнатий сначала нашел пристанище у каргопольского Спасо-Преображенского монастыря, где он пребывал у игумена Евфимия. Затем он избрал местом своей апостольской деятельности Повенецкую область на север от Онежского озера: он был великим аскетом, любителем книг, приобретал учеников словом и пером и считал себя призванным основать большой монастырь[1598]. Геннадий, после того как бежал из Новоспасского монастыря, укрылся около 1670 года на реке Тихвинке[1599]. То были новые пришельцы, так как они оставили Соловки со времени осады и даже не сколько раньше. Старые друзья Епифания Корнилий и Кирилл продолжали пользоваться прежним уважением: первый жил в Кяткозере, говорили, что ему было сто лет, однако он продолжал рубить деревья и пахать землю: горожане и жители деревень приходили издалека просить у него совета и молитвы[1600]. Кирилл основал скит на реке Суне, создав церковь Святой Троицы, которая превратилась в богослужебный и религиозный центр старообрядцев[1601].
Поморье поддерживало отношения с Пустозерском: монах Филипп, который жил с Корнилием, принес ему известие о совершенных 14 апреля казнях и о последовавших чудесах. Этот монах был не кто иной, как иподьякон Федор Трофимов, который, после того как отрекся перед собором, чтобы получить свободу, вскоре постригся в монахи. Он посетил своего учителя попа Лазаря, на этот раз в том же самом месте, где сам в 1666 году провел несколько месяцев в изгнании[1602].
Но человеком, который в полном смысле объединял все Поморье и связывал его с другими общинами, был не кто иной, как бывший тихвинский игумен Досифей. Когда под давлением последователей Никона он в 1670 году должен был оставить свой монастырь, он приехал в Москву, где мог видеться и беседовать с Морозовой и всеми верующими, ошеломленными и смущенными арестом Авраамия, но так как он не мог долго оставаться в столице, рискуя быть обнаруженным, то он отправился в Курженскую пустынь близ Повенца[1603]. Его известность с этого времени стала расти: Корнилий и Кирилл были лишь простыми монахами, Игнатий и Пимин были иеродьяконами; правда, один священник тоже скрывался на Суне, но Досифей был одновременно и священноиереем, монахом и игуменом. Он полностью воплощал в себе в этом округе все вообще достоинства священства. Досифей был воистину «великим аввою», «апостольским мужем», «человеком ангельского образа» и отцом. Он, без сомнения, заслуживал всех этих наименований своей добродетелью, неутомимой деятельностью, преданностью вере, и, более того, своей здравой и ясной мыслью, чуждой всех крайностей. Множество людей стекалось в Курженскую пустынь: сюда шли известные отшельники, чтобы посовещаться с ним и согласовать с ним текущие вопросы; усердно верующие, чтобы следовать его примеру благочестия; и все остальные, чтобы получить от него причастие, становившееся все более и более редким. То была, сказал сочувственно настроенный Филиппов, лучезарная весна старообрядчества после суровой зимы. Досифей не сидел на месте; он всегда направлялся в самые различные места и, благодаря своей подвижности, был неуловим для гонителей. Он часто бывал в Москве, позднее отправился на Керженец, вслед за чем обосновался на Дону. Аввакум, узнав, что он находится вблизи тех, кому он так много писал, не пропускал случая испросить его благословения[1604]. Вместе с пустозерскими отцами, но более умело, более действенно, даже более духовно-наставительно – так как там, где он появлялся, он всегда исповедовал, служил обедню и оставлял запас Святых Даров для причащения верующих – Досифей осуществлял руководство на путях старой веры.
В воеводствах Ивановском, Суздальском и Вязниковском экспедиция Лопухина не достигла цели. Рассеянные «раскольники» вновь обосновались на местах. У них были свои начальники, которые вербовали новообращенных, укрывали скитающихся верующих, имели даже свои школы, своего рода семинарии. У них было бесконечное количество скитов, они имели влияние даже на монастыри официальной церкви. Мать Евпраксия с монахинями Екатериной и Мариамной из местечка Рамешки заправляли всем. Тут продолжали господствовать самые крайние взгляды. Иеромонах Александр из пустыни святых Петра и Павла на Сахтышском озере в Суздальском воеводстве учил следующему: «В нынешнее де время Христос не милостив, пришных на покаяние не приемлет». Многие другие также утверждали, что не нужно ни жениться, ни жить с женой; не нужно больше крестить детей; не нужно причащаться; нельзя допускать в свой дом попов; короче говоря, нет больше ни таинств, ни священства, ни евхаристии, ни крещения, ни брака, ни покаяния[1605]. Эти новые капитоны, правда, общались со своими соседями, традиционными старообрядцами, но отнюдь не видно было, чтобы они признавали авторитет пустозерских отцов или влияние Досифея.
Ближе к востоку, в направлении Нижнего, старая вера процветала в полной мере. Патриарх Макарий, возвращаясь в июле 1668 года к себе домой и спускаясь по Волге, счел себя обязанным написать патриарху Иоасафу: «Обретаютца здешния страны многия расколники и противники не токмо от невежных, но и от священников; вели тех противников и расколников, где они обрящуюся и слух будет о них, смирять их и крепким наказанием наказать»[1606]. Главным образом именно для того, чтобы побороть старообрядцев, Собор 24 марта 1672 года и учредил Нижнем Новгороде епархию: 2 июня новая епархия была поручена Филарету, уже проявившему себя в борьбе против старой веры. В конце июня он отправился в путь с новонаписанным образом Иверской Божией Матери, принадлежавшим кисти Симона Ушакова[1607]. Тут же, ввиду множества предвиденных им расследований, он потребовал содействия воевод для разыскания раскольников, дабы после расследования духовных властей наложить на них и заслуженную кару[1608]. Объединенные усилия Филарета и воевод очень быстро возымели действие.
В северной части левой прибрежной полосы Волги глухие леса более, чем когда-либо раньше, заселились теперь благочестивыми скрытниками. Зимой глубокие снега, летом трясины, предательски сокрытые под зеленью травы, были верной защитой от гонителей. Ежегодно на Макарьевской ярмарке можно было, пользуясь сутолокой, возобновить общение с внешним миром, обзавестись товарами и продовольствием. Вдоль быстрого и своенравного Керженца образовался целый своеобразный мир; какой-нибудь небезызвестный инок обосновывался в чаще, привлекая учеников, и здесь уже нарождался целый скит или пустынь, а в тени его вырастала и деревушка. Отступничество Ефрема Потемкина не уничтожило его скита Смольяны, который теперь повиновался Дионисию из Шуи. Инок Арсений, вышедший из Соловков во время осады, основал Шарпанскую пустынь[1609]; славу же ей принес другой бежавший из Соловков инок по имени Софоний. В 1676 году существовала еще Онуфриева пустынь. Онуфрий пользовался особой властью, так как Досифей оказывал ему свое особое расположение. Рядом находился и другой скит, управляемой матерью Марфой, уроженкой города Романова, откуда родом был и поп Лазарь[1610]; в этом скиту было около тридцати монахинь.
Керженец был новым необжитым краем, и в нем не было освященной церкви, где можно было бы служить литургию. В этом отношении он стоял ниже Поморья. Тут, на Керженце, ждали главным образом и больше всего набожных странников, священников и мирян, приносивших из какого-нибудь более счастливого места запас Святых Даров, который чаще всего доставлялся в простом холстинном мешке, не привлекавшем внимания. Из этих запасов верующие сами причащались затем в течение долгих месяцев. Нужда заставляла прощать многое, а в будущем приходилось прощать и еще больше, так как Святые Дары становились все более редкими. Их всячески старались продлить, дробя на мельчайшие частицы, разминая их в неограниченном количестве муки, либо только соприкасая их с этой мукой, делая это столько раз, столько это было необходимо. Благодаря этому уже в самом разгаре XVIII века старообрядцы уверяли, что Святые Дары, оставленные Досифеем, неистощимы, даже если бы понадобилось причащать ими сто тысяч верующих в течение пяти тысяч лет[1611].
В южных районах Поволжья гонение, либо только предполагаемое, либо уже начатое, к тому же сопряженное со всеми прочими бедами времени, казалось, так ярко сочеталось с ожидаемым приходом антихриста, что многие не захотели вообще больше жить на свете. Крепостничество усиливалось, отряды Разина гуляли повсеместно. Ужас расправ, длившихся уже более трех месяцев, поражали воображение: одиннадцать тысяч человек, умерщвленных рукою палачей! Предместья Арзамаса с их виселицами, на которых болтались от сорока до пятидесяти тел, со свежеотрезанными головами, истекавшие кровью, с живыми людьми, посаженными на кол и вопиющими до третьего дня – все это являлось как бы прообразом ада[1612]. В этой атмосфере ужаса и отчаяния представление о том, что прежняя вера будет запрещена не только теоретически, как было до сих пор, но и в действительности, на практике вызвало мистическое безумие. «В том же году [1672], – пишет неизвестный летописец из Нижнего, – в Нижегородском Закудемском стану во многих селех и деревнях крестьяня (…) по прелести их с женами и с детьми на овинах пожигалися»[1613].
Эти овины были очень небольшими деревянными постройками, где обычно перед обмолотом сушили снопы: снизу тут была устроена топка. Ничто так быстро не воспламенялось, как эти срубы. Там могли поместиться не более шести человек. По свидетельству Аввакума, там, где он родился и жил, «тысящи з две и сами миленкие от луквых-тех духов забежали в огонь»[1614]. Таким образом, вокруг Княгинина и Мурашкина запылали сотни и сотни семейных костров. Люди привязывались один к другому, чтобы предотвратить бегство малодушных, убоявшихся в последнюю минуту смертного часа. Кто-то один, оставшийся на свободе, разжигал огонь; затем он, если хватало решимости, сам бросался в пламя, либо, если его охватывал страх, убегал[1615].
На Дону другими беглецами был создан новый центр старой веры. Надо сказать, что у казаков с существовавшей церковью вообще были лишь часто прерывающиеся отношения. Для населения около тридцати тысяч душ существовало только две церкви: собор в Черкассах и церковь в Усть-Медведице при Преображенском монастыре, освященная в 1662 г.; в других местах были лишь простые часовни. В отношении же московского правительства казаки вели себя совершено как автономная республика: были то союзниками, то врагами, то просто порой безразличными выжидавшими момента зрителями событий. Смелая вылазка Разина достаточно показала это. Таким образом, гонимые старообрядцы находили на Дону, помимо безопасности, и благодатную почву для проповеди.
Первым пионером в этой религиозной колонии, чье имя дошло до нас, был священник Иов Тимофеевич. С ним мы уже встречались в связи с его служением у Покрова в Ракове, а затем в церкви Святителя Николы, что на Красных Холмах. Среди его учеников был тот самый монах Гавриил, что позднее сыграл столь значительную роль в старообрядчестве[1616]. Когда после церковного собора от Иова потребовали изъявления покорности, он прибегнул к своему излюбленному средству защиты – бегству. Вместе со своим другим учеником, Нифонтом, он направился в степные просторы Юга, но на пути остановился между Рыльском и Курском: тут к нему примкнули другие беженцы, и в 1669 году был основан Льговский монастырь.
Иову было дано откровение о будущем, но он стал действовать и рассуждать и практически, что показывает, что он столько же полагался на Провидение, сколько и на свой реалистический и практический ум. Он подумал о том, что он уже стар и что верующих по-старому священников недостаточно. Подумал он соответственно и о том, что архиепископ Тверской Иоасаф был посвящен в августе 1657 года, то есть до церковного собора и, следовательно, получил сан священника до Никона; он охотно, подумал Иов, стал бы осуществлять и проводить старые обряды, а священство, дарованное им, было бы вполне действительным. Иов направил к нему своего близкого человека, мирянина, с просьбой посвятить его в сан. Архиерей ведь не мог быть ожесточенным новатором: он был, главным образом, великим строителем[1617]. Он дал свое согласие. С той поры преемственность священства, казалось, была упрочена. Но постепенно гонение распространялось все более: в 1672 году Иов, в сопровождении большого количества монахов, послушников и верующих, взял посох странника и ушел[1618] – на этот раз к казакам. На небольшой речке Чир, в пятидесяти верстах от ее слияния с Доном и в трехстах от Черкасс, он основал новый скит с церковью во имя Покрова; под покровительством казацких властей это иноческое поселение долго процветало: в начале 1677 года там насчитывалось двадцать монахов и более тридцати послушников.
Слава о старце Иове уже широко распространилась в Москве, и эта слава все больше увеличивалась вплоть до самой его кончины в 1680 году[1619]. Она-то и привлекла на Дон других беглецов: попа Савелия и двух ино ков, которые к 1676 году обосновались невдалеке от устья Хопра, а также попа Пафнутия, который к 1678 году основал скит на реке Цымле. Две колонии старообрядцев существовали также на Белой Калитве, недалеко от слияния обеих рек[1620]. Старообрядческие общины Дона заставят о себе говорить до конца XVII века.
Для гонимых было еще одно направление, по которому они могли искать спасения, то были знаменитые брянские и карачевские леса на юго-западе. Там и был основан Милеевский скит, где в 1676 г. настоятелем был некий Досифей. Самые смелые из проповедников старой веры порой выходили из лесов, чтобы появиться в Белеве или Калуге. Многие же шли дальше, к Стародубью. Это лесистая местность находилась на границе с Польшей и была завоевана Русью в 1654 году, заселялась она всякого рода беглецами из той и другой страны. Район этот пользовался как бы своего рода фактической автономией. Первые старообрядцы появились там в местечке по названию Понуровка в 1667 году; в 1670 году село Азаровка было в основном заселено ими; затем заселилась и слобода Демьянки; те, кто уже в 1676 году находились в Стародубье, пришли из Москвы по приглашению полковника Гавриила Дащенко. Архиепископ Лазарь Баранович, которому область подчинялась в церковно-административном отношении, был человеком веротерпимым: тогда как повсюду старые книги преследовали, он в 1677 году заставил вернуть жителям Демьянки отнятые у них прежде книги. Поэтому-то, вероятно, в 1678 году Козма, приходской священник церкви Всех Святых на Кулишках, и оставил Москву, направляясь на юго-запад и взяв с собой человек двадцать прихожан. Эта новая колония обосновалась в Понуровке. В Замишево, на самую границу, пришел из Белева поп Стефан. Ни Козма, ни Стефан не считали, впрочем, возможным привезти из своих церквей антиминсы, так как антиминсы освящались всегда для точно указанного престола и их нельзя было переносить. В Стародубье же не было церкви. Божественная служба совершалась в избах, а так как литургию служить не могли, то довольствовались Преждеосвященными Дарами, сохранившимися у обоих попов[1621].
III Темницы и узники: Трифилий, Авраамий, Морозова и Урусова
Таким образом, старая вера оставалась живой и крепкой. Теряя преданных ей верующих в одном месте, она их находила в другом. Из глубины тюрем взывала она к вновь обращенным.
В течении многих лет жил в Москве в Симоновом монастыре весьма известный монах по имени Трифилий. Уже до 1666 года он написал сочинение против новых книг, которое осталось неизвестным, поскольку оно попало в руки игумена Феоктиста[1622], того самого, что обучил и духовно воспитал инокиню Меланию и представил ее Морозовой; как будто он руководил и Анной Амосовной. Он был настолько неоспоримым авторитетом среди верующих, что Морозова в 1669 г. сердилась на детей Аввакума, когда те порицали его и его учеников[1623]. Великое гонение 1670 года его не пощадило: он был заключен в Кирилло-Белозерский монастырь, в зловонную тюрьму под башней, в которой никто не мог выдержать более трех дней. Он уже пробыл там год. Слава его еще возросла… Говорили, что он все время боролся со злыми духами, но благодаря помощи сил небесных побеждал их[1624]. После этого его участь несколько улучшилась. Во всяком случае, его келья стала местом стечения паломников. Авраамий называет в числе отцов и исповедников веры и его имя. Приходили к нему за советом издалека, считали, что он обладает особыми духовными силами. Однажды в то время, как несколько боярских детей из Москвы беседовали с ним, посланцы из Курженской пустыни принесли ему запечатанное письмо. Не вскрывая его, он сразу же ответил, что все, что было напечатано при пяти первых патриархах, было одинаково хорошо и истинно. Вопрос же, предложенный ему, был точно следующий: что нужно думать о книгах патриарха Иосифа? Его учение по этому вопросу совпадало с учением Аввакума, так же как и с учением одного весьма известного его ученика, находившегося еще на свободе в Москве, – отца Иоасафа. Таким образом наладилось почти постоянное общение между Кирилло-Белозерским монастырем и Москвой[1625].
Даже в Москве не удалось полностью изолировать Авраамия. Юная дочь воеводы Замятни Леонтьева Евдокия была целиком предана новообрядческой вере и без всяких зазрений совести посещала церковную службу как в своем приходе, так и в Новодевичьем монастыре. Ее отец умер, надлежащим образом напутствованный от официальной церкви, даже принявший иноческий чин, и она находила большое утешение в воспоминании об этой христианской кончине. Но вскоре она узнала от одной служанки, чья сестра находилась в услужении у княгини Пелагеи Григорьевны, вдовы князя Петра Волконского, что некий портной по имени Иосиф, человек «безмерно искусный и духовный», часто посещает слуг этого дома, проповедуя им пост и молитву, и что чтение его вызывает слезы. Евдокия сейчас же послала за Иосифом: она заказала ему сшить ей верхнюю одежду. Он заходил к ней три или четыре раза и говорил о старце Авраамии, заключенном в Мстиславском дворе; она подробно расспросила его об этом «духовном муже» и в заключение решила послать к нему с милостыней, чтобы он поминал ее отца. Иосиф спросил тогда, как напутствовали ее отца. – «Прихоцкой священник причащал по-нынешнему, как мы и все причащаемся» – «Во что де будет Бог поставит, а нынече де на просвирах печать переменена». При высказанном сомнении девушка залилась слезами. С той поры она стала переписываться с Авраамием: «Досточтимый и святой отче, помолись за отца моего. Да простит ему Господь. Да оповестит он нас, получила ли покой его душа, хотя и не получила настоящего святого причастия. Вся моя надежда на тебя (…) ибо душа его, клянусь, мне дороже своей…» Сама она уже была обращена. И по некоторым выражениям ее письма видно, что она обратила к своей вере также и свою семью: свою мать Марию и брата Федора. Вскоре же она стала восторженной поклонницей старой веры, преданной ей всем сердцем: «Ведай, достойный и святой отче, я доверила свою грешную душу твоей святости; как ты повелишь, так я и сделаю, ибо ты воспитал множество учеников (…) И ныне я молю вас, святые и достойные отцы, скажите мне, в чем нуждаетесь, в пище либо в чем ином, во имя любви ко Господу».
Таким-то образом вербовались новообращенные, путями потаенными и неведомыми, но бесчисленными. В данном случае новообращенная не оказалась счастливой: были обнаружены ее взаимоотношения с Авраамием, ее записки были перехвачены, она предстала перед органами церковной власти, дала себя убедить в том, что исправленные Требники были предпочтительнее старых и признала свои ошибки[1626]. Но даже из своего заточения Авраамий, по-видимому, продолжал до последней минуты направлять и наставлять верующих. Он обращался с посланиями «к отцем и братиям, купно и сестрам о Христе»[1627], к своим духовным дочерям Феодосии Морозовой и Евдокии Прокопьевне и к другим набожным женщинам[1628], к одному другу Божьему[1629], отвечая на их вопросы о приходе антихриста. Он записал для своих друзей рассказ о своем аресте и о возмутительных обстоятельствах своего допроса[1630]. Он составил очень длинную челобитную царю, которая, впрочем, скорее предназначалась не ему, а служила целям религиозной пропаганды: в этом послании он рассказывал о чудесах в Пустозерске, о бедствиях, которые навлекла на себя Русь новшествами Никона, а также возвращался к ранее обсуждавшимся вопросам: об изменениях в Символе веры, о крестном знамении, об аллилуие и Исусовой молитве, о четырех– и осьмиконечном кресте, о посохе со змеями и о зверином числе 666[1631]. Он закончил большую книгу, которую назвал «Христианоопасный щит веры»; в книге было сорок шесть глав, и иные из них были очень пространны[1632]. Авраамий, если не говорить о его идее об антихристе, уже появившемся на Руси, и возможно, в образе Никона, кстати, весьма робко высказанной, не был творцом-созидателем; он пережевывал избитые доводы, в его манере писать не было оригинальности. В литературе он открывает собой плеяду подобных компиляторов, «сборники» которых в течение более чем двух столетий будут подогревать веру и жажду знаний старообрядцев, чтобы затем лишь попасть на равнодушные полки больших библиотек. Но своим убежденным словом, своей искренностью, неуязвимой твердостью, мягкостью и здравым смыслом, а равно всюду им распространяемым преклонением перед пустозерскими отцами и, наконец, своим мученичеством он приобрел подлинно огромную силу воздействия.
Действительно, и в Москве, перед лицом упорного сопротивления сторонников старой веры, применяемые до сих пор поблажки прекратились. Даже лица, высоко стоявшие на иерархической лестнице, не были в безопасности. В доме боярина Салтыкова взяли его дворецкого Исаию: его пытали на дыбе и огнем и сожгли за городом[1633]. Молодого Ивана Хованского секли розгами[1634].
Авраамий в течение 1670 и 1671 годов подвергался строжайшим допросам, многочисленным перемещениям и притеснениям без числа: однажды хитрый митрополит Павел, в бешенстве от того, что не мог сломить его упорство, дернул его за бороду и надавал ему пощечин. 13 августа 1670 года его лишили сана, остригли и предали гражданскому суду. Извлекли его из тюрьмы лишь для того, чтобы в начале 1672 года предать сожжению на костре на Болотной площади[1635].
Боярыню Морозову не беспокоили в течение всего 1670 года, несмотря на ее деятельность и ее связь с пустозерскими ссыльными, с одной стороны, и с Авраамием, с другой стороны. Ее положение при дворе было выгодным для московской общины, но угнетало ее мужественную душу. Наконец, 6 декабря она добилась у игумена Досифея столь долго вымаливаемого ею монашеского пострига[1636]. Теперь она более чем когда-либо подчинилась руководству инокини Мелании и уже окончательно распростилась с миром антихриста. 22 января 1671 года она, ссылаясь на болезнь ног, отказалась выполнять свои обязанности при бракосочетании царя с Натальей Нарышкиной. Алексей прекрасно понял, что она считала его впавшим в ересь. В конце лета он через различных посланцев, между прочим, через ее шурина Урусова, посоветовал ей подчиниться, чтобы не навлечь на себя большого несчастья. Она ответила, что предпочитает смерть, и при каждом случае исповедовала свою веру. В это тревожное время ее сестра княгиня Евдокия ее почти не оставляла. 14 ноября она отпустила пятерых странствующих монахинь, которым давала приют; Евдокия, предупрежденная мужем, что в тот день за ней, без сомнения, придут, оставалась у нее до самой ночи. И тут Иоаким, архимандрит Чудова монастыря, и Иларион Иванов ворвались к ней со своим отрядом и стали допрашивать Феодору (она приняла это имя при постриге) и ее сестру. Они оставались непоколебимыми. Ксения Ивановна и Анна Соболева, одни оставшиеся в хоромах (те, кому наиболее угрожала опасность, ушли в надежные места), последовали их примеру.
Затем на глазах у сына на Феодору, как и на ее сестру, надели цепи и через день их отнесли – поскольку они отказывались идти сами – в Чудов монастырь. Сначала митрополит Павел старался взять их лаской: он указывал Морозовой на красоту ее сына, просил, чтобы она сжалилась над ним, не разоряла своего дома. «Нет, – гордо возражала она, – меня не соблазняй, я обрела правду, а что касается сына, то я живу не для него, а для Христа!» Тогда Иоаким ожесточился больше других. Спор продолжался всю ночь, с двух часов до десяти утра. На рассвете на сестер надели тяжелые цепи и разлучили их. Феодора, пока ее тащили в подворье Псково-Печерского монастыря, гремела своими цепями и демонстрировала двоеперстие, надеясь, что ее увидит царь, когда ее поведут мимо дворца. Евдокия, заключенная в Алексеевском монастыре, представлялась мертвой, когда монахини, следуя полученному приказанию, хотели ее вести на церковную службу: «Не хочу я молиться с вами!» – кричала она со своих носилок. Несколько позже Мария Данилова, бежавшая из столицы, была арестована на Дону и привезена в Москву: она показала себя достойной своих подруг и была заключена в подвал Стрелецкого приказа.
В то время как его мать находилась в тюрьме, юный Иван заболел с горя и, несмотря на помощь придворных врачей, вскоре умер. Один поп, сторонник никоновских новшеств, сообщил об этом Морозовой, как о каре Божией. Царь повелел конфисковать ее поместья, раздать ее лошадей и продать ее драгоценности. Ее братьев Федора и Алексея удалили, послав чуть не в ссылку одного в Чугуев, другого в Рыбинск.
Однако и находясь в заключении, Морозова не прерывала сношений с внешним миром. Ее навещали ее две верные служанки Анна Амосовна и Стефания. Ее дядя Михаил Ртищев неоднократно беседовал с ней через окно. «Я восхищаюсь твоей стойкостью, – говорил он. – Только одно меня смущает: не знаю, за правду ли вы страдаете». Подворье Псково-Печерского монастыря стало своего рода местом паломничества: боярыни приезжали туда в возках, простой народ валил валом. Шли поглядеть на вдову боярина Морозова, которую на носилках несли в церковь[1637]. Феодоре посчастливилось однажды причаститься из рук иеромонаха Иова. Переодетый в гражданское платье, Иов пробрался в ее камеру с помощью стрельца[1638].
Евдокию в ее монастыре также посещали многие. Однажды, даже среди бела дня, она смогла выйти на улицу и отправиться на Псково-Печерское подворье. Предупрежденная Феодора выслала ей навстречу Анну Амосовну. Евдокия проникла в камеру к сестре под самым носом стражника-стрельца, сделав это под видом возвращающейся Анны Амосовны. Обман скоро получил огласку, но Феодора призвала сотника, тот успокоил своих людей и обещал на заре проводить Евдокию. Сестры, таким образом, смогли побеседо вать в течение целой ночи. Эта встреча была подготовлена Еленой Хрущевой, которая постоянно общалась с заключенными, посылала либо носила сама в темницу пищу и одежду. Инокиня Мелания восстановила в одном из домов в Москве тайный монастырь. Она находилась в постоянной переписке с Феодорой и Евдокией, продолжая ими духовно руководить. Она также взяла на себя заботу о Марии Даниловой и навестила ее в темнице. Все три были связаны этим духовным общением[1639].
Эти боярыни были весьма неудобными для стороживших их игумений и даже для высших властей. Старый патриарх Иоасаф умер 17 февраля 1672 года; 5 июля новгородский митрополит Питирим заступил на его место[1640]. Никакой развязки пока не предвиделось. Питирим, правда, обладал примирительным характером. Он был стар и много хворал[1641]. Прошло немного времени, и он уже стал просить царя об их освобождении. Алексей отказал. Его взоры были обращены лишь на Запад: он выписывал из Курляндии музыкантов и актеров и договаривался с пастором Иоганном Грегори о постановке немецких спектаклей[1642] у себя в селе Преображенском, заказывал переводы всякого рода светских книг, немецких, латинских, польских[1643]; в согласии с Матвеевым, он посылал по слов по Европе и даже направил в Рим к папе в качестве посла католика шотландца Менезия, чтобы создать большую коалицию против турок[1644]. Более чем когда-либо раньше царь уходил от старой русской набожности. Именно он побудил Питирима допросить Морозову: «Тогда ты узнаешь ее упорство».
Во втором часу ночи Морозову привели в Чудов монастырь, где находились митрополиты Питирим и Павел и большое количество гражданских чиновников. Так как старообрядцы отвергли, считая нечистым, все то, что шло от официальной церкви – обряды, таинства, благословение, то стало уже обычаем их к этому принуждать. Питирим хотел совершить помазание елеем над Морозовой: она резко его оттолкнула, крича: «Не губи мя, грешницу, отступным своим маслом – и, потрясая своими цепями, продолжала, – Чего ради юзы сия аз, грешница, лето целое ношу? Сего бо ради и обложена есмь юзами сими, яко не хощу повинутися, еже приобщити ми ся вашему ничесому же. Ты же весь мой недостойный труд единым часом хощеши погубить! Отступи, удалися!» Тогда они окончательно озлобились и потащили ее за надетый ей на шею железный ошейник, чуть не сломав ей шею: ее голова ударялась о каждую ступеньку лестницы; в десятом часу ее отвели обратно в темницу[1645]. В ту же ночь таким же образом отпирались Евдокия и Мария.
В последующую ночь всех трех подвергли пыткам. Марию, обнаженную по пояс со связанными за спиной руками, пытали также на дыбе и огнем; за ней последовала княгиня, претерпевшая те же орудия пытки. И она, совершенно измученная, была брошена рядом. Затем последовала Феодора. Князь Иван Воротынский, который руководил пытками, сжалился было над ней: «От славы в бесславие прииде! И кто ты еси, и от какого рода? Се же тебе бысть, яко приимала еси в дом Киприяна и Феодора юродивых и прочих таковых». Она возразила: «Помысли убо о Христе, кто он есть, и чий сын, и что сотвори?» В течение получаса ее держали подвешенной; ремни впились ей в запястья. В течение трех часов их затем оставили лежать распростертыми на снегу. После этого их снова повели к огню. Марию дважды секли «в пять плетей» по спине и по животу. «Се ли християнство, еже сице человека умучити?» – спросила Феодора думного дьяка Илариона. Только в 9-м часу ночи их унесли. На Болоте их уже ожидал костер. Мелания побежала предупредить Феодору: «Уж и дом тебе готов есть, вельми добре и чинно устроен, и соломою – целыми снопами – уставлен!» Оттуда она побежала к Евдокии и крикнула ей в окно: «Днесь или утрие отходите ко Владыце, но обаче идите сим путем, ничтоже сумнящеся!»
Однако царь на это не решался. Он изменил способ действия. «Мати праведная Феодосия Прокопиевна! Вторая ты Екатерина-мученица! Молю тя аз сам, послушай совета моего. Хощу тя аз в первую твою честь вознести. Дай мне таковое приличие людей ради, что недаром тебя взял: не крестися тремя персты, но точию руку показав, наднеси на три те перста!» – «Он же повелит мя с честию вести в дом мой, то аз, на главах несома боляры, воскричю, яко аз крещуся по древнему преданию святых отец! А еже каптаною мя своею почитает и аргамаками – поистине несть ми сие велико (…) поистине дивно и есть, еще аще сподобит мя Бог о имени его огнем сожжене быти (…): сие ми преславно, понеже ее чести не насладихся никогдаже». Но вместо нее умер Питирим[1646].
Феодора, в целях полного разобщения, была переведена в Новодевичий монастырь[1647]. Напрасный труд! Дворы монастыря стали набиваться каретами знати, желавшей с ней повидаться. Тогда царь повелел перевести ее в Хамовники. Там ее стали навещать Мелания и Елена. Царевна Ирина, старшая сестра царя, вступалась за нее: «Почто, брате, не в лепоту твориши и вдову ону бедную помыкаеши с места на место!» – «Добро, сестрица, добро! Коли ты дятчишь об ней, тотчас готово у мене ей место!» Сначала Морозова, а затем Евдокия и Мария были перевезены в Боровск и брошены там в подземелья монастыря Рождества Богородицы[1648].
Там они нашли еще одну бодрую духом – Устинью, возможно, ту самую женщину, что обратила к вере юродивого Киприана[1649]. Заключение тут было еще более суровым, чем в Москве, но посещения, тем не менее, продолжались: муж Даниловой, полковник Иакинф, угощал в своем доме в Москве сотников из числа стражи, посланных в Боровск; на месте же всегда находились добрые люди, чтобы снабжать заключенных пищей как для плоти, так и для души. Братья Феодосии, Иродион – племянник Марии, мать Мелания, Елена Хрущева и другие без особого труда проникали в темницу[1650]. Феодора и Евдокия не прекращали писать и получать письма.
Евдокия нисколько не заблуждалась насчет верования и нравов своего мужа и доверила своих детей Ксении Ивановне, одной из преданных женщин своей сестры. Из своей темницы она посылала им письма, преисполненные самой горячей любви[1651].
С самого начала своего заключения княгиня почувствовала, что сердце ее разрывается. Муж ее совершенно забыл. Он даже подумывал уже о новой женитьбе; страдала она, главным образом, из-за детей: «Говорите отцу и плачьте перед ним, чтобы не женился, чтобы не погубил вас; теперь-то, светы, и плачьте перед отцом, покуды не женился, а как женится, так и не пособить, лише вечно станете плакать»[1652]. Он не разделял ее веры: имел ли он вообще какую-либо религию – этот бесталанный придворный[1653] – помимо удовольствий и своей карьеры?
Ее старший сын, Василий, походил на отца: ему было лишь около пятнадцати-шестнадцати лет[1654], а у него уже были все стремления солдафона. Он пил, и когда сестры его упрекали в этом, он им говорил грубости. В одном душу раздирающем письме княгиня призывает его к религии и добродетели: «Буди ты ласков к сестрам (…) только у тебя и сердешных приятелей, что они, а у них ты един же приятель сердешной». «Помни, свет, кто вино пьет, тот не наследит Царствия небесного». «Имей чистоту душевную и телесную; ведай, мой свет: блудники и в огне вечно мучатся». Она старалась поразить сознание бездельника выражениями трогательными, но вместе и твердыми: «Все сия слова мои напиши в сердце своем, помни вовеки приказ мой, не преступи прошения моего». «А буде грех ради моих возлюбишь ты нынешнюю новую веру, и ты скоро умрешь, и тамо станешь в будущем мучиться, и мене не нарекай уж себе матерью, уж я не мать тебе»[1655].
Ее две младшие, Анастасия и Евдокия, были ее единственным утешением, и вместе с тем они приводили ее в отчаяние. Она верила в свою близкую кончину: что же станется с ними, сиротами, с которыми так грубо обращается как брат, так и отец? Невинные и чувствительные десяти– и двенадцатилетняя[1656] девочки были любящими сострадалицами матери. Они посылали ей деньги, если только могли их достать, и, наряду с этим, предметы туалета, полотенца, полотно, нитки, носовые платки, а также воск для свечей. Мать же им посылает каждому лестовки с написанным на них своим именем. Она дает им нравственные советы: будьте скромны и ласковы, любите друг друга, не дурачьтесь во время масленицы, одевайтесь скромно, в зеленый и лазоревый цвет, не пейте крепких напитков. Творите милостыню. Она много думает об их духовной настроенности: «Молитеся, светы мои, не ленитеся (…) как вам приидет печаль, и вы плачьте перед Творцом своим: велика помощь слезы душе (…) молитеся, светы мои, ночью (…) ночная молитва велика». «Говорите кануны по умерших». Она им посылает книгу «Луг духовный». «Чтите слово Божие (…) познаете сами прелесть и погибель нынешнюю». Советует читать Кирилла Иерусалимского и Ефрема Сирина, Апокалипсис и «Книгу о вере»; «Просите вы книги у отца, да спрячьте у себя их (…) всего дороже книги старые, ныне не добьешься таких». Для нее была ужасна мысль о том, что они могут когда-нибудь отойти от истинной веры: «Пекитеся о душе. Все минуется, а душа всего дороже»; «Утешься вы душу мою сокрушенную (…) и помилуйте вы душу свою, не погубите души своея вовеки, не прикасайтеся вы к нынешней погибели; храните, светы мои, веру християнскую (…) всячески берегитеся от прелести антихристовой!» Этих двух златокрылых ласточек, этих столь любимых горлиц она готовила к мученичеству: «Того убойтеся, светы мои, кто может душу ввергнуть в геенну огненную вовеки». Только им обеим доверяет она их брата; она просит их настоять на том, чтобы отец взял образ Тихвинской Божией Матери[1657].
Эти письма длины, беспорядочны, изобилуют повторами, полны нежных слов: это излияние жалоб, слез, сожалений, но среди всего этого есть весьма разумные советы. Евдокия – до безумия любящая мать и строгая христианка, образованная, последовательная и вдумчивая. Ее усилия, ее пример не останутся напрасными; по крайней мере, Анастасия через несколько лет возгорится почти необычайным в то время стремлением положить на Руси начало миссионерскому делу, идти обращать язычников, «хочет некрещоных крестить», «их же весь мир трепещет». «Материн болшо у нея ум-от!» – даст в дальнейшем свое заключение удивленный Аввакум[1658]. Где мы увидим лучше, чем в этой семье, насколько старая вера совмещается с самой христианской жизнью, и последовательной, и убежденной, и враждебной как новинам, так и религии, исполненной условностей и компромиссов?
IV Поучения Аввакума верующим
Аввакум, предупрежденный о том размахе, который приняло гонение, ухватился за свое оружие – перо и получаемую тайно бумагу – и написал следующее:
«Братия моя возлюбленная и вожделенная, яже о Христе Исусе, на всем лице земном!
Стойте твердо в вере и незыблемо, страха же человеческого не убойтеся, ни ужасайтеся, Господа же Бога нашего святите в сердцах ваших, и Той будет нам во освящение, яко с нами Бог[1659], и уповающе будем нань, и спасемся Его ради, яко с нами Бог. Услышите и до последних земли, яко с нами Бог.
Аще бо кто верует – и разумеет реченная пророком. Аще ли ни, той смущается и колеблется, и, яко трость зыблется и от мала ветра, тако и маловерный и от слова убоявшеся, предает правоверие, и таковый наг и чюждь бывает Евангельского учения.
Понеже Христос во Евангелии научает четырем добродетелям: мужеству, мудрости, правде и целомудрию.
Слыши страшливый: начало Евангельскаго подвига мужество, в нем же писано: не убойтеся от убивающих тело, душю же не могущих убити[1660]. И о сем подобает нам безпрестанно поучатися, да же страхом не колеблемся. Но яко младый птенец, опернативши, возлетает выспрь, тако и человек Священным Писанием исправляется и дерзает всенадежным упованием смело по Христе страдать, не отмещется и смерти, егда время призовет.
К томуже и мудрость Христову содержит: не наскочит на напасти, а егда возмут, не отрицается и о земных не печалится, но, с любовию Христа ради, вся презирает, поминая Господом реченное: будите убо мудри, яко змия, цели, яко голубие.
Добро, братие, разсуждение во всем. Не наскочи, ни отскочи: так и благодать бывает тут. А аще, раздувшеся, кинешся, опосле же, изнемогши, отвержешися. А аще с целомудрием, и со смиренною кротостию, и с любовию ко Христу, прося от Него помощи, уповая на Него во всем, подвигнешься о правде Евангельской: и тогда Бог манием помогает ти и вся поспешествует ти во благо. Не ищи тогда глагол высокословных, но смиренномудрия: сим победиши вся противящияся тебе. А кто гордостию движется, Платонски на суде поучается говорить, таковый всяко изнеможет и отвержется; таких подвижников Бог не рачит, но отвращается. Близ Господь всем, призывающим Его истинною, а гордоусов не любит Господь во всяком деле. О Христове деле говори кротко и приветно, да же слово твое будет сладко, а не терпько. Аще и разгорится дух огнем божественным: слово к человеку говори, а умом ярость износи на диявола.
А кающагося во всяко время прощай, и вся твори, не человеком показуяся, но Богови.
Так же и молися за противнаго (…)[1661].
А над всем мудрость змиину имей, а целость голубину. Разумеешь чево для Господь на змию-то указывает и на голубя? А змию-ту как бьет кто, так она все тело предаст биемо быти, главу же свою соблюдает, елико возможно: свернется в клубок, а голову-ту в землю хоронит. Я их бивал с молода-ума. Как главы-то не разобьешь, так и опять оживет; а голову-ту как разобьешь, так она и цела, а мертва.
Так и християнин: без головы умрет смертию вечною, сиречь без веры Христовы непорочныя. Хотя он и цел, не разорен и не убит, да без веры мертв. Кая беда в нем? Плюнь на него! А аще разграблен и уязвлен, глава же непорочна, еже есть православная вера в души его: жив есть таковый животом вечным.
Еще же и незлобие во время гонения подобает имети голубино. Понеже голубь, птенцов своих лишаем, не гневается и от владыки своего не отлетает, паки гнездо строит и иных детей заводит. (…)
Тако и християнину безгневно подобает жити, – аще и жену и дети отымут, не гневайтеся; а о имении и слово не говори. Пускай диявол емлет: он владыка веку сему. Христос заплатит в будущей век. А жену-ту и детей Христос сохранит же в нечестивых руках. У меня Марковна сидит себе в земли с детьми, будто в клетке, Божиею благодатию снабдеваема. (…)
Молю вы аз, юзник о Господе, и коленам вашим касаюся всем верным о Господе: поживите вси, право исправляюще слово Божие, еже речено во святом Евангелии и во всех святых Писании о любви и о милостыни и о прочих добродетелех, не отлагайте подвига спасителнаго леностью и небрежением. (…) Я, помышляя, трепещу и ужасаюся во уме моем, как стать будет пред Праведнаго. (…) Как меня кто величает и блажит, так я тово и люблю; а как меня кто обезчестил словом каким, так и любить ево не захотел. А Господь приказал: любите враги ваша и благотворите им, яко будет мзда ваша многа на небесех. Аще любите любящая вы, кая вам благодать есть: ибо и грешники любящие их любят. Да и много там, во Евангелии, о сем будет: Лука, зачало 26. (…)
Воспрянем, братия милая моя, поне позде некогда убудимся от страстей и к животу притецем, еже есть камени краеуголну – Христу. Зовет бо нас всегда и непрестанно желает спасения нашего; ища, на всяк день, проповедник вопиет: приидите ко Мне вси труждающиися и обременении, и Аз покою вы. И Павел согласует тому же: облецытеся, яко избраннии Божии святии, в милость щедрот, и благость, в смиренномудрие, и кротость, и долготерпение, приемлюще друг друга[1662] и прочая. А у нас и в заводе тово нет – повсюду ропот, да счот, да самомнение с гордостию, да укоризны друг на друга, да напышение на искренних, да всяк учитель, а послушников и нет: горе времени сему и нам живущим. (…) Рече Господь: претерпевый до конца, той спасен будет[1663]. Слыши: не начный, но скончавый блажен. Якоже Он до креста и смерти претерпе: а нам приказал смертию кончать. (…)
Разумейти, братия, и о нынешних никониянех, – также глаголют: “Его же царствию не будет конца”. До и толкуют в Скрижале их: царствует Христос верными и покоряющимися Ему, а неверными же и иномысленными не царствует совершенно, но по Судном дни воцарится совершенно, и царствию Его не будет конца. (…) Виждь, реку, противниче, – Апостол глаголет: подобает Ему царствовати, дондеже вся испразднит, и царство предаст Богу и Отцу, еже есть всех святых в дар ко Отцу приведет, и тогда будет Бог всяческая во всех. (…)
А прочих войско-то их побито будет на месте некоем Армагедон[1664]. Те до общего воскресения не оживут; телеса их птицы небесныя и звери земныя есть станут: тушны гораздо, брюхаты, – есть над чем птицам и зверям прохлажатся. Пускай они нынеча бранят Христа, а нас мучат и губят: отольются медведю коровьи слезы, – потерпим, братия, не поскучим, Господа ради. И плотское без труда не зделается, а кольми же души ради надобе страдать о Христе Исусе, Господе нашем, Емуже слава со Отцем и со Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Посем всем верующим, видевшим нас и не видевшим лица нашего, от мала и до велика, мужем и женам, юношам и девам, старцем со младенцы, рабом и свободным, богатым и нищим, славным и неславным, всякому возрасту и всякому человеку, аз, грешный протопоп, и вся горкая братия попремногу челом бьем, и, мир дав и благословение, паки целуем всех вас о Христе Исусе целованием духовным, и плеснам касаемся ног ваших.
Стойте, Господа ради, в вере твердо и не предавайте благоверие отец наших о Христе Исусе, Господе нашем, Ему же слава во веки. Аминь.
А о последнем антихристе не блазнитеся – еще он, последней чорт, не бывал: нынешния бояре ево комнатныя, ближния дружья, возятся, яко беси, путь ему подстилают, и имя Христово выгоняют. Да как вычистят везде, так Илия и Енох, обличители, прежде будут, потом антихрист во свое ему время»[1665].
В эту трагическую минуту, от которой зависела сама судьба старой веры, Аввакум давал своим приверженцам от имени всех пустозерских отцов точные указания: вплоть до того, как держать себя перед судьями, указания в высшей степени мудрые. Тут фигурировала и стойкость, но отнюдь не вызывающая; тут и глубоко христианские наставления: в ожидании возможного мученичества соблюдать ежедневно целомудрие, милосердие и скромность и прощать обидчикам как в отношенях между собой, среди своей малой паствы, так и по отношению к гонителям. Наконец, на важный вопрос о времени пришествия антихриста он давал без обиняков определенный ответ: он успокаивал тревогу. Это письмо было послано и дошло по адресу «на всем лице земном», в этом нельзя сомневаться при большом количестве сохранившихся списков. Но Аввакум был способен писать и в другом тоне. Вот небольшое письмо, написанное им в самый разгар гонения, но еще до того момента, как в Пустозерск пришла весть об аресте Морозовой:
«Афанасий, не умер ли ты? До как умерет: Афанасий безсмертие толкуется. Носи гораздо пироги-те по тюрьмам-тем.
А Борис Афанасьевич еще ли Троицу-ту страха ради не принял? Жури ему: боярин-де-су, одинова умереть, хотя бы, то-де, тебя, скать, по гузну-тому плетми-теми и побили, ино бы не какая диковина, – не Христова бы кровь пролилас – человечья!
А Хованской князь Иван Болшой изнемог же. Чему быть! не хотят отстат от Антиоха-тово Египетскаго; рафленые куры, да крепкие меды как покинуть? Бедненкие, – увязают в советех, яж умышляют грешники, да покинут будет и не хотя, егда повелит Господь расторгнути душу с телом.
Аще Илия и Енох не вкусили смерти плотски, но при антихристе и те плотию постраждют и, на стогнах убиты полежав три дни и пол, оживут паки и на небо взыдут.
Видиш ли: толикия светила смерть плотски вкусят. А мы когда безсмертни будем?
Ну, Афанасей, прости. Спаси Бог тя за пироги; моли Бога о мне. Мир ти и благословение от всех нас, а от меня и поклон с любезным целованием»[1666].
Глава XIV В земляной тюрьме. Споры и труды (1670–1674)
I Богословские споры
Связь заключенных с внешним миром оказалась весьма затрудненной из-за новых стеснений и рассеяния верующих. И эти люди огромной энергии, которым стало уже трудно писать, теперь обратились к внутренней самососредоточенной деятельности.
С момента прибытия Елагина Аввакум и Федор начали спорить по поводу одного стиха первого ирмоса канона Пресвятой Троице, читаемого в воскресенье на утрени. Псалтырь со службой, принадлежавшая Аввакуму, отпечатанная при патриархе Иосифе, содержала следующее: Господь единый в Существе является в трех Образах Единого Естества. В позднее изданных книгах, хотя и напечатанных до Никона, слово «Образ» было заменено словом «Лицо». Федор больше сочувствовал этой последней редакции; он говорил, что в богословских сочинениях слово «образ» обычно обозначало не личность, но Единое Существо Божества[1667]. Протопоп сдался, сказав, что одна книга лучше по одному вопросу, а другая по другому. Ладно. «Впредь покинем о том стязатися в темнице сей!» Это был чисто словесный спор. Ведь на русском языке того времени богословская терминология еще не была установлена никакими авторитетами. Спор не оставил после себя никакой видимой горечи[1668].
Но еще до конца 1670 года духовный отец и его духовный сын – ибо Федор был под духовным руководством Аввакума – опять столкнулись между собой, снова по вопросу о Пресвятой Троице, а также и по другим вопросам. Протопоп, как только он принимался рассуждать о вопросах веры, бывал чрезвычайно настойчив, он все хотел понять и все представить себе чувственным образом. Никакое дерзновение не казалось ему чрезмерным – ничто не останавливало полета его мысли или страсти его темперамента. Напротив, дьякон не испытывал никакого желания углубляться ни в установленные формулы, ни достигать полной ясности умозрения. Он предпочитал оставаться в области, уже тщательно продуманной Вселенскими соборами; он ни в коей мере и не рисковал уклониться от православия, а это в тех условиях, в которых они находились, было весьма мудрым. Аввакум, лишенный книг, не знавший традиций западной и восточной богословской мысли, не знавший даже и соответствующей терминологии, не выработавший себе точных определений, был заранее обречен на то, чтобы неправильно формулировать свою мысль. Мог ли он из своего пустозерского подземелья дать русской церкви определения, которых она была лишена до сих пор? Но его разум, его воображение жаждали света: мог ли он отказать себе в том, чтобы его искать?
В апостольском Символе сказано, что Христос по смерти и погребении сошел во ад, и эта истина утверждается как западной, так и восточной церквами. Но эта истина выдвигает целый ряд вопросов. Сошел ли Христос во ад только с душой или также и телом? Но если принимается последнее решение, то не предваряется ли этим само Воскресение? И как понимать нисхождение во ад: являлось ли оно уничижением Христа Спасителя или уже Его славой?
Абеляр утверждал, что душа Христова сошла во ад не по существу, но как бы лишь проявилась там. Его учение было отвергнуто в 1140 году Сиенским собором, а также и папой Иннокентием II, но было снова подхвачено Пиком делла Мирандолой. Лютер учил, что Христос сошел во ад нераздельно и телом и душой, следовательно, после какого-то возвращения к жизни, но до Воскресения. Это, по Лютеру, произошло в одно мгновение. Этого понимания лютеране держались до середины XVIII века. В католической церкви, согласно блаженному Августину и Фоме Аквинскому, считается наиболее вероятным – хотя это отнюдь не является обязательным догматом, – что в то время как Тело Христово пребывало в гробу, сошла во ад одна Его Божественная Душа в неразрыв ном, правда, единении с Его Предвечной Сущностью Бога-Слова, так что Христос весь был и в аду, и в гробнице[1669].
На Руси, после исправления книг архимандритом Дионисием, слегка коснулись этой проблемы. Цветная Триодь 1604 года содержала следующий стих: «Во гробе плотски, во аде же с душой» (пребывал Ты, Христе). Справщики, ссылаясь на Синаксарь, исправили: «во гробе с плотию». Этим они хотели подчеркнуть, что Слово Божие не отделилось и не отошло от Пречистой Плоти Христовой на Кресте[1670]. В 1627 году противники Лаврентия Зизания, пользуясь первоначальной редакцией и, правда, не уточняя до конца мысль, предполагали, однако, что лишь Душа Христа сошла во ад[1671].
Когда этот вопрос поднялся в Пустозерске, дьякон Федор сослался на этот самый стих Триоди. Он утверждал только следующие три положения: Тело пребывало три дня и три ночи в гробу; Душа одна пребывала три дня и три ночи в аду, затем было Воскресение[1672]. Это не удовлетворяло любознательную и критическую мысль Аввакума. Он думал, что подобное толкование не учитывало всех богословских мнений по этому вопросу. В «Просветителе» Иосифа Волоцкого была одна фраза, которую цитировал Федор и которую Аввакум считал нечестивой, что душа Христа без тела была взята в ад диаволом и смертью[1673]. С этого началась его попытка углубить и уяснить свою веру в это догматическое положение; не зная ни постановки вопроса прежними авторами, ни их гипотез, он наново, одним росчерком, хорошо ли, плохо ли, написал эту книгу догматического богословия.
Верить, что Христос был схвачен диаволом и смертью – это кощунство. Опустив главу, предал Он дух, это означает, что Он Владыка над жизнью и смертью, ибо человеку присуще сперва испустить дух, после же того опускается и глава. Нет, Христос сошел во ад во славе, чтобы изгнать смерь и диавола и дать жизнь всем горемыкам.
Он сошел во ад весь и телом и душой. Иначе Златоуст не проповедовал бы «горе аду, вкусившу плоть Его». Иначе Иоанн Дамаскин не писал бы в своем сочинении против иконоборцев в Сборнике, изданном в 1642 году, что плоть и божество «никогдаже разлучишася друг от друга, ниже во утробе матерни, ниже в крещении, ниже на кресте, ниже во аде»[1674]. Иначе церковь не возвещала бы: «уязвен бысть ад в сердце, прием прободеннаго копием в ребра»[1675]. Не одну только душу принял ад, но и тело, и «вострепета», когда увидел в теле и душе Бога-Слова, нашу «Надежу». «Надуло ево, бытто змия Вавилонскаго, да и разорвалась утроба-та несытая. Пресекло тело Христово чрево адово. Слава Богу: “подите, бедные тюремщики, из тюрмы вон, Бог простил Адама со адамленки”, да и вышел со святыми из земли». «Говорит Епифаний Кипрский: «Христос на земли: “веровахом, Христос в мертвых: с ним снидем, да (…) научимся, како сущим во аде просветил есть проповедник”»[1676].
Итак, Тот, кто снисшел во ад, – это не просто Бог, не просто Человек, но Христос: воплотившийся Бог. После крестной смерти и погребения Христа душа Его была вознесена в руки Отца[1677]. Плоть Его во гробе три дня лежала и не истлела без души (песнопения Страстной субботы). Сын Божий – Бог-Слово не познал изменения. Он «давал тлителю-тому, сиречь смерти-той, зубы вотневать, да оскомина на зубы пала, не могла згрысть». Божество было в гробу, но как бы скрыто. Но на третий день душа вернулась в тело и воссоединилась с ним, и свершилось единение «вечное, бессмертное, Божественное». Христос восстал и поверг «враги своя вспять»[1678]. Христос сошел во ад как победитель, душой и телом, и Божество Его светилось там более блистательно, чем на Фаворе.
Когда же совершилось и какова была длительность нисхождения Христова во ад? Вопрос этот как будто не смущал Аввакума: согласно духу его учения и нескольким оброненным им словам, это сошествие было мгновенным, быстрым, как вспышка молнии; но в другой раз он говорит о трехдневном пребывании в аду. Вслед за этим, по его мнению, и произошло Воскресение. На сей раз тихо, исполненный мира, явился Христос мироносицам и ученикам[1679]. Что касается разграничения между возвращением души и воскресением, Аввакум на этом особенно не останавливается, но это разграничение вытекает из самой сущности его учения и из употребляемых им терминов: «восста» (в отношении возвращения души в тело) и «воскресе» (в отношении общения Христа с мироносицами и учениками в земных условиях).
Поп Лазарь встал на сторону Федора[1680]. Аввакум твердо держался своего, горячо убежденный в том, что его учение одно истинно и что Федор идет по гибельному пути. Он считал его отщепенцем, раскольником, или же, более снисходительно, именовал его еще желторотым. «Федор, а Федор, – говорил он, – ты молод, не знаешь про сие, а я уже стар (…) давно ведаю, от святых книг научаем»[1681]. Спор длился десять лет до самого конца.
Однако сначала, после того как выяснилось расхождение, спорящие стали пытаться уточнять проблему о снисхождении в ад и снова стали думать о неразрешенном ими вопросе о Пресвятой Троице. Эти двое верующих XVII века снова подняли древние споры, волновавшие первоначальную церковь. Оба они обращались как к Никейскому, так и к Афанасьевскому Символу веры. Но как только они пытались снова продумать свою веру, то незнание точной терминологии увлекало их в опасные преувеличения. Федор до такой степени ярко чувствовал единство Божества, что он словно вмещал лишенных собственного образа Сына и Святого Духа в недра Отчие. Это было савеллианство, почти отрицание Троицы; следовательно – иудаизм, еврейская вера. Аввакум возмущался: «По твоему, кучею надобе, едино лице и един образ?» Однако сперва он ограничивался тем, что утверждал раздельноличность. Он находил образ этого в традиционной иконе Троицы: под дубом Мамврийским «три ангела сидят в равенстве святых образов, еже есть всем трем един образ по равенству (…) три солнца незаходящия, три света присносияющая (…). Им власть едина и господство». Дальше он не шел. Сколь же безумен был, по Аввакуму, дьякон, занимавшийся тайнами, «о чем вси богословцы умолчаша, и нам заповедаша выше писанных не мудрствовати»[1682].
Подобная позиция была глубоко мудрой. Но в спорах всегда есть соблазн перейти границы. Трудность заключалась в установлении надлежащего отношения между единством и троичностью. Аввакуму недоставало понятия субстанции, выясненного схоластиками. Утверждая всегда равенство Лиц, употребляя выражения: «лицо», «образ», «ипостась», «со став», утверждая единство воли и царства, он лишь с большим трудом мог утверждать самый концепт того, что, обозначенное разными атрибутами, было единым. Казалось, он разделял «единое существо» («естество») на три; он употреблял выражение «Трисущная Троица». Он мыслил себе «Три Потока», истекающие из Единого Божественного Источника. Напечатанная при Иоасафе Триодь в 6-й песне канона на Преполовение давала ведь формулу: Поклонимся трисущней Троице? Неясность усугублялась тем изобилием синонимов, которыми пользовались старые переводчики для передачи одного и того же понятия.
Позднее Аввакум ощутил потребность в уточнении терминологии, однако не преуспел в этом. Сравнения не способствовали уяснению вопроса. Для Федора Троица была единым камнем, испускавшим три света. Нет! – отвечал Аввакум. – Троица – это три света, единым сиянием горящие! Как Петр, Павел и Иоанн Богослов суть три, имеют единую человеческую природу, так Отец, Сын и Святой Дух суть три, но имеют единую божественную природу. Однако же Аввакум пребывал бесспорно православным, когда, отсылая Федора к первой попавшейся «бабе поселянке», влагал ей в уста: «Троица есть неизреченнаго существа, треми имены[1683], три лица, трисвятая, триприсносущная (…) едино существо в трех составех (…) едино трие и трое едино»[1684].
От Пресвятой Троицы спор перешел на Пятидесятницу. Дух Святой сошел на апостолов огненными языками. Но как понимать это? Федор говорил, что Дух Святой вселился в на апостолов не существом, но «благодатью даров». Аввакум же видел в огненных языках лишь благодать Параклита, ибо сущность Параклита пребывает неизменной и недвижной. Нигде не видно из Писания, чтобы сущность передвигалась. Глядите-ка: Дух Святой, Лицом своим, нисходит, раздает дары и восходит. Так дети только говорят[1685].
Спор по этому вопросу, как и по другим, был безрезультатным. Налицо был тот факт, что Федор в серьезном вопросе отказывал в послушании своему духовному отцу. Аввакум видел себя вынужденным наказать его: он его проклял и сотоварищи его сделали то же самое. Это происходило примерно в октябре 1670 года. Бедный дьякон, покинутый всеми, лишенный возможности попросить духовного совета, оказался перед лицом серьезнейших сомнений; в Москве он был анафематствован церковными властями; в Пустозерске – своими друзьями! Однажды в Филиппов пост, когда он лежал на лавке после заутрени, он услышал голоса, которые повторяли хором: «Оскверниша завет Его, разделишася от гнева лица Его», – и далее: «Истинною Твоею потреби их!» Голоса умолкли, и он не знал, к кому они относились: к никонианам или к его пустозерским противникам. Он сообщил о слышанном последним, но они только смеялись над ним и ни в какой мере не были тронуты его рассказом[1686].
Когда наступил Великий пост 1671 года, споры отошли на второй план и все изгнанники объединились в героическом подвиге великого постничества: сорок дней надлежало не принимать никакой пищи. Аввакум и Епифаний строго придерживались правила: они не пили даже тепловатой воды, которую позволял себе Лазарь. Но скоро у них уже не хватило сил совершать службу. Дьякон со своей стороны распускал в воде сухари и пил «квасную воду». По истечении десяти дней все вместе решили позволить себе пить, но при том и Федор должен был пить только одну чистую воду. Лазарь до конца выдержал этот строгий пост. По истечении двадцати дней Аввакуму показалось, что это неправильно: он перестал пить. Однако он заболел: он стал поливать себе грудь водой и натирать снегом; от этого он почувствовал себя лучше. Начиная с четвертой субботы Епифаний и дьякон больше не выдержали: им позволили пить и есть по субботам и воскресеньям. Аввакум полоскал рот и горло квасом и иногда глотал несколько крошек хлеба. В четверг на пятой неделе он совершенно изнемог от слабости. Приближалось время службы… Он подумал и, вздыхая, отмерил три ложки кваса и пять – воды, смешал их и проглотил. То же он сделал и в пятницу. В субботу он сделал просфору, отслужил обедню и причастился. В воскресенье он выпил квасу. Но на последней неделе он стал поститься уже полностью; лишь увлажняя рот, чтобы иметь возможность совершить службу. Протопоп немедленно составил описание этих подвигов[1687].
Но Федор продолжал оставаться в положении человека, осужденного всеми, и в то же время не видящего за собой никакой вины. На протяжении трех последних недель поста он со слезами и воздыханиями молил Бога открыть ему, осужден ли он также и Его судом. В понедельник на Пасхальной неделе, когда он отдыхал после вечерни, за окном раздается тихий голос: Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Он ответил «Аминь» и стал смотреть. «Яко молниин зрак блистается светел некто» и говорит: «Се благословен еси! Мир ти, святче Божий!» Вслед за этим видение исчезает. Благословен, а не проклят! Таков ответ Божий. Следовательно, диавольской является анафема никониан, неспра ведливой и продиктованной одной лишь страстью является анафема Аввакума[1688].
Споры возобновились и затронули новые области. Федор, в сущности, довольствовался имевшимися формулами и оставался в православии скорее в силу ограниченности мысли, чем в силу глубины богословского проникновения. Аввакум же искал найти в богословских формулах насколько возможно ясно выраженное содержание; дерзновение его не имело пределов, и, имея в своем распоряжении лишь природный ум и внутреннюю добросовестность, он увлекался и создавал странные учения.
Если Аввакум не мог допустить, чтобы Дух Святой существом своим сошел на апостолов, то это объяснялось тем, что это казалось ему противоречащим принципу Божественной недвижности. Простая единица Божества, которое не ограничивается никаким местом, которая всецело несказанна, которая, по святому апостолу Павлу[1689], обитает в свете неприступном, не может существом своим пребывать у твари.
Божественное провидение – везде, думал он, везде – Всемогущество Божие. Всем управляет, все видит и все слышит Его Всевидящее Око. Но Существо Божие пребывает превыше всего в свете неприкосновенном и не перемещается ни на земле, ни под землей.
Но в таком случае, как следует понимать сошествие на землю Бога-Слова? Сказать, что Бог-Слово был существом своим и в гробу, и в аду, и в раю с разбойником, и пресуществение на престоле с Отцом – означало ведь разделять на четыре Единого Сына! Нет!
«Бог бо не преложа существа своего сниде на землю, вочеловечився за мирский живот и спасение, не отлучным существом Божества своего (…) совершив тайну, сиречь: благодати сила излияся (…) соступив с небесе силою благодати своея к нам весь в чистую Деву. Весь благостию, а Существом горе со Отцом»[1690].
Таким образом, Аввакум возвеличивал трансцендентность Божества, но он подчеркивал также и человечество Христа. Некоторые хотели отличить человеческую природу Христа от «грубой» человечности и понимали буквально образы св. Иоанна Дамаскина. Они утверждали, что Христос вошел в Пресвятую Богородицу ухом и неизреченно вышел боком[1691]. По-видимому, и Федор допускал это. Аввакум протестовал, говоря, что Господь вошел в Пресвятую Богородицу естественным, хотя и таинственным образом, не нарушая ее Приснодевства, и что, приняв плоть от крови Пресвятой Богородицы, он вышел из нее тем же образом, а не через бок[1692]. А Божия Матерь вполне естественным образом, без чуда, питала своим молоком того, кто питает всю тварь.
«У Пречистыя Матери (…) млеко бысть (…) сосал титечки Свет наш. Потом и хлебец стал есть, и мед, и мясца, и рыбку, да и все ел за спасение наше. И винцо пияше, да не как, веть, мы – объядением и пиянством, – нет, но благоискусно дая потребная плоти. Болши же в посте пребывая. Ну, Федор, болши тово не ковыряй, не досаждай Божеству. Христос вся наша воспринял, кроме греха, плоть совершенну со страстми ея. Знаешь ли, с которыми страстми? сиречь, бояшеся, и утруждашеся, и потяше, спаше и скорбяше. А не те помышляй страсти, как ты воруешь»[1693].
Столь исполненный подлинного человечества, как мог Христос, взошедший на небо и воссевший одесную Отца, быть в то же время Сыном Божиим? Лазарь не постигал этого. Он представлял себе так, что и по Воплощении Пресвятая Троица продолжала восседать так: Отец посередине, Сын одесную, а Дух Святой ошуюю, как царь с детьми; Христос же, согласно его мнению, занял четвертый престол[1694]. Принял ли Аввакум это странное воззрение?
Федор утверждает это, но мы имеем лишь одно отдельное высказывание, согласно которому Христос восседает, как Бог-Человек, одесную Бога Отца на царском престоле; «не пехай поганым-тем своим языком с престола-тово царскова к ногам Отца»[1695].
Отсюда вытекает, что Аввакум прежде всего утверждал раздельноличность и равенство Троических Ипостасей, что, как ему казалось, оспаривал Федор; вывести отсюда, что он «четверит Троицу», было бы слишком смелым. Для Федора Аввакум оказывался нечестивее никониан; для Аввакума Федор впал в иудаизм. Оба написали своим друзьям. Необходимо было объяснить, почему протопоп проклял своего духовного сына. Мы не знаем, написал ли он об этом царю и царевнам, как уверяет Федор, во всяком случае он написал своим друзьям, «чудному составу по образу Святыя Троицы», как он любил выражаться, «Феодоре в Евдокее, Евдокее в Феодоре и Марии в Феодоре и Евдокее»!
«Увы мне, грешному! Ей, слезам достойно есть: у меня здесь диявол от десных ссору положил, – в догматах считалися, да и разбилися. Молодой щенок, Федор дьякон, сын духовной мне, учал блудить над старыми книгами и о Святей Троице предкнулся, и о Христове во ад сошествии и о иных, догматствуя по-никониянски, нелепотно. В книге моей написано и послано к вам о Господе. Аз же, не утерпев безумию его, и слышати не мог хулы на Господа Бога моего, отрезал его от себя и положил под клятвою, не ради внешних досад, – ни, никакоже, – но ради безстудства его на Бога и хулы на старых книг. Буди он проклят, враг Божий!»[1696]
Из Москвы ему прислали одобрительные письма; многие в письмах стыдили Федора за его ошибки. Был один праведный слепец, который явно учил о том, что Дух Святой не мог сойти с Небес Существом, и который цитировал в подтверждение своего мнения текст Максима Грека[1697].
II Первые проповеди
Книга, о которой пойдет речь, это «Книга бесед» в ее первоначальной форме: это беседы об Аврааме и Мелхиседеке, о посте и другие. В них Аввакум говорил обо всех спорных вопросах и, конечно, также о внешней мудрости, «о старолюбцах и новолюбцах»[1698].
Споры с Федором открыли перед Аввакумом новую область: область чисто богословских вопросов. Но теперь недостаточно было отвечать на практические вопросы, поставленные верными; а что касается простой и непосредственной полемики, то строго-необходимое было уже сделано. Вопрос отныне ставился иначе: надо было заняться обобщениями и взглянуть на вещи с несколько большей высоты. Однако Аввакум не был таким человеком, чтобы составлять теоретические трактаты, построенные на строгой логике, холодные, абстрактные и строго-объективные. Он говорил, что не является богословом, а говорит лишь то, что ему прямо при ходит на ум. Однако на протяжении всех этих лет преследования, когда регулярная и оживленная переписка была затруднена, он отдавался громадной богословской работе, имея в виду свободно и без принуждения высказать свою религиозную мысль. Для этого он применял самые разнообразные литературные формы: беседы, комментарии к Священному Писанию, личные воспоминания.
Но он никогда не был рабом формы: среди описания событий своей жизни он вставляет богословский экскурс; в работе о Сотворении мира он обличает астрологов своего времени; говоря о Мелхиседеке, он вдруг набрасывается на митрополита Илариона; объясняя Священное Писание, он вставляет эпизод из своего детства или описывает чудо в своей личной жизни. От высокого стиля он, без стеснения, переходит на просторечие и от сравнения из области деревенской жизни обращается к св. апостолу Павлу. Он никогда не остается в области чистого рассуждения, и он всегда непосредственно обращается к своему слушателю или, реже, к читателю; он всегда имеет в виду кого-то: будь то верные, которых надо поучать, будь то противник, которого необходимо обличить. По-видимому, так же лилась и его проповедь. Отправляясь от какого-нибудь текста, он, в той или иной связи с ним, проявлял в своих отступлениях и громадную находчивость, и находил нужные образы и яркие разговорные выражения, обнаруживая при этом и глубокое знание жизни, и отнюдь при том не забывая своего пастырского авторитета. Таким он был и среди друзей в Юрьевце, и в Казанском соборе, таким, несмотря на свою страстность и горячность, он оставался и в случае с Федором. Он, вообще говоря, удивительно умел находить для всего нужное место. Достается же от него больше всего никонианам и плохим христианам.
На протяжении 1672–1674 годов им написаны четыре беседы, сочинение «Списание и собрание о Божестве и о твари», а также Житие[1699].
«Беседа об Аврааме» отправляется от краткого толкования отрывка из Послания к Галатам (Гал. 4: 22–23), где говорится о двух сыновьях Авраама, одном, родившемся от служанки, и другом – от свободной. Аввакум очень просто рассказывает повесть о патриархе по Библии и Хронографу, не без того, чтобы не поскорбеть попутно о Лоте и Содоме. Говоря о встрече Авраама с Мелхиседеком, он не упускает случая указать, что этот ветхозаветный проповедник символизирует Христа – Предвечного Царя и Священника. Христос, говорит Аввакум, соделал нас сынами света и наследниками Царства Небесного. Чего же лучше? Мы верующие во Христа, сыны Божии, никониане же дети диаволовы, они Христа не любят.
Далее чувствуется, что рассказ о Мелхиседеке только предлог:
«Прямой был священник, не искал ренских, и романеи, и водок, и вин процеженых, и пива с кардомоном, и медов, малиновых и вишневых, и белых всяких крепких. Друг мой, Иларион архиепископ Рязанской! Видиши ми, как Мелхиседек жил? На вороных и в каретах не тешился ездя! Да еще был царские породы. А ты кто? Воспомяни-тко, Яковлевич, попенок!»[1700]
И после красочной отповеди своему бывшему другу, некогда столь добродетельному, он добавляет: «На Павла-та митрополита что глядишь?» Вслед за чем идет должное воздаяние по делам и последнему: «Тот не живал духовно, блинами все торговал да оладьями. Да как учинился попенком, так по боярским дворам научился блюды лизать». Но главным преследователем ему представлялся Иларион. «Сколько християн, – обращается он к нему, – прижег и пригубил злым царю наговором, еще же и учением твоим льстивым и пагубным многих неискусных во ад сведе? (…) Да воздаст ти Господь по делом твоим в день страшнаго суда! (…) Сердиты были и жиды-те, якоже и вы (…) Мне сие гораздо любо: руская освятилася земля кровию мученическою. Не ленитеся, бедные, подвизайтеся гораздо, яко Махмет, поклоняйте мечем непокоряющихся в веру свою, да и по смерти своей, яко Ирод древле, прикажите владык и старейшин галилейских на память кончины своея побить»[1701].
Это был отход от основной мысли, и, как бы извиняясь, он возвращается к Аврааму и к видению Авраама у дуба Мамврийского. «Видали ли вы, братия, на иконах пишется, – под дубом за столом три ангела сидят в равенстве святых образов?» Далее он излагает свою веру, примерно в духе Афанасиевского Символа. И тут как раз он расходится с Федором. Правда, он пишет только: «Есть обретаются некоторыя гады, из чрева своего гадят по человекообразию быти Бога», далее следует соответствующая аргументация. Тут же он отвергает другие нечестивые ереси «этих гадов»: о сошествии Христа во ад, о богочеловеческой природе Христа, о его непорочном зачатии[1702].
«Пакы приимем повесть о Аврааме вышереченную». Далее следует сделанный в эпическом тоне подробный пересказ жертвоприношения Авраама, потом идет апокриф, заимствованный из Палеи, и, наконец, следующие размышления: «Дивен отец, дивен сын! (…) О, вера! (…) О, терпение упованием будущих благ! (…) Бог (…) не положил выше меры искуситися им»[1703]. Сколь поучительное и нужное наставление во времена гонений!
«Молю убо аз, юзник, вас всех, страждующих о Христе: претерпим мало зде от никониян, да Бога вечно возвеселим (…) Ныне нам от никониян огнь и дрова, земля и топор, и нож и виселица: тамо ангельския песни и славословие, хвала и радость, и честь и вечное возрадование Яра ныне зима, но тамо сладок рай. Болезнено терпение, но блаженно восприятие. Да не смущается сердце ваше и устрашается (…) Претерпевый до конца, той спасен будет. Всяк верный не развешивай ушей тех и не задумывайся; гряди с воздержанием во огнь и с радостию. Господи ради постражи, яко добрый воин Исус Христов правости ради древних книг святых! (…) они нас и мучат и губят, а сами дрожат (…) праведник не имать попечения ни о чем, только о Христе»[1704].
И далее все более и более умножаются поощрения праведникам, чередуясь с угрозами преследователям; пока, наконец, во внезапно введенном толковании Послания к Галатам он пишет:
«Аще и не пришел он еще последней чорт, но скоро уже будет. Все уготовали предотечи его, и печатью людей бедных слепых перепечатали, тремя персты и развращенною малакией. Вы же, братия, (…) стойте крепко за святую церковь и отеческое предание умирайте, не давайте грабить ворам матери своея»[1705].
Он рассказывает, что он однажды видел антихриста, «нагова человека, плоть-та у него вся смрад, (…) из ноздрей и из ушей пламя смрадное исходит; за ним царь наш последует и власти со множеством народа». Протопоп пригрозил ему своим пастырским посохом. «Он же мне отвещал: “Чего ты, протопоп, на меня кричишь? Я нехотящих не могу обладать, но волею последующих ми, сих во области держу”». Вслед за этим Аввакум плюнул на него и проснулся. Кончает он тем, что пишет: «Знаю я по Писанию о Христе, и без показания (видения), скоро ему быть. А выблядков тех ево уже много, бешаных собак. Нас же да избавит от них Христос, Сын Божий!»[1706]
Так, в свободной литературной манере с необыкновенной живостью, тактичностью и с использованием различнейших интонаций Аввакум рассматривает самые актуальные темы, уделяя каждой соответствующее ее значению внимание. На первом плане у него стоит поощрение к мученичеству, затем нравственные и догматические побуждения для критики никониан, наконец, идут богословские рассуждения.
Беседа «О днях поста и мясоястия» представляет собой собрание правил древнего благочестия: обязательно поститься по средам и пятницам, но никоим образом не в воскресенье, раздавать в виде милостыни сделанные таким образом сбережения, в субботу по первому зову колокола спешить ко всенощной, как св. апостолы Иоанн и Петр спешили ко гробу; после обеда упражняться в чтении Ветхого и Нового Завета и до понедельника пребывать в молитве; если возможно, ходить в церковь и в другие дни, если же нет, то читать «правило» перед иконами дома и никоим образом не пропускать молитвы, ибо «тужит душа, лишаема молитвы». Христианские праздники сравниваются с еврейскими, далее говорится о нисхождении Христа во ад, о его воскресении и вознесении и сидении во славе одесную Бога Отца «в дву естествах, Божества и человечества»; равно и о Страшном суде, когда Господь отделит овец от козлищ. Тут Аввакуму опять приходят в голову никониане. «Что-то вам пособит друг-от ваш, антихрист?» – спрашивает их Аввакум[1707].
Беседа «О старолюбцах и новолюбцах» дает очень нужное предостережение верным, живущим среди неверных: всякое евхаристическое общение с никонианами есть смертный грех. Если их греховность и не видна, это не более как прелесть сатанинская. О них можно сказать то, что говорит римскому кардиналу грек Азимит: «Учители ваши – свинии, в них же посла Господь легион бесов». Лишенные благодати, они не могут и передавать ее: святыни они не освящают и болезнующих не исцеляют[1708].
Не надо принимать этих отступников, ни принимать от них никакого таинства, ни принимать их в дома. Не надо обманываться теми видимыми признаками «церковного познания», которые в них еще сохранились, подобно как «искра в пепеле» – это на самом деле лишь ложь для обмана верных. Они даже и не знают, что такое христианская жизнь. Надо приглядеться к ним поближе. «Вид весь имеют от главы и до ног корпуса своего насыщенной, и дебелой, и упитанной». Что касается дел их, то позорно было бы их и показывать. «Не надейтеся, бедные никонияне, вы в таковом отступническом житии имети в себе духовныя благодати, ниже инем кому можете подати». Они хуже прежних еретиков, ибо «и последнее светило, бывшее великороссийские церкви ко просвещению (…) сияющее угасили нынешнии отступницы». Берегитесь! – призывает он верующих. Пощадите свою душу единую! Своих малорожденных отрочат ограждайте от злых учителей, ведущих к погибели. Благодарю Бога моего! «Слышу опасающихся о своем душевном спасении и блюдущихся опасне, дабы своих (…) отрочат не оставити. (…) И от ревности любви (…) собирающеся овыи в домы своя з женами и детми, а иные в кущи, на то устроенные (…) навершаху себя блаженным изволом всесожжения (…) и всесладостне скончахуся (…) от Божия руки сугубые приимаху венцы: первое – соблюдение (…) их о правости веры наблюдения; второе – за неоставление чад своих (…) коснутися им к злобе преступнического (…) учения»[1709].
Беседа «О внешней мудрости», отталкивающаяся от 1 Послания к Коринфянам[1710], где говорится о безумии мудрости мира сего, выражает в новом свете мысли, которые Аввакум еще раньше развивал у Ртищева:
«Платон и Пифагор, Аристотель и Диоген, Иппократ и Галин: вси сии мудри быша и во ад угодиша (…) тою мудростию своею уподобляхуся Богу, мнящеся вся знати. (…) Мы разумеем небесная и земная, и кто нам подобен! И взимахуся (…) выше облак, – слово в слово, яко и сатана древле. Сего ради отверже их Бог. (…) Вси христиане от Апостол и отец святых научени быша смирению, и кротости, и любви нелицемерной; с верою непорочною, и постом, и со смиренною мудростию, живуще в трезвости, достизают не мудрости внешния, – подразумевати и лунного течения, – но на самое небо восходят смирением ко престолу Царя славы (…). Виждь, гордоусец и алманашник, твой Платон и Пифагор: тако их же, яко свиней, вши съели (…). Многи же святии смирения ради и долготерпения от Бога прославишася и по смерти обоготворени быша (…), чюдесьми и знаменьми яко солнце повсюду сияют. Виждь, безумной зодийщик, свою богопротивную гордость, каковы плоды приносите Богу и Творцу всех Христу: токмо насыщатися, и упиватися, и баб блудить ваше дело. Прости, – не судя глаголю, к слову прилучилося. Не ваше то дело, но бесовское научение. Плакати о вас подобает, а не ругати (…) Посмотри-тко на рожу-ту на брюхо-то, никониян окаянный, – толст ведь ты! Как в дверь небесную вместитися хощешь! (…) Нужно бо есть царство небесное и нужницы восхищают е, а не толстобрюхие. Воззри на святыя иконы и виждь угодившия Богу, како добрыя изуграфы подобие их описуют: лице, и руце и нозе и вся чувства тончава и измождала от поста, и труда, и всякия им находящия скорби. А вы ныне подобие их переменили, пишите таковых же, якоже вы сами (…) И у кажного святаго, – спаси Бог-су вас, – выправили вы у них морщины-те, у бедных (…) Святых образы изменили и вся церковныя уставы и поступки: да еще бо християном милым не горко было! Он, мой бедной, мается шесть-ту дней на трудах, а в день воскресной прибежит во церковь помолити Бога и труды своя освятити: ано и послушать нечево – по-латыне поют, плясавицы скоморошьи! Да еще бы в огонь християнин не шол! Сгорят-су все о Христе Исусе, а вас (…) не послушают. Да и надобно так правоверным всем, то наша и вечная похвала, что за Христа своего и святых отец предания сгореть, да и в будущем вечно живи будем, о Христе Исусе, Господе нашем, Емуже слава ныне, и присно, и во веки веком, аминь»[1711].
Возражал ли Аввакум здесь против светской науки вообще или только против астрологов, новых икон и никониан? Конечно, против всего этого, но красной нитью через всю беседу проходит протест против всей тогдашней чувственной, внешней и антихристианской жизни, развернувшейся перед его глазами после его возвращения из Сибири. И эта мысль лежит в основе всех его проповедей, поскольку именно в этом состоит смысл старой веры.
III Сочинение о Божестве и твари
В беседе «Списание и собрание о Божестве и о твари» (иначе именуемое «О сотворении мира, грехопадении и о потопе») мы снова находим те же насущные вопросы: Аввакум выступает против ложной мудрости, ведущей к астрологии, и против разнузданной жизни, выражающейся, в частности, в невоздержании в пище и в пьянстве. Литературная форма тут та же: это очень свободный комментарий Священного Писания, адресованный слушателю. Но начинается беседа с тщательно продуманной критики очень распространенного в Древней Руси сочинения «Беседа трех святителей»[1712]. Три святителя и учители православной церкви Василий Великий, Григорий Богослов (Назианзин) и Иоанн Златоуст задают друг другу вопросы с соответствующими ответами по тем космогоническим проблемам, которые, не будучи разрешенными Библией, волновали народное воображение. Сюда относятся такие представления, как солнце, сотканное из ризы Господней; земля, образованная ангелами из морской пены и стоящая на трех больших и тридцати пяти малых китах, и море, стоящее на железных столбах. Заслуга Аввакума заключалось не столько в том, чтобы осудить «Беседу», уже запрещенную «Кирилловой книгой» в качестве книги, неподходящей для чтения верующих, сколько в том, чтобы подтвердить это запрещение историческими и богословскими аргументами.
Василий Великий умер до Второго Вселенского Собора, Иоанн Златоуст – между Вторым и Третьим. Как же могли они, спрашивает Аввакум, беседовать в столь разные времена?[1713]
До создания мира Бог не мог обитать, как это якобы говорил св. Григорий, в трех небесных «камарах» (палатах), ибо Бог все обнимает и не содержится ни в каком месте; если же он трапезовал с Авраамом и беседовал с Саррой, и если он показал задняя своя Моисею, если Он явился Исаии и Иезекиилю, то лишь «подобием Своим», аналогией («А все Господь схождением творил»). Ареопагит говорит ведь: «Свет Бог, но и не свет, паче бо света; живот Бог, но и не живот, паче бо живота». «Неодержимаго одержал в одном месте, и необъемлемаго и неприступнаго посадил в камары»! Подобным образом ангелы не могут быть непосредственно по природе изведены из Духа Святого, ибо они были приведены из небытия в бытие Богом-Словом и лишь освящены Духом Святым. Что касается повествования о том, что пена якобы собирается ангелами («ангелы-де по морю пену собирали»), а также о китах, то это чистый вымысел. «Чти Бытию и Гранограв о сотворении твари: тамо истинна».
Далее он переходит к объяснению Книги Бытия. Пишущий всегда в смелой манере, Аввакум использует свой комментарий для протеста против пьянства и социальных несправедливостей – против тяжелого труда женщин и детей; против суеверий – астрологов и альманашников, каковые он считает главными бичами своего времени[1714].
В конце Аввакум связывает с родом Авраама через родословие Евангелия от Матфея Христа «Бога и Спаса душам нашим, от колена Июдова», со времени земной жизни Которого по сие время прошло 1680 лет[1715].
IV Житие Аввакума и Житие Епифания
В том же 1672 году Аввакум написал первые страницы своего Жития. Естественно, во время его долгих бесед с Епифанием он неоднократно рассказывал ему те или иные случаи из его долгой многострадальной жизни. Он говорил ему и о том, что иной раз сам был виноват в том или ином конфликте; что ему удавалось выйти живым из смертельной опасности, что он своим моральным авторитетом одерживал победу над злом; что так или иначе правда всегда выявлялась, что везде и всюду рука Провидения была над ним. Какое могло быть лучшее доказательство тому, что старая вера угодна Богу? Во что бы то ни стало необходимо было сохранить для нынешних и будущих верующих воспоминание о чудесах Божиих, совершенных над протопопом Аввакумом. Аввакум вполне отдавал себе в этом отчет. Но можно ли простому смертному написать свое Житие, подобно тому как пишутся Жития святых? Его духовный отец Епифаний снял с него сомнения: он приказал ему писать.
Апостолы говорили о самих себе, это было оправданием. Дорофей пересыпал свои поучения рядом автобиографических подробностей, даже самого житейского характера. Можно было, следовательно, при необходимости, использовать разговорный язык и тон. Но в то же самое время сама собой напрашивалась определенная литературная форма: форма жития. Сперва должно было идти назидательное введение, затем основной текст, наконец чудеса: причем желательно было использовать нормальный язык современных литературных произведений. Аввакум чувствовал все это; и отдался своему вдохновению.
Он составил необходимое догматическое введение общего характера, выдержанное в общепринятом возвышенном стиле. В сочинении, обращенном ко всем, даже к никонианам, нужно было в начале воздержаться от полемики. Однако, учитывая наличие никониан и дьякона Федора, следовало утверждать некоторые вещи: трансцендентность Божества, учение о Духе Святом Истинном, двоение аллилуии, твердость собственной веры в Пресвятую Троицу, превосходство христианской жизни перед лжемудрованиями века сего, идею чаши Божественного гнева, излитую на Россию в наказание за новшества Никона. Можно только удивляться тому, как естественно представлены эти истины «под кровом крилу» Дионисия Ареопагита. В конце приведен Афанасиевский Символ веры и следующее торжественное утверждение: «Сице верую, сице исповедаю, с сим живу и умираю».
Далее события излагаются в хронологическом порядке: даже если они точно не датируются, они обычно приводятся в соответствии с определенным временем и местом. Однако при всем том порядок изложения не носит строго последовательного характера. Если автору приходит в голову какая-либо мысль, если ему нужно вспомнить другие аналогичные факты, то он, извиняясь перед своим читателем, прерывает нить своего рассказа. Факты его жития приводятся не все; можно даже сказать, что их приводится не слишком много. Виден определенный подбор фактов. Ценность одних определяется присущим им реализмом; другие имеют символическое значение. Так, в самом начале он рассказывает свой сон о трех кораблях: разве вся жизнь Аввакума не была длинной цепью бурь и скорбей? Нет ни одного факта, который не выявлял бы действия Провидения. Автор редко прямо утверждает чудо: он ограничивается тем, что рассказывает о чудесных обстоятельствах данного события, и читатель или слушатель, ибо последние у него должны были также быть, – сам может сделать свои выводы. Он напускает на себя тон старика-болтуна, который с ловоохотливо, почти болтливо, припоминает прошедшие годы. Он столько перевидал! В таких случаях литературный язык быстро уступает место живому разговорному. Он не боится простого народного крепкого словечка, не от того, что это ему доставляет удовольствие – слово само подвертывается; ведь так именно говорят по-русски, а он так любит свой родной русский язык со всем его богатством словечек и образов! Он задерживается на описании пейзажей, диких гор Сибири, фауны Прибайкалья, пережитых им страхов и отчаяния, на сценах шаманизма. Он добродушно подтрунивает над собой и окружающими. У него сказывается много иронии и скептицизма в отношении того, как совершаются вещи на свете. «Десеть лет он меня мучил или я ево», – говорит он о Пашкове. И во всем, что он говорит, ощущается правда: у него точный глаз, открытый ум и трезвый взгляд на вещи.
Но иногда одним словом, иногда рассказом целого эпизода он возвращается к основной волнующей его теме: он говорит, что эти удивительные картины природы даны Богом человеку, чтобы он воздал Ему хвалу; спрашивает Епифания, хорошо ли он сделал, солгав, чтобы спасти жизнь человеку. Нужно, чтобы Епифаний засвидетельствовал это на бумаге. Если мы имеем перед собой человека, который удивительнейшим образом владел даром излагать свои мысли, то все же нельзя сказать, чтобы это был настоящий писатель, посвятивший себя исключительно литературному творчеству. Это искренний, внимательный к себе христианин, который исповедуется в своих грехах, чтобы дать назидание своим ближним и прославить Бога. И вместе с тем это учитель, который поучает верных: он предлагает верующим легко выполнимый способ исповедоваться без священника, он поощряет их к мученичеству, он призывает их к стойкости: блажен свершивший, а не начавший! Все это советы более чем нужные в такое время, когда в его родном краю царствовал Вавилон. В подобных местах он говорит возвышенным языком, и русский язык приближается к церковнославянскому, или, скорее, можно сказать, что оба языка смешиваются, взаимно окрашивают друг друга, как бы освещают и украшают друг друга неожиданными и яркими сближениями и сопоставлениями.
Житие кончается временем, последующим за казнями Елагина: проклятие мучителям и вечная память их жертвам! Аввакум извиняется перед читателем за свою повесть, написанную им без знания «диалектики, риторики и философии». Он переходит к чудесам, которые он выборочно и рассказывает. Чудеса эти заимствуются им из разных периодов. Затем дается и поучение: «Чево крестная сила и священное масло над бешеными и больными не творит благодатию Божиею! Да нам надобно помнить сие: не нас ради, ни нам, но имени Своему славу Господь дает. А я, грязь, что могу сделать, аще не Христос!»
Этот труд был самым значительным, который составил до этого времени Аввакум. До того он писал только письма, челобитные царю, беседы о псалмах и рассуждение о Божестве. Житие явилось, вместе с тем, по своему содержанию тем трудом протопопа Аввакума, в котором он больше всего раскрылся, в который он больше всего вложил свою душу, весь своей темперамент. Ясно, что он сам был захвачен своей темой. Он писал с истинным восторгом, вероятно, как он обычно это делал, не отрываясь от пера, придерживаясь в своем творчестве лишь общего замысла.
Но как только книга оказалась оконченной, переписанной и отправленной по назначению (вероятно, в Окладникову слободу), он почти немедленно снова вернулся к ней. Сначала он сузил ее рамки, выпустив целый ряд рассуждений и сравнительно менее значительных фактических подробностей: облегченный таким образом рассказ сделался более живым и позволил ярче почувствовать личность автора. Но кое-где он уточнил рассказ, добавил по памяти отдельные детали, даже ввел целый новый эпизод, связанный с его жизнью на Мезени. Появилась вторая редакция, в общем сокращенная, может быть, имевшая в виду какие-то частные обстоятельства.
Вскоре после этого, видимо все еще не удовлетворенный, Аввакум еще раз вернулся к своей работе: он обратился к своему первоначальному тексту и снова еще более серьезно отредактировал его. Он исправил стиль, изменил порядок слов для большей убедительности и выразительности отдельных оборотов. Иногда, правда отнюдь не систематически, он решался выпустить архаический или чересчур разговорный оборот. Отдельные места он улучшил, имея в виду большую ясность изложения. Кое-что он еще выпустил, но добавил ряд ранее упущенных им фактов, развил некоторые религиозные мысли, которые были раньше только намечены вчерне, ввел в текст книги два коротких богословских рассуждения, которые он только что перед этим написал: одно об опасности принимать просфоры, а тем более Святые Тайны от никониан, другое о том, как следует креститься и как благословлять[1716]. Эта третья, расширенная редакция была хорошо обдуманным произведением. Признаки тщательного продумывания здесь ясно видны: в этом тексте меньше порыва и непосредственности, чувствуется довольно ясно выраженная осторожность; может быть, чрезмерно подчеркнуты благочестивые, дидактические и практические намерения автора. Однако она представляет для нас ценность в силу новых приводимых в ней фактов.
Эти две редакции были менее распространенными, чем первая. Возможно даже, что последняя редакция оставалась в Пустозерске вплоть до 1675–1676 года. В этот момент Аввакум решил направить ее одному из верных и в связи с этим добавил к книге, в дополнение к уже имевшемуся введению, также и новое предисловие[1717].
Тем временем написал свое Житие также и инок Епифаний. Натолкнул его на это Аввакум. Благочестивый монах, подражая протопопу, рассказывает о своих злоключениях, начиная с юности, проведенной в Соловках, и вплоть до пустозерских казней. Тон Жития также разговорный. Полный искренности, он рассказывает о себе, показывая себя таким, каким он был в действительности; перед нами вырисовывается человек без большого образования, без особого ума, скорее наивный, отнюдь не желающий играть какую-либо роль, без смелости, без активного героизма, очень во всем этом отличающийся от своих сотоварищей; однако перед нами встает образ человека, исполненного мира и чувства долга, стремящегося прежде всего к одиночеству и молитве. Его счастием является молитва и изготовление крестов. Он уже перенес и готовится перенести все – лишь бы не отступить от веры; но, думает он, следует ли скрывать свои слезы от перенесенных страданий? Он постоянно задается вопросом: и зачем только я отправился в Москву к царю? Пользы никакой, а в моем отшельничестве мне так хорошо жилось. Эти свои чувства он отнюдь не скрывает. Он позволяет нам достаточно ясно представить себе жизнь поморских отшельников. Он рассказывает нам довольно много поучительных видений и красочно описывает бесовские наваждения – именно о них побуждал его писать Аввакум, однако повествование его лишено внутренней последовательности, в композиционном отношении оно слабо, у него отсутствуют яркие краски; оно коротко, рассказ его не изобличает особого таланта. Кстати сказать, он принимался за свое Житие два раза: оно отсылалось два раза. Пишет он его в адрес двух верующих: Симеона и Афанасия, который посетил его в тюрьме. Житие не имело такого же успеха, как Аввакумовское, однако же получило определенное распространение[1718]. Все, что шло из Пустозерска, представлялось манной небесной.
V Письма семье, Морозовой, христианским общинам
Пока узники использовали свой вынужденный досуг на споры и неспешное писание этих фундаментальных сочинений, великое ожесточение 1670–1672 годов несколько успокоилось и костры зажигались лишь изредка. Соловки еще держались. Общины старообрядцев сумели вновь сплотиться на прежних местах или сорганизоваться на только что вновь осваиваемых местах; наряду с чем они установили и более регулярную связь как между собой, так и с пустозерскими отцами.
На Мезени произошла следующая сцена. К концу 1672 года пустозерский воевода Леонтий Неплюев, придя в Окладникову слободу, встретился с третьим сыном Аввакума, Афанасием, которого оставили на свободе, как еще слишком юного.
Последовал страшный вопрос: как крестишься? Мальчик, которому в это время было около восьми лет, вытянул большой и указательный пальцы и сложил три других. Воевода ограничился тем, что сказал ему: «Где отец и мать, там будешь!» На что Афанасий ответил: «Силен Бог. Не боюся». Вернувшись в Пустозерск, Неплюев выразил Аввакуму свою похвалу твердости его сына[1719]. Подобного рода терпимость была бы совершенно невозможна шестью месяцами раньше.
Есть все основания предполагать, что переписка Аввакума с семьей так и не прерывалась. «Спаси Бог, Афанасьюшко Аввакумович, голубчик мой, – пишет он, – утешил ты меня». Интересно, что Аввакум сочетает здесь, употребляя привычное уменьшительное и торжественное отчество, и свою нежность отца и свое уважение к исповеднику веры. Далее он поручает ему «девок» Марью да Акулину и предупреждает его в отношении искушения:
«Не гнушайся их, – пишет он, – что оне некогда смалодушничали (…). И Петр Апостол некогда так зделал, слез ради прощен бысть. (…) Разговаривай братии: не сетуйте-де о падении своем выше меры (…). Да и батюшко-де по воле Божии вас прощает и разрешает, дает прощение в сей век и будущий. Впредь не падайте (…). Един Бог без греха, (…) человечество немощно, падает яко глина и востает яко Ангел».
В том же письме Аввакум вливает бодрость в сердце доброй Анастасии, которая, возможно, была озабочена какими-нибудь материальными заботами. Ведь с тех пор, как боярыня Морозова оказалась в заключении в Боровске, она потеряла свою самую деятельную покровительницу! А сама заключенная, разве безмерно не страдала она, имея на руках маленьких детей и тревожась за своего еще более несчастного мужа? Аввакум напоминает ей, что ничто телесное не имеет значения, что важно только спасение души, что сам он отдал последнюю рубашку бедному. «Наг оттоле и доныне, – уже три года будет, – да Бог питает мя, и согревает, и вся благая подает ми изобилно». Всегда и везде Господь. «А нынешнюю зиму потерпите толко маленко: силен Бог, – уже собак-тех (…) отдаст нам в руки», как отдал протопопу Пашкова[1720].
Это письмо было написано в начале зимы 1672/1673 г. Несколько позже Аввакум стал прилагать усилия к тому, чтобы доставить хоть несколько строк своим друзьям в Боровске. С этой целью он обратился к одному из своих друзей, Симеону, который запросил его о его состоянии и, вероятно, имел возможность как-то снестись с ними. И здесь снова звучит призыв к мученичеству: «Пойди же ты со сладким-тем Исусом в огонь! (…) Ну, голубки, там три отрока: а вас здесь трое же и весь собор православных с вами же! Не предстоящу пророку Даниилу со отроки в пещи, но духом купно с ними, тако и я: аще и отдален от вас, но с вами горю купно о Христе Исусе, Господе нашем». Притом в письме в начале и в конце содержатся два высказывания, исполненные изумительного смирения: «Горазд я, Семеон, есть да спать (…) Глуп ведь я гораздо, так, человеку ни к чему не годно: ворчю от болезни сердца своего». Были у Аввакума дни, когда он становился противным самому себе[1721]. Наконец, все еще не получая никаких известий, он уже криком души выражает свое беспокойство: «Свет моя, еще ли ты дышишь? Друг мой сердечный! Еще ли дышишь, или сожгли, или удавили тебя? (…) Чадо церковное, чадо мое дарагое Феодосья Прокопьевна, провещай мне, старцу грешному, един глагол: жива ли ты?» И этот суровый духовный отец, который ранее нередко почти грубо, с мужицкой жестокостью унижал важную боярыню, теперь воспевал ей, как дорогой сестре, величайшие похвалы, наполненные глубокого лиризма:
«О, светила великия, солнца и луна Руския земли, Феодосия и Евдокея, и чада ваша, яко звезды сияющия пред Господем Богом! (…) Вы забрала церковная и стражи дома Господня (…). Вы два пастыря, – пасете овчее стадо Христово на пажитех духовных (…). Вы ангелом собеседницы и всем святым сопричастницы, и преподобным украшение! Вы и моей дряхлости жезл и подпора, и крепость и утвержение! (…) Язык мой короток, не досяжет вашея доброты и красоты; ум мой не обымет подвига вашего и страдания. (…) Воистину подобни Сыну Божию: от небес ступил, в нищету нашу облечеся и волею пострадал».
Юный Иван Глебович также упокоился в небесных селениях. Протопоп отдавался воспоминаниям о нем. Затем он переходил к основной теме. «С Феодором там себе у Христа ликовствуют». Затем, назвав юродивого, он сразу меняет тон: «Поминаешь ли Феодора? Не сердитуешь ли на него? Поминай-су Бога для, – не сердитуй! (…) Обо всем мне пред смертию покойник писал: стала-де ты скупа быть, не стала милостыни творить и им-де на дорогу ничево не дала (…) Да уже Бог вас простит! Нечево старова поминать: меня не слушала (…) Да што на тебя и дивить! У бабы волосы долги, а ум короток». Даже в заключении он не может вполне отказаться от прежней иронии: «Побоярила: надобе попасть в небесное боярство»[1722].
Ближе всего к Аввакуму всегда были его жена и дети; затем ближайшим другом его сделалась Морозова. Но при этом он отнюдь никогда не пренебрегал прочим своим духовным стадом. Теперь, при внешнем успехе никонианской церкви, оставалось лишь то малое стадо, о котором говорит Христос. Но как только он счел момент благоприятным, по-видимому, в 1674 году, он направил своей пастве послание, исполненное советов и утешений.
«Возлюбленнии мои, ихже аз воистину люблю[1723], други мои о Господи, раби Господа Вышнего, светы мои! Имена ваша написана на небеси!
Еще ли вы живы, любящии Христа, истиннаго Сына Божия и Бога, еще ли дышите?
Попустил их Христос, предал нас в руки враг. Уш-то я, окаянный, достоин ранам сим.
Жаль мне стада верных, влающихся и скитающихся в ветренном учении[1724] (…). Да что делать? Токмо уповати на Бога, рекшаго: не бойся, малое Мое стадо, яко Отец Мой благоизволи дати вам царьство[1725].
Не сего дни так учинилось – кораблю Христову влаятися, еже есть святей Церкви; но помяни, что Златоуст говорит: “Многи волны и люто потопление, но не бойся погрязновения, на камени бо стоим; аще каменю волны и приражаются, но в пены претворяются, каменя же вредити не может, еже есть Христа”.
Что делать, братия моя любимая? Потерпим со Христом, слюбится нам, а они постыдятся. Горе им, бедным, будет в день Судный; Судия бо близь, при дверех, сотворити кончину веку сему суетному. Горе тому, кто не внимает о прелести последних времен: зде есть терпение святых[1726], иже соблюдают заповедь Божию и веру Исусову, якоже Лествичник Иоанн пишет: “Аще не вкусиши горчицы и опреснока, не можеши освободитися фараона”. Фараон есть диявол, а горчицы – топоры, и огнь, и висилицы.
А которые из нас строят, на тех нечего дивить: диявол тому виновен, а они были братия наша.
Станем, Бога ради, добре, станем мужески, не предадим благоверия! Аще и яра зима, но сладок рай (…). Отъята буди руки, да вечно ликовствует; такожде и нога, да во царствии веселимся; еще же и глава, да венцы увяземся. Аще и все тело предадут огневи, и мы хлеб сладок Троице принесемся. Не убоимся, братия, от убивающих тело, души же не могущих убити[1727]. (…)
Братий моих, – зде со мною под спудом сидят, – дважды языки резали и руки секли, а они и паки говорят по-прежнему; и языки такожде выросли Божиею благодатию. Вот, не смеху-ли достойно – диавольской умысл, паче же слезам, – не о нас, но о режущих! (…) Спаси их, Господи, имиже веси судбами, не вмени им за озлобление наше, пречистый Владыко!
Милинкие мои! Я сижу под спудом-тем засыпан. Несть на мне ни нитки, токмо крест с гайтаном, да в руках чотки, чем от бесов боронюся. Да что Бог пришлет, и я то съем, а коли нет, ино и так добро. О Христе Исусе питайся наш брат, живой мертвец, воздыханием и слезами, донеле же душа в теле; а егда разлучится, ино и так добрь, жив – погребен.
Воистину и на свободе люди-те в нынешнее время равны с погребенными. Во всех концех земли: ох, и рыдание, и плач, и жалость, наипаче же любящим Бога туга и навет сугубой, душевне и телесне. (…) Се ныне прибегаем в Твое, Владычице, теплое заступление, предстани нам в помощь (…), небесная Царице, Госпоже Дево, Богомати! (…)
Братия, светы мои, простите мя грешнаго и помолитеся о мне, и вас Бог простит и благословит, и наше грешное благословение да есть с вами неразлучно; вас, и жен ваших, и деток, и домашних всех целую целованием духовным о Христе и, пад, поклоняюся на плесны ног ваших, слезами поливаю. Спаситеся, светы мои, от рода строптиваго сего[1728]. (…)
Детей своих учите, Бога для, неослабно страху Божию, играть не велите. Ох, светы мои, вся мимо идет, токмо душа вещь непременна. (…)
Паки мир вам всем и благословение, благодать Господа нашего, Исуса Христа, Сына Божия, с вами, аминь»[1729].
Глава XV В земляной тюрьме. Последние годы (1675–1682)
I Патриаршество Иоакима; смерть воровских узниц, взятие Соловков, смерть Алексея Михайловича
Поколения на Руси быстро сменялись: в середине последней четверти XVII века оставалось уже мало людей, живших при старой вере. После патриарха Питирима, в апреле, умер Иларион, митрополит Рязанский. Это случилось 6 июня 1673 года, в тот самый момент, когда он собирался удалиться в любимый им Макарьевский монастырь[1730]. 21 июня за ними в возрасте лишь 47 лет последовал добрый Федор Ртищев[1731]. 8 января 1674 года внезапно бросил свою кафедру епископ Александр. Он перешел на монашеское житие в Николо-Коряжемский монастырь и сообщил об этом царю лишь после того, как принял схиму: не соглашаясь на полное подчинение двору и не идя вместе с тем на открытый разрыв, он предпочел найти покой в иноческом уединении. В этом затерянном северном монастыре он и умер 17 декабря 1678 года[1732]. Митрополит Крутицкий Павел скончался 9 сентября 1675 года[1733]. Через шесть месяцев должна была наступить очередь и самого царя.
Героями дня были новые люди, частично уже более или менее известные, как например Артамон Матвеев и Симеон Полоцкий, частично совершенно дотоле никому неведомые, как Сильвестр Медведев или Димитрий Туптало, будущий Димитрий Ростовский. Будущий Петр Великий уже родился на свет: это произошло 30 мая 1672 года. Увлечение Западом все меньше и меньше уравновешивалось воспоминаниями о прошлом. В большом свете уже было принято носить чужеземный костюм, стричь бороду, и бояре уже начали придавать такой облик и своим людям. Таким образом, новая мода мало-помалу прививалась и широким народным массам. Недаром в августе 1675 года в Москве уже насчитывалось восемь представителей иностранных держав[1734]. В Немецкой слободе было три лютеранские и одна реформатская церковь, каждая имела своего пастора и определенный приход[1735]. Кроме того, и в провинции тоже были протестантские церкви: в Туле для иностранных рабочих Петра Марселиса при металлургическом заводе и другая, в Архангельске, для голландских купцов[1736]. Через эти каналы легко проникали западноевропейские идеи. В Архангельске еще жил один иноземный проповедник, фанатично придерживавшийся взглядов Якова Беме: после своей смерти он завещал все свои книги своему ученику Конраду Нордерману. Последний скоро переехал в Москву, где он не замедлил начать распространение идей не только Беме, но и двух еретиков, казненных в Пресбурге 16 июля 1671 г. – Коттера и Драбика[1737]. Уже в эту эпоху в Москве была известна секта квакеров[1738].
Волнения 1652 года были прочно позабыты: лютеране и реформаты столь же свободно отправляли свое богослужение, как и в любой другой стране мира, но католикам всякое отправление богослужения было воспрещено, как замечает Кильбургер в 1674 году[1739].
И вместе с тем даже в отношении к католикам чувствовались новые веяния. После Андрусовского мира (13 января 1667 года) Польша уже перестала быть вражеской страной: отношения между католиками и православными становились все более частыми[1740]. Имело место не только то, что царь через посредство Менезия официально обратился к папе, но, более того, в августе 1674 года в Москве появились два доминиканца, а в ноябре и декабре того же года через Русь пропутешествовали два католических священника, направлявшихся в Персию[1741]. В 1675 году Императорское посольство, возглавляемое А.-Ф. Боттони, включало иезуита доктора богословских наук Фр. Шлегеля. Это посольство оставалось в Москве с 25 августа по 28 октября[1742]. По-видимому, теперь уже меньше боялись страшных латинских ересей.
Тем более пользовались исключительно большим успехом малороссы: Лазарь Баранович, Иоанникий Голятовский и другие. Они не довольствовались тем, что посылали в Москву и продавали там свои произведения; они приезжали сюда и для проповеди[1743]. Появилась совершенно новая книга «Синопсис» Иннокентия Гизеля, напечатанная в Киеве в 1674 году и затем перепечатанная в 1676 и 1680 годах. Почти сразу же после своего выхода в свет она была доставлена в Москву. Это было первым руководством по истории, которое видели в Московии[1744]; надо сказать, что оно было весьма обстоятельным и хорошо составленным. Но дух этой книги был чисто малороссийским и не имел ничего общего со строго ортодоксальным московским направлением[1745].
Православная церковь после отставки Никона не имела главы; соборы 1666–1667 годов были проведены царем и чужеземными патриархами; затем появились два патриарха, слабых и не имевших влияния: Иоасаф и Питирим, которые целиком и полностью подчинялись государственной власти. По смерти последнего патриарший престол оставался год и три месяца вдовствующим. Наконец, 26 июля 1674 года на патриарший престол был возведен Иоаким[1746], бывший келарь и архимандрит Чудова монастыря, сделавшийся 22 декабря 1672 г. новгородским митрополитом. Этот епископ, далекий от учености, лишенный какого бы то ни было религиозного рвения, был, однако, большим приверженцем церковного благочиния и сумел своим рациональным управлением поднять на большую высоту церковное устройство, в частности, в отношении церковных сборов.
Будучи новгородским митрополитом[1747], Иоаким снял со светских должностных лиц обязанность взимать эти сборы и поручил это дело благочинным и выборным из духовенства. Он наказывал запрещением пьянство, превышение власти, а также всякую небрежность или преступную снисходительность[1748]. Во избежание ссор и столкновений он установил между духовными лицами определенный порядок старшинства: сначала шли архимандриты, потом определенные игумены, затем некоторые протопопы, наконец, другие игумены и ключари[1749]. Он активно продолжал военные действия против Соловков[1750].
6 сентября 1673 года полковник Иевлев, который в предшествующем году сменил Волохова и не добился никаких значительных успехов, был, в свою очередь, заменен воеводой Мещериновым. Весной 1674 года началась правильная осада монастыря; его стали безжалостно обстреливать из пушек. Но отчаянная попытка наступления лишь подняла дух оборонявшихся. 28 декабря 1673 года они решили прекратить молитвы за царя. Архимандрит Никанор ходил по оборонительным валам, кадил пушки и окроплял их святой водой, поощрял пушкарей к тому, чтобы они не жалели пороха и не промахнулись по воеводе, если только он покажется. Среди защитников были и боязливые: некоторые иеромонахи не решались пропускать имя царя в свих молитвах, некоторые хотели бежать; иным это и удавалось. Несколько подозрительных лиц, как например известный поп Геронтий, были изгнаны. Наступил день, когда в Соловках оставалось только два иерея; но и они отказывались служить. Никанор сказал: «Обойдемся без них; служить будем сами». В октябре Мещеринов, невзирая на инструкции из Москвы, снял осаду. Никакие оправдания, вроде ссылок на отсутствие пороха и продовольствия, не помогли. Он получил строгую отповедь Москвы. От него требовали возобновления военных действий непосредственно после распутицы и никоим образом, под страхом смертной казни, не прекращать их даже зимой. После нескольких лет проволочек Москва твердо решила «покончить с бунтом расколь ников». Есть все основания думать, что Иоаким играл определенную роль в этом решении.
Не успел новый патриарх прийти к власти, как сразу же почувствовали его настроения и, более того, его твердый кулак. На протяжении сентября и октября он заставил собор принять целый ряд мер, направленных на упорядочение церковных дел. Для начала он издал распоряжение, согласно которому сбор денежных средств для церкви был полностью, уже во всех епархиях, изъят из рук светских лиц[1751]. Затем были изменены границы некоторых епархий с тем, чтобы все города одного воеводства подчинялись одному и тому же епископу, без чересполосицы[1752]. Отчисления, делаемые причтом епископу, непрерывно дотоле увеличивавшиеся, были строго регламентированы; сперва это было сделано в отношении Патриаршей области[1753]. В то время еще не было печатного Чиновника; вследствие этого в различных епархиях наблюдался значительный разнобой. Была образована особая комиссия, чтобы составить русский Чиновник на основе греческого, некогда переведенного в Москве Афанасием Пателаром[1754] и одобренного Макарием и Паисием. Тем временем определили в точности облачения для различных церковных сановников: патриарху присваивалась митра «блаженнейших патриархов греческих», а также титул «великого господина» (а не «государя» – титул, который имели Филарет и Никон), митрополитам разрешалось носить саккос с колокольцами и рясу по-гречески с длинными рукавами только в пределах их епархий; архиепископам и епископам дозволялось носить только снова по-гречески черные клобуки[1755], но никоим образом не саккос.
Еще не истек год, как Иоаким положил конец тому, что казалось ему возмутительным нарушением правил. 9 ноября 1674 года царский духовник протопоп Благовещенского собора Андрей Постников был арестован и закован в кандалы. На следующий же день царь заступился за него. Однако патриарх обвинил его в сожительстве с женщиной, а также и в том, что он, Постников, произносил против патриарха угрозы, и остался непоколебимым. Царь смог только предоставить своему исповеднику охрану из двадцати стрельцов, чтобы охранить его от новых актов насилия. Наконец, 30 декабря он добился его помилования. Впоследствии, невзирая на патриарха, Постников оставался у него в полной чести[1756].
После устройства этих дел Иоаким заинтересовался вопросами об иконах и о книгах. Он предписал осуществлять строгое наблюдение над иконописцами, чем, впрочем, он только претворил в жизнь решения собора 1667 года[1757]. Он воспретил помещать в книги картинки, обычно заимствовавшиеся из-за границы[1758]. 23 июля 1675 года он предписал, чтобы все новые издания «читались бы в его присутствии и, прежде представления царю, получали бы его одобрение»[1759]. От этого общего решения он перешел к более частным. 12 августа он запретил составлять какие бы то ни было службы святым без особого патриаршего разрешения. 22 августа он открыл кампанию против новых – русских – святых, начав с того, что вычеркнул в Прологе житие Дионисия, архимандрита Троицкого монастыря[1760].
В августе 1675 года появился, по просьбе Иоакима, особый указ, который, идя уже прямо наперекор веяниям времени, воспретил иноземные прически, немецкие кафтаны, короткую стрижку волос. За нарушение полагалась опала, виновные были сразу же найдены и подвергнуты наказанию[1761].
Красной нитью через всю деятельность Иоакима проходит идея хорошо администрированной, послушной церкви, в которой отсутствует мистический момент, церкви, которая верна греческим образцам, но отталкивается от западных влияний, будь то протестантских или латинских, и является, вместе с тем, национальной. Иоаким снова пытается проводить, хотя и в более скромном масштабе, но с той же последовательностью и энергией, план Филарета. У него нет теократических замыслов Никона и не больше чисто религиозных устремлений, чем у его менее замечательных предшественников Иосифа и Иоасафа. Он уже принадлежит государственной церкви, той своеобразной церкви, которую Петр в дальнейшем приспособит к своим нуждам, но фундамент которой он уже обрел заранее приготовленным.
Естественно, на патриаршем престоле Иоаким продолжал ту борьбу со старообрядцами, которую он начал архимандритом и продолжал митрополитом. Он недостаточно глубоко жил верой, чтобы понять их сомнения, их привязанность к старине, их идеал высокохристианской жизни – понять то, что даже бессознательно чувствовал тот же Никон. Он мог видеть в них только врагов, врагов вдвойне, ибо они восставали и против церкви, и против государства. Он рассматривал их как своего рода опасных сумасшедших, которых надлежало без всякого милосердия преследовать, а в случае нужды и истреблять.
Боровские узницы стали первыми жертвами подобных представлений этого прапорщика в рясе. По его мнению, они еще обладали чрезмерной свободой. Было решено расследовать их положение; вслед за чем мучения их возобновились с новой силой. Родион Греков прятался от преследований в подвале мещанина Памфила. Пришли делать обыск. Подвергнутый пытке Памфил никого не выдал. Обливаясь кровью, он не забыл напомнить своей жене, чтобы она отнесла «светом тем» (Морозовой и ее соузницам) «луку печенова решето». Несмотря на эти гонения, Морозова смогла еще 10 и 11 января 1675 года иметь с Меланией и своим старшим братом[1762] трогательное и памятное свидание[1763].
Затем последовал последний удар. На Фоминой неделе 11–18 апреля в тюрьму ворвался подьячий и захватил все, что было у узниц: пищу, одежду, книги, иконы, лестовки, оставив каждой лишь по одному платью. Стражу стали строго допрашивать о посетителях узниц. Через два месяца, в день свв. Петра и Павла дело повел уже известный дьяк Кузмищев: он отдал на сожжение Иустинию; Марию он посадил с уголовниками. Феодору и Евдокию он перевел в подземный каземат, где не было ни света, ни воздуха. Он воспретил страже под страхом смерти давать им пить или есть. Тут началось их истинное мученичество. У каждой было лишь по одной одежде: они не могли ни сменить ее, ни вымыться. Вши и черви не давали им спать. Милосердные воины, рискуя собственной жизнью и прячась друг от друга, спускали им на веревке то пять-шесть сухарей, то одно-два яблока или несколько огурчиков. То они имели питье без еды; то, наоборот, еду без питья.
Евдокия после двух с половиной месяцев страданий не вытерпела и слегла. То был конец. Вместе с сестрой они прочли отходную, 11 сентября она умерла. Феодора обвязала ее тело тремя бечевками во имя Пресвятой Троицы и сообщила страже. Тело извлекли. Вместо того, чтобы почернеть, оно становилось изо дня в день все светлее и светлее, так что стража удивлялась этому чуду. Через пять дней с разрешения царя ее, завернув в одну мешковину, похоронили тут же в тюремной ограде.
После ее смерти в Москве решили, что Морозову можно будет уговорить, и с этой целью послали к ней монаха. Она отказалась отвечать ему, пока он правильно не произнесет молитву Исусову. После этого она сказала ему, что желает только смерти. Тронутый до глубины души, монах воскликнул: «Воистину блаженно ваше дело. И аще совершите доблественне до конца, кто может исповедати похвалы вашея!» После этого снова соединили Марию с Феодорой. Вскоре изнемогла и Феодора. Она позвала стражника и стала умолять его во имя его родителей: «Дай ми колачика». – «Ни, госпоже, боюся». – «И ты поне хлебца». – «Не имею». – «Поне мало сухариков». – «Не имею». – «Не смееши ли, ино принеси поне яблочко или огурчик». – «Не смею». – «Добро, чадо; благословен Бог наш, изволивый тако». Когда она уже окончательно изнемогла, она позвала его еще раз: «Имел еси матерь? и вемь яко от жены рожден еси; сего ради молю тя, страхом Божиим ограждься: се бо аз жена есмь, и, от великия нужды стесняема, имам потребу, еже срачицу измыти. И якоже сам зриши, самой ми итти и послужити себе невозможно есть, окована бо есмь, а служащих ми рабынь не имам. Тем же ты иди на реку, и измый ми срачицу сию. Се бо хощет мя Господь пояти от жизни сея, и не подобно ми есть, еже телу сему в нечисте одежд и возлещи в недрех матере своея земли»[1764]. Страж смягчился и уступил просьбе. Пока он мыл полотно водой, лицо его омывалось слезами: он думал о прежнем величии боярыни и о теперешней нищете ее.
Феодора скончалась «с миром» в первом часу ночи первого ноября 1675 года. В ту же ночь инокине Мелании, находившейся «в пустыни», было видение: она увидела усопшую с радостным лицом, в полном одеянии монахини, водившей руками по одеждам, словно она была изумлена этой новой для нее славой. Она непрестанно лобызала икону Спасителя. Ее похоронили рядом с ее возлюбленной сестрой.
Первого декабря упокоилась и Мария Данилова[1765].
31 мая Мещеринов снова привел на Соловки своих сто восемьдесят пять стрельцов, несколько опередив приказ, который снова угрожал ему смертью. В августе он получил из Москвы и Холмогор подкрепление приблизительно в девятьсот человек с пушками, сто пудов пороха и ядер, а также и продовольствие из расчета приблизительно на год. Он окружил монастырь валами с пушками и пушкарями. Валы возвышались над стенами монастыря. На этот раз зима не остановила военных операций. 23 декабря приставили лестницы к стенам, и начался штурм. Но все было бесполезно. Защитники, невзирая на усталость и цингу, оставались непреклонными. Одни молились в соборе, другие непоколебимо стояли на стенах, третьи предпринимали вылазки против врага. Однажды ночью монах-перебежчик Феоктист пришел к Мещеринову и сказал ему, что в стене имеется одна плохо заложенная дверь, через которую можно проникнуть в монастырь. Мещеринов испугался смелого предприятия, однако темной ночью, во время бурана, он отдал приказ взломать дверь, в которую и ворвались воины; на заре в одно мгновение стены и башни были заняты осаждавшими, и весь монастырь оказался в их власти.
Много монахов было тут же убито; другие были закованы в цепи и подвергнуты допросу. Сперва, на страх другим, были усечены мечом или повешены Никанор и двадцать семь других монахов. Иных поволокли на берег, чтобы они там замерзли насмерть. Западное побережье острова было завалено телами, всю зиму стояли виселицы. Коротко сказать, из пятисот защитников, насчитывавшихся в 1674 году, к моменту состоявшегося летом приезда нового архимандрита Макария и монахов никонианской церкви оставалось в живых лишь четырнадцать монахов, содержавшихся в тюрьме[1766].
Соловки были взяты в субботу 22 января 1676 года. Царь, который на водоосвящении 6 января чувствовал себя «здоровым и свежим» и который еще 20-го числа во дворце смотрел «комедийное действо», в субботу 22 января серьезно заболел. 28 января он продиктовал свое завещание, в котором, между прочим, даровалось прощение многим из заключенных. Наконец, в субботу 29-го, около 7 часов вечера, он скончался[1767].
II Аввакум – церковный учитель старой веры: проповеди, послания, толкования
Усиление гонений, которого добился Иоаким, не могло не отозваться также и на Пустозерске. Скоро в темнице оказалось уже не четверо, а пятеро заключенных[1768]. Юродивый Киприан, который уже давно находился в Пустозерске на правах вольного поселенца, в 1675 году был заключен в тюрьму «за безумные словеса». Он под пыткой исповедал свою приверженность древнему благочестию, вслед за чем был послан запрос в Москву о том, что с ним делать. Ответ гласил: публично объявить ему его вину, соответственно докладу воеводы Леонтия Неплюева, и за безумные слова его наказать его смертью, отрубив ему голову, дабы другим не было повадно так поступать, а отчет дати о сем Новгородскому воеводе, боярину Артамону Матвееву. Казнь состоялась 7 июля 1675 года[1769].
В это время Аввакум писал продолжение своих Бесед.
Первая беседа, написанная после письма Морозовой, представляла собой полемическое сочинение, направленное против новых монахов, «исшедших из бездны», имеющих «подклейки женския и клобуки рогатыя». Аввакум дает историю этих «клобуков рогатых». Они происходят от «бабы-еретицы», которая некогда занимала папский престол. Затем состоялся Флорентийский собор. «Патриарси гречестии и весь Восток и Запад» собирались на этот собор, «яко и у нас бысть ныне при вселенских в Москве такая же лукавая сонмища». Марк Ефесский был подвергнут заточению, «якоже и нас, бедных, здесь». Тогда папа Евгений «прииде на собор в преждереченнем рогатом клобуце, управляяй правило уставляяй законы и предания новая, а старая вся, отеческая, отмещуще. И приписаша царь и власти греческия к нему, лукавому собору, руки своя». В этом было лжемудрие греков: они надели рогатые клобуки и приняли новые догматы. Отсюда и все их горести. Константина-царя «предал Бог за отступление-то сие Магнету, турскому царю, и все царство греческое с ним. А на Русь было напряг в мимошедшем году. Да еще удержа молитвы сидящих по темницам и тюрьмам, вопиющих к Богу день и нощь»[1770]. Бог же ожидает обращения никониан. «Токмо жги да пали, секи да руби единородных своих!» Другого они ничего не знают!
«Богом преданное скидали з голов, и волосы расчесали, чтобы бабы блудницы любили их; выставя рожу свою да подпояшется по титкам, вздевши на себя широкий жюпан! (…) Помнишь ли? Иван Предтеча подпоясывался по чреслам, а не по титкам, поясом усменным, (…) да же брюхо-то не толстеет. А ты, что чреватая жонка, не извредит бы в брюхе робенка, подпоясываесе по титкам! Чему быть! И в твоем брюхе том не менше робенка бабья накладено беды-тоя, – ягод миндалных и ренсково, и раманеи, и водок различных (…). Бедные, бедные! Так-то Христос приказал жить и святии научиша? (…) Ну-су полно бранится – тово нам. Приимите вы первыя наши святыя и непорочныя книги, ихже святии предаша, и обычая свои дурныя отложите: мы станем пред вами прощатися о Христе Исусе, Господе нашем»[1771].
К тому же времени относится и беседа «Об иконном писании». «Пишут от чина меньшего, а велиции власти соблаговляют им, и вси грядут в пропасть погибели, друг за друга уцепившеся», ибо «все писано по плотскому умыслу»: здесь царствует та же чувственность, что и в простом человеке; все это делается по фряжскому образцу: Богородицу пишут «чревату» в Благовещение, словно Она уже зачала во грехе Христа. А «в Жезле книге написано слово в слово против сего; в зачатии-де Христос обретеся совершен человек!»
«Вот смотрите-су, добрыя люди: коли з зубами и з бородою человек родится! На всех на вас шлюся от мала и до велика: бывало ли то от века? (…) Мы же правовернии, тако исповедуем, яко (…) Христос, Бог наш, в зачатии совершен обретеся, а плоть его пресвятая по обычаю девятимесячно исполняшеся; и родися младенец, а не совершен муж, яко 30 лет. Вот иконники учнут Христа в рожестве з бородою писать, да и ссылаются на книгу-ту: так у них и ладно стало. (…) Ох, ох, бедныя! Русь, чего-то тебе захотелося немецких поступок и обычаев! А Николе Чюдотворцу имя немецкое: Николай[1772]. (…) терпит им Бог (…) до суднаго дни. (…) Не токмо за имение святых книг, но и за мирскую правду подобает ему душа своя положить, якоже Златоуст за вдову и за Феогностов сад, а на Москве за опришлину Филипп. Колми же за церковной изврат, не рассуждай, поиди в огонь…»
Но что делать, если нет надлежащей иконы? Никоим образом не поклоняться неподобающим образам, но молиться на небо и на восток[1773].
Затем, по-видимому, идут беседы, которые в окончательно подготовленном сборнике занимают два первых листа и которые в некоторых рукописях объединены в «Книгу на крестоборную ересь».
В первой Аввакум в форме воспоминаний коротко говорит об обманных действиях Никона, о наивности своей и Стефана и рассказывает дивную повесть о мучениках, начиная с Павла Коломенского, продолжая Даниилом Костромским, Логгином, Гавриилом и кончая Авраамием, волжскими самосожжениями и пятью «нагими» пустозерскими узниками. Здесь звучит все тот же мотив, все так же уместное увещание умереть за веру.
«Господь избиенных утешает ризами белыми, а нам дает время ко исправлению. Пощимся Господа ради (…). Душе моя, душе моя, востани, что спиши! (…) Виждь, мотылолюбная, и то при тебе: бояроня Феодосья Прокопьевна Морозова и сестра ея (…) и (…) Марья Герасимовна с прочими! Мучатся в Боровске, (…) алчут и гладуют. (…) Жены суть, немощнейшая чад (…) А ты, душе, много ли имеешь при них? Разве мешок, до горшок, а третье лапти на ногах. Безумная, нут-ко опрянися, исповеждь Христа, Сына Божия, явственне, полно укрыватися того. (…) само царство небесное валится в рот. А ты откладываешь, говоря: дети малы, жена молода, разориться не хощется. (…) А ты (…) не имеешь цела ума: ну, дети переженишь, и жену-ту утешишь. А за тем что? не гроб ли? Та же смерть, да не такова, понеже не Христа ради, но общей всемирной конец»[1774].
Вторая беседа, внутренне связанная с первой, говорит о восьмиконечном кресте, трисоставном, по речению пророка Исаии, из кипариса, певга и кедра и трехчастном, к которому Пилат добавил сверху дощечку с надписью. Именно его имеет в виду св. апостол Павел, когда он говорит о долготе, широте, высоте и глубине, которые равны небесам. Только этот крест должен быть в алтаре и жертвеннике, на куполах церквей и на иконах, вообще во всех тех местах, где совершается поклонение святыне. Один этот крест повергает дьявола в бегство. Семиконечный крест уже не есть крест Христов, а Петров. Этот крест имеет свое место в алтарях, за престолом на стене; «стой тут неподвижно, гляди на престол и на церковь и люди Христовы паси, по заповеди Его, якоже приказано тебе стадо сие». Что касается четвероконечного креста, это лишь образ креста Христова. Этот крест появляется в Ветхом Завете у Моисея; Иисус Навин также складывал руки крестообразно, останавливая солнце и тем способствуя поражению врагов; им же пользовался во рве львином Даниил, а также Иона. Но все это содействовало лишь телесному спасению. Крест этот не проклят; он тоже имеет свое место в церкви, но только на ризах, стихарях, епитрахилях и пеленах. Ошибкой латинской ереси было поставить эту «тень» на место истинного креста Христова, изображать на этом кресте Христа Распятого.
Таково было весьма находчивое объяснение, которое Аввакум приводил[1775] для того, чтобы оправдать сосуществование в церковной традиции нескольких форм креста[1776]; таковы были те ответы, которые он предлагал на недоуменные вопросы верующих. Попутно он рассказывает своеобразную апокрифическую легенду о Кресте Господнем. После чего он добросовестно написал:
«Я, грешный, сице читал, а не в церковных же книгах, кои обносятся во церкви (…), но в лежащих и не свидетельствованных. Аще сие правда, или ни, Бог весть. Аз верую крепко пророкам, апостолом, богословцем всем»[1777].
Перед тем, чтобы закончить свою книгу, он написал еще две беседы, несколько иного характера. Одну на определенное трудное место послания к Римлянам (Рим. 4: 13 – 5: 4) об оправдании верой, другую – на притчу о работниках, пришедших с первого по одиннадцатый час (Мф. 20: 1–16). Но сознательно обходя богословские вопросы, Аввакум очень быстро обращался к волнующим его вопросам современности.
В первой беседе мы видим удивительно хорошую разработку – правда, смелую, широкую и непосредственную – следующей темы об ограблении церкви: «Мать нашу ограбили святую церковь, да еще бы мы ж молчали!» Один «за сердце ухватил, еже есть престол святый», другой принялся за голову, изменив крест; третий, «кобель борзой», украл антиминс, четвертый – с просфор крест Христов. Далее идет рассуждение о назначении семи просфор, о латинском происхождении уменьшения их числа и употреблении опресноков. Тут же по личным воспоминаниям воспроизводится спор между Спиридоном Потемкиным и Анной Ртищевой. Кончает он тем, что патетически возвращается к основной теме. Вот как они терзают церковь, «рвут, что волки овец-тех миленьких, живых в ад хотят свести людей-тех»[1778].
В другой беседе на тему притчи, напротив, возникает ободрение. Надейтесь, несмотря ни на что, вы, которые ничего не сделали для веры, делатели одиннадцатого часа, ибо «может человек и малым временем велик быти, аще постражет во огни и в муках Христа ради». Тем временем «попекитеся о душах своих», принося Господу «ов убо пост и молитву», «ов же милостиню с любовью», «ин воздыхание и слезы, ов же труды и рукоделие и поклонцы по силе, на колену, триста на день или шестьсот или яко же может и хощет. Вся же с любовию да бывают Бога ради, а не человекоугодия ради»[1779].
Часто приходилось оставлять эти обобщенные советы, чтобы отвечать на конкретные вопросы верных. Прежде всего перед общинами вставала большая проблема отношений с более многочисленным и более сильным никонианским окружением. Острее всего этот вопрос стоял у московской общины старообрядцев. Вскоре после смерти Киприана Аввакум написал ей длинное письмо.
После обычных увещаний – сегодня или завтра все равно умрем – Аввакум конкретно разрешает те вопросы, по которым к нему обратились.
Как почитать сожженных братьев? Если Бог не прославил их чудесами, не писать им икон, но бережно хранить их останки, приносить им каждение и целование, призывая их следующим образом: «Отче мой или брат, елико имати дерзновение к Богу, молися о мне, грешнем».
Можно ли исповедоваться и причащаться без священника? – Лучше, говорят правила, исповедоваться «искусному простолюдину, нежели невеже попу, паче же еретику». В нынешнее время гонений по необходимости – исповедуйте друг другу согрешения и молитеся друг за друга, «яко да исцелеете». И пусть каждый сам причащается. Для этого Аввакум рекомендует последование, указанное им ранее в Житии. Детей может причащать взрослый.
Крещение, совершенное священником никонианского поставления, действительно ли оно? Да, если оно совершено по старому Служебнику. Куда же деться? «Нужда стала». «Иной станет в попы-те, а душею о старине-той горит». Но нельзя позволять крестить священнику (даже старого поставления), если он служит по новому Служебнику[1780].
Какое значение имеет никонианское благословение? Крест может быть и истинным, а молитва дьявольская.
Если кто-либо умер, приняв никонианские таинства, что думать о нем? – «Поминайте покойников-тех, кои по новому причащены: разберет Христос, какова в ком совесть была».
Как смотреть на монаха, поставленного никонианами, но по старым книгам? – Он монах – «Господь видит нужду человеческую».
Бывают случаи, когда официальное духовенство насилует совесть – как соблюдать чистоту? Если силой затащат в церковь, твори молитву Исусову и не слушай их пения. Если силой заставят исповедаться? «Аще нужда и привлечет тя, и ты с ним в церкви-той сказки сказывай: как лисица у крестьянина куры крала, прости-де, батюшко, ея-де не отогнал; и как собаки на волков лают: прости-де, батюшко, я-де в конуру собаки-той не запер». Или же «ты ляг перед ним, да и ноги вверх подыми, да слюны попусти, так он и сам от тебя побежит: черная-де немочь ударила».
Но нет, это не настоящий совет Аввакума! Он тут же поправляется: «Простите-су, Бога ради, согрешил я пред вами. (…) Уж горе меня взяло от них. (…) Плюйте на них, на собак! Ведь оне воры: и дочерей духовных воруют. Право, не лгу. Исповедайте друг другу согрешения» (как советует св. апостол Иаков).
«А на молебны-те хотя и давайте им, а молебны-те в Москву-реку сажайте». «А с водою-тою, как он приидет в дом твой и в дому быв, водою и намочит: и ты после ево вымети метлою, а робятам вели по-за печью от него спрятатися, а сам с женой ходи тут и вином ево пой, а сам говори: прости, бачко, нечист, – с женой спал и не окачивались, – недостойны ко кресту; он кропит, а ты рожу-ту в угол вороти, или в мошну в те поры полезь, да денги ему добывай (…) А хотя и омочит водою-тою: душа бы твоя не хотела!»
Официальная церковь не считала кощунством силой навязывать свои таинства старообрядцам; почему бы им и не прибегать ко всевозможным ухищрениям, чтобы избегать того, что с их точки зрения было не таинством, а осквернением? С этого момента оказалось найденным то оружие, которым они пользовались на протяжении двух веков: откуп – освобождение от насильственного обращения с помощью денег. То, что Аввакум выражал здесь без точных формулировок, без четких разграничений, но не без крепких словечек, в которых он сам потом раскаивался, но, в сущности, высказываясь очень умеренно и глубоко мудро, – это было не что иное, как весьма нужная наука: казуистика старообрядчества.
В конце Аввакум, подтверждая получение предсмертного послания Авраамия, добавляет: «Пускай згорел за Христа! Любо мне гораздо! А здесь Киприяну голову отсекли». Затем он обращается, в частности, к некоему Борису, возможно, Борису Афанасиевичу, боярскому сыну, которого он некогда порицал за робость и нерешительность. Он, видимо, хочет знать, играет ли он теперь какую-нибудь роль среди московских христиан, и говорит ему: «На всяк день по дважды в день кажу вас кадилом и домы ваша, верных рабов Христовых, и понахиды пою, и мертвых кажю, и благословляю вас крестом Христовым (…) пятью днем, по всяком правиле. А ты за меня кланяешься ли Богу-свету?» Далее оба узника, Епифаний и он, просят благословения Досифея: «Отец святый, моли Бога о нас!» Наконец, Епифаний, чтобы подтвердить свое согласие с посланием, прилагает и свое собственное благословение[1781].
Аввакум не ведал покоя, и когда к нему не поступало срочных запросов, он принимался за какое-либо исследование, требовавшее значительного времени. Легче всего ему было комментировать Священное Писание; этим он занимался и ранее, и эта форма богословского творчества позволяла ему делать экскурсы в более близкое прошлое, а также и в настоящее. Беседа «О Божестве и о твари» была лишь комментарием к книге Бытия, две последние беседы разбирают стих за стихом Послание к Римлянам и Евангелие от Матфея. Тем же путем он идет и сейчас, выбирая на сей раз несколько псалмов.
Каждый раз, когда Аввакум принимается за текст, он как будто сперва хочет добросовестно выполнить свою задачу. Он объясняет псалом 102 и делает ряд совершенно правильных нравственных выводов. И вдруг у него вырывается как бы восклицанием: «Ныне-же равны вси здесь на земли; нечестивии ж и паче наслаждаются». При первом же удобном случае чувство его прорывается. В связи со словами псалма «И царство Его всеми обладает», он разражается грозной филиппикой против никониан. В псалме 83 он отправляется от слов: «Ибо птица обрете себе храмину и горлица гнездо себе, идежи положи птенца своя» и толкует:
«На птицы указует пророк, изряднее же на горлицу: ибо та птица печалная, егда осиротеет после мужа своего – горличища, потом за инаго посягает и на сыром древе не обитает, но на сухом садится, а и та-де гнездо имеет к воспитанию птенцов. Сия птица образ носит хотящих наследовати спасение. Всякому правоверному печаловатися паче всего подобает о умершей грехми души своей и сырости ошаятися, еже есть толстых пищ и пития, и ясти и пити толико, еле живу быти токмо, птенцы свои полагати всегда во гнезде, еже есть во церкви Божии, ум, и смысл, и желание неотложно имети, и расти, и питатися словом Божиим (…) О горлице в Лексиконе писано».
Аввакум, очевидно, имел в своем заточении одну из тогдашних энциклопедий, называвшихся Алфавитами и Лексиконами, так как он часто ссылается на них именно под этими названиями[1782]; впрочем пользуется он ими свободно, исправляя где нужно текст книги своими воспоминаниями детства, когда он гонял голубей. Очевидно, под руками у него был и Маргарит, ибо в своих трудах он часто и притом довольно точно цитирует этот ценный сборник[1783]. Но в основном он пользовался Священным Писанием, богослужебными гимнами св. Иоанна Дамаскина[1784], творениями Андрея Критского[1785], Иосифа Сладкопевца[1786], из которых он знал наизусть целые отрывки; творениями святых отцов, житиями святых, Толковой Псалтырью, книгами Иосифа Евреина[1787]. Он много читал; во всех возможных случаях он стремился расширить свой литературный кругозор. Но все эти материалы переплавлялись, оживлялись, осовременивались в вечно кипящем котле его творческой мысли и чувства. Речь для него шла не столько об экзегетике, столько об апостольстве.
Псалом 40 позволяет сделать еще гораздо больше сближений с современностью. Сперва идет страшное предупреждение для тех, кто позволяет себе соблазниться никонианством. «Будет ти и самому жарко в день лют от Господа, а печеныя-те от веры живы будут там». Враги Давыда желали его смерти, а «Анна Ртищева мне говорила: а и Аввакум протопоп! коли тебя извод возмет!» Псалмопевец предсказывает обстоятельства Страстей Господних:
«А нынешние жиды, в огонь сажая правоверных християн, тоже ругаяся, говорят: аще-де он праведен и свят, и он-де не згорит! А кой не згорит, и оне иссекши бердышами, и паки дров насеченных накладут, да в пепел правоверных жгут, яко и там на кресте Христа мертва и ребра мужик стрелец рогатиною пырнул. Выслужился (…), пять рублев ему государева жалованья, да сукно, да погреб! Понеже радеет нам (…). Ох, ох, бедныя».
Псалом 41, как говорит Аввакум, учит тому, чтобы не отчаиваться во время преследований.
Псалом 44 объясняется в общем смысле до стиха 18. Затем, без видимой причины, Аввакум вспоминает героев, которые сами идут в огонь во славу Господа. Он, который обычно учит ненавидеть не людей, а дьявола, приходит в состояние крайнего гнева, называя никониан собаками, Никона – чародеем, который околдовал людей и паче всего царя! Он ему польстил, называя его в сочиненных им ектениях «благочестивейшим», а несчастный и право подумал, что нет такого святого, как он! Подобно Навуходоносору действует! И даст ли ему еще Бог покаяние после того, как он пролил столько крови!
«В коих правилах писано царю церковью владеть и догматы изменять (…)? Толко ему подобает смотрить и оберегать от волк, губящих ея, а не учить, как вера держать и как персты слагать. Се бо не царево дело, но православных архиереов и истинных пастырей (…), не тех (…) пастырей, иже и так и сяк готовы (…) перевернутца. (…) Хороши законоучителие! Да што на них дивить! Таковыя нароком наставлены, яко земския ярышки, – что им велят, то и творят!»
Далее он обращается к царю: «Кайся вправду Манасия (…) Виждь, начальних согрешения какову беду миру наносит (…) Престани-де, государь, проливати крови неповинных; пролей в то место слезы (…), расторгни узы седящих в темницах и изведи живых закопанных в землю; припади к коленом их с покаянием, да умолят о тебе Бога».
Вспоминая трех узниц, Аввакум не может удержаться от того, чтобы не воспеть им хвалу. Не бойтесь ничего, венцы небесные вас ожидают!
Но эти обращения к дорогому его сердцу царю Алексею не остаются отвлеченными мыслями; он облекает их в форму непосредственного призыва, в своего рода письма – правда, так и не отправленные. «Вот, царю! – такова основная мысль этого воззвания, – коли тебя притрапезники-те твои Давыдом зовут, сотвори и ты Давыдски к Богу покаяние о себе».
«Рцы по рускому языку: Господи помилуй мя грешнаго! А кирелеисонот отставь; так елленя говорят; плюнь на них! Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком; не уничижай ево и в церкви, и в дому, и в пословицах. (…) Любит нас Бог не меньше греков; предал нам и грамоту нашим языком Кирилом святым и братом его. Чево же нам еще хощется лутче тово? Разве языка ангельска? (…) Да аще бы и ангельски говорили – Павел рече, – любве же не имам, бых яко медь звенящи (…). А ты, миленькой, посмотри-тко (…). Всех ли християн-тех любишь? (…) Меня хотя и не замай в земле-той до смерти моей; иных-тех распусти (…). Сын твой после тебя распустит же о Христе всех страждущих и верных по старым книгам (…). Тако глаголет Дух Святый мною грешным, рабом своим: и здесь то же будет после тебя! И ты послушай меня, зделай доброе при себе, дондеже еси в животе»[1788].
Есть еще время для покаяния.
От псалмов Аввакум переходит к IX главе Книги Притчей, к главам IV и V Премудрости Соломоновой, к XII, XXXV и LV главам Книги пророка Исаии. И здесь снова он строго следует тексту, кое-где перефразируя его, извлекая из него поучение, цитируя по памяти ту или другую проповедь Иоанна Златоуста или отрывок из Лествицы или используя ту или другую подходящую притчу из Алфавита, но он лишь ждет удобного случая, чтобы подробно изложить старую веру, преподать полезные советы верным или высказать резкие угрозы по адресу еретиков. Вот в одном месте мы видим рассуждение о семи просфорах, прерываемое яркими и резкими обличениями никониан. Далее говорится о христианской любви: «своего врага люби, а не Божия; бранись с еретиком; не всякий мир добро. Далее идут поощрения и утешения: торжество неверных будет непродолжительным – смерть принесет нам покой и отдых. Слава Ти, Господи, вот и конец тебе подходит, старче! Умираешь-то ведь один раз. Далее идет параллель между христианской жизнью христиан и роскошествованием новолюбцев; вслед за этим чудотворным обретением мощей святого Иринарха он оправдывает закономерность защиты Соловков; наконец, он снова утверждает веру в Святую Троицу.
Оставляя пророка Исаию, Аввакум снова возвращается к вопросу о книгах: все книги, напечатанные при патриархах Филарете и Иоасафе и ранее, являются добрыми и непорочными; что касается книг, изданных при патриархе Иосифе, порицать их нельзя, но в них и хорошее, и плохое: «есть кое-чему перемена, не ересью кладено, но высокоумием»[1789]. Тем более киевские книги должны читаться критически: «с разумом сия подобает прочитати книги». Ранее он хвалил огулом все книги, изданные до Никона: очевидно, споры с Федором, тревожные вопросы, задаваемые верующими о тех или других расхождениях, позволили ему увидеть правду: что Наседка и его сподвижники совершили глубокую и смелую реформу.
Чтобы составить заключение сборнику, который он имел в виду, именно своей «Книге толкований», Аввакум составил более общее «Нравоучение, како житии в вере Христове»[1790]. Отчасти это было повторением старых нравственных указаний, рассыпанных по различным книгам вплоть до Алфавитов. Но даже и тут в языке, в характерных деталях касательно отношений между супругами и очищений, равно как и в некоторых воспоминаниях о сибирских подвигах или прежних спорах с никонианами чувствуется живая личность автора[1791].
III Узники при новом царствовании: челобитная Аввакума царю Федору; обманутые надежды и послание Симеону-Сергию
В то время, когда Аввакум писал эти строки, царю было уже поздно раскаиваться, а верующим извлечь надлежащий урок из защиты Соловков.
В конце июля 1675 года святые соловецкие чудотворцы явились дьякону Федору, и он решил три дня не спать, не есть, не пить, чтобы вымолить освобождение монастыря. Немного позже, смотря из своего оконца на запад, он трижды услышал, при полном отсутствии грозы или ветра, три громких залпа, как бы от трех больших пушек. 27 ноября ему явилась Морозова, прося его молиться за нее. Скоро эти два знамения оправдались. В тот день, когда он узнал о взятии Соловков, дьякон отложил совершение своего молитвенного правила, так он возроптал на Бога: «Не хощу уже впредь просити у Тебе ни о чем, ни псалмов пети, токмо едино: Создавый мя, помилуй мя, глаголати, да буди воля Твоя!» Когда он произносил эти слова, то услышал, что его ангел-хранитель плачет, и он раскаялся.
Осенью 1676 года в Пустозерск прибыли десять узников из Соловков, которые рассказали о предательстве Феоктиста и о расправе, учиненной Мещериновым[1792]. Казалось, все эти жертвы навлекли смерть и на царя. Но старая вера потеряла свою цитадель! Ересь снова торжествовала. Как надлежало расценивать это?
Сам протопоп Аввакум не пережил ни глубокого разочарования, ни, тем более, отчаяния дьякона Федора. Прошли те безумные годы, когда на Ангаре, под кнутом, он роптал на провидение. Напротив, он пытался убедить самого себя в том, что новый царь исправит ошибки своего отца. Он написал «треблаженному» «свету-свитилу рускому царю» послание, начинавшееся с очень покорных и очень ласковых выражений. В этом послании он умоляет выслушать его: «Аще не ты, по Господе Бозе, кто нам поможет?» Но затем, вспомнив опустошение церкви, он внезапно меняет тон:
«Святители падоша и все священство еле живо – Бог весть! – если не умроша. (…) Спаси, спаси их, Господи, имиж веси судьбами! (…) А что, государь-царь, как бы ты мне дал волю, я бы их, что Илия пророк, всех перепластал во един час. Не осквернил бы рук своих, но и освятил, чаю. Да воевода бы мне крепкой, умной – князь Юрий Алексеевич Долгорукой! Перво бы Никона-того собаку, разсекли бы начетверо, а потом бы никониян-тех (…) Бог судит между мною и царем Алексеем: в муках он сидит, слышал я от Спаса».
Теперь государственными делами управлял Долгорукий. Не без дипломатической ловкости он обращается и к нему: «Мои вы все князи и бояре; отступником до вас нет дела. Говорите Иоакиму-тому патриарху – престал бы от римских законов: дурно затеяли – право! Простой человек Яким-от тайные-те шиши, кои приехали из Рима, те его надувают аспидовым ядом. Прости, батюшка-Якимушка! Спаси Бог за квас, егда напоил мя жаждуща (…) с Павлом и Ларионом». После этого вольного отступления он напоминал, что чаша Божьего гнева уже полна до краев. В конце письма он просил у юного царя прощения и благословлял его[1793].
В самом деле, в Москве были перемены: Тайный приказ был ликвидрован[1794], Андрей Постников подвергнут суду и отправлен в Кожеозеро[1795], Матвеев удален[1796], Паисий Лигарид был грубо выслан в Палестину[1797], а все греки были изгнаны из Москвы[1798]. Партия прежних любимцев царя, Милославские и Долгорукие, избегали Нарышкиных и их близких; патриарх Иоаким всеми средствами стремился избавиться от тех, кого прежний царь защищал в ущерб ему. Патриарх не любил приехавших в Россию греков и предоставлял властям изгонять их без всякого сожаления; он ясно видел, какие были затруднения у живших в России протестантов[1799], не протестовал против них и предоставлял Симеону Полоцкому обрушиваться на них в своих полемических сочинениях[1800].
Обстоятельства этого времени позволяли сосланным до известной степени надеяться на более светлое будущее. И в самом деле, примерно через год после смерти царя, следовательно, в феврале 1677 г. в Пустозерск от юного царя пришло письмо с приказом перевести узников в какой-нибудь не столь удаленный монастырь. Можно легко себе представить, сколько волнений вызвало это решение. То было спасение, возобновление деятельного апостольского служения, торжество правды, снова жизнь! Дьякон Федор, которому, по всей вероятности, не было дано таких Божественных откровений о судьбе умершего царя, какие были у Аввакума, усилил свои молитвы, чтобы получить подобные откровения, имея в виду ответить на те вопросы, которыми, как он думал, его засыплют верующие после того, как он выйдет на свободу. Два с половиной месяца он тщетно молился об этом. Тем временем столь жадно ожидаемый отъезд не осуществлялся. Вскоре, может быть в мае, из Москвы прибыл сотник: увы, то был контр-приказ![1801]
Вслед за этим жизнь заключенных уже почти лишается внешних событий. 9 июня 1678 г.[1802] приезжает новый воевода, Гавриил Тухачевский. Вместе с ним прибывают сосланные уже при новом царе Артамон Матвеев и его десятилетний сын. Какой внезапный оборот! Но новые сосланные пользовались почти полной свободой. С ними были священник, польский наставник и слуги. Юный Андрей Артамонович изучал светские науки, латинский и польский языки. Его отец буквально заваливал царя и патриарха длинными челобитными, в которых заключались всевозможные оправдания и долгие жалобы на все трудности пустозерской жизни: голод, холод, дым, цингу, скученную жизнь в двух избах. А что могли бы сказать заживо погребенные? Мы не имеем никаких сведений о том, чтобы эти прежние противники, в какой-то мере делившие трудности этой водной и лесной пустыни, имели между собой какие бы то ни было отношения. Тухачевский был человеком разумным и добрым: надо думать, что он не пытался ухудшить ничьей участи[1803]. 30 июля 1680 г. все эти вновь прибывшие уплыли по Печоре на одиннадцати лодках в направлении Мезени, в этот же день вступил в права управления новый воевода, Хоненев[1804].
Конечно, двор ни разу даже не задумывался о том, чтобы восстановить старую веру, для этого он был слишком увлечен Симеоном Полоцким и его польскими друзьями. Царь, под влиянием советов Долгорукого или мучимый совестью, почувствовал и на мгновение желание облегчить участь людей, которых, несмотря ни на что, уважали. У Иоакима такой чувствительности не было. Политика его заключалась в том, чтобы уничтожить мятежников, и этой линии он держался твердо. Волевая установка патриарха восторжествовала над снисходительностью других. Как мог он допустить возвращение самых опасных раскольников, когда он вел с расколом борьбу не на живот, а на смерть?
Поскольку в церквах во многих случаях сохранились старые книги, патриарх разослал по своей патриаршей области строгий приказ, чтобы их изъяли и заменили новыми. Он принял меры, чтобы подобные же приказы были разосланы и по другим епархиям. Подобного рода меры, естественно, влекли за собой розыски и преследования. Чтобы основательнее порвать с прошлым, было издано распоряжение заменить часто еще встречавшиеся деревянные церковные сосуды оловянными[1805]. Считалось, что обе эти меры будут способствовать церковному благочинию.
Иоаким уже отдал распоряжение проверить мощи св. Макария Унженского; они были вынуты из раки и вновь погребены; в то же время виновный игумен был смещен[1806]. В 1677 году он сделал хуже: он послал в Кашин своих представителей проверить состояние мощей св. Анны Кашинской, канонизированной в 1650 году. Под предлогом неполной сохранности мощей он заставил специально созванный собор скрыть мощи свя той под спудом, прекратить поклонение ей и закрыть посвященную ей церковь. Истинная же причина деканонизации заключалась в том, что, согласно Житию этой святой, «рука (ея) правая лежит на персех согбенна, аки благословящая». Это понималось как свидетельство в пользу двуперстного перстосложения. Следовательно, святой бунтовщицы не должно было быть![1807]
Это означало лишить старую веру чуда. 15 июля 1677 года он, со своей стороны, сообщил о двух чудесах: в том же самом 1677 году один праведный человек по фамилии Вышеславцев, помолившись Богу, чтобы Он просветил его, почувствовал внутреннюю силу, которая заставила его сложить руки так, чтобы были сложены три первых пальца и согнуты к ладони два остальных. Уже в 1670 г. рука «преподобного Комненоса, архимандрита обители Пресвятыя Богородицы близ Иконии», подобным же образом дала свидетельство в пользу троеперстия[1808].
Аввакум и его соузники, если они и тешили себя иллюзиями, вскоре разочаровались. Протопоп вернулся к своим обычным увещаниям: быть готовым принять страдания. Подобное настроение и является содержанием письма, вместе с которым он посылает написанные им Толкования некоему своему другу Симеону Крашенинникову, нижегородскому посадскому человеку, бывшему когда-то его духовным сыном и со времени исчезновения духовников пользовавшемуся ныне все большим влиянием в общинах верующих. Не зная о его недавнем постриге, совершенном в Олонецком крае с принятием имени Сергия[1809], Аввакум обращается к нему, называя его по-прежнему: «Чадо, Семионе, на горе я родился». После этого протопоп вспоминал свои бесконечные плавания (как в прямом, так и в переносном смысле), всевозможные клеветы и преследования и борьбу с людьми, похожими на диких зверей. Подобно св. Иоанну Златоусту, у него во времена духовника Стефана был и свой Аркадий, и своя Евдоксия, чтобы его лелеять, а затем – когда святость уже стала преизбыточествовать подобно меду, когда его ешь слишком много, то у него оказался, как у св. Иоанна, и преследователь – аналог Феофила – Никон, оказались и подобные Златоустовским Команам и Кукузам – его места ссылки Тобольск и Даурия. Он хорошо знал Житие св. Иоанна Златоуста, которое можно было прочитать в начале «Маргарита». Другие также страдали; вот уже двадцать три года и семь месяцев, что людей жгут и веша ют[1810]. Но русские, бедные, скорее толпами идут на сожжение, лишь бы не изменять старой вере. Есть и такие верующие, которые сами добровольно бросаются в огонь, и они правы: огонь, здесь на земле – одна лишь тень: бойтесь только адова огня! В мгновение ока – и душа освобождается. Находясь перед огнем она страшится; войдет же в него – и все забыто. В костре горит одна темница – тело, душа же твоя поднимается ангелами во славу Господню. Итак, потерпите, православные! Скоро конец. Не замедлит он наступить. Потерпите в своих темницах. И я так же, недостойный, с вами.
Однако Аввакум не предается исключительно своему страстному желанию смерти. Его мысли, даже и теперь, когда всякая человеческая надежда уже потеряна, колеблется между двумя полюсами: мучением и возмездием по отношению к преследователям. Им будет возмездие в аду – он описывает его с сарказмом, полным реализма, свойственного крестьянину – и возмездие здесь, на земле: стало известно, что греческие патриархи, ответственные за осуждение старой веры Собором 1667 года были – один, Паисий, распят турками; другой, Макарий, совращен в Грузии. Итак, «воспоем, християня, Господу Богу песнь Моисеову, раба Божия: славно бо прославися»[1811]. «А нас Христос Бог наш десницею своею покроет и сохранит, якоже Он весть»[1812].
IV Возобновление богословских споров: послание дьякона Федора сыну Максиму и «Евангелие вечное» Аввакума
В письме к Симеону-Сергию он касался попутно и вопроса о сошествии Христа в ад; теперь Аввакум допускал, что тело Христа оставалось в гробу три дня, не испытывая тления, ибо оно было всегда соединено со своим Божественным естеством; он, однако, продолжал утверждать, что затем, после того как Бог Отец ниспослал телу Христову его душу, оно ожило и во славе сошло в ад[1813]. Пребывание Христа в аде рассматривалось им, следовательно, как мгновенное, но этот вывод не был высказан им до конца. Если Аввакум испытывал необходимость напомнить Симеону о своем учении, то это было потому, что споры их в Пустозерске возобновились. Они прекращались на несколько лет, в течение этого времени протопоп несколько раз дружески упоминал Федора; он говорит также о том, что узники совещались все вместе относительно своего отношения к добровольным самосожжениям[1814]. Но каждый сохранил свое собственное мнение. Ввиду того, что они находились в полной изоляции, в состоянии вынужденного бездействия, естественно, при малейшем случае вспыхивали раздоры.
Причиной, вызывавшей эти раздоры, были, вероятно, различные отголоски посланий, написанных Аввакумом и Федором и распространенных среди различных христианских общин. Теперь все это касалось не только неизвестных лиц: вовлеченными в спор оказались Ефрем Потемкин и Игнатий Соловецкий. Вопрос приобретал неожиданную широту. Игнатий проповедовал уже давно, одинаково, как и его собратия, что «титло» Исус Назорей Царь Иудейский (ИНЦИ), появившееся на крестах со времен Никона, соответствующее латинским начальным буквам I.N.R.I., вместо букв ИС ХС уничижает Сына Божия, низводя его до простого человека[1815]. Между прочим, тот же Игнатий, по-видимому, поддался арианству, подчиняя Сына Отцу[1816]. Что же касается Ефрема, то можно было заключить из его формулировок, что Бога можно изобразить или определить человеческими выражениями[1817]. Это имело отношение к тому сравнению, с помощью которого Федор пытался объяснить Троичность. Человеческая душа одна, однако она трехсоставна: разум, речь и дух, и речь рождается дважды, сначала невидимо в недрах разума, а затем плотски исходит из уст[1818]. Аввакум не допускал этого антропоморфного богословия, и, таким образом, возник спор о природе души; протопоп, будучи твердым реалистом, утверждал, что она едина, а не трехсоставна и, между прочим, до некоторой степени имеет плотские черты, развивая материальную энергию; следовательно «не по естеству божественному душа имать естество»[1819].
Раздумывая над другими предметами, оба противника, естественно, обнаруживали новые расхождения.
В начале Литургии верных Великий вход, когда священник и дьякон несут чашу и дискос с жертвенника на престол, всегда сопровождается в восточных литургиях необычайной торжественностью: каждением, пением Херувимской, торжественным шествием духовенства, паде нием ниц присутствующих; эта торжественность доходит до такой степени, что русское благочестие смешивало в своем благоговении несомые просфоры, в этот момент лишь просто приготовленные для освящения, с уже освященными Святыми Дарами. Никон в своей «Скрижали» указал на это заблуждение и запретил падение ниц во время Великого входа[1820]. Никита же в своей Челобитной протестовал против этого, доказывая и повторно утверждая, очень категорически, что в этот момент «те переносимыя тайны самое тело Христово, иже нас ради на кресте закланное, и самая его боготочная кровь»[1821]. За его Челобитной последовала большая Соловецкая челобитная[1822]. Очень внушительным доводом в подтверждение этого представления служили слова Херувимской: «Всякое ныне житейское отложим попечение, яко Царя всех подъемлюще…» Федор очень правильно рассуждал, что хлеб и вино могли пресуществляться в Тело и Кровь Христовы только в силу установленных слов, произносимых над ними священником. Между прочим, это было ясно написано в книгах, почитаемых всеми старообрядцами, как, например, в «Кирилловой книге» и в «Катехизисе» Петра Могилы и т. д. Аввакум и Лазарь возражали, вероятно, что это значило говорить, как Никон и книга «Жезл правления», и утверждали, что с момента проскомидии пресуществление уже было совершено. Федор был подкреплен в правильности своего положения видением. Он уточнил, что торжественное шествие во время Великого входа является знаком почитания креста, печать которого находится на просфорах, и благоговейного поклонения перед снятием с Креста и положением во гроб, которые и изображаются шествием, и что, несмотря на высказывания некоторых никониан, такое отношение должно продолжать существовать по-прежнему[1823]. Его противники не признавали себя убежденными, причем это было не из-за упрямства или вздорности с их стороны, но скорее из-за некоторой религиозной интуиции, которая не находила себе надлежащей формулировки, ибо и современные литургисты не могут объяснить Великий вход иначе, как воспоминанием о тех временах, когда на престол приносили частицу Святых Даров, освященную на предыдущей литургии[1824].
Федор проповедовал, что единственное основание церкви – это Христос. Аввакум же, который также остерегался впасть в «латинскую ересь», все-таки не мог забыть слов: «Ты еси Петр, и на сем камне созижду церковь Мою». Без сомнения, вина Федора была в односторонности, так как мало верится, чтобы Аввакум видел в Петре единственное основание церкви, помимо Христа; но по этому поводу у нас нет других сведений[1825].
Наступил момент – это, очевидно, было в конце 1676 года – когда Федор счел необходимым ответить на критику или на ложные толкования, дабы утишить сомнения своих друзей и своего сына Максима; с этой целью он решил изложить свои мысли на бумаге. Он очень добросовестно изложил весь ход и содержание дискуссии, сделав это очень подробно и с приведением доказательств на приблизительно ста пятидесяти листах. Фактически он написал целую книгу. Затем он предложил Аввакуму ознакомиться с ней. Заключенные много рассуждали об этом: по ночам они выползали через слуховое окно из своих подвалов и встречались в некоторого рода дворе, огороженном частоколом. Аввакум отказался принять его доводы. Через некоторое время, когда дьякон находился еще во дворе, он пожаловался на него сотнику Андрею. Последний питал давнюю неприязнь к Федору, который когда-то донес на него за его растрату подотчетных сумм. Сотник сейчас же направил к Федору стрельца, который схватил его на дворе голым. Его, находившегося в стоячем положении, избили до крови двумя большими цепями, затем, связав ему руки за спиной, привязали к стене и оставили на два часа на снегу. Его соузники и единомышленники по вере смотрели на него. В это время стража обыскивала его тюрьму и захватила его бумаги. Протопоп купил их, вырвал оттуда три или четыре листа, которые потом и послал на Русь, чтобы убедить верующих в обоснованности своих обвинений. Федор запротестовал и потребовал, чтобы Аввакум послал его работу целиком. Протопоп не только отказал ему в этом, но и уничтожил весь труд.
Бедный Федор был чрезвычайно огорчен: его слуховое окно было закрыто решеткой, он сам был отвергнут всеми. Он был утешен видением. Ему явился Христос в том виде, в каком Он изображен на паперти Благовещенского собора[1826]. Затем он послал царю жалобу, но протопоп не остался у него в долгу. Настала весна и оттепель. В этот момент вода залила подземелье, и узники в продолжение шести недель или двух месяцев стояли в воде до колен. Аввакум внушил одному стрельцу мысль вырыть желобок по направлению к тюрьме дьякона, и она еще больше оказалась залита водой. Это было 29 мая, день праздника св. Феодосии. Федор вспомнил об этом и обратился к заступничеству новой мученицы Феодосии Морозовой. И сейчас же произошел шум, и вся вода в течение четверти часа была поглощена землей. Так рождалось почитание новых исповедников веры[1827].
Произошло это в 1677 году. После того как вся надежда на возврат на Русь была потеряна, оба противника взялись, каждый со своей стороны, за работу для тех, кто был на свободе, равно как и для потомства. Федор с помощью черновиков, которые у него остались, почти совершенно восстановил свой труд, добавив туда рассказ о последних событиях, придав всему сочинению форму длинного послания «к сыну Максиму и прочим сродникам и братьям по вере». Когда острота чувства гнева прошла, он вспомнил об их общем враге – никонианах– и добавил к своему письму вторую часть о разных прежних предметах спора: в частности, о необходимости именовать «истинным» Святого Духа в Символе веры. Здесь он добавлял тринадцать новых доказательств, извлеченных им из древних рукописей, о которых он лично справился. Далее, он говорил о крестном знамении, об аллилуие, наконец, о близком пришествии антихриста. Это была старая, общая доктрина старообрядцев, ничем не отличавшаяся от доктрины Аввакума, но часто основанная на оригинальной аргументации, изобилующая разного рода новыми размышлениями. Федор написал бы еще больше, но у него не хватило бумаги. Позднее он смог ее раздобыть и снова принялся за работу: теперь он напоминал о начале раскола, о несправедливости Никона и соборов, подчеркивал роль Павла, Илариона и Иоакима, все это он делал с тем, чтобы доказать, и не раз, что клятва, наложенная ими на старообрядцев, обратилась против них же самих. Он сближал теперешних исповедников веры с исповедниками первоначальной церкви, излагал свой взгляд относительно необходимости страдать вплоть до мученичества; все это он излагал легким языком, ясно, со знанием церковной истории, с находчивостью, даже энергично, но никогда не доходя до заразительной страстности Аввакума. Он доводил до своих читателей сведения о происшествиях и личностях этих последних лет, рассказывал массу подробностей, которые могли быть им не менее интересны, чем нам теперь. Наконец, он брался за традиционную тему, восходящую еще к Лактанцию, именно: за мысль о жалкой смерти преследователей: Питирима, Иоасафа, Лаврентия Казанского, Илариона, попа Иоанна Фоковича, Арсения Грека, Павла Крутицкого; последний, принесенный злыми духами мертвым к ногам дьякона, испрашивал у него прощения; наконец, фигурировал и сам царь. Алексей Михайлович во время своей агонии, к великому ужасу присутствующих, взывал к соловецким мученикам, но они, вместо того чтобы помочь ему, все время приходили и растирали «вся кости моя и составы тела моего пилами намелко». Он отпра вил гонца, чтобы снять осаду с Соловков, но тот встретился с гонцом, возвещавшим победу Мещеринова, и тело царя неожиданно покрылось пятнами разложения[1828].
В то время как Федор писал свое разумное, дельное, но не столь приподнятое по тону защитительное сочинение, терявшее свою остроту ввиду рассмотрения других тем, более общего характера, Аввакум писал также, но писал он в совершенно ином тоне. Он не терял времени на жалобы и апологии: он пламенно изливал свое негодование и свое презрение, издевался, ругался, указывая довольно правильно ошибки этого молокососа[1829], чтобы высмеять его и дать восторжествовать своему учению. Если бы эти средства были пущены в ход при обыкновенной полемике, они, с точки зрения нравственности, подлежали бы осуждению. Но негодование, ругательства и издевательства были поразительно искренними. У протопопа на самом деле было чувство, что его духовный сын, за которого он отвечал, путался в представлении о Святой Троице, заключал Слово в Лоно Пресвятой Девы, предавал Христа умершего злым духам, повторял ереси Савеллия и Ария. В его ответной жалобе чувствовалась тройная страстность поборника истины, руководителя душ, которому оказано неповиновение, и чувство неумелого богослова, сбившегося с правильного пути в слишком трудных проблемах. Эта страстность объясняет побудительный мотив всей работы и само поведение протопопа по отношению к своему противнику.
Рассказ Федора по прочтении его кажется правдивым, но чтобы правильно судить о нем, нельзя вывести окончательного заключения, не выслушав и противную сторону: как знать, не были ли опущены некоторые обстоятельства, не объяснял ли пострадавший неправильно то или другое поведение, не преувеличивал ли он ту или иную погрешность? Однако задаешь себе вопрос, каковы же были обстоятельства, которые могли бы оправдать донос на товарища по заключению? Аввакум молчит об этом. Порой он позволяет себе поддаться гневу; он раскаивался в этом, карал себя, и он нам открыто в этом признавался. На этот раз, очевидно, он был во власти (но безотчетно) своего страстного темперамента и думал, что он служит истине. Это как будто единственный случай, когда мы застигли его в разгаре его «огнепального» темперамента, который заставил его опуститься до уровня его века, ибо в те времена донос применялся широко, без всякого стыда и зазрения совести. Но если действие было то же, то причина, побудившая его на это, не имела в себе ничего низкого: он был совершенно уверен, что «письма» еретика Федора «были вручены ему Богом»[1830].
По окончании составления своей книги Аввакум отправил ее своему верному ученику со следующей надписью: «Приими, Сергий, вечное сие Евангелие, не мной, но перстом Божиим писано»[1831]. Итак, теперь перед нами не пастырь, не наставник, который обучает свою паству, но своего рода пророк, непосредственно вдохновленный Богом. Это чувство не было совершенно новым у Аввакума, разве он не был всегда человеком, избранным Богом, спасаемым, руководимым, наказуемым и благословляемым Божеством? Разве он в минуты своих нравственных терзаний не любил отождествлять себя со святым апостолом Павлом? Разве он не отметил в своем Житии, что дочь его, ребенок, спасла его, «пророка», от смерти?[1832] Ирония, с какой он приписывает себе это качество пророка, так же как и искреннее смирение, не лишали его глубокой веры в предназначенную для него высокую миссию, связанную с Божественным вдохновением. Стремление к сохранению полноты физической, интеллектуальной и нравственной жизни требовало от заключенных в пустозерской тюрьме громадного и длительного напряжения, и это сверхчеловеческое напряжение должно было чисто роковым образом у такой личности, какой был Аввакум, преувеличить убеждение в его пророческом призвании. Но было бы совершенно неправильным заключить из этого, что ясность его ума была омрачена и что отныне нам приходится иметь дело только с фанатиком, с одержимым, не признававшим более ни разума, ни меры. Он остался и впредь таким же осторожным в своих советах, таким же уравновешенным в своих руководствах, таким же близким к реальной жизни, каким он был всегда.
V Переписка Аввакума с христианскими общинами; текущие проблемы: отношения с официальной церковью, брак, самосожжения
Новое царствование не внесло никаких изменений в положение различных христианских направлений. Преследования продолжались. Но и преследуемая старая вера продолжала жить.
Очевидно, в это-то время попала в немилость тетка царицы Натальи, урожденной Нарышкиной, – Евдокия Нарышкина, вдова Федора Нарышкина, холмогорского воеводы. Эта большая боярыня, шотландка по рождению, дочь некоего Петра Гамильтона, перешла в старую веру. Она удалилась со своими детьми и своими людьми к своей матери в Лобачево Алатырского уезда. Но в 1678 году десять алатырских стрельцов, сменявшихся ежемесячно, были поставлены на постой в Лобачево. Это было сделано специально, чтобы запретить всякие сношения между опасной пропагандисткой и внешним миром. Выведенная из себя этим надзором, она стала преследовать Даниила Чернцова, начальника стражи: избила его, таскала его за бороду, даже высекла его жену. Затем, в один прекрасный день, 29 июля, весь дом ее со всеми домочадцами исчез и укрылся в лесах. Два года спустя Нарышкиных нашли недалеко от местечка Пустынь Арзамасского уезда: они занимали на поляне, в самой гуще леса, обширное двухэтажное помещение, которое, по-видимому, служило для верующих местом встреч и богослужебных собраний[1833].
Другая большая боярыня тоже была верна старой вере, или, может быть, даже наново приняла ее; это была Анна Иларионовна, вышедшая замуж за Якова Хилкова, одного из сыновей того князя Василия Хилкова, который был воеводой в Тобольске в бытность там Аввакума в 1653 году. Духовным отцом у нее был прежний исповедник Феодосии Морозовой поп Прокопий. Этот Прокопий, будучи арестован в 1672 году со своей духовной дочерью, провел полтора года на покаянии в Толгском монастыре, затем в 1674 году был отпущен митрополитом Павлом. По возвращении в Москву он творил крестное знамение по-новому, но вскоре указательный палец начал гнить, и он впал в сомнение. Он перечел Требник, Стоглав, Катехизис, Псалтыри: повсюду он видел анафему, произносимую в адрес тех, кто не крестился двумя перстами. Тогда он начал странствовать по скитам Заволжья и пришел в Кинешму, где старая вера была все еще нетронутой. Затем он вернулся в Москву и поступил на службу к княгине Хилковой. Он служил для нее церковные службы по старым обрядам; также и другие верующие, без сомнения, группировались вокруг него. Во всяком случае, когда умерла в Вязниках дочь Замятни Леонтьева, юная Евдокия, заставившая принять старую веру портного Иосифа и Авраамия и сейчас же вслед за этим вынужденная отказаться от старого благочестия, именно он отправился за ее телом и привез его в ее родное село Леоново близ Москвы. Там, чтобы не возбудить сомнений, он произвел ее погребение под именем некоей Дарьи, а затем несколько раз приезжал туда, чтобы служить панихиды. Евдокия, таким образом, всегда оставалась верной старой вере: влияние Аввакумова ученика не так-то легко исчезало! Когда все это в 1681 году узнали, то Прокопия и Анну арестовали[1834].
В Москве существовало много других очагов старообрядчества. Все еще было три попа – Исидор, Стефан и Козма[1835]. У них, конечно, не было больше приходов, ибо Иоаким методически следил за своим духовенством: в 1679 году он потребовал от рукоположенных в духовный сан специальной клятвы подчинения собору[1836]; служение по старым обрядам не могло бы быть допущено. Но для верующих нетрудно было сговориться со своими священниками относительно устройства встреч в разных местах. Среди многочисленных домашних церквей многие были, правда, недоступны для верующих. Однако не исключена была возможность вести иную миссионерскую работу. Старообрядческие труды переписывались, передавались довольно смело, продавались на рынках[1837]. Были известные дома, где останавливались паломники, посланные с мест, равно как и почтенные духовные особы. Одним из них был тот самый знаменитый Симеон-Сергий, который, благодаря отношениям, которые он широко повсеместно поддерживал, представлял собой большой авторитет. Также странствовал и Досифей, появляясь по временам в различных общинах. Он по-прежнему был столь же почитаем. Жизнь в известном смысле кипела, но организованной церкви все же не создавалось, а между тем сама жизнь требовала разрешения ряда беспрецедентных проблем. Самые смелые решали эти проблемы каждый по-своему. Другие пребывали в сомнении, однако же критиковали все предлагаемое. Некоторые, оставаясь противниками установленной церкви, угрожали все вообще свергнуть. Не было всеми признанного авторитета, который установил бы предел свободы для разных мнений и примирил бы различные точки зрения. Авторитетом такого рода мог быть только Аввакум, который по мере возможности, невзирая на расстояние и заключение в тюрьме, все же в какой-то мере являлся руководителем верующих. Свое руководство протопоп, вследствие своего положения, должен был осуществлять только своими письмами, которые он и посылал в ответ на конкретные запросы, а также и частными записками. Кроме нескольких отдельных писаний, пока еще не найдено сколько-нибудь значительных следов его переписки. Но она, наверно, была весьма значительной. «Мне веть неколи плакать (иначе говоря, «молиться»), – писал он в одном из своих писем, – всегда играю со человеки, таже со страстми и похотьми бьюся, окаянный. (…) В нощи что пособеру, а в день и разсыплю».
Один раз он обращался к поморским отцам: Савватию, Евфимию, Тимофею и Авксентию, прося их только молиться за него, за его бедную жену, его детей и всех его домочадцев[1838].
Другой раз он поздравлял некоего Алексея Копытовского, своего «новорожденного чада», за то, что он оставил какого-то Лукьяна: Лукьян, которого протопоп считал среди хороших людей «похитил душу христианскую»; если он раскается, советовал Аввакум, «ты о том мне возвести, и аз ему во исцеление души и тела епитимию пришлю; а буде взбесится, и ты и рукою махни. Не подобает приходящаго к нам отгнать, а за бешеным не нагонятца ж». Заключает он следующим образом: «А тебя Бог простит и благословит. Возьми у братьи чоточки – мое благословение себе. Дайте ему, Максим с товарищи, и любите Алексея, яко себя». Очевидно, Алексей и Лукьян были новообращенными: они, очевидно, совместно совершили какой-нибудь большой грех против старой веры или против нравственности; первый раскаялся и получил прощение Аввакума, другой – нет, и пока еще не был прощен. Насколько протопоп был снисходительным и любящим по отношению к первому, настолько же он выказывал другому свою неумолимую строгость[1839]. Таким-то образом он удерживал на правильном пути свою небольшую группу истинно верующих[1840].
Перед лицом угроз или перед лицом притягательной силы более легкой жизни некоторые верующие дали себя увлечь в присоединение к официальной церкви. Их заставляли принимать никонианского Агнца: это был принятый способ, который считался определенным разрывом со старой верой, ибо старообрядцы полагали, что это означало, что сатана завладевал принявшими такого рода причастие. Для этого применялись все виды воздействия: одни уступали насилию, другие же просто уступали, но позднее, разобравшись в своем поступке или же под влиянием внешних причин, многие желали смыть с себя это пятно. Надо ли было их лишать надежды? Надо ли было принимать обратно этих заблудших овец? Подобная проблема стояла и перед христианством первых веков. Аввакум, не колеблясь, применял свой постоянный принцип: не отталкивать душ, которые приходят с раскаянием. Более того, он радовался при таких случаях, подобно доброму евангельскому Пастырю; радовался тому, что можно утешить бедную жертву сатаны; и, говоря об этом, он часто становился даже лиричным.
«О, друже наш любезный! Целуем руки и ноги! Прииди-ко сюды, приклони-ткося к нам, дай-ко главу-ту страдалческую! Обымем тя, облобызаем тя, облием тя плачем, омыем тя слезами. (…) Срадуйтеся с нами все духовное братство, яко друг наш и брат обретеся жив и не удавлен от еретиков. А што, друже скорбиш (…). Худо зделано, не мужественно! Да што говорить! (…) Петр-от и камень наречен, да и тот поползнулся. Толко слышали мы в малом твоем писанийцы, – ищем покаяния, скорбиш, болезнием и их, сказываеш, возненавидел, яко змию. О сем радуемся (…). Брата тя присно имехом, и имеем, и имети хощем, всегда, ныне и присно и во веки веком»[1841].
Эта записка так хорошо соответствовала своему назначению, что позднее, по-видимому, ее применяли, изменив имя, во всех подобных случаях[1842].
Среди христианских общин начала развиваться, может быть под влиянием «капитонов»[1843], тенденция к осуждению брака. Эта тенденция была противна самой сущности старой веры, а между тем она, естественно, не могла не зародиться. Не хватало как истинно верующих священников, так и церквей. Так не лучше ли было отказаться от освящения брака, чем принимать за него кощунственную подделку? Впрочем, ввиду того, что так или иначе конец мира чувствовался как близкий и теперь его ожидали, по новым расчетам, в 1691 году[1844], уже ясно было, что вовсе не надо производить на свет детей. Поэтому поп Исидор в Москве отказывал принимать в свое духовное руководство супругов, повенчанных никонианским священником, за исключением тех случаев, когда они расходились; он запрещал брак своим верующим, даже если он совершен был по старому обряду; он доходил даже до того, что порицал совместную жизнь супругов, соединившихся ранее по всем правилам закона. Эта ненависть к браку, доведенная до крайней степени, эта доктрина отчаяния и утопичности, которая неминуемо должна была привести к развращенности нравов, не только задела здравый смысл Аввакума – она его прямо испугала. Он отправил Исидору очень почтительное, но и очень конкретно сформулированное письмо:
«Веси ли ты, почто х Коринфом апостол послание пишет? (…) А то такие же суесловцы, что и ты, изветом благоверия возбраняющее женитву и брачное совокупление (…). Прочти в первом послании, глава 7, зач. 136: уж-жо тебе сором Апостола-тово будет. Вот Павел, блуда ради, жену свою велел держать, а жене мужа. Полно ж ковырять тово, – по содомски учиш жить, или Кваковскую ересь заводишь».
Протопоп парирует критическое возражение: ведь нет церквей. – «и изба по нуже церковь (…) молитву проговорил да водою покропил, да и ладно, – действуй!»
Но призыв Аввакума не достигает цели. Исидор возражает аргументом об антихристе, совсем неудачно цитируя Евангелие от Матфея, стих 38-й из главы XXIV. Аввакум должен был продолжать свое назидание:
«Не браки Христос возбраняя рече, но безстудство и сластолюбие и со законною женою. Сластолюбие и безстрашие понуждает согрешать во времена заповеданныя (…) Не возбраняй, господине, женитися (…) брак честен и ложе мужу со своею женою не скверно 116. До скончания века быть тому так».
Затем он рассматривает различные возможные случаи: браки, совершенные священниками, рукоположенными по новым правилам; в отношении к таким бракам необходимо дополнить опущенные обряды, старые молитвы и хождение посолонь. Это должно быть выполнено совершенно так же, как и при крещении, заявляет Аввакум: поскольку было отречение от сатаны и погружение, добавь, чего недостает, но вновь не крести. Важно таинство, а не священник: если священник, рукоположенный по старому или новому обряду, служил по старому Требнику, даже совершая таинства, как теперь водится, по-новому, считай эти таинства действительными и крещение, как и брак, имеющими силу. Поэтому не отклоняй бракосочетающихся, желающих приобщиться к старой вере.
Тем более, не запрещай супружеские отношения между мужем и женой, соединившимися православным браком, ибо если они будут воздерживаться, а затем впадут в распутство, то ты будешь за это в ответе.
Имеется и еще одно правило, которое не следует забывать: по нужде и отмена закону бывает. Мирянин Галактион крестил свою жену сам; в пути миряне крестили больного песком; все эти крещения действительны. Итак! Где бы ты ни был, даже если будешь в простой избе, даже в самые большие праздники, если сможешь, облачись в ризы и причащай. Только бы у тебя был антиминс, всякое место заступит тебе церковь; какая беда в том, что это место не было благословлено епископом-еретиком?
В своей крайней строгости Исидор и его сторонники исключили из своих молитв молитву за царя-еретика; он отказывались хоронить тех, кто ему служил; Игнатий даже просто из-за того, что единогласие рекомендовано официальной церковью, отвергает его. Аввакум протестует и против этих крайностей: «Почему вы не молитесь за царя Феодора? Он человек добрый. Да спасет его Господь с его потомством, с его дедом и прадедом». Однако Аввакум не упоминает «его отца», Алексея, виновника раскола. И в то же самое время, снисходя к колебаниям тех, кто усомнился бы молиться за царя и патриарха, отделившихся от церкви, Аввакум советует некоему Ионе – еще одному из тех лиц, с которыми он вел переписку – следующую, ничего не говорящую формулу: молиться за благоверных царей и о священстве «безымянно».
На службе у этого еретического царя находились и добрые христиане. Были среди них даже такие, кто осаждали и разграбляли святую Соловецкую обитель и принимали участие в избиении соловецких монахов и которые все же тайно были преданы старой вере. Нужно ли было предлагать им выбор: либо публичное исповедание своих религиозных убеждений, отказ от службы с возможными последующими наказаниями: ссылкой и даже смертью, – либо отлучение от истинной церкви? Аввакум всегда проповедовал – и мы видели, с каким пылом – мужество, презрение к смерти, даже огненной, все величие мученичества. Но претворить героизм в закон, сделать из него обязательство для всех – сделать это он остерегался: это значило бы лишить этот героизм черт истинного подвига и тем исказить его настоящую природу. Наоборот, пусть каждый выполняет свое призвание, пусть воздержится от насилия, от всякого обмана, и этого будет достаточно. Бог будет судить каждого по совести. Сочувствующие старой вере, благодаря своему официальному положению, смогут оказать исповедникам тысячу услуг (заступничество, устройство побега, передачу переписки).
В Пустозерске появилось обличительное сочинение о единогласном и наречном пении, оно рассматривалось там как позорное, как никонианское новшество: сначала Аввакум приписал эти нападки монаху Иову с Дона и написал письмо против него. Но теперь он узнал, кто смущал таким образом церковь: то был Игнатий Иванов, прежний слуга Морозовой и брат ее «казначеи» Ксении. «Плюньте, братия, где он говорит: не подобает его слушать. Где ему знать обычай и устав церковной? Он родился и взрос во дворе боярском, да вчера постригся, а назавтрее и во игумны накупился, без благословения отец окормляет Церковь. И азбуки не знает». Вопрос о единогласии был близок сердцу Аввакума: этот вопрос был центром внимания и протопопа Стефана, и боголюбцев. Это было то, что он сам, Аввакум, претворял в жизнь уже более тридцати лет и что сей час снова ставилось под вопрос. Ввиду того, что Игнатий упорствовал, Аввакум еще раз выступил с посланием по этому вопросу.
У нас нет никаких данных относительно переписки между Пустозерском и Доном, за исключением того, что адресат письма к Ионе был как будто тот поп Иона из Соловков, который был обретен либо в Черкассах в 1668 году, либо в Керженце, либо в Стародубье. Но теперь и другая христианская община заставила заговорить о себе, то были сибиряки. Аввакум прекрасно знал попа Дементия, сосланного еще во времена Никона и занимавшего место приходского священника в Тюмени. В 1665 году вместе с Лазарем и Трофимовым он был доставлен в Москву, затем направлен оттуда в Пустозерск. Он был там еще в 1668 году. Был ли он помилован или сбежал оттуда? Во всяком случае, в августе 1670 года его уже в Пустозерске не было. Он достиг Тюмени или ее окрестностей, где у него ранее были ученики. В Сибири в особенности нетрудно было ускользнуть от властей; все жизненные условия способствовали независимой жизни: поэтому-то там было много старообрядцев.
Большая Соловецкая челобитная рано появилась в Тобольске; один из списков ее попал в руки Крижанича. Этот последний, слишком привыкший объединять вопросы религиозные с вопросами экономическими и политическими, был человеком слишком порядколюбивым и рассудочным, чтобы отнестись с симпатией к страстному движению чисто религиозного характера, движению, которое игнорировало как духовную иерархию, так и гражданские власти. В этом движении он усмотрел только невежество и фанатизм и, будучи, кстати сказать, рад, что может выказать властям свое усердие, предложил им свои услуги для защиты православия. Он составил по всем правилам «Обличение» Соловецкой челобитной и даже целый трактат в форме диалога между архиепископом Тобольска и жителями этого города. «Обличение» относится к 1674 году. Этот против ник старой веры признает: «Вижду целые монастыри единою от вас прелестию прелщены (он обращается к соловецким монахам), некиих же себе и руки отсекших, дабы им себе не знаменати треперстным знамением (…), а некие и чудеса и явления себе от ангелов бытии помышляют (…). И из мирских людей мнози тем же мраком отведены и ожесточении обретаются, яко не хотят исповедатися, ни причащатися. Инии же стоят на средине и не ведят, к коей стране пристати». Он пишет, что они просят их просветить. Для него Сибирь и Соловки – это два главнейших центра раскола.
Падение Соловков оставило в Сибири старую веру такой же, какой она была и раньше, или же даже еще больше вдохновило сторонников старой веры. 29 мая 1677 года возникший от молнии пожар уничтожил Тобольск. Огонь небесный! Даже церкви не были пощажены! Разве это не знамение того, что то были не истинные церкви? Это представление распространилось вплоть до Тюмени. Производятся аресты. Постепенно находят много мужчин и женщин, для которых официальные церкви являются «костелами», священники – «псами», а четырехконечный крест – печатью антихриста. По приказу старшего воеводы Петра Шереметева виновники таких мнений наказуются кнутом, однако они не сдаются. 28 октября того же 1677 года в тюменском соборе в самый торжественный момент обедни, то есть во время пения «Херувимской», раздались возгласы: «Православные християне, не кланяйтеся, несут де мертвое тело!» Арестовали четверых: Афанасия из Вологды, Дементия и Варвару из Тотьмы, Порфирия с Мезени. Они заявили, что прибыли в Тюмень «истинныя веры изыскивать». Шереметев, к которому их направили, всех их, за исключением Варвары, отправляет в земляную тюрьму с приказом: предварительно всенародно подвергнуть их наказанию кнутом, а в будущем таким же образом поступать со всеми, кто будет так себя вести 129. Митрополит Корнилий умер 23 декабря, опечаленный, как говорят, успехами старой веры. В 1678 году крестьянин Михаил Медведевых отказался от благословения священника и заявил, что в церковь вкралась ересь; на него был сделан донос, он исповедовал свою веру и был бит кнутом. Эти дошедшие до нас случаи исповеданий и наказаний за них, происшедшие в разных местах, иллюстрируют положение дел, описанное Крижаничем. Старая вера была распространена везде.
Поп Дементий принял монашество с именем Даниила и основал скит на Березовке, небольшом притоке Тобола, все в том же Тюменском воеводстве. Там была церковь, где совершалось богослужение без поминания как патриарха, так и митрополита. В этой группе отшельников царил особый подъем, здесь были как женщины, так и девушки: порой они падали ниц и тогда, как говорили, они видели Пресвятую Богородицу и разверстые небеса, а равно и венцы, приносимые ангелами самым праведным. Слух об этих чудесах привлекал массу людей из соседних районов, которые, покинув свои владения и скот, приходили со своими женами и детьми, чтобы принять постриг у Даниила. Одни, «разочаровавшись», возвращались к себе; другие оставались у него, вербуя, в свою очередь, единомышленников. Не раз тюменский воевода доводил до сведения Шереметева об этом ските: наконец, 2 января 1679 года против этих ослушников была направлена экспедиция из двадцати пяти рейтаров, ста казаков и литовцев, а также пятидесяти татар под командованием стрелецкого головы. 20 января все вернулись в Тюмень, рассказав о том, что на указанном месте они нашли только следы большого пожара: ночью с 5 на 6 января скит со всеми своими жителями сгорел. Прежде чем появились «приспешники антихриста», 1700 верующих предпочли спастись в огне.
Этот ужасный способ спасаться от преследователей, получивший начало в 1665 году у Капитона, перешедший затем в Нижегородскую землю, был в то время в большом почете. В начале 1677 года какой-то крестьянин из Терехова, на Олонце, сжег себя в своей избе с большим количеством мужчин, женщин и детей, включая как свою семью, так и своих соседей. Вслед за этим на Шексне какой-то поп Симеон и четыре или пять тысяч людей также сожгли себя; 10 марта 1682 года в двух деревушках Новоторжского уезда подвергло себя огненной смерти около двенадцати семейств, подбадриваемых попом Петром; они заперлись у себя в домах и в двух сушильнях для ржи и подожгли их.
Что касается Тюмени, то ввиду того, что митрополит Павел выражал свое намерение еще более решительным образом, чем его предшественники, уничтожить старую веру, образовалась новая группа людей, собравшихся последовать примеру Даниила и его товарищей. Их было приблизительно около 2500 человек. Однако этими героическими решениями всегда руководил какой-нибудь всеми почитаемый вождь, своего рода пророк, которому повиновались беспрекословно. Таких духовных вождей вскоре уже не стало хватать. Тут в умы некоторых людей закралось сомнение. Решили ничего не предпринимать без благословения пустозерских отцов. Решили послать к ним гонца. Если плыть вниз по Иртышу и Оби, затем по правым притокам Печоры, то путь в Пустозерск не представлял больших трудностей, несмотря на то, что приходилось пересекать Северный Урал: это был проторенный путь: поэтому, очевидно, в 1681 году в Пустозерск и был послан гонец. Он повидался с Аввакумом. Последний задержал его на две недели и передал ему послание к сибирским братьям по вере.
Протопопу еще не представился случай вступить в переписку с этими общинами. Поэтому он составил специально для них полное руководство касательно затронутых вопросов, придав ему более торжественную форму.
В этом руководстве мы снова встречаемся с его нам хорошо известными мнениями: полное осуждение официальной церкви, никониане приносят жертву не Богу, но злому духу; те, кто им повинуются, «в челюсти адовы стремглав поступают»; лучше было бы вовсе не родиться, чем креститься тремя перстами; крещение еретиков – не крещение, но осквернение; и необходимо держаться в стороне от всех их обрядов.
Таковы принципы истинной веры, но вот и правила, применяемые в практической жизни. Если младенец крещен по еретическому обряду, не следует повторять погружения, ни отречения от сатаны, но только необходимо прочесть молитвы, совершить миропомазание и обойти вокруг купели посолонь. Но при отсутствии истинного священника бесполезно обращаться к священнику никонианину: мирянин может крестить; каноны в случае необходимости допускали это всегда, тем более в настоящее время. Что касается причастия, то ни в коем случае не следует принимать никонианского Агнца, это яд, подобный мышьяку или сулеме: он беспощадно убивает. Был у меня, пишет Аввакум, здесь духовный сын из простого народа; после меня он обратился к священнику никонианину и причастился у него: и что же! Он сошел с ума, бедняга, совсем одурел, и уже больше не мог оправиться. Другой, некто Григорий, которого попниконианин напугал будущими мучениями и которого он причастил, был затем, бедняга, одержим дьяволом, и злые духи в конце концов удавили его; нет, лучше уже до самой смерти остаться без причастия. Но если вы сможете раздобыть себе истинного Агнца, не следует ждать священника; пусть каждый, будь то мужчина, женщина или ребенок, сам причастится, но не следует причащать друг друга, за исключением отца, причащающего новорожденного младенца. Мирянин, имеющий святую воду после ее освящения истинным священником, может самостоятельно совершать необходимые очистительные обряды. Относительно тех, кто впал в никонианскую ересь по неведению, или же из-за страха, или из-за перенесенных пыток, нельзя быть неумолимыми; если они скорбят о своем падении и изъявляют добрые намерения исправиться, да будет с ними наше благословение! Христос их примет так же, как и нас!
После всего изложенного Аввакум переходит к самому существенному пункту: нет, не совершили ничего плохого те, кто, не желая осквернить свои ризы, то есть святое крещение, бросились в огонь или в воду, подобно женщинам, о которых повествуется, что они поступали подобным образом, дабы не попасть в руки варваров. Мудро поступили эти две тысячи людей из Нижнего. И Дементий так же хорошо закончил свое житие. Тако да будет! И он по календарю перечисляет всех пострадавших: 1 августа святая мученица Соломония, 22 марта мученица при императоре Трояне, 4 октября Домнина и ее дщери, 13 ноября девица Манефа, и еще мученица, описанная в житии Арефы, и Софрония, пострадавшая во время царствования Максенция, как сказано в 21-й главе «Великого зерцала», и еще рязанская княгиня, бросившаяся с башни, чтобы не попасть в руки Батыя, согласно русским летописям. Все этого касается прошлого: протопоп хвалит содеянное или соглашается с совершившимися фактами. Но он не решается сказать тому, кто его спрашивает: «Сжигайтесь!» Напротив: «Да не всем же то так. Званный на пир ходит. А ты, любезный мой, поплачь преже, ныне живучи, да и меня поминай в молитвах своих, да нарядяся хорошенко во одежду брачную, яко мученик Филипп, медведю в глаза, зашедши, плюнь, да изгрызет, яко мяконкой пирожок. Ну, а то – слава страстем твоим, Господи!»
Посланный вернулся, сказав, что Аввакум выразил свое одобрение. А что сказали другие отцы? – спросили его. Он ответил, что он видел только Аввакума и что он не знает ничего о других. Само письмо носило, впрочем, двойственный характер. 2500 человек остались в нерешительности. Они положили между собой выждать и послать будущим летом новое посольство в Пустозерск.
VI План Досифея
Коллективные самосожжения являлись выражением безнадежности; к самосожжению устремлялись отдельные общины, объединенные состоянием экзальтации и неожиданно поставленные перед крайней опасностью. Те старообрядцы, которые жили в Москве и в других местах, которые посещали более широкое и более разнообразное общество, имели иные представления. Что царство антихриста близко или даже уже началось, не являлось для них всепоглощающей мыслью, мешавшей им здесь, на земле, пещись о будущем своей церкви, а также и о собственной участи. Даже самые непримиримые священники, различные Досифеи и Сергии, не отказывались от ведения некоторой церковной политики: старая вера была еще верой русского народа, во всяком случае, верой самых религиозных русских людей, и многие, которые, казалось, покинули ее по принуждению, втайне ее все же исповедовали; новая же церковь была церковью сильных мира сего, а также и христиан теплохладных. Можно ли было приходить в отчаяние при виде того, что наблюдалось? Даже среди сильных мира сего можно было обрести сочувствующих. Возникла мысль: если бы челобитные были представлены от имени всего русского народа или внушительными группами верующих от имени самой веры, – неужели они были бы отвергнуты? Неизвестно, думал ли серьезно Досифей уже в 1680–1681 годах о том, чтобы оказать на царя нажим, например, физической силой, как это было сделано в дальнейшем, когда пустили в ход стрелецкие полки, увлеченные их начальником Хованским и поддержанные посадами, в которых стрельцы жили, но одно определенно – это то, что он раскрыл этот необыкновенный свой план Аввакуму. В результате протопоп согласился с ним в совершенно исключительных выражениях:
«А еже, изволившу Духу Святому вложити во ум отцу Досифею с челобитными по жребию стужати царю о исправлении веры, – и кто аз силен возбранити воли Божии, еже не быть тако? Да будет, да будет! Господь благословит тя и с Максимом от высоты святыя своея и от престо ла славы царствия своего! Тружайтеся, Господа ради, ходяще в премудрости ко внешним.
И мое имя по Христе обносите. Пред человеки или кого величайте, или еретиков потязайте: се аз с вами есмь до скончания нашего века. Якож отец Досифей, и вы церковная чада дасте ударити душа ваша Духу Святому. Се и мы с Епифанием старцом хощем быть причастницы части вашея, да общее воскресение улучим о Христе Исусе. Да будет, да будет и будет тщание ваше усердно, и Господь славы посреде нас, по словеси Христову: идеже два или трие собрани о имени Моем, ту есмь посреде их».
Протопоп не дал бы своего как бы святительского и окутанного тайной благословения начинанию, которое ограничилось бы всего-навсего передачей еще одной челобитной, поданной после целого ряда подобных же челобитных. Сущность его характера состояла в твердой надежде на будущее, в крепкой вере в него, несмотря ни на что. Он полагался всегда на молитву, на Провидение и поэтому, восхищаясь отвагой и последовательностью тех, кто шел на самосожжение, все же не мог ободрять возможных новых их последователей. Поэтому в том же самом письме, в котором он поддерживал Досифея, он влагал необычайную энергию в защиту брака против тех, кто был склонен во всем отчаиваться.
Ксения Гавриловна, сестра Анисьи, юной подруги Морозовой, ставшей монахиней в монастыре, основанном игуменьей Меланией, после смерти своего мужа снова вышла замуж, и у нее был уже ребенок, когда Елена Хрущева разлучила ее и с мужем, и с этим ребенком. По какому праву, этого никто не знал: властный характер Хрущевой, так же как ее чрезмерное усердие, служили ей единственным оправданием. Ей удалось затаскать несчастную по судам и, наконец, бросить ее в монастырскую темницу. Заброшенный ребенок чуть не погиб. Это довели до сведения Аввакума. Елена была раньше его духовной дочерью и все еще до известной степени оставалась ею. Возмутившись, Аввакум гневно обращается к ней с необычайно строгим порицанием, называет ее почти убийцей и накладывает на нее епитимию, которую он с некоторым удовольствием описывает детально: семь лет отлучения от монастырской общины, из которых три года полного отчуждения, тысяча земных поклонов ежедневно, каждый вечер приходить в келью игуменьи и говорить ей: «Прости мя, мати моя, се аз, окаянная, жену с мужем разлучила и убийство сотвори…» Аввакум желает, чтобы все окружающие наблюдали за выполнением этой епитимии: «Досифей, а Досифей! Поворчи, брате, на Олену-ту старицу! (…) Слушай-ко, игумен Сергий! Иди во обитель Меланьи матери и прочти сие писанное со Духом Святым на соборе Елене при всех, да разумеют сестры, яко короста на ней, да же не ошелудивеют от нея и удаляются ея».
Эта епитимия тяжела, может привести к отчаянию: Аввакум это знает, и он окружает ее трогательным вниманием: «Ну, чадо, труждайся… (…) И отец Епифаний молитвами помогает ти». Аввакум увещевает монахинь, подруг виновной: «А ты, Меланья, не яко врага ея имей, но яко искреннюю. И все сестры спомогайте ей молитвами». Он еще раз обращается к Елене:
«Друг мой миленкой Еленушька! Поплач-ко ты хорошенко пред Богородицею-светом, так она скоренко очистит тебя. Да веть-су и я не выдам тебя: ты там плачь, а я здесь. Дружне дело; как мне покинут тебя? Хотя умерет, а не хочу отстать.
Елена, а Елена! С сестрами-теми не сообщайся: понеже оне чисты и святы. А со мною водися: понеже я сам шелудив, не боюся твоей коросты, – и своей много у меня! Пришли мне малины. Я стану есть, – понеже я оглашенной, ты оглашенная, – друг на друга не дивим, оба мы равны. Видала ли ты? – земские ярышки друг друга не осуждают. Тако и мы. Помни же, что говорю, – не обленись поработати Господеви. Аще ли просто положишь, болшую беду на себя наведешь: без руки будешь, и без ноги, и без глаз, и глуха и острупленна, яко Елисей. Я ли затеваю? Да не будет. Но тако глаголет Дух Святый со Христом ко апостолом, яко его же аще свяжете на земли, будет связан на небеси, а его же разрешите, той разрешен. Да по данней мне власти от Исус Христа се возлагаю ти бремя на плеща души твоея: достоин бо делатель мзды своея.
Прости. Тебе несть благословения, дондеже очистишися. Аминь».
Надо все привести в порядок: «Ксения, бедная Гавриловна! Взыщи мужа-тово своего и живи с ним (…) Пожалуйти, ради Бога Вышняго не покидайте ея». Но из этого надо извлечь еще большее поучение: «Всяк разумей немощь свою; не созирайте чужих грехов, но своих!» И протопоп думает о другом:
«Да еще тебе, игумен Сергий, приказываю: порозыщи и нам о имени Господни возвести, кто от духовных биет Евдокею Ивановну словесы нелепыми, лютейши камения. Со слезами мне говорит: пущи-де никониян, батюшко, духовные наветуют ми, и стражю-де от них понос и укоризну, на силу отдыхаю в бедах. На что-петь так мучат сестру свою неправилне, забывше Апостола, еже рече: братие, аще человек впадет в некое согрешение, вы духовнии исправляйте таковаго духом кротости: блюдый себе, да не и ты искушен будеши, друг другу тяготы носите. А еже толко не согрешила сестра, а наветуют безчинующе, и сего обычая ни во языцех обрести возможно где. Чюдно! Как-то верным нам, а хуже неверных живем, взимающиеся друг на друга своего!»
Аввакум питает неприязненное чувство к Иродиону, племяннику Марии Даниловны. Именно он способствовал разлучению Ксении с ее мужем:
«Да не таково мне на тебя, что на Елену (…) Прощайся пред Оксиньею Гавриловною, и Ефремову книгу отдай ей: тогда и от меня совершенно Бог простит. Аще ли ни, не уйдет то и впредь. Не имат власти таковыя над вами и патриарх, якож аз о Христе, – кровию своею помазую душа ваша и слезами помываю. Никто ж от еретик восхитит вас, православных християн, от руки моея; хощу неповинных представити вас в день просвещенный Праведному Судии. Да и бывало таково время: Христос, бдящу ми, и вселил вас всех во утробу мою. И царю Алексею говорено о том. Простись же с нею, да не отлучайте ея от мужа-тово: аще хощет, пускай с ним живет».
Защита брака – вот подлинная тема этого письма, где выявляется так много черт внутренней жизни старообрядческой общины. Аввакум возвращается еще раз к этому вопросу:
«Сергий! Возвести впредь о сем, каково к прощению тщание будет у них. Аще и Елена поищет со усердием прощения, да ослабится тогда от епитимии, и от худости моея благословение получит. Жаль мне ея гораздо: воздыхая сице творю. Полно о том».
Вся огромная и пламенная душа протопопа, с его строгостью, нежностью, стремлением уничижения самого себя, сознанием всей святости его священнического сана; его дерзание и сдержанность, мужество, поборовшее тюремные мучения и мучения в изгнании, целостное христианское сознание, несмотря на все полемические выпады, – все это выявилось в этом его послании к московскому братству. Этому посланию суждено было быть одним из последних.
VII Собор 1681 года и казнь
Пустозерская тюрьма, построенная в 1669 году, от непогод устояла гораздо хуже, чем люди от житейских невзгод: к концу 1680 года тюрьма от старости и гниения дерева разрушилась. Новый воевода Адриан Хоненев довел это до сведения Москвы. 2 марта 1681 года ему ответили, что если в действительности не представляется возможным ее починить, то надо перестроить ее наново, с большой предосторожностью, из боязни, как бы кто из заключенных не убежал. Сначала надо было сделать внешнюю ограду, затем уже построить саму избу.
Внимание патриарха как раз в этот момент было привлечено Пустозерском и делом десяти соловецких мятежников. Один из них, Даниил, умер 1 октября 1680 года, и Хоненев, найдя его тело, лежавшее без погребения в тюремном дворе, 28 октября приказал попу Андрею, бывшему его последним духовником, похоронить его. Воевода с тем же самым гонцом запрашивал об инструкциях, как быть в случае, если умрут, не примирившись с церковью, и другие узники? Ему ответили, что они должны быть похоронены там, где они умерли, в тюрьме, на глубине двух саженей. Но воевода попутно отметил, что поп Андрей служил по старым Служебникам; соответственно копия донесения была послана в Патриарший разряд для следствия относительно этого попа и надлежащего решения дела.
В этом же 1681 году были очень озабочены состоянием старообрядчества и в других высоких сферах. В день Богоявления, 6 января, звонарь Герасим, низложенный за ересь, сбросил в самом Кремле с колокольни «свитки», призывающие народ к восстанию. Его допросили. Мало-помалу, пытая его, раскрыли целую организацию; ее составляли: Антоний Хворой – уроженец Поморья, Иосиф, сабельный мастер из Оружейной слободы, и много других. Иосиф был бедным человеком, вся его усадебка была оценена в 9 рублей. Однако дом его служил местом сбора его единомышленников. Антоний пел там часы, выпекал просфоры без дрожжей, с печатью старого креста, которые он после службы и раздавал верующим. Эти последние ели их и почитали себя после этого освященными. Подозревали ли тогда, что Герасим был в отношениях с Василием Косматым, с этим учеником Капитона, который будет потом хвастаться, что путем ли добровольного поста, путем ли самосожжения отправил на тот свет тысячу мучеников? Ничто об этом не свидетельствует, но, так или иначе, следователи были поражены этими недозволенными собраниями без священнослужителей, печением этих просфор, заменявших Агнца, этими обращениями к народу, столь открыто распространявшимися. Тут смутно чувствовалась гражданская и религиозная оппозиция, более глубокая, чем у дотоле известных «раскольников». Все это дело напоминало не столько приверженность старине Аввакума и Федора, сколько дерзания Капитона и его учеников, а отсюда у людей, мало разбиравшихся в оттенках религиозной мысли, возникало уже и представление о том, что все «раскольники» были «капитонами».
Для официальной церкви появлялась угроза со всех сторон.
В Кремле, в семьях высокопоставленных людей, в образованных кругах мода следовала все более и более за Польшей. Новая царица, вышедшая замуж за Федора 18 июля 1680 года, была урожденная Грушецкая. Вскоре царь, вопреки указу, данному им в начале своего царствования, предписал своим царедворцам ношение польского платья. Через посредство польского языка, польских книг и польских наставников мало-помалу стала проявляться соблазнительная терпимость в отношении всех видов латинства. Симеон Полоцкий, ранее, в 1679 году, устраненный из комиссии по редактированию Апостола из-за своих латинских тенденций, все же сумел открыто не обострять своих отношений с греческим православием. Он умер 25 августа 1680 года, и теперь роль его выполнял его любимый ученик Сильвестр Медведев, который вовсе не скрывал своего открытого приверженства латинству. Существовал некоторый проект, к которому царь Федор относился весьма благосклонно, а именно создать академию, где преподавали бы все свободные искусства, догматическое и нравственное богословие, каноническое и гражданское право и где, наряду с церковнославянским и греческим языками, преподавались бы языки латинский и польский; помимо этого, эта академия должна была осуществлять высший контроль над вероучением и нравами. Сама эта программа уже очень напоминала о западных академиях. Патриарх был весьма обеспокоен созданием такого учебного заведения, которое одновременно ограничило бы его власть и роковым образом попало бы в руки иностранных наставников, православие которых было более чем сомнительно.
Об этой опасности было доведено до сведения царя, но другим лицом, а именно Медведевым. 19 мая 1681 года он донес царю на некоего Ивана Белобоцкого, только что по своему собственному желанию прибывшего из Смоленска в Москву, чтобы преподавать в тех школах, которые царь намеревался открыть. Он заявил, что готов принять православие и даже монашеский постриг: на самом же деле, как говорил Медведев, Белобоцкий, действовавший под покровительством своего друга Негребецкого, был кальвинистским проповедником пастора Шлюка, человеком без устойчивых религиозных убеждений, своего рода цыганом, принимавшим без всякого зазрения совести вероисповедание той страны, в которой он жил. Он был допрошен, уличен в безбожии и все-таки продолжал жить в Москве, расширяя круг своих сношений и проповедуя свое индифферентное отношение к религиозным вопросам.
По правде сказать, редко можно было в то время найти москвичей, которые в своем интересе к польской культуре доискались бы до ее латинских истоков. Скорее, широко распространялось своего рода безразличие, стремившееся отделить религию от повседневной жизни и фактически подчинить ее иным жизненным запросам. В то время как старая церковь была всем для русского народа, новая, созданная декретами и поддерживаемая руками палачей, была не чем иным, как одним из органов государства. Люди, искавшие света за границей, питали к ней лишь внешнее почтение; то было лишь угодливое подчинение придворных чиновников или просто покорных подданных. Те, кто, принадлежа формально к новой церкви, сохраняли живую веру, не могли питать таких чувств, которые отделяли бы их от старообрядцев. «Инок» Никон, когда он умер 17 августа 1681 года, перед самым Ярославлем, находясь на корабле, который возвращал его из изгнания в дорогой его сердцу Воскресенский монастырь, казался простому, согбенному от бесправия люду, уже забывшему все препирательства, как бы несущим ему какое-то благословение. Не вставала ли тут перед народом тень старых счастливых времен единения? А сам он, в продолжении последних пятнадцати лет, разве он не был более близок своим прежним противникам, нежели теперешним столпам церкви?
Другой патриарх, с более широкими взглядами, сделал бы все возможное, чтобы вернуть горящих подлинной верой старообрядцев в лоно официальной церкви; для старообрядцев же, для которых отсутствие иерархии было сплошным мучением, становившимся изо дня в день все более тягостным и, кроме того, все более и более угрожающим для будущего, – возвращение в лоно церкви, которая, сняв все свои клятвы, признала бы законность древнего благочестия, было бы вполне возможным.
Перед лицом натиска католицизма на Русь, перед «капитонами», квакерами, индифферентизмом и расколом патриарх Иоаким принимает только одни административные меры, направленные целиком против старообрядцев. Иоаким созвал в феврале 1682 года собор, на котором он принудил его членов принять целый ряд мер, скорее административного, чем духовного характера.
Сначала были созданы новые епархии: их по первоначальному плану должно было быть семьдесят две, подчиненные двенадцати митрополитам, затем решено было создать только тридцать четыре епархии, а в конечном счете, ввиду того, что иерархи не хотели ничего уступать ни из своих земельных владений, ни из своих доходов, вопрос был пересмотрен заново. Прекрасная, казалось бы, реформа, но чем руководились, проводя ее? «Не токмо в такой далней и пространной [сибирской] стране, но и в иных многих градех, а имянно в Путивле и в Севске, в Галиче, на Костроме и в иных многих местех противники умножились, зане не имеют себе возбранения за разстоянием далним» И в самом деле, новые епископы Великого Устюга, Воронежа и Тамбова посылаются на места специально для пресечения старой веры; знаменитый Афанасий Холмогорский объявляет ей нещадную войну. Монахам был объявлен запрет покидать свои монастыри, дабы они не странствовали из одного монастыря в другой, вдовым попам воспрещено выполнять обязанности духовных отцов на дому у частных лиц; каждому, пожелавшему бы основать новый скит, также было запрещено делать это; скиты уже существующие должны были слиться с организованно действующими монастырями или же быть преобразованными в приходы. Все эти меры – причем последняя уже позволяет нам предвидеть сокращение числа монастырей при Екатерине II – становятся легко понятными, если только ознакомиться с речью, произнесенной царем на соборе!
«Мнози монахи (…), не хотя быть у наставников своих под послушанием, отходят из монастырей и начинают жити в лесах, и помалу прибирают к себе таких же непослушников, и устрояют часовни, и служат молебны (…), и в тех новопостроенных пустынях церковное пение отправляют не по исправным книгам, и для того приходят к ним многие люди и селятся близко их, и имеют их за страдалцов, и от того урастает на святую церковь противление».
Чтобы ускорить уничтожение старых книг, решили, что их обмен на новые будет совершаться не за плату, как это происходило прежде, но безвозмездно. Чтобы положить предел распространению пагубных рукописаний, которые под видом «извлечений из священных книг», выполненные на листах, в тетрадях и в свитках, продавались у Спасских ворот и в других местах, был установлен специальный орган власти. В нем было два представителя, один от гражданской власти, другой – от церковной, которые обязаны были отводить нарушителей в Патриарший приказ, а в случае сопротивления и вызывать на помощь стрельцов. Домовые церкви должны были быть закрыты, исключая только некоторые, находившиеся под особым наблюдением. Собор напомнил, что уже царь Алексей приказал, чтобы непокорные церкви были переданы в руки гражданской власти: это решение было подтверждено и были приняты новые меры, дабы обеспечить точное выполнение распоряжений. Воеводам и дьякам городов и посадов, как уже состоящим на службе, так и будущим, были даны противостарообрядческие инструкции с указанием, чтобы они точно их выполняли; помещики, которые узнали бы о существовании на своих землях противников церкви, обязаны были донести о них воеводам и епископам, чтобы виновные были арестованы. За ними должны были быть присланы вооруженные люди. В то время как собор 1667 года удовлетворился передачей «еретиков» в распоряжение гражданской и церковной власти, собор 1682 года уже поставил в обязанность как гражданской, так и духовной власти всех категорий активно преследовать их. Вот прошло почти пятнадцать лет, как был установлен розыск в отношении противящихся официальной церкви, теперь же его только колоссально усилили.
Впервые духовные и гражданские власти по-настоящему оценили опасность, которую представляла для бездушного и духовно мертвого государства старая вера. Впервые за все время эти власти вкупе поставили себе задачу полностью ее уничтожить. Но как достичь этого, не отделавшись от тех, которые в глазах старообрядцев были представителями старых традиций, наставниками, руководителями в делах совести, советчиками во всех обстоятельствах жизни, одним словом, – отцами? Они, конечно, были высланы в самый отдаленный пункт Руси, на Ледовитый океан, почти зарыты в подземелье, изуродованы, они голодали и холодали, но само их удаление и их длительное мученичество еще более увеличивало их ореол. Повсюду находили написанные ими писания, их вдохновенные поучения, их учеников, рассказы об их чудесах; для полицейской вла сти Иоакима все концы противления сходились в Пустозерске. Прежде чем собор завершил свою работу, в Пустозерск был направлен приказ сжечь бывшего протопопа Аввакума, монаха Епифания, бывшего священника Лазаря и бывшего дьякона Федора.
VIII
Когда Аввакум и его соузники узнали о постановлении об их смертной казни, они стали умолять воеводу выполнить его без промедления, из боязни, как бы не появилась отмена приказа.
День в день, ровно через двенадцать лет после кровавых казней, совершенных под руководством Елагина, 14 апреля 1682 года, в Великую пятницу, на еще замерзшей площади в Пустозерске были навалены бревна с кучей соломы, а вокруг ветки елок и берез. Все жители жалкого посада, согласно указу, должны были присутствовать. Осужденные приближались с пением молитв. Федор и Аввакум взаимно испросили прощения друг у друга. Протопоп дал свое последнее благословение; все дали друг другу последнее лобзание мира. На костре они подняли правую руку, соединив персты согласно своему исповеданию и возгласив народу: «Се истинный крест, за который мы умираем!» Какой-то стрелец зажег костер. Все сняли шапки. Охваченный пламенем Аввакум еще громко воскликнул: «Братия, всегда молитесь этим крестом и вы обрящете жизнь вечную. Если когда-нибудь оставите его – вы погибли».
Вдруг раздался крик. Всем представилось, что они видят высокую фигуру протопопа, наклонившегося к тому, кто не выдержал муки. Епифаний был поднят над костром и исчез из виду: многие из присутствовавших утверждали, что он был взят на небо. Вскоре костер погас, и на его месте обнаружили лишь испепеленные останки мучеников.
Позднее некоторые утверждали, что на дороге они повстречали Епифания, который сказал им подобно воскресшему Христу, обратившемуся к своим ученикам: «Мир вам», – и добавил: «Я жив, не сомневайтесь, сообщите это братиям, дабы они утвердились в старой вере». Дополнили также последние слова Аввакума: «Если вы когда-нибудь оставите его (двуперстное крестное знамение), ваш посад погибнет, погребенный под песком, и конец его будет концом мира».
Заключение
I Дни 1682 года
Подобно тому, как Алексей Михайлович умер в течение восьми дней после взятия и разгрома Соловков, свою жизнь кончил и царь Федор, скончавшийся через две недели после казни пустозерских отцов; умер он 27 апреля, двадцати одного года от роду. Трон должен был перейти Ивану, сыну царицы Марии. Вместо этого он был передан Петру, сыну царицы Натальи. Матвеев и все Нарышкины тут же были возвращены из ссылки.
Но царевна Софья, сестра Ивана, и Милославские стали возражать. Стрельцы, из которых Алексей организовал своего рода преторианскую стражу телохранителей, считали себя настоящими носителями народного сознания. И они, как и весь народ, были недовольны все увеличивающимися тяготами жизни: дороговизной, особенно тягостной вследствие плохого урожая предыдущего года, усилением крепостничества, наконец, той пропастью, которую вырыли новые нравы между высшим обществом и бедными людьми, а равно также и гонением старой веры. Кроме того, им приходилось жаловаться на плохих начальников. Уже 24 апреля они подали челобитную против своего головы; их посланный был арестован, они освободили его силой. Каждая партия старалась привлечь их на свою сторону: Милославские старались их разжалобить несправедливостью по отношению к Ивану; Нарышкины же разрешали им стегать кнутом и розгами своих же офицеров.
Первые представляли собой право и порядок: они и взяли верх. 15 мая все полки стрельцов вторглись в Кремль, изрубили изменников, многих из Нарышкиных и их сторонников, Матвеева и других; затем они пошли в Грановитую палату рвать сказки и другие документы о крепостном состоянии, а после в боярские хоромы, чтобы отпустить на волю слуг, крича, что они водворят на Руси справедливость. По их требованию 26 мая Иван был провозглашен царем вместе с Петром, а с 1 июня регентшей стала Софья.
Такое положение очень благоприятствовало замыслу, взлелеянному с благословения Аввакума Досифеем. Жребий судьбы указывал на инока Сергия как на исполнителя плана. Он прибыл в Москву в первых числах июня. С ним был список большой Соловецкой челобитной: семь тетрадей в четвертую долю листа и два свитка: имея все это, он должен был тут же на месте составить свою челобитную и дать ее подписать по возможности наибольшему количеству людей. Он договорился с попом Никитой, который с некоторых пор снова стал деятельно служить старой вере, а также и с представителями стрельцов: восстановление старой веры входило в конкретные требования многих полков и вообще отвечало чаяниям всех. Происходили тайные собрания в Гончарной слободе у вдовы Феодоры, булочницы, их посещали Савватий из Переславля, вскоре после крещения пришедший в Москву из Олонца, Савватий из Костромы и четверо ревностных мирян, из которых самым сведущим был Савва Романов. Вскоре, то есть к середине июня, текст был составлен. Он не содержал чего-либо нового. Но достоинство челобитной заключалось в том, что она должна была быть представлена от имени всех горожан и всех стрелецких полков. Когда им прочли челобитную, они прямо заявили, что «в жизни своей не слыхали таких прекрасных речей и такого описания ереси новых книг».
23 июня Никита, Сергий и Савватий, окруженные огромной толпой, направились в Кремль. Хованский, бывший верховным начальником над стрельцами и знавший обо всем, обещал свою помощь, но делал вид, будто ничего не знает. Он спросил у них: «Зачем пришли, святые отцы?» – «Пришли мы бить челом, чтобы восстановить православную Церковь. Если же патриарх откажет, то пусть скажет, чем старые книги дурны и почему он ревнителей отеческих мучает, ссылает, проклинает и почему он Соловецкий монастырь разорил»[1845]. «Если же нужно доказать ересь новых книг, то это мы сможем», – сказав это, Никита передал челобитную.
Интересно было бы знать: эта мысль о собеседовании между представителями старой веры и официальной церкви в присутствии царя, возникла ли она во время самих собраний в Москве? Савва Романов, широко осведомляющий нас о ходе событий, по этому поводу молчит. Более вероятно, что эта мысль входила в план, представленный на одобрение еще Аввакуму.
Посещение патриарха, состоявшееся 28 июня, дало возможность последнему лишь прощупать противников. 5 июля 1682 года около 10 часов утра ревнители древней веры торжественной процессией отправились в Кремль. Перед ними несли крест, иконы Божией Матери и изображе ние Страшного суда, зажженные свечи, Евангелие и нужные для ученого спора книги. За ними следовала огромная толпа. Люди, стоявшие вокруг, показывали друг другу наставников веры, монахов, на головах которых спускались до самых век куколи, совершенно как у древних святых. О них говорили с восхищением: «Вот уж эти брюха себе не отъели». Для всего верующего и доверчивого мелкого люда то был день, долженствовавший решить судьбу Церкви. Тут не было никакой политической преднамеренности, никаких корыстных побуждений. Была искренняя вера, слепая надежда на искренность спорящих, даже у главарей детская наивность: 23 июня Хованский обещал Никите, что помазание царя на царство будет происходить по старому обряду и по его указанию приготовлены просфоры с прежним восьмиконечным крестом; конечно, 25-го, в день венчания на царство, он даже не смог войти в собор!
В то время как толпа ждала конца службы на Кремлевской площади, два посланных патриархом священника прочли вслух бумагу, которой стремились подорвать уважение к Никите. В бумаге этой говорилось о его предыдущих отречениях. Никите и Сергию с большим трудом удалось спасти одного из чтецов от гнева своих друзей. Они хотели было устроить споры открыто при всем народе. Однако, под предлогом надежной охраны царской особы, власти перенесли прения в Грановитую палату. Успокоенные поручительством Хованского, участники диспута согласились вместе с выборными от стрельцов пройти в зал, где уже находились Софья, ее тетка, сестра и царица Наталья. Справа от них сидели патриарх и архиереи, слева высокие сановники.
Те, кто принес сюда народные думы и чаяния, тут же превратились в обвиняемых, а обещанные прения – в судилище. «Зачем в царские палаты пришли, чего хотите с неслыханной такой дерзостью?» – кричала Софья. «Праведного рассмотрения с вами, новыми законодавцами, и чтобы Церкви Божии были в единении и мире»! – сказал Никита. «Миряне должны повиноваться пастырям. Книги были исправлены с греческих и славянских харатейных книг по грамматике, и вера от этого не изменилась. А вы, вы грамматикою разума не коснулись и не знаете, какую он имеет силу», – поучал патриарх. После возражения Никиты взял слово новый архиепископ Афанасий. Он говорил, что Никита якобы поднял на него руку. Правительница устранила его от разбирательства. Тогда перешли к чтению челобитной; чтение часто прерывалось криками приведенной в негодование Софьи, ее призывами к преданности стрельцов и ее угрозами. Епископы отваживались лишь на редкие восклицания. Затем, так как пришло время всенощной, все разошлись, отложив продолжение спора на неделю. Сторонники старой веры вышли из Грановитой, показывая истинный крест и восклицая: «Сим победим!» На Красной площади они отчитались перед народом и вновь прочли Соловецкую челобитную.
Измученный Никита упал в припадке, изрыгая пену. Затем все вернулись в Гончарную слободу и отслужили благодарственный молебен в церкви Спаса в Чигасах; расстались, уверенные в торжестве истины.
Увы! Эти глубоко верующие люди имели дело с политиканами. Ни Софья, ни Иоаким не имели ни малейшего намерения вести искренний спор с бунтарями-мужиками. Они пустили в ход изведанные способы всех правящих в отношении управляемых, обласкали одних, запугали других; заверили иных, что их подчинение будет вознаграждено исполнением их желаний; в общем, стрельцы дали себя разобщить. Сумели отделаться от вожаков: не прошло и недели, как были арестованы монахи, Сергий был отправлен в Спасский монастырь в Ярославль, многих мещан выслали на Терек. 11 июля на рассвете на Красной площади был обезглавлен Никита; тело же его было брошено собакам[1846].
II Поклонение Аввакуму; Анастасия и Иван
Когда летом 1682 года сибирские посланцы возвратились в Пустозерск, они не нашли больше тех, от кого ждали совета, как им быть: выбирать ли жизнь или смерть?[1847] Весть об этом распространилась среди христианских общин. Вместо того чтобы посеять страх, на что надеялся Иоаким, гонение лишь распалило мужество. В сентябре 1686 года арестованные старообрядцы Кинешмы твердили тем, кто их увещевал: «Хотим пострадать, как пострадал отец наш протопоп Аввакум»[1848].
В начале синодиков стояли имена Аввакума, Лазаря, Епифания и Федора: всюду молились за них, в то же время к ним обращались, как к блаженным[1849]. В Чирском скиту, на Дону, 7 января 1687 года чудесным образом перенесенный в рай ребенок видел протопопа и других мучеников, увенчанных славой – это видение, закрепленное письменным повествованием, скоро стало достоянием широких народных масс[1850]. Архиепископ Афанасий в 1691 году приписывал упорство «раскольников» своей епархии народной памяти о заключенных Пустозерска[1851].
В те времена, когда добрые христиане не признавали иных изображений человеческого лица, кроме икон святых, уже иногда писался лик Аввакума. Пример тому исходил, без сомнения, из Онуфриева скита: инок Сергий повелел написать изображение своего учителя, перед которым поклонялись в молитве тайком, чтобы не давать повода к упрекам или гонениям[1852]. Это первое изображение, как бы оно ни было стилизовано, должно было быть точным. К несчастью, ничто не говорит за то, чтобы последующие иконописцы руководствовались им. Подлинник был таков: священник, изображенный во весь рост, высокий, худой, с выразительными глазами, длинной остроконечной бородой, ниспадающими на плечи волосами, облаченный в ризу и епитрахиль, пальцы правой руки сложены для благословения, в левой же руке он держит развернутый свиток, на котором можно прочесть первые слова: «Братия мои возлюбленные…» Иногда изображалось небо, ангелы, Богоматерь и Исус Христос, с любовью взирающие на него и благословляющие его: «Не бойся, раб Мой, – Се Аз с тобою»[1853]. Иногда изображение обрамлялось, как делалось для святых, сценами, отражающими в миниатюре эпизоды его жизни: он сжигает себе руку над свечой – ему показываются три корабля – он изгоняет ученого медведя – он наказует грешника – ангел посещает его в темнице – он предстает перед епископами – умирает на костре[1854]. Иногда также протопоп бывал изображен перед алтарем и восьмиконечным крестом, держа в одной руке Евангелие, а другой показывая соединенные указательный и средний персты[1855]. Эти изображения распространились настолько широко, что синодальное управление должно было предать грозной анафеме не только «раскольника» Аввакума и его последователей, но и тех, кто осмеливался «намалевать своего гнусного идола»: «чтобы избежать скандала», надлежало «сжечь этого идола всенародно»[1856]. Эта мера не достигла цели, так как в 1724 году были вновь обнаружены иконы Аввакума. Канцелярия по делам раскольников предложила, а Синод отдал распоряжение сжечь их. Но политика того времени была весьма сложна. После совещания с Сенатом это решение было отменено: «Изображение отца раскола, преданного анафеме, еретика, почитаемого среди раскольников святым», не должно быть сожжено, но владеющие таковым обязаны сообщить о нем духовным властям[1857].
Аввакум в эту пору уже вошел в историю. Почти уже не оставалось людей, знавших его. После казни семья его продолжала жить в Окладниковой слободе. Но настал день, когда Анастасия с сыновьями Иваном и Прокопием были выпущены из своей земляной темницы, об этом свидетельствует то, что Иван в течение недолгого времени был дьячком в церкви Богоявления. Когда князь Василий Голицын, фаворит Софьи, оказался высланным на Мезень[1858], Иван стал взывать к его заступничеству. Соответствующий указ пришел в 1692 году. Все три изгнанника вернулись в Москву. Сначала они жили в Елоховской слободе, у своего родственника Меркула Лукьянова, затем на Шаболовке в приходе Святой Троицы, у капитана Якова Тухачевского, возможно какого-нибудь родственника прежнего пустозерского воеводы. Там Анастасия в 1711 году и завершила свою многотрудную жизнь, исполненную преданности и героизма. Что за жизнь изведала в Москве вдова родоначальника старообрядчества в царствование Петра Великого! Нет никакого сомнения в том, что она осталась верной вере своего мужа, что она почитала его как мученика и святого, следуя его учению так же, как тогда, когда она следовала за ним и поддерживала его во время его пребывания на земле; с ужасом, надо думать, смотрела она и на ежедневные новые победы антихриста. По-видимому, на Шаболовке сохранилось как бы небольшое ядрышко друзей истины. Весьма любопытно, что в 1710 году основатель секты оригенистов, Суслов, обосновался там же. Возможно, что эта небольшая группа домов, пока здесь не выстроили в 1699 году деревянной церкви, и ускользала от бдительности властей[1859]. Но затем волей-неволей Анастасии и Ивану пришлось признать власть приходского священника Филиппа Феофилактова: тогда, наверное, им и вспомнились все уловки их мужа и отца, чтобы уклониться от кощунственных благословений и ложных таинств! Иван делал вид, что исповедуется у Филиппа, изредка заходил в церковь и при народе крестился тремя перстами. Когда только это было возможным, он не делал этого. Не было ли это постоянной мукой, эта жизнь в вечном страхе и в полу-обмане?
Если Анастасии удалось умереть без тревог, то сыну ее не выпало на долю такого счастья. 24 июня 1717 года он был арестован приходским священником и дьяконом церкви Вознесения, что у Серпуховской заставы: они признали в нем человека, который восемь лет назад присутствовал при смерти некоей Евфросинии, что-то засунул ей в рот и хотел было похитить ее тело, чтобы по-своему похоронить его; далее, они также признали в нем человека, которого они затем встречали у явных «раскольников» и который избегал их благословения. Допрошенный Стефаном Яворским, Иван сознался, что это действительно он, сын своего отца, но отрицал все остальное: он входил в те дома лишь для того, чтобы попросить там подаяния. Пробыв долгие месяцы в заключении, он был потом освобожден и сдан на поруки.
В 1720 году, уже будучи стариком – ему было тогда уже около семидесяти пяти лет – он был снова отправлен в Приказ церковных дел в Москве. Он сознался, что не причащался с 1714 по 1719 год. Его заставили подписать заявление, по которому он «отца своего Аввакума за православного не приемлет и вменяет его за сущаго святей церкви противника и всех злых его дел отрицается». Однако он все же был отправлен в Санкт-Петербург, где начальник Тайной канцелярии Петр Толстой в присутствии архимандрита Александро-Невского монастыря вновь принуждал его «отступиться от веры и проклясть раскольников». Его собирались было отправить в Кирилло-Белозерский монастырь, но 7 декабря 1720 года его нашли в темнице мертвым[1860].
Аввакум пережил себя отнюдь не благодаря точным воспоминаниям о том или ином его поступке. Мало кто мог в то время определить его конкретные действия, уточнить даты, поставить их в связь с текущими историческими событиями. Кто слышал в те годы о протопопе Стефане Вонифатьеве, о Неронове и о ревнителях благочестия? Официальная церковь слишком презирала этих фанатиков, а старообрядцы были слишком деятельны в конкретном своем благочестии, слишком проникнуты сегодняшним днем своей веры, чтобы особенно много размышлять о прошедшем. Протопоп продолжал пребывать среди них как бы живой благодаря своим писаниям. Их снова и снова любовно переписывали, не как литературные произведения, но как всегда своевременные ответы, всегда полезные советы, всегда нужные наставления. Смотря по склонностям и по потребностям, эти сочинения либо воспроизводились с необыкновенной точностью, либо их разделяли на части, которые потом переставлялись. Иногда их присоединяли к другим чтимым произведениям, как, например: к Челобитной Авраамия, к Житию Епифания, к Соловецкой челобитной. Порой находились желающие иметь полное собрание всех произведений протопопа: известно, что в 1689 году некий купец Михаил обладал сборником писем Аввакума в девяносто восемь листов. Найдено около двенадцати рукописей XVII века, содержащих списки посланий Аввакума; гораздо более многочисленны рукописи XVIII века[1861].
III Споры на Керженце, Выге и разногласия между старообрядцами
Аввакум был мучеником веры, апостолом, чей пример, чье пламенное и непосредственное вразумительное слово, чья могучая личность, в соединении с необыкновенным умом, воистину достойным первоначальной церкви – снова и снова на протяжении всей его жизни воодушевляли сердца. Но мог ли он преподать правило веры будущим поколениям, мог ли дать им неоспоримое учение, способное завоевать всеобщее признание и сохранить между старообрядческими общинами единство веры и общения?
После надежд, вызванных великим начинанием Досифея и жестоким последующим разочарованием, – время челобитных окончательно прошло. В ответ на костры, возведенные Софьей, вспыхнули костры добровольных самосожжений; в течение девяти лет лишь по 1691 год было зарегистрировано тридцать два случая с более чем двадцатью тысячами жертв. Какое яркое свидетельство глубокой веры этих людей![1862]
Тем, кто колебался, показывались письма «святого протопопа и священномученика». Монаху Сергию, после двух лет проведенных в Ярославле, и еще двух лет, которые он провел закованным в кандалы в Рязани[1863], удалось добраться до Керженца и там размножить в большом количестве списков эти письма. Аввакум, не был ли он вторым апостолом Павлом, послания которого требовали полного повиновения? Он никогда не утверждал, что добровольная смерть была единственной возможностью сохранить чистоту веры, но из отдельных фраз, при лихорадочном возбуждении, царившем в те времена, извлекали это преувеличенное учение. Коллективное самоубийство, совершаемое главным образом огнем, вошло в религиозное сознание русского народа, и больше из него не уйдет. Каждый раз, когда разразится гонение, мы увидим, что найдутся старообрядческие семьи, а иной раз и целые села, которые в огне будут искать спасения от «антихристовой скверны»[1864].
Рождается и суровая восторженная лирика старообрядчества:
Несть избавления в мире, несть! Лесть одна лишь правит, лесть! Смерть одна спасти может нас, смерть! Несть и Бога в мире, несть! Счесть нельзя безумства, счесть! Несть и жизни в мире, несть! Огнь один ждет, один лишь огнь! Смерть одна спасти нас может, смерть![1865]Но в то же время жизнь упорствовала. Якобы данный сибирякам совет Аввакума некоторыми порицался. Отражал ли он общее мнение пустозерских отцов? Домна, вдова попа Лазаря, утверждала, что вопрос этот у них не поднимался. Досифей решительно осуждал самосожжение: он отказывал самосожженцам в заупокойных молитвах. Его ученик Евфросин написал в 1691 году очень решительное опровержение новой системы самоуничтожения[1866]. В Поморье, где 4 марта 1687 года в Палеострове, куда был в свое время сослан епископ Павел, сжег себя дьякон Игнатий вместе с 2700 последователями, на Керженце, на Дону и на Куме, в Брянских и Волоколамских лесах – всюду происходили страстные споры.
В русской Фиваиде – на Керженце – разожгло новые споры привезенное Сергием «Евангелие вечное». Онуфриев скит, пользовавшийся некоторым главенством, стоял за Аввакума, другие за Федора. Первый церковный собор, состоявшийся по этому поводу в августе 1693 года, закончился скандалом: положения Аввакума были признаны еретическими! Онуфрий переплел в бархат оклеветанные сочинения подобно Евангелию, положил их под образа и заставлял читать их во время богослужения. Из-за этого между онуфрианами и сторонниками Софония возник раскол, который отразился в Москве, в Стародубье и на Ветке. Он длился до 28 ноября 1708 года: в тот день Онуфрий признал, что многие выражения о Троице и Воплощении и другие не соответствуют Писанию, он и его приверженцы отвергли их и прокляли. Опозоренная книга, переплетенная в бархат, была возвращена иноку Сергию[1867].
Прения, возникшие по поводу богословских вхглядов Аввакума, закончились и больше не возобновлялись, но та же жажда правды и почти вещественной реальности, которые вдохновляли протопопа на его смелое толкование догматов, вызвала к жизни новые тенденции русского народного мышления, главным образом направленного на то, чтобы нередко превращать истины христианства в чистые символы. Добровольная смерть, с другой стороны, могла прельстить лишь души людей, чрезвычайно чувствительных к неминуемому царствованию антихриста; возникал вопрос, нельзя ли его избегнуть другим путем, именно: удалиться в пустыню, как и прежде поступали святые отцы? Пустыней теперь считались огромные леса Севера, Урала, Сибири, а также и незаселенные южные степи, где еще можно было легко избежать двойного налога, паспорта, рекрутского набора, «увещаний» духовенства. Уже Аввакум указывал на пустыню как на возможное пристанище. Ей теперь воспевали хвалу во многих стихах:
Уж как пишет сын Васильев Преподобный отец наш Ефрем: Уходите, мои светы, Вы во темные во леса; Вы скрывайтесь, мои светы, Вы во горы, во вертепы. Вы вселяйтесь, мои светы, Вы во пропасти земные. Кто-бы мне поставил в темных лесах келию? Не на житейском бы месте, Где бы люди не ходили, Где бы птицы не летали; Где Тебе, Христе, угодно, Где душам нашим на пользу; Где бы мне не видеть Всех соблазнов сего мира[1868].Но как в пустыне, так и в миру неизбежно перед всеми встает вопрос: каким же образом организовать свою духовную жизнь? Неоспоримо правильные священники, крещенные и рукоположенные до Никона или, по крайней мере, до 1666 года, и оставшиеся верными старой церкви, понемногу переводились. Чтобы рукополагать новых, не было епископа. Каким же образом могли продолжать существовать таинства? Этот вопрос вставал уже давно. Аввакум решил его со своей обычной практической рассудительностью, введя принцип непреодолимых обстоятельств: годится всякий иерей, лишь бы он служил по старым обрядам, не нужно дознаваться, кем он был рукоположен и как крещен; не допытываться, впадал ли он когда в заблуждение, не обсуждайте то, что церковь, в которой он служил, возможно, была лишь никонианской, признавайте его священником и принимайте от него все таинства. Таким образом, верующие могли постоянно иметь если и не безукоризненную иерархию, то, по крайней мере, духовенство, необходимое для совершения служб. Что касается таинств крещения и брака, то протопоп дал очень твердые и решительные ответы[1869]. Решение вопроса возникало само собой.
Но сам Аввакум, не говорил ли он в другое время и в другом месте: при отсутствии истинного священника лучше обходиться без него, чем обращаться к никониану. Церковь не в здании, она обитает в самих верующих: исповедывайтесь друг другу; причащайтесь сами; совершайте крещение сами – все это оправдывается необходимостью. В этом не было противоречия, так как учение его должно было применяться лишь в случае отсутствия священника, соблюдающего старые обряды. У Аввакума было совершенно правильное понимание священства, его божественного назначения и непрерывности его пребывания даже и при царствовании антихриста; он не допускал того, чтобы Церковь могла когда-либо обойтись без него. Но писал он изо дня в день, не заботясь о том, чтобы собрать различные аспекты своей мысли в систему, в результате получилось так, что те, кто мыслил себе нормальную жизнь Церкви без священников, также в какой-то мере могли ссылаться на него.
И действительно, даже священники нового рукоположения, совершающие богослужение по старым обрядам, были редки, а если кое-где и встречались, то далеко не всюду. С другой стороны, признавать действительность таинств, совершаемых официальной церковью, было противно духу старой веры. Аввакум, без сомнения, писал и верил, что троеперстное крестное знамение является печатью антихриста, однако в глубине души не чувствовал непосредственного присутствия Зверя. Так, первые христиане, ожидая Второго пришествия, все же старались мудро устраиваться в мире. Но находились и такие старообрядцы, и их было много, которые имели глубокое убеждение в том, что правительственная церковь непосредственно сочетается со Зверем и что нет больше ни действительной церкви, ни подлинного священства. Как же тогда принимать крещение от последователей Никона? И тем более рукоположение? Тех, кто обращался к старой вере от никонианства, нужно было крестить вновь: каждый христианин имел на это право. Что касается таинств, обязательно требующих для своего совершения священника, то можно было обойтись без них. Это учение вытекало из писаний дьякона Федора, инока Авраамия и попа Лазаря – и оно имело то преимущество, что было строго логичным.
В начале возник главным образом вопрос о месте, где обретается истинное священство. Там, где были признанные и уважаемые священники, их никто не отвергал. Верующие из Стародубья, пока среди них были Стефан и Козма, отстранили Иоасафа, рукоположенного когда-то архиепископом Тверским, сторонником Никона, хотя и служившего по старым обрядам; однако, как только исчезли Стефан и Козма, верующие стали умолять его не оставлять их. Каждый раз, как появлялся какой-нибудь странствующий священник с освященными Святыми Дарами, его повсеместно встречали с восторгом. Но все же были ли эти Святые Дары истинными? Литургия, совершаемая на этом, возможно, старом антиминсе, однако принесенном в церковь, для которой он не предназначался, была ли она действительной? Даже этих священников скоро не будет, кем же заменить их? Неужели только перебежчиками, привлеченными алчностью, либо изгнанными из правительственной церкви за недостойное поведение? И как надо было принимать их: допускать после простого отречения, без нового крещения? Но это означало бы признавать никонианское крещение? Крестить ли их вновь? Но это означало бы тем более отрицать их священство! Все эти практические затруднения, равно как и логические рассуждения, должны были привести многие общины к чрезвычайным, крайним решениям.
В Новгороде собрались два церковных собора из старообрядцев всех регионов, которые подтвердили свое полное отречение от священства со всеми вытекающими последствиями. Первый собор, начавшийся 1 июля 1692 года, заклеймил ересь Ивана Коломенского, выдающегося и глубоко преданного вере человека, ушедшего в Швецию, за то, что он признавал рукоположение и крещение никониан и не находил греха в браке. Второй собор, состоявшийся 3 июня 1694 года, ввиду ожидаемого близкого конца света и начала царствования антихриста, уже духовно действующего в официальной церкви, констатировал, что в этой церкви святыня уже не действует, и предписал вновь окрестить всех приверженцев никонианской церкви, жить в безбрачии, отказаться от всякого общения с миром, даже в принятии совместно пищи. Таким образом, создавалась церковь беспоповцев[1870].
Вскоре у этой церкви нашлось и новое святое место на реке Выг, на полпути между Онежским озером и Белым морем, в местности, уже ранее исхоженной монахами Корнилием, Епифанием, Игнатием, Геннадием, Пимином и Досифеем. Один из учеников последних, Даниил Викулин из большого села Шунга, вместе с посадскими людьми из Повенца – юным сыном обедневшего потомка князей Мышецких, Андреем Денисовым и его двоюродным братом Петром Прокопьевым – основал тут скит, который, из года в год расширяясь, стал, без всякой помощи извне, киновией совершенно исключительного значения. Около тысячи христиан, мужчин и женщин, проживали там в двух монастырях без иерархии, соблюдая обеты целомудрия, нищеты и полного послушания. Все они находились под началом у особого киновиарха. Кормились они трудами своих рук, но в годы сильных морозов ходили вдаль за подаянием; занимались они и рыбной ловлей, и торговлей; у них были часовни, где под руководством екклесиарха и певцов, обученных в их школах, они тщательно выполняли богослужение по старым книгам; среди них избирали наилучших, чтобы им могли каяться в своих грехах, что делалось четыре раза в год. Эти же лучшие люди, или наставники, должны были руководить духовной жизнью всех членов общины. Со всех сторон стекались на Выг верующие, дабы получить там наставление и просвещение; чтобы удовлетворить их запросам, Андрей создал особую книгописную мастерскую, где грамотные люди без устали переписывали очень красивым и четким почерком, до сей поры высоко ценимым, богослужебные книги и творения святых отцов, челобитные и иные труды, составляемые в защиту истины. Он обучил особых иконописцев, которые писали образа, следуя старым иконописным подлинникам, канонам Стоглава, отнюдь не допуская фряжских нововведений. Особые литейщики отливали кресты, медные иконы и складни, столь же превосходные по качеству работы, сколь и безукоризненные с точки зрения православия. Он открыл школы для детей и взрос лых. Он собрал большую библиотеку, в которой были представлены книги не только по богословию, но и по истории, грамматике и поэзии, а также учебники философии и литературные труды. Первые киновиархи – Андрей Денисов, умерший в 1730 году, и его брат Семен, заступивший его место, писали сами и обучали учеников. Из Выга вышли такие поучительные и восхитительные произведения, как «История» Ивана Филиппова; красноречивая «История об отцах и страдальцах соловецких»; «Виноград Российский», в котором изложены жития около шестидесяти мучеников за старую веру; риторический характер этой книги не умаляет ее документальной ценности; далее там появились знаменитые «Поморские ответы» синодальному миссионеру Неофиту, которые являются защитительной речью и апологетическим трудом, использующим данные археологии и палеографии, равно как и доводы, почерпнутые из Священного Писания, и литургические и диалектические аргументы. Выг был моральным и духовным центром старой веры. С его монахами, школами, иконами, творениями религиозной, литературной и художественной мысли, со своим длительным влиянием Выг был на Руси неким подобием янсенистского Порт-Рояля во Франции XVIII века[1871].
Однако с первых же лет эта церковь, которая продвинула последовательность своего апокалиптического учения вплоть до отрицания священства, столкнулась с требованиями жизни, шедшей своим чередом, с ситуациями, предвиденными еще Аввакумом.
Сначала они появились в отношении брака. Верующие беспоповцы, связанные с Выгом, не могли все жить монахами. Один из авторов решений, принятых в 1694 году – глава старообрядческой общины в Польше, Феодосий Васильев – сначала отказался разлучать супругов, уже венчанных в официальной церкви, затем стал допускать даже союзы, заключенные вновь обращенными. Выг со всей своей ревностью оставался непримиримым: в 1706 году Феодосий порвал с ним и образовал свою собственную церковь – церковь федосеевцев. Но когда кровавое гонение прекратилось, невероятное нравственное напряжение, оправдываемое ожидаемой близкой гибелью, ослабло. Семен [Денисов] считал, что решение вопроса возможно лишь на путях восстановления иерархии.
В 1730 году начались переговоры с поповцами. Они также, недовольные своими случайными попами, делали тщетные попытки найти себе епископа на Востоке и в Молдавии. Безуспешно посылались также три посланца в Палестину. Тогда пришлось согласиться, как на наименьшее зло, либо на браки, освященные никонианскими священниками, но по старому обряду, либо на союзы, просто благословленные родителями, при условии тех или иных епитимий. От основного принципа не отступали, но из-за невозможности полностью его применить, прибегали к различным лицемерным уверткам.
В 1738 году понадобилось восстановить молитвы за царскую семью. На этот раз отделились от Выга самые непримиримые. Филипп основал независимые общины «твердых христиан» – филипповцев. Перед лицом компромиссов поморцев, федосеевцы, создав свой центр на Преображенском кладбище в Москве, вернулись к строгостям 1694 года. Единственным результатом этого явился полнейший разврат.
Но и эти группы приобретали себе по тому или иному поводу еще более требовательных учеников, которые шли еще дальше учителей и оставляли их, чтобы построить свои собственные часовни. Среди федосеевцев, когда в 1809 году санкт-петербургский Синод разрешил крестить детей «новоженов», не разлучая их родителей, то противники этого соглашения пошли на новый раскол. Московские беспоповцы сторонились своих рижских братьев, которые, чтобы удовлетворить гражданские власти, совершали видимость бракосочетания; равно отчуждались они и от польских своих братьев, которые принимали на исповедь новобрачных. Некие филипповцы, считая, что они станут проповедниками антихриста, если будут платить налоги или вступят в какое бы то ни было общение с гражданскими или религиозными властями, образовали собственное согласие странников, или бегунов, не общающихся с миром. Иные, исключительно последовательные, были возмущены тем, что во всех этих церквах миряне сами совершали крещение и проводили богослужение. И тут некоторые решили обходиться совсем без крещения и богослужения. Другие предпочли обращаться за крещением и совершением брака к священнику никонианину, расплачиваясь затем за свой грех раздачей милостыни и моля, чтобы Бог даровал еретическим деяниям надлежащую силу действия. Так образовались группировки нетовцев[1872].
Таким образом, старая вера распадалась на многочисленные согласия. Достаточно было, чтобы где-нибудь на Руси, у какого-нибудь религиозного человека вдруг появилась своя необыкновенная, особенная мысль, которую он захотел бы распространить, тотчас вокруг него собирались ученики. Такого рода согласия зарождались, некоторое время процветали, затем исчезали или сливались с другими, чтобы, возможно, затем вновь появиться где-нибудь в другом месте: миссионеры, которым было поручено с ними бороться, положительно измучивались в поисках того, как их определить и «каталогизировать». Царство антихриста было очевидным; власть, правящие круги, официальная церковь – все они порвали с христианством; русский народ – народ, который на своем характерном языке сближал два понятия: «крестьянин» и «христианин», – народ этот во что бы то ни стало хотел остаться верным прежней вере, прежним книгам, прежнему учению и прежней христианской нравственности. Он исступленно бился среди неразрешимых противоречий, между требованиями морально-религиозного совершенства и новыми условиями общественной жизни: все эти отделившиеся от церкви согласия, как поповцев, так и беспоповцев, в общем стремились разрешить, в свете представления о пришедшем антихристе, одни и те же трудные вопросы о церкви, о таинствах и о взаимоотношениях с миром. Все они потерпели неудачу: каким же у них оставалось понятие о церкви, что оставалось у них от догматов, у тех, кто обращал догмат в чистый символ? Что оставалось у них от богослужения, если иные отвергали, считая их оскверненными, даже иконы, как старые, так и новые? Иные отвергали воскресенье, иные молитву: что оставалось от нравственности, если распутство предпочитали браку?
Некоторые согласия первоначально, также исходя из положений старой веры, в конечном итоге сохранили лишь очень немногие признаки христианства вообще. Очень немногое отделяло в самом деле бегунов и нетовцев от капитонов. Учитель, доверяя только собственному одинокому аскетизму, отодвинул на второй план помощь видимой церкви; ученики пошли дальше: совершенно от нее отдалились и теперь сами стали создавать себе своих «христов» и «богородиц». Невероятно, чтобы рассеявшиеся повсюду хлысты, столь многочисленные и деятельные, не стояли в какой-то связи с людьми, исходившими из совершенно противоположных понятий, но пришедшими к аналогичным отрицаниям. Кстати, хлысты предпочитали старые книги и двуперстное крестное знамение. Они также претерпели гонения и были вынуждены изображать из себя истинных православных. Все согласия взаимно укрепляли друг друга фактом своего одновременного сосуществования и общим противодействием официальной церкви[1873].
Твердая и нерушимая скала старой веры пребывала в двух видах: то были поповцы и беспоповцы. Те и другие обосновались по случаю чумы 1771 года в Москве и оставались там до последнего времени. Рогожское кладбище было центром первых, а Преображенское – вторых. Кроме того, у поповцев были Иргизские монастыри в заволжских степях, к востоку от Саратова[1874], а у беспоповцев был Выг. Как там, так и здесь и учение, и церковный обиход, и богослужение существовали в строго неизменном виде и ревниво охранялись. Но чем больше прикладывали усилий, чтобы сохранить неповрежденными уставы и обычаи Церкви, тем более трагичным становилось положение.
И сейчас у беспоповцев можно видеть молельные дома без священников, можно присутствовать на их службах. Есть и иконостас, как в настоящей церкви, и строгого, древнего стиля иконы – такие же, какие любил Аввакум, почерневшие от времени и копоти свечей. Верующие разделены: мужчины стоят по одну сторону, женщины – по другую. Все одеты в строгое платье: у мужчин поддевка со складками от талии, надетая поверх русской рубахи, на ногах высокие сапоги; у женщин – сарафан и головной платок, ниспадающий треугольником на спину, причем цветной для девушек и черный для замужних женщин. У каждого своя лестовка и свой подручник, чтобы падать ниц и класть земные поклоны. Вид этих молящихся вызывает мысли о их единении, строгости и равенстве. Чтец, не торопясь, читает поучение, какой-то человек в поддевке, с длинной бородой и длинными волосами кадит: кадило старинное, без цепочек; это своего рода курильница, заканчивающаяся ручкой. Порой какой-нибудь другой почтенный человек направляется к двери: это потому, что какой-то отец вошел с двумя маленькими детьми; они вполголоса разговаривают. Затем все трое кладут перед иконами множество быстрых поклонов. Это епитимья, наложенная за то, что им приходится жить в мире сем и посещать школу. Хор поет: пение без всяких прикрас и далекое от всего житейского, это небесное пение, которое имеет общие черты со строго грегорианским. Богослужение затягивается до поздних вечерних часов. Верующие слушают стоя, иногда выходят на некоторое время отдохнуть, посидеть на скамьях у двери, и снова возвращаются. Каждая христианская душа не может не почувствовать влечения к этому забвению мира, к этому единодушию людей, к этому соответствию места и песнопений, к этой строгости, к этой щепетильной верности традициям, к этому видимому обладанию нетронутой истиной. Вот перед нами подлинно древняя церковь на Руси! Но позади иконостаса нет алтаря – святое место пусто. Однако эти люди не протестанты, здесь стоят те, кто не отрицает пресуществления; они не говорят, что можно вообще обходиться без священников и непосредственно общаться с Богом. Наоборот, они считают, что священство необходимо. Но у них его нет и не может быть: благодать священства отнята. И вот они ожидают, как могут, конца мира, получая с Небес лишь несовершенную помощь. Существует ли еще где-либо подобное отчаяние?
Поповцы, ценой некоторой непоследовательности, сохранили священников, но также долгое время не имели таинства священства. Священниками у них были отступники от господствующей церкви, люди либо привлеченные деньгами, либо опустившиеся, пошедшие на это дело на худой конец; иногда даже обманщики с подложными ставлеными грамотами. Толком не знали, как их принимать: простым ли отречением от никонианских заблуждений или новым миропомазанием. Миропомазание совершалось над священником, облаченным в священнические ризы, дабы он сохранил посвящение, которое ему не могли бы вернуть: жалкая уловка! Но вставал вопрос: где найти миро? Его же может освятить только епископ! В 1777 году священники с Рогожского кладбища задумали было его изготовлять; но было бы оно действительным, они и сами в этом сильно сомневались. Действуя тайно, пропуская наиболее определенные епископские молитвы, они все же его освятили. Иргиз утверждал, что обладает подлинным древним миром: он заручился чуть не монополией на перепомазание никонианских священников. Иргиз и стал за определенную плату направлять в различные общины, на время или постоянно, перепомазанных священников. Священство это никонианского происхождения было подозрительным в смысле каноничности; будучи выброшенным официальной церковью, священник казался, наряду с этим, подозрителен в своем нравственном достоинстве. Какими бы эти священники ни были, когда власть закрывала глаза или вообще не препятствовала делу, в них не было недостатка. Но наступили худшие времена! Николай I создал целый ряд препон для старообрядцев и, наконец, закрыл Иргизские монастыри. Теперь уже больше не знали, к кому обратиться. Собиралось иногда до десяти или двадцати пар брачующихся, чтобы получить благословение на брак; отпевания заказывались письмом и совершались заочно. Иногда отпевание совершалось через несколько недель после фактического погребения; отпущение грехов давалось верующим, собравшимся в церкви, на общей исповеди: кто-нибудь читал предусмотренные в старом Требнике вопросы, и все хором отвечали: «Грешен!» И священник произносил слова отпущения грехов надо всеми. Простые монахи совершали крещение. Пришлось даже санкционировать браки, благословенные одними родителями.
Наконец, иметь священников – это было еще далеко не все: чтобы они могли служить обедни и совершать Евхаристию, нужны были алтари с антиминсами, освященными дониконовскими епископами. Употребление антиминса, предназначенного для другой церкви, уже было некоторым отступлением, обойтись же без древнего антиминса было совершенно невозможно. Хотя Иргиз и был великим духовным центром поповцев, но в нем не служили литургии, а правили лишь другие службы. Там довольствовались Святыми Дарами, освященными в другом месте. Каждому священнику, посылаемому в ту или иную общину, выдавали небольшой запас их.
Так или иначе, трагедия беспоповцев возобновилась и у поповцев. Они понимали всю необходимость сохранения священства; для его сохранения они приносили едва совместимые с их верой жертвы, но и у них также за иконостасом стояли бездействующие престолы!
Эта трагедия не касалась в такой мере групп теоретиков и начетчиков – она поражала прежде всего огромную часть русского народа. И потому в слободах и селах говорили непрестанно о том, что где-то в мире должна же существовать православная иерархия. Дьякон Федор в послании к сыну Максиму утверждал на основании честного слова свидетеля, что патриарх Иерусалимский творит крестное знамение двумя перстами[1875]. Но его уже не было в живых. Но нет ли где-нибудь в другом месте истинной православной веры? Один монах, по имени Марк, беспоповец из Топозера, пошел по Сибири, прошел через пустыню Гоби и нашел на «Белых Водах» в таинственном «Опоньском царстве» истинного патриарха и четырех митрополитов, говоривших на сирийском языке и получивших преемство от Антиохии, равно и сорок русских церквей, которые избежали гонений Никона, с епископами, посвященными этими сирийцами. Рассказ об этих чудесах имел широкое хождение во второй половине XVIII века и переходил из поколения в поколение, все более и более приукрашиваясь: где-то жизнь была спокойной, без гонений, без податей, без рабства, вера содержалась без всяких отступлений, а епископы были настолько святы, что даже зимой ходили босыми[1876]. Спасение было там! Нужно было лишь найти это Опоньское царство и это Беловодье! Верующие только об этом и мечтали. Целые общины отправлялись пешком на Восток. В России этим раем считали Сибирь; в Подолии – Турцию или Египет. Один монах по имени Симеон сорок лет искал его вдоль Нила и дошел до самой Эфиопии. Среди поморцев, обосновавшихся в царствование Екатерины на Алтае, эти экспедиции шли одна за другой; так, были предприняты путешествия в 1825, 1840, 1858, 1861, 1869 и 1888 годах; люди шли в направлении Китая, Индии, Афганистана. Путешественники с женами и детьми, стариками погибали от холода, голода, иной раз их убивали разбойники. Отдельные перенесшие все невзгоды приходили разоренные, дрожащие от страха перед тюрьмой и штрафом, но при этом все же уверенные, что потерпели неудачу как раз накануне желанного успеха. Пускались в путь все новые и новые группы искателей. Еще и теперь многие лелеют мечту о Беловодье[1877]. Авантюристы неоднократно использовали в своих целях эту жажду обрести Град Божий. Так, некий Аркадий около 1890 года выдал себя за епископа, рукоположенного на Белых Водах[1878]. В 1897 году три казака с Урала отправились морем в Индокитай и Китай. Они покинули Японию, увы, так и не обретя на этом свете Небесного Иерусалима[1879].
Это страстное желание подлинно верующих русских оказалось, однако, не безрезультатным. Наступил день, когда легенда претворилась в действительность. Сын уездного писаря Петр Великодворский постригся в монахи в Стародубском монастыре под именем Павла и в 1836 году отправился в путь, но был схвачен в Кутаисе. В 1839 году, он, однако, переправился через австрийскую границу и обнаружил на Буковине старообрядческий монастырь, где заручился ценной поддержкой. Оттуда он направился в Далматию, Черногорию, Сербию и Молдавию, посетил Дамаск, Иерусалим и Александрию. Наконец, в Константинополе в 1846 году ему удалось повидаться с Боснийским митрополитом Амвросием, низложенным турками не за что иное, как за свои добродетели. Он согласился принять старую веру. Когда Амвросия 28 октября привезли в монастырь на Буковине, он отрекся от своих заблуждений и был миропомазан. Затем он посвятил в епископский сан Кирилла и Аркадия. Кирилл посвятил, в свою очередь, в сан Онуфрия, который в миру был крестьянином Ярославской губернии, и Софрония и ими же был возведен в сан митрополита. Однако Амвросий был вскоре посажен в тюрьму и выслан австрийским правительством. Таким образом священство, благодаря рвению Павла, было восстановлено[1880]. Замечательно, что монастырь, откуда оно исходило, назывался «Белой Криницей», то был «Белый Источник», иными словами это были Белые Воды!
Это совпадение во многом содействовало успеху новой церкви. Как радостно было вновь видеть епископов, настоящих епископов, не сидевших за столом у знатных людей, не сиявших золотом и драгоценными каменьями; нет, то были простые крестьяне, ходившие пешком и во время своих поистине апостольских странствий ночевавшие в случайных избах; однако же во время богослужений они надевали митру старинного русского образца. Да, они ничего не знали о лютерском и латинском богословии и посвящали они настоящих священников! Не одни только поповцы увидели в «австрийской» иерархии истинную Церковь: к ним присоединились и многие беспоповцы, и поморцы, и федосеевцы.
Но было ли это разрешением, развязкой драмы? Нет, так как происхождение этой иерархии было все-таки более чем спорно. Достоверным ли было то, что Амвросий был крещен в три погружения? Не запятнало ли его обвинением в симонии данное ему обещание позаботиться о его и его сына содержании? Не были ли учинены сделки с австрийскими властями, то есть слугами антихриста? Трения, возникшие с самого начала между отдельными епископами, а затем и подписанное Онуфрием «Окружное послание», признававшее христианский характер официальной церкви и как-то признававшее принятое ею начертание имени Господа Исуса Христа: «Иисус», и последовавший затем новый раскол – все это только укрепило общие сомнения и колебания. Большая часть беспоповцев продолжала пребывать в своем отчаянии. Какая-то часть поповцев даже предпочла остаться при беглых священниках официальной церкви («беглопоповцы»).
Все эти подразделения существуют и сейчас: поповцы без иерархии; «австрийцы»; беспоповцы, причем они часто живут бок о бок, в одной местности. Если у «австрийцев» есть истинная церковь[1881], полнота религиозной жизни и численность их большая, то они, с другой стороны, должны были сделать уступку духу времени и как-то приблизиться к официальной церкви. Наоборот, тысячи старообрядцев остались гораздо более верными старым традициям. Но одни из них все еще жаждут обрести какую-нибудь невероятную иерархию, другие должны отказаться от огромной части христианской жизни, а третьи, принадлежа к крайним направлениям, почти отказываются от самого христианства.
IV Упадок официальной церкви
Если старая вера дошла до логического самоотрицания, то каким образом она не исчезла перед лицом официальной церкви? Это потому, что официальная церковь все меньше и меньше отвечала христианским запросам народа.
Никон поставил епископов в прямую зависимость от самого себя и царя. Вместо заботы о благочестии и восторженного преклонения перед святыней, подвижничества и милосердия, они проложили путь к светским, политическим заботам, к науке и к увлечению красивым. После падения Никона епископат остался целиком подвластным одному царю.
В стране, которая все сильнее разделялась на крепостных и помещиков, официальная церковь заняла место среди власть имущих, отдалилась от народа и завела для иерархии обычай жить на широкую ногу. Епископы допустили, чтобы церковь загрязнилась иноверными тенденциями; государство же стало безучастным к христианским принципам. Для истинных христиан запылали костры. Затем пришел Петр: эту правительственную церковь, но церковь, все-таки оставшуюся церковью, он упразднил. Отныне это было уже не тело Христово, получавшее непосредственно от Него свою опору, свое назначение, свои законы, свои цели, духовное достояние. Он заменил ее органом, всецело от него зависящим, полностью повинующимся его постановлениям, выполняющим его намерения, придал ему характер государственного учреждения, образовал духовный надзор: «полицию душ». Против истинных же христиан он выдвинул новый вид гонения – презрение.
«Раскольники», покупавшие себе право на жизнь тем, что платили двойные подати, не могли занимать никаких общественных должностей, ни свидетельствовать на суде против «православных»; они должны были носить нелепую одежду[1882]; они должны были вносить определенную сумму на содержание духовенства и платить гнусный сбор при каждом рождении, браке или погребении. Им вменялось в обязанность доносить на своих же не внесенных в ревизские сказки единоверцев, которых тут же отправляли на галеры. У Петра это ничуть не было религиозной нетерпимостью, он только видел в староверах главную помеху своему главному замыслу: секуляризации Русского государства наподобие протестантской Европы. Так как он не мог физически уничтожить слишком многочисленных истинных христиан, то он принял все меры, чтобы удалить их из общества живых людей и попытаться превратить их в жалких смердов, с которых новое государство тянуло всевозможные подати, которых оно облагало всевозможными повинностями и которых оно нещадно стегало кнутом, но и в этом сословии он поставил их на низшую ступень, отстранил их от икон, от книгопечатания и вообще от всякого участия в общественной жизни.
По мнению Петра, «раскольники» представляли собой такую серьезную опасность, что их преследование стало главной задачей его духовной полиции. Чтобы дать губернаторам возможность обнаружить тех, кто не был внесен в ревизские сказки, приходские священники должны были ежегодно подавать список тех своих прихожан, которые не причащались на Страстной неделе. Подобные сопротивляющиеся часто договаривались с приходскими священниками и фактически заносились ими в спи ски без участия в таинствах, избегая, таким образом, святотатства. Тогда было объявлено, что тот, кто донесет на такого уступчивого священника – сообщника «раскольников», получит его место, если только он окажется в какой-то мере пригодным для этого. Часто бывало так, что какой-нибудь старообрядец сказывался больным и призывал священника; последний якобы исповедывал его и затем заносил в список православных. Ввиду такой практики было предписано исповедывать больных при свидетелях. Иной старообрядец «каялся» в ужасных грехах, которые по Номоканону вынуждали священника устранить его от таинств на многие годы; по крайней мере в течение этого времени он мог оставаться спокойным. Тогда и тут были приняты меры: эти длительные епитимии должны были назначаться только епископами. Священник, узнавший на исповеди о замысле против чести или благосостоянии царя, о каком-либо плане мятежа или измены или о мнимом чуде, способном взволновать народ, должен был немедленно выдать виновного. Исповедник превращался в агента полиции[1883]. При такой невероятной системе доносов и наговоров что оставалось от православной церкви?
При преемниках Петра политика в отношении раскола претерпела различные изменения, но судьба официальной церкви не изменилась. Государи XIX века оказывали ей больше почтения, чем государи XVIII-го. Однако они продолжали рассматривать ее как правительственный орган, как «департамент православного исповедания». Святейший Синод, которым реформатор Петр заменил патриаршество, рассматривался как регулирующий орган, очень схожий с Сенатом; во главе его стоял обер-прокурор, простой светский чиновник. Он был выразителем и гарантом зависимости церкви от государства. Никон хотел разделить корону с царем, – последние патриархи довольствовались тем, что держали в руках царский меч, синод же раболепно облекся в царскую ливрею.
В подобной церкви все, что было подлинно религиозным, считалось в высоких кругах второстепенным. Истолкование догматических вопросов было предоставлено личной фантазии, которая работала в том или другом направлении в зависимости от времени и индивидуальной личности наставника. Толкование догматов склонялось к латинству, а часто к протестантизму, позднее же к символическому модернизму. Это не позволяло создаться и образоваться собственному православному богослужению, которое было бы согласно с греческо-русскими традициями. Низшее духовенство, непосредственно соприкасающееся с верующими, было поставлено в униженное положение. Оно не имело никакой серьезной подготовки. Над ними полностью господствовали и драли с них три шкуры епископы и их канцелярии; низшее же духовенство, в свою очередь, брало что могло со своей паствы. Что касается духовной жизни, то она была опорочена тем, что закон предписал чиновникам, военным, школьникам принудительное выполнение религиозных обрядов. В этой церкви, где такие восточные отцы, как Ефрем Сирин и авва Дорофей, были когда-то в большом почете, между 1793 годом, когда появилось «Добротолюбие», и 1847 годом, когда были изданы писания молдавского монаха Паисия Величковского, не было напечатано ни одного духовно-аскетического произведения, ни одной работы о подвижничестве. И эта последняя книга Паисия Величковского была издана Оптиной пустынью в Козельском уезде только благодаря хлопотам славянофилов братьев Киреевских. Петербургская цензура, которая в начале столетия одобрила печатание «Сионского вестника», «Тайны Креста» и других произведений догматического мистицизма, теперь опасалась малейшего намека на подлинно православный мистицизм. Мысленно-сердечной молитве, молитве Исусовой, больше в семинариях и академиях не обучали. Эту молитву, напротив, хулили и осмеивали[1884]. Богослужение совершалось часто крайне небрежно, за исключением праздничного, особо торжественного. Вопрос о богослужении, ранее, правда, плохо разрешенный многогласием, теперь разрешался еще более катастрофическим образом: произвольным сокращением. Богослужебные книги оставались в том же состоянии хаоса, неразберихи и противоречия, в котором их оставили незадачливые справщики XVII века, Никон, его предшественники и преемники[1885].
В этой церкви находилось место как для искренне верующих, так и для всех оттенков неверия. Если только выполнять формальные предписанные нормы, можно было следовать самым нелепым и странным философским учениям в отношении не только православия, но даже христианства вообще. Жозеф де Мэстр, в начале XIX века, с ужасом отмечал это. Существует ли какая-либо европейская литература, столь чуждая христианской церкви, как русская? Пушкин и его современники так далеки от церкви, насколько это возможно. У западников эта отчужденность переходит во враждебность. Обращенный к вере Гоголь приводит всех в негодование, а позднее за то, что он, терзаясь христианскими сомнениями, сжег вторую часть «Мертвых душ», ему приписывали сумасшествие. Среди сторонников существующего государственного строя церковь встречает лишь формальное поклонение, как государственному органу, тогда как она, с другой стороны, собирает всю ненависть левых элементов, борющихся с царизмом. Некоторый возврат симпатий к церкви, созданный славянофилами, философия которых строилась отнюдь не на православной основе, и усложненный политикой, мог охватить лишь какую-то небольшую группу интеллигенции. Про так называемое культурное общество можно с полным правом сказать, что к 1870-м годам оно почти целиком предалось позитивизму.
Когда еще в 1880 году Владимир Соловьев в Петербургском университете объявил свои лекции о Богочеловечестве, студенты трех факультетов – филологического, юридического и естественного – приготовились встретить обскуранта грандиозной обструкцией[1886]. Этот выдающийся философ и благородный человек ввел и восстановил Никейскую веру среди каких-то кругов университетского общества. Но, вообще говоря, в культурном мире единственным сдвигом этого периода, который продолжался до падения империи, было возрождение различных форм идеализма. После Достоевского допустили самую постановку религиозного вопроса. После Толстого почувствовали влечение к евангельской морали. В этих тенденциях, приводящих самое большее к «какой-то» религиозности, официальная церковь в конечном итоге потеряла больше, чем приобрела.
Позитивизм, со своей стороны, упрочивался в своих политических формах: даже человеколюбивое народничество, в лице, например, такого человека, как Короленко, отрицало все сверхъестественное; марксизм в своем безбожии решительно предлагал систему, в которой материализм отвечал на все вопросы в любой сфере, начиная от метафизики и вплоть до общественной организации. После 1906 года и народ, всецело поглощенный политическими и общественными интересами, отошел от церкви.
И при всем том, эта же самая официальная церковь была тем прибежищем душ, где десятки миллионов простых искренне верующих русских, вопреки убожеству ее проповеди, порабощению ее епископата и посредственности ее священников, все же находили удовлетворение как своим духовным, так и морально-религиозным запросам. Вера в православной церкви ни в какой мере не иссякла. Обычно эта вера пассивно удовлетворялась богослужением, введенным со времени Никона. Верующим ведь не дано проверять книги, проникать в смысл сугубой и трегубой аллилуии, решать, не отрицает ли и теперешнее царствование Христа выражение, что «царствованию Его не будет конца». И чем горячее была вера, тем вернее оставалась она верованиям и религиозным обрядам, существовавшим до времени раскола.
Старые книги, преследуемые властями, старательно разыскивались и переписывались простыми людьми из народа. Славянская азбука и Псалтырь оставались до около 1850 года первыми книгами учащихся. Старинные образа, или снятые с них копии, со строгими ликами, выдержанные в темных тонах, всегда казались более благоговейными, чем современные, яркие и чувственные; считалось, что настоящий, достойный этого звания, православный не должен знать ни бритвы, ни табака. Продолжали в семейном кругу читать наизусть церковную службу, а равно и читать жития святых – совершенно также, как и во времена Аввакума. Многие женщины без устали повторяли молитву Исусову, предпочитая ее старую форму. Почитали подвижников, людей, живших в святости и исхаживавших, не имея ни кола ни двора, вдоль и поперек Русскую землю, босых как летом, так и зимой, надевших на тело вериги, а на голову чугунную шапку; так почитали во Христе юродивых, нищих, паломников. Ко всему этому рационалистически настроенные церковные власти относились небрежно, юродивые у них были на плохом счету. Но так как все это были христианские традиции, то народ-христианин оставался им верен. Как только узнавали о каком-нибудь святом месте или о каком-нибудь монастыре, славном своими воспоминаниями о былом благочестии, своими мощами или красотой своих длинных и строгих богослужений, – сюда относятся в первую очередь Киево-Печерская лавра, Соловки, Валаам и Троице-Сергиева лавра, – то народ стекался туда большими толпами. Страдающие души шли за советом к старцам, к тем, кто возрождал в церкви духовное руководство; и прежде всего, к тем, кто находился в Оптиной пустыни и принимали у себя людей, подобных Гоголю, Киреевскому, Достоевскому, Леонтьеву, Владимиру Соловьеву и Толстому. Каждый день эти старцы выслушивали и отсылали успокоенными сотни крестьян и крестьянок[1887]. Как только появлялся какой-нибудь священник мистического направления, ему тут же находились последователи: так было с протоиереем Иоанном Кронштадтским. Как только наступали тяжелые времена, сейчас же начинали помышлять об антихристе и Страшном суде. Все это происходило внутри православной церкви, но все это было менее сходно с «Духовным регламентом» и синодальными решениями, чем с древнехристианской жизнью, существовавшей до времени Петра и Никона.
Более того, многие характерные особенности старой веры также были сохранены верующими. Кладбищенские кресты являются очень часто восьмиконечными. «Два перста, – писал в 1904 г. П. С. Смирнов, – рассматриваются почти всеми православными низших классов, живущими в областях, окруженных и зараженных расколом, как единственное крестное знамение, но даже в местностях, где и не слышали никогда о расколе, это крестное знамение преобладает над трехперстным»[1888]. Одной из этих преданных старине областей, естественно, было Поморье, но там верующие, кроме того, часто вынуждены были обходиться без священника: «Попы к нам не приходят: приходы маленькие, и их прокормить стало бы очень дорого. Крещение совершают повивальные бабки, а погребение совершается вообще без богослужения. Только изредка посылают за священником, довершающим таинство крещения и совершающим богослужение. Большинство браков остается без благословения»[1889]. При всем том, речь идет здесь не о «беспоповцах», а о верующих, принадлежащих к официальной церкви!
Писатель М. М. Пришвин около 1910 года видел внука последнего настоятеля Выга, который в дни больших праздников, когда служил православный священник, помогал ему при совершении служб, а в обычные воскресные дни сам отправлялся в часовню, звонил в небольшой колокол, зажигал свечи и брал в руки кадило: каждый присутствующий вытаскивал из-за пазухи восьмиконечный крест, он кадил у икон, затем читал. Сам он перешел в православие, но как он, так и его паства хранили неврежденными прежние обряды и даже по необходимости совершали богослужение беспоповцев[1890].
V Последствия для современности
Старая вера, лишенная признанной иерархии, расколотая на группировки, по необходимости непоследовательная, отодвинутая властями в низшие слои народонаселения, чуждая всему, что составляет интересы современного общества, – проявила себя неспособной оказать малейшее влияние на общество и создать церковь. Правда, среди своих приверженцев она смогла сохранить те или иные стороны, те или иные черты, те или иные суровые добродетели строгого подлинно-убежденного христианства. Московский митрополит Иоанникий (1882–1891) говорил, что без этой веры православие пришло бы в упадок и переродилось бы в лютеранство[1891]. Но сколь многие видели в ней лишь отрицание официальной церкви. Столь многие, отторгнутые ею от старообрядчества, не смогли ни устоять в соперничающей церкви, ни примкнуть к какой-либо секте, и пришли к религиозному индифферентизму!
Официальная церковь, духовно оскудевшая, потерявшая свои самые глубокие религиозные основы, вынужденная под нажимом гражданской власти изменить своему назначению для того, чтобы служить политическим целям, оторванная от народа, эта церковь одновременно потеряла и свое независимое положение самостоятельного богоустановленного общества, а также – в своем новом обличии – способность удовлетворять духовным нуждам своей паствы. У нее осталась иерархия и бесспорная апостольская преемственность. Но эта форма, в огромной мере лишенная содержания, не является ли она скорбным зрелищем? Сколько таких, которые уходят от нее в рационалистические секты, а сколько еще таких, которые становятся неверующими!
Ни официальная церковь, ни староверие не содержат всех черт истинной Церкви, которая призвана продолжать дело самого Христа в этом мире. Со времен Никона в России нет больше церкви. У нее есть государственная религия, а от нее до религии государства – только один шаг. Государственную религию учредила власть, которая в 1917 г. ушла вслед за империей[1892].
Список литературы и сокращений
Архивные и рукописные источники
ГИМ. Синодальное собр. № 416. Житие Дионисия Зобниновского.
ГИМ. Синодальное собр. № 424. Л. 15–343. Запись ставленых грамот за 1645–1666 гг.
ГИМ. Синодальное собр. свитков
ГИМ. Собр. Уварова.
ГИМ. Собр. Хлудова. № 270. Житие инока Корнилия.
ГИМ. Собр. Хлудова. № 282. «Ответ православных»
РГАДА. Писцовые книги (МАМЮ)
РГАДА. Приказные дела новой разборки (ф. 159).
РГАДА. Приказные дела старых лет (ф. 141).
РГАДА. Государственный архив.
РГАДА. Разрядный приказ (ф. 210). Белгородский стол.
РГАДА. Разрядный приказ (ф. 210). Боярские книги.
РГАДА. Разрядный приказ (ф. 210). Московский стол.
РГАДА. Разрядный приказ (ф. 210). Севский стол.
РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214).
РНБ. O. XVII. 48. Л. 154 об. и след.
Опубликованные источники, литература, сокращения
ААЭ – Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею Академии наук. СПб., 1836. Т. 2 (1598–1613). Т. 3 (1613–1645). Т. 4 (1645–1700).
Аввакум. Сочинения б. юрьевецкого протопопа Аввакума Петрова / Изд. Братства св. Петра Митрополита. М., 1916.
АИ – Акты исторические. СПб., 1841–1842. Т. 3 (1613–1645); Т. 4 (1645–1676); Т. 5. (1676–1700).
Алексеев И. История о бегствующем священстве // Летописи русской литературы и древности. М., 1862. Т. 4. Отд. 3. С. 53–69. Написана в 1755 г… См.: Смирнов. Внутренние вопросы. С. CVIII–CIX.
Амвросий (Орнатский), архиеп. История российской иерархии. М., 1807–1815. Ч. 1–6.
АМГ – Акты Московского государства. СПб., 1890–1901. Т. 1 (1571–1634), Т. 2 (1635–1659), Т. 3 (1660–1664).
Аничков Е. В. Язычество и древняя Русь. СПб., 1914.
Н.А.А. Всеросийские патриархи // ЧОИДР. 1847. Кн. 3. Отд. 4. Отд. отт.: М., 1848.
Архангельский И. Город Енисейск (1618–1918). Енисейск, 1923.
Архив П. М. Строева. СПб., 1917. Т. 2 (1598–1645).
АЮ – Акты юридические, или Собрание форм старинного делопроизводства. СПб., 1838.
АЮБ – Акты, относящиеся до юридического быта древней России / Под ред. Н. Калачева. СПб., 1884. Т. 3.
АЮЗР – Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб., 1861. Т. 3 (1638–1657).
Барское Я. Л. Памятники первых лет русского старообрядчества. СПб., 1912. (ЛЗАК. Вып. 24).
Барсов Е. В. Новые материалы для истории старообрядства XVII–XVIII вв. М., 1890.
Барсов Е. В. Олонецкий монастырь Клименцы // ЧОИДР. 1870. Кн. 4. Отд. 2. С. 1–171. Отд. изд.: М., 1871.
Барсуков А. П. Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления Московского государства XVII ст. СПб., 1902.
Бахрушин С. В. Очерки по истории колонизации Сибири в XVI и XVII вв. М., 1928.
Бегичев И. Послание Ивана Бегичева о видимом образе Божием: По рукописи XVII в. собрания А. И. Яцимирского и с его же предисловием // ЧОИДР. 1898. Кн. 2. Отд. 2. С. 1–13.
Беликов Д. Н. Томский раскол (Исторический очерк от 1834 по 1880 годы). Томск, 1901.
Белокуров С. А. Арсений Суханов. М., 1891. Ч. 1. (ЧОИДР. 1891. Кн. 1–2); 1894. Ч. 2 (ЧОИДР. 1894. Кн. 2).
Белокуров С. А. Библиотека и архив Соловецкого монастыря после осады. М., 1887.
Белокуров С. А. Из духовной жизни московского общества XVII в. М., 1902.
Белокуров С. А. Материалы для русской истории. М., 1888.
Белокуров С. А. О библиотеке московских государей в XVI ст. М., 1898.
Белокуров С. А. О Посольском приказе. М., 1906 (ЧОИДР. 1906. Кн. 3).
Белокуров С. А. Планы г. Москвы XVII в. М., 1898.
Белокуров С. А. Юрий Крижанич в России (По новым документам) // ЧОИДР. 1903. Кн. 2. Отд. 3. С. 1–210; Кн. 3. Отд. 3. Прил. С. 1–306; 1907. Кн. 3. Отд. 4. С. 47–60; 1909. Кн. 2. Отд. 2. С. 1–28.
Бенешевич В. Н. Древнеславянская Кормчая XIV титулов без толкований. СПб., 1906–1907. Т. 1.
Берх В. Н. Царствование царя Алексея Михайловича. СПб., 1831.
Берх В. Н. Царствование царя Михаила Феодоровича и взгляд на междуцарствие. СПб., 1832. Т. 1–2.
Берх В. Н. Царствование царя Феодора Алексеевича и история первого стрелецкого бунта. СПб., 1834–1835. Ч. 1–2.
Берында П. Лексикон славенороссийский. Имен толкование. Кутейно, 1653.
Богородицкий Д. Очерк торговли Нижнего Новгорода за XVI и XVII в. // Университетские известия. Киев, 1912. № 7.
Богословский М. М. Земское самоуправление на Русском Севере в XVII в. М., 1909. Т. 1; 1912. Т. 2 (ЧОИДР. 1910. Кн. 1. Отд. 2; 1912. Кн. 2–3. Отд. 3).
Бонч-Бруевич В. Д. Материалы к истории и изучению русского сектанства и раскола. СПб., 1908. Вып. 1.
Боровск: Материалы для истории города XVII и XVIII ст. М., 1888.
Бороздин А. К. Протопоп Аввакум. Очерк из истории умственной жизни русского общества в XVII в. 2-е изд. СПб., 1900.
Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь – место заточения патриарха Никона. СПб., 1899.
Бурцев А. Е. Полное собрание библиографических трудов. СПб., 1908.
Бухтарминские старообрядцы. Л., 1930.
Буцинский П. Н. Заселение Сибири и быт первых ее насельников. Харьков, 1889.
Буцинский П. Н. Сибирские архиепископы Макарий, Нектарий, Герасим (1625–1650) // Вера и разум. Харьков, 1891. № 10. Май.
Бычков А. Ф. Каталог собрания рукописей Ф. И. Буслаева, ныне принадлежащих имп. Публичной библиотеке. СПб., 1897.
Бычков И. А. Записки о вступлении на новгородскую митрополию митрополитов Иоакима и Евфимия // Известия Общества ревнителей русского просвещения. СПб., 1913. № 16.
Вальденберг В. Древнерусские учения о пределах царской власти: Очерк русской политической литературы от Владимира Святого до конца XVII в. Пг., 1916.
Варлаам, архим. О пребывании патриарха Никона в заточении в Ферапонтове и Кириллове монастырях // ЧОИДР. 1858. Кн. 3. Отд. I. С. 129–168.
Введенский С. Костромской протопоп Даниил: Очерк из истории раскола в первое время его существования // Богословский вестник. 1913. № 4. С. 844–854.
Века: Исторический сборник. Пг., 1924. Вып. 1.
Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей. СПб., 1889. Т. 1.
Верещагин А. С. Из истории вятской иерархии: Первый епископ Вятский Александр (1658–1674) // Труды Вятской ученой архивной комиссии. Вятка, 1909. Вып. 2. С. 1–79
Верюжский В. М. Афанасий, архиепископ Холмогорский: Его жизнь и труды в связи с историей Холмогорской епархии за первые 20 лет ее существования и вообще русской церкви в конце XVII в. СПб., 1908.
Веселовский С. Б. Памятники первых лет русского старообрядчества. II. СПб., 1914 (ЛЗАК. Т. 26)
Веселовский С. Б. Сошное письмо. Исследование по истории кадастра… Московского государства. М., 1915–1916. Т. 1–2.
Викторов А. Е. Описание записных книг и бумаг старинных дворцовых приказов. М., 1877. Т. 1–2.
Виноградов Н. Материалы по истории, археологии, этнографии и статистике Костромской губернии. Кострома, 1915. Вып. 9.
Виноградов Н. Писцовая и межевая книги по г. Юрьевцу Поволжскому // Костромская старина / Изд. Костромской губернской ученой архивной комиссии. Кострома, 1912. Т. 7.
Виноградов П. История кафедрального Успенского собора в губернском городе Владимире. Владимир, 1905.
Виноградский Н. Церковный собор в Москве 1682 г.: Опыт историко-критического исследования. Смоленск, 1899.
Воздвиженский Т. Историческое обозрение Рязанской иерархии и всех церковных дел сея епархии. М., 1820.
ВОИДР – Временник Общества истории и древностей российских.
Воробьев Г. А. О Московском соборе 1681–1682 гг.: Опыт исторического исследования. СПб., 1885.
Востоков А. Х. Описание русских и словенских рукописей Румянцевского музеума. СПб., 1842.
Высоцкий Н. Г. Переписка княгини Е. П. Урусовой со своими детьми. М., 1915. Др. изд.: Старина и новизна. 1916. Т. 20. С. 14–48.
Выходы государей, царей и великих князей… с 1632 по 1682 г. / Под ред. П. М. Строева. М., 1844.
Гациский А. С. Нижегородский летописец. Нижний Новгород, 1886.
Георгиевский В. Т. Флорищева пустырь: Историко-археологическое описание с рисунками. Вязники, 1896.
Гераклитов А. А. Материалы по истории мордвы. М.–Л., 1931.
Гиббенет Н. А. Историческое исследование дела патриарха Никона / Сост. по официальным документам Н. Гиббенет. СПб., 1882–1884. Т. 1–2.
ГИМ – Государственный Исторический музей (Москва)
Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями. СПб., 1847.
Голицын Н. В. Научно-образовательные сношения России с Западом в начале XVII в. // ЧОИДР. 1898. Кн. 4. Отд. 3. С. 1–34.
Голлербах Э. В. В. Розанов, жизнь и творчество. Пг., 1922.
Голубинский Е. Е. История канонизации святых в русской церкви. 2-е изд. М… 1903.
Голубинский Е. Е. История русской церкви. М., 1901. Т. 1. Ч. 1; М., 1904. Т. 1. Ч. 2; М., 1906. Т. 2. Ч. 1; М., 1916. Т. 2. Ч. 2.
Голубинский Е. Е. К нашей полемике со старообрядцами // ЧОИДР. 1905. Кн. 3. Отд. 3.
Голубинский Е. Е. О реформе в быте русской церкви // ЧОИДР. 1913. Кн. 3. Отд. III. С. 1–132.
Голубинский Е. Е. Путеводитель по Лавре // ЧОИДР. 1909. Кн. 3.
Голубцов А. П. Вступление в патриаршество и поучение к пастве Иосифа, патриарха Московского // Прибавление к изданию творений св. отцов в русском переводе. 1888. Ч. 42. С. 327–381.
Голубцов А. П. Прения о вере, вызванные делом королевича Вальдемара и царевны Ирины Михайловны. М., 1891.
Голубцов А. П. Чиновники московского Успенского собора и выходы патриарха Никона // ЧОИДР. 1908. Кн. 2. Отд. 1. С. I–LIV.
Горский А. В. Историческое описание Свято-Троицкия Сергиевы Лавры, составленное по рукописным и печатным источникам профессором Московской Духовной Академии А. В. Горским в 1841 году // ЧОИДР. 1878. Кн. 4; 1879. Кн. 2. Отд. изд.: М., 1879. В 2 ч.
Горский А. В., Невоструев К. И. Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки. М., 1855. Т. 1; М., 1857. Т. 2. Ч. 1; М., 1858. Т. 2., Ч. 2; М., 1862. Т. 2. Ч. 3; М., 1869. Т. 3. Ч. 1; М., 1917. Т. 3. Ч. 2.
Готъе Ю. В. Замосковный край в XVII в. Опыт исследования по истории экономического быта Московской Руси. М., 1906.
Грабарь И. Э. История русского искусства. [М., 1909–1916. Т. 1–6].
Груздев В. Ф. Религиозное врачевание русских // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Казань, 1923. Т. 32. Вып. 2. С. 115–121.
ДАИ – Дополнения к актам историческим, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб., 1846–1853. Т.1–5.
ДахновичА. Нижний Новгород в первой половине XVII в. по писцовой книге (население и подати с населения) // Сборник Нижегородской ученой архивной комиссии. Т. 12. Вып. 2.
Дворцовые разряды, по высочайшему повелению изданные II Отделением собственной е.и.в. канцелярии. СПб., 1850. Т. 1; 1852. Т. 3.
Дело о патриархе Никоне / Изд. Археографической комиссии по документам Московской Синодальной (бывшей Патриаршей) библиотеки под наблюдением Г. Ф. Штендмана и при участии А. И. Тимофеева. СПб., 1897.
Денисов С. Виноград Российский, или Описание пострадавших в России за древлецерковное благочестие. М., 1906. Перечень списков см.: Дружинин. Писания. С. 133–134.
Денисов С. История о отцах и страдальцах соловецких. М., 1907. Перечень списков см.: Дружинин. Писания. С. 135–136. Другое изд.: Есипов Г. В. Раскольничьи дела XVIII ст. СПб., 1861. Т. 2. Прил. С. 1–63.
Деяние московского собора, бывшего в царских палатах в лето от создания мира 7162 (1654). М., 1873.
Деяния московских соборов 1666 и 1667 гг. М., 1881. Л. 1–48 (Деяния московского собора о разных церковных исправлениях в 1666 году), 1–102 (Книга соборных деяний 1667 года).
Деяния московского церковного собора 1649 г. (Вопрос об единогласии в 1649–1651 гг.) / Изд. С. А. Белокуров // ЧОИДР. 1894. Кн. 4. Отд. 3. С. 29–52.
Деяния собора 1666 г. – см.: Деяния московских соборов 1666 и 1667 гг. М., 1881.
Деяния собора 1667 г. – см.: Деяния московских соборов 1666 и 1667 гг. М., 1881.
Димитрий Ростовский, митр. Розыск о раскольнической брынской вере. М., 1847; Киев, 1859. Написан между 1702 и 1709 г., напечатан в 1745 г. См.: Смирнов. Внутренние вопросы. С. CXXI–CXXII.
Дмитриев И. Д. Московский первоклассный Новоспасский ставропигиальный монастырь в его прошлом и настоящем: (Историко-археологический очерк). М., 1909.
Дмитриевский А. А. Богослужение в русской Церкви в XVI в. Казань, 1884. Ч. 1.
Дмитриевский В. А. Ставленник. Киев, 1904.
Дневальные записки Приказа тайных дел 7165–7183 гг. / С предисл. С. А. Белокурова. // ЧОИДР. 1908. Кн. 1. Отд. 1. С. 1–224; Кн. 2. Отд. 1. С. 225–346. Отд. отт.: М., 1908.
Доброхотов В. И. Памятники древности во Владимире Кляземском. Соборы: кафедральный Успенский и бывший придворный в.к. Всеволода Дмитровского. М., 1849.
Долгорукий И. М. Князь Иван Михайлович Долгорукий. Изборник. 1764–1823. М., 1919.
Долгоруков П. В. Российская родословная книга. СПб., 1854–1857. Т. 1–4.
Донесения И. де Родеса // Сборник Новгородского общества любителей древности. Вып. 6. Новгород, 1912. С. 42–73; Вып. 7. Новгород, 1912. С. 14–111; Вып. 8. Новгород, 1919. С. 3–94.
Дополнения к тому 3-му Дворцовых разрядов, издаваемых по высочайшему повелению II отделением собственной е.и.в. канцелярии. СПб., 1854.
Досифей (Немчинов), архим. Географическое, историческое и статистическое описание… Соловецкого монастыря… М., 1836. Ч. 1–3.
Древняя российская вивлиофика. СПб., 1773–1775. Т. 1–10; 2-е изд. СПб., 1788–1791. Т. 1–20.
Древние акты, относящиеся к истории Вятского края. Вятка, 1881.
Древности. Труды археографической комиссии имп. Московского археологического общества.
Древности: Труды Московского археологического общества. М., 1865–1904. Т. 1–20.
Дружинин В. Г. Памятники первых лет русского старообрядчества. III. Пустозерский сборник. СПб., 1914. (ЛЗАК. Т. 26).
Дружинин В. Г. Писания русских старообрядцев. СПб., 1912.
Дружинин В. Г. Раскол на Дону в XVII в. СПб., 1889.
Дьяконов М. А. «Заповедные лета» и «старина» // Сборник статей по истории права, посвященный Владимирскому-Буданову. Киев, 1904.
Евсеев И. Е. Описание рукописей, хранящихся в Орловском древлехранилище. Орел, 1906 (Сборник Орловского церковного историко-археологического общества. Вып. 2).
Евфросин, инок. Отразительное писание о новоизобретенном пути самоубийственных смертей… 1691 г. СПб., 1895 (ПДПИ. Вып. 108).
Есипов Г. В. Раскольничьи дела XVIII ст. СПб., 1861. Т. 1; СПб., 1863. Т. 2.
Жизнь Илариона, митрополита Суздальского и основателя Флорищевой пустыни. М., 1859. Другое изд.: Житие преосвященного Илариона митрополита Суздальского по рукописи, хранящейся в библиотеке Великоустюжского собора Вологодской губернии / С предисл. В. Т. Георгиевского // Труды Владимирской ученой архивной комиссии. Владимир, 1908. Кн. 10. С. I–XVI, 1–58.
Житие – Житие протопопа Аввакума // РИБ. Т. 39. Стб. 1–240. Ссылки на редакцию А даются следующим образом: Житие, номер листа рукописи по изданию (Стб. 1–82). Ссылки на другие редакции даются с указанием: Житие. Редакция Б, номер листа рукописи по изданию (Стб. 83–150) или Житие, Редакция В, номер листа рукописи по изданию (Стб. 151–240)
Житие боярыни Морозовой, княгини Урусовой и Марьи Даниловой // Материалы. Т. 8. С. 137–203.
Житие Григория Неронова // Материалы. Т. 1. С. 243–305.
Житие и завещание святейшего патриарха Московского Иоакима. СПб., 1879 (ОЛДП. Вып. 47).
Житие инока Епифания // Барсков. С. 229–262.
Житие патриарха Никона – см.: Шушерин.
Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения / Редакция, вст. ст. и комм. Н. К. Гудзия. М., 1935.
Житие Феодора Ртищева // Древняя российская вивлиофика. 1774. Т. 5. С. 37–70; 2-е изд. См. также: Козловский.
Забелин. И.Е. Домашний быт русских царей в в XVI и XVII ст. М., 1915.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII ст. М., 1869.
Забелин И. Е. Материалы для истории, археологии и статистики г. Москвы. М… 1884. Ч. 1; М… 1891. Ч. 2.
Забелин И. Е. Минин и Пожарский, прямые и кривые в Смутное время. М., 1901.
Забелин И. Е. Опыты изучения русских древностей. М., 1873.
Заозерский А. И. Царь Алексей Михайлович в своем хозяйстве. Пг., 1917 (Записки историко-филологического факультета имп. Санкт-Петербургского университета. Т. 135).
Зверинский В. В. Материалы для историко-топографического исследования о православных монастырях в Российской империи. СПб., 1890. Т. 1; СПб., 1892. Т. 2.
ЗерноваА. С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI–XVII веках: Сводный каталог. М., 1958.
Зерцалов А. И. О неправдах и непригожих речах новгородского митрополита Киприана // ЧОИДР. 1896. Кн. 1.
Знаменский П. Григорий Неронов // Православный собеседник. 1869. Ч. 1. С. 236–282, 325–366.
Зызыкин М. В. Патриарх Никон, его государственные и канонические идеи. Варшава, 1931.
Иванов П. Описание Государственного архива старых дел. М., 1850.
Иванов Ф. Церковь в эпоху смутного времени на Руси. Екатеринослав, 1906.
Ивановский Я. И. Свирский Александров монастырь. СПб., 1874.
Иванчин-Писарев И. Д. Прогулка по древнему Коломенскому уезду. М., 1843.
Извеков И. Д. Московские кремлевские дворцовые церкви и служившие при них лица в XVII в. // Московская церковная старина. 1902. Вып. 2. Отд. изд.: М., 1906.
Иконников В. С. Максим Грек и его время. Киев, 1915.
Иркутская летопись. Иркутск, 1911 // Труды Восточно-сибирского отдела им. Российского географического общества. 1911. № 5.
Исторические известия о костромском второклассном Богоявленском монастыре с XV по XIX в. СПб., 1837.
Историческое описание Козельской Оптиной пустыни. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1902.
Историческое описание монастыря св. Николая, что на Песноше. М., 1893.
Историческое собрание о богоспасаемом граде Суждале ключаря тамошнего собора Анания Федорова // ВОИДР. 1855. Кн. 22.
История о невинном заточении ближнего боярина А. С. Матвеева / Изд. Н. Новиковым. СПб., 1776.
Кабанов А. Разинцы в Нижегородском крае // Сборник статей в честь М. К. Любавского. Пг., 1917. С. 413–428.
Кадыков, Шляпкин И. А. Летопись и акты новгородского мужского Деревяницкого монастыря 1335–1839 гг // Вестник археологии и истории. 1911. Т. 21.
Казминский М. Разбор сочинения Шушерина о жизни и деятельности патриарха Никона // Известия историко-филологического института кн. Безбородко в Нежине. Киев, Лейпциг, 1882. Т. 7. Отд. 3. С. 1–34.
Каптерев Н. Ф. О греко-латинских школах в Москве в XVII в. до открытия Славяно-греко-латинской академии. М., 1889.
Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов. 2-е изд. Сергиев Посад, 1913.
Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Сергиев посад, 1909–1912. Т. 1–2.
Каптерев Н. Ф. Светские архиерейские чиновники в Древней Руси. М., 1874.
Каптерев Н. Ф. Следственное дело об Арсении Греке // Чтения в Обществе духовного просвещения. 1881. VII. С. 70–96.
Каптерев Н. Ф. Характер отношений России к православному Востоку в XVI и XVII ст. М., 1914.
Каратаев И. П. Описание славяно-русских книг, напечатанных кирилловскими буквами. СПб., 1883. Т. 1 (с 1491 по 1652 г.).
КашкинН.Н. Родословные разведки. СПб., 1912. Ч. 1.
Кедров СИ. Авраамий Палицын // ЧОИДР. 1880. Кн. 4. Отд. отт.: М., 1880.
Кириллов И. А. Правда старой веры. М., 1916.
Клипуновский Ф. Григорий (Иван) Неронов // Университетские известия. Киев, 1886. Кн. 7. Ч. 2. С. 1–40.
Ключевский В. О. Добрые люди Древней Руси // Богословский вестник. 1892. № 1. С. 77–96.
Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871.
Ключевский В. О. Курс русской истории М., 1908. Ч. 3. 2-е изд.: М., 1923.
Ключевский В. О. Сборник статей. Пг., 1918–1919. Т. 1–3.
Книга о чудесах преп. Сергия. Творение Симона Азарьина / Сообщ. С. Ф. Платонов. СПб., 1888. (ПДПИ. Вып. 70).
Козловский И. Ф. М. Ртищев. Историко-биографическое исследование. Киев, 1906 (Университетские известия. Киев, 1906. № 1, 2, 6, 11).
Колосов В. Старец Арсений Грек // ЖМНП. 1881. Сентябрь. С. 77–93.
Коноплев Н. Святые Вологодского края // ЧОИДР. 1895. Кн. 4. Отд. 4. С. 1–133. Отд. отт.: М., 1895.
Кормчая. М., 1650. (Каратаев. № 661).
Короленко В. Г. История моего современника. М.; Л, 1930.
Короленко В. Г. Путешествие уральских казаков в «Беловодское царство». // Записки имп. Русского географического общества по отделу этнографии. СПб., 1903. Т. 28. Ч. 1.
Краинский Н. В. Порча, кликуши и бесноватые как явления народной жизни. Новгород, 1900
КрижаничЮ. История Сибири – см.: Титов А. А. Сибирь в XVII веке. С. 115–216.
Крижанич Ю. Политика – Русское государство в половине XVII в.: Рукопись времен царя Алексея Михайловича / Открыл и изд. П. Бессонов. М., 1859–1860. Ч. 1–2.
Крижанич Ю. Собрание сочинений. М., 1891–1893. Вып. 1–3 (ЧОИДР. 1890. Кн. 4; 1891. Кн. 1–2; 1892. Кн. 3; 1893. Кн. 2).
Кузнецов А. Юродство и столпничество. Религиозно-психологическое, моральное и социальное исследование. СПб., 1913.
Курц Б. Г. Состояние России в 1650–1655 гг. по донесениям Родеса // ЧОИДР. 1915. Кн. 2. Отд. отт.: М., 1915. Другое изд. в: Сборник Новгородского общества любителей древности. VII.
Леонид (Кавелин), архим. Вкладная книга московского Новоспасского монастыря. СПб., 1883 (ПДПИ. Вып. 39).
Леонид (Кавелин), архим. Систематическое описание славяно-российских рукописей собрания гр. А. С. Уварова. М., 1893. Т. 1.
Летописи русской литературы и древности, издаваемые Н. Тихонравовым. М., 1859–1863. Т. 1–5.
Летопись Двинская – см.: Титов А. А. Летопись Двинская. М., 1889.
ЛЗАК – Летопись занятий Археографической комиссии.
Лилеев М. И. Из истории раскола на Ветке и в Стародубье XVII–XVIII вв. Киев, 1895 (Известия историко-филологического института кн. Безбородко в Нежине. 1895. Т. 13–14).
Лилеев М. И. Новые материалы для истории раскола на Ветке и в Стародубье XVII–XVIII вв. Киев, 1893 (Известия историко-филологического института кн. Безбородко в Нежине. 1893. Т. 12).
Лилов А. О так называемой Кирилловой книге. Казань, 1858.
Лопарев X. М. Самарово, село Тобольской губернии. СПб., 1896.
Любомиров П. Г. Выговское общежительство. М.; Саратов, 1924.
Майков Л. Н. Симеон Полоцкий: очерки из истории русской литературы XVII и XVIII ст. СПб., 1889.
Макарий (Булгаков), еп. История русского раскола, известного под именем старообрядства. 2-е изд. СПб., 1858.
Макарий (Булгаков), еп. Православное догматическое богословие. СПб., 1857.
Макарий (Булгаков), митр. История русской церкви. СПб., 1882. Т. 11; СПб., 1883. Т. 12.
Макарий, архим. Памятники церковных древностей в Нижегородской губернии СПб., 1857 (Записки имп. Археологического общества. Т. 10).
Максим Грек. Сочинения. Сергиев Посад, 1910. Т. 1; 1911. Т. 2–3.
Максимов СВ. Год на Севере. 2-е изд. СПб., 1863.
Максимов СВ. Крылатые слова // Максимов СВ. Собрание сочинений. СПб., 1909. Т. 15.
Максимов СВ. Лесная глушь. Картины народного быта. СПб., 1871. Т. 1.
Максимов СВ. Рассказы из истории старообрядчества. СПб., 1861. Изложение Жития инока Корнилия на с. 5–38.
МалининД.И. Калуга: Опыт исторического путеводителя по Калуге и главным центрам губернии. Калуга, 1912.
МАМЮ – Московский архив Министерства юстиции.
Мансветов И. Как у нас правились церковные книги (Материалы для истории книжной справы в XVII столетии по бумагам архива Типографской библиотеки в Москве) // Прибавления к изданию творений св. отцов в русском переводе. 1883. Кн. 5. С. 514–574; 1884. С. 273–320.
Маркс. К азбуке конца XVII в. из собрания А. И. Успенского. М., 1909.
Мартынов П. Л. Город Симбирск за 250 лет его существования. Симбирск, 1898.
Материалы – Материалы для истории раскола за первое время его существования / Под ред Н. И. Субботина. М., 1874–1890. Т. 1–9.
МГАМИД – Московский главный архив Министерства иностранных дел.
Мельников П. Историческое очерки поповщины. М… 1864.
Мельников П. Полное собрание сочинений. СПб., 1909. Т. 7.
Миловидов И. Содержание рукописей, хранящихся в архиве Ипатьевского монастыря. Кострома, 1887. Вып. 1.
Миловский Н. М. Неканонизированные святые г. Шуи Владимирской губернии: Опыт агиографического исследования // ЧОИДР. 1893. Кн. 2. Отд. 4. С. 1–23.
Московская церковная старина. М., 1904. Вып. 1; М., 1906. Вып. 2; М., 1911. Вып. 4.
Московский некрополь – см.: Николай Михайлович, вел. кн. Московский некрополь. СПб., 1907–1908. Т. 1–3.
Невоструев К. И. Записки о ставленниках московских церквей. М., 1869.
Недумов А. Д. Московский придворный Архангельский собор. 4-е изд. М., 1910.
Нижегородские платежницы 7116 и 7120 гг. / С предисл. С. Б. Веселовского // ЧОИДР. 1910. Кн. 3. Отд. 1. С. 1–284. Отд. отт.: М., 1910.
Николаевский П. Ф. Из истории сношений России с Востоком в половине XVII в. // Христианское чтение. 1882. Кн. 1. С. 245 и след.; 732 и след.
Николаевский П. Ф. Московский Печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 1890. Кн. 1. С. 114–141; Кн. 2. С. 434–467; 1891. Кн. 1. С. 147–186; Кн. 2. С. 151–186.
Николаевский П. Ф. Патриаршая область и русские епархии в XVII в. // ЧОИДР. 1888. Кн. 1.
Николай Михайлович, вел. кн. Московский некрополь. СПб., 1907–1908. Т. 1–3.
Николай Михайлович, вел. кн. Русский провинциальный некрополь. М., 1914. Т. 1.
Никольский – см.: Никольский В. К. Сибирская ссылка протопопа Аввакума.
Никольский В. К. Сибирская ссылка протопопа Аввакума // Ученые записки Института истории Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук. 1927. Т. 2. С. 137–167.
Никольский К. Об антиминсах в православной русской церкви. СПб., 1872.
Никольский Н. Сочинения соловецкого инока Герасима Фирсова по неизданным текстам. К истории северно-русской литературы XVII в. Пг., 1916 (ПДПИ. Вып. 188).
Новомбергский А. Слово и дело государевы. М., 1911. Т. 1. (Записки Московского археологического института. Вып. 14).
Новомбергский Н. Я. А. И. Успенский. Царские иконописцы и живописцы XVII в. Словарь [Рец.] // ЖМНП. 1911. Март. С. 175–178.
Новосельский А. А. Вотчинник и его хозяйство в XVII в. М.; Л., 1929.
О Московском соборе 1681–1681 гг. – см.: Воробьев Г. А. О Московском соборе 1681–1681 гг.: Опыт исторического исследования. СПб., 1885.
Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи. СПб., 1798–1836.
10 т.
Оглавление книг, кто их сложил – Опубл.: Ундольский В. Сильвестр Медведев, отец славяно-русской библиографии // ЧОИДР. 1846. Кн. 3. Отд. 4. С. III–XXX, 1–90.
Оглоблин П. П. Дело о самовольном приезде в Москву тобольского архиепископа Симеона в 1661 г. (Очерк из жизни XVII в.) // Русская старина. 1893. № 10.
Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа (1592–1768 гг.). М., 1995. Ч. 1.
ОЛДП – Общество любителей древней письменности.
Описание актов собрания гр. А. С. Уварова. Акты исторические. М., 1905.
Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. СПб.–М., 1869–1915. Т. 1–21.
Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. СПб., 1868. Т. 1 (1542–1721).
Описание собрания свитков, находящихся в Вологодском епархиальном древлехранилище. Вологда, 1899–1917. Вып. 1–13.
Орлов А. С. Иисусова молитва на Руси в XVI в. СПб., 1914.
ОРЯС – Отделение русского языка и словесности имп. Академии наук.
Осинский А. С. Мелетий Смотрицкий, архиепископ Полоцкий // Труды Киевской духовной академии. 1911. Т. 3. Отд. отт.: Киев, 1912.
Островский Д. Выговская пустынь и ее значение в истории старообрядческого раскола. Петрозаводск, 1914.
Отчет имп. Публичной библиотеки за 1905 г. СПб., 1912.
Официальный указатель железнодорожных, пароходных и других пассажирских сообщений. М., 1931.
Павел Алеппский. Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII в., описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским.
Ч. 2 // ЧОИДР. 1897. Кн 4; То же. Ч. 3 // ЧОИДР. 1898. Кн. 3; То же. Ч. 4 //
ЧОИДР. 1898. Кн. 4.
Павлов А. Номоканон при большом Требнике. Его история и тексты греческий и славянский с объяснительными и критическими примечаниями. М., 1897.
Павлов А. 50-я глава Кормчей книги. М., 1887.
Памятники древнерусской письменности, относящиеся к Смутному времен. СПб., 1909 (РИБ. Т. 13).
Памятники истории крестьян XIV–XIX вв. / Под ред. А. Э. Вормса. М., 1910. РИБ. Т. 39 – См.: Памятники истории старообрядчества XVII в. Т. 1. Вып. 1. Л., 1927 (РИБ. Т. 39).
Памятники истории старообрядчества XVII в. Т. 1. Вып. 1. Л., 1927 (РИБ. Т. 39). Памятники социально-экономической истории Московского государства XIV–XVII вв. М… 1929. Т. 1.
ПДПИ – Памятники древней письменности и искусства.
Первухин Г. П. О тверских иерархах. Тверь, 1901.
Первухин Н. Г. Церковь Илии пророка в Ярославле. М., 1915.
Переписная книга домовой казны патриарха Никона… 7166 г. // ВОИДР. 1852. Т. 15.
Переписная книга московского Благовещенского собора в XVII в. // Сборник на 1873 г. / Изд. Обществом древнерусского искусства. Под ред. Г. Филимонова. М., 1873.
Петров П. П. Описание рукописных собраний, находящихся в г. Киеве. М., 1892. Вып. 1.
Петровский П. Из истории вопроса о составе Кормчей книги // ЖМНП. 1914. Декабрь. С. 173–239.
Петухов Е. В. Русская литература. Древний период. 3-е изд. Пг., 1916. Т. 2.
Печерский монастырь // Нижегородские губернские ведомости. 1849. № 28 и след.
Пирлинг П. Исторические статьи и заметки. СПб., 1913.
Пискарев А. И. Древние грамоты и акты Рязанского края. СПб., 1854.
Письма русских государей и других особ царского семейства / Изд. Археографическая комиссия. М., 1848. Т. 1.
Платонов С. Ф. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII в. как исторический источник. 2-е изд. СПб., 1913.
Платонов С. Ф. Москва и Запад в XVI–XVII вв. Л., 1925.
Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв. СПб., 1899 (Записки историко-филологического факультета имп. Санкт-Петербургского университета. Т. 52).
Платонов С. Ф. Смутное время. Пг., 1923.
Платонов С. Ф. Статьи по русской истории. 2-е изд. СПб, 1912.
Погодин М. П. Семнадцать первых лет в жизни имп. Петра Великого 1672–1689. М., 1875.
Подлинные акты, относящиеся к Иверской иконе Божией Матери, принесенной в Россию в 1648 г. М., 1879.
Покровский А. А. Печатный Московский двор в первой половине XVII в. М., 1913 (Древности. Труды Московского археологического общества. Т. 23. Вып. 2).
Покровский И. Казанский архиерейский дом, его средства и штаты преимущественно до 1764 г.: Церковно-археологическое, историческое и экономическое исследование. Казань, 1906.
Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. СПб., 1830. Т. 1 (1649–1675).
Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного вероисповедания.
Попов А. П. Историко-литературный обзор древнерусских полемических сочинений против латинян (XI–XV вв.). М., 1875.
Попов П. Материалы для истории возмущения Стеньки Разина. М., 1857.
Попов П. Сборник из истории старообрядчества. М., 1864.
Посольство Кунраада фан-Кленка к царям Алексею Михайловичу и Феодору Алексеевичу. СПб., 1900.
Православная богословская энциклопедия. СПб., 1900–1907.
Прение литовского протопопа Лаврентия Зизания с игуменом Илиею и справщиком Григорием по поводу исправления составленного Лаврентием Катехизиса // Летописи русской литературы и древности. М., 1859. Т. 2. Кн. 4. Отд. 2. С. 80–100.
Преображенский А. В. Вопрос о единогласном пении в русской церкви XVII в.: Исторические сведения и письменные памятники. СПб., 1904 (ПДПИ. Вып. 155).
Прилежаев Е. М. Новгородская Софийская казна. СПб., 1875.
Пришвин М. М. В краю непуганых птиц. Очерки Выговского края. СПб., 1910.
Прозоровский А. Сильвестр Медведев: (Его жизнь и деятельность). М., 1898.
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи.
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей / Изд. по высочайшему повелению Археографическою комиссиею. СПб., 1846–1921. Т. 1–24.
Пыпин А. П. Сводный старообрядческий Синодик. СПб., 1883. (ПДПИ. Вып. 44).
Расходная книга митрополита Новгородского Никона 7160 г. // ВОИДР. 1852. Т. 13. Отд. 2. С. 1–62.
РБС – Русский биографический словарь.
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (Москва)
РИБ – Русская историческая библиотека, издаваемая Археографическою комиссиею. СПб.; Пг.; Л., 1872–1927. Т. 1–39.
РНБ – Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург)
Рождественский П. В. К истории борьбы с церковными беспорядками, отголосками язычества и пророками в русском быту XVII. (Челобитная нижегородских священников 1636 г. в связи с первоначальной деятельностью Ивана Неронова) // ЧОИДР. 1902. Кн. 2. Смесь. С. 1–34.
Рождественский Т. Памятники старообрядческой поэзии. М., 1910 (Записки Московского археологического института. Т. 6).
РозенкампфГ.А. Обозрение Кормчей книги в историческом виде. 2-е изд. СПб., 1839.
Румянцев В. Е. Древние здания Московского Печатного двора // Древности: Труды Московского археологического общества. М., 1870. Т. 2. Вып. 1.
Румянцев И. Никита Константинов Добрынин («Пустосвят»). Сергиев Посад, 1917.
Русский провинциальный некрополь – см.: Николай Михайлович, вел. кн. Русский провинциальный некрополь. М., 1914. Т. 1.
Рябушинский Вл. Старообрядчество и русское религиозное чувство. Жуанвиль ле пон, 1936.
Рязановский Ф. А. Демонология в древней русской литературе М., 1915 (Записки Московского археологического института. Т. 37).
Савва (Тихомиров), архиеп. Указатель для обозрения Московской патриаршей (ныне Синодальной) ризницы и библиотеки. 3-е изд. М., 1858.
Савваитов П., Суворов И. Описание вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря. СПб, 1884.
СавеловЛ.М. Лекции по русской генеалогии. М., 1908. Т. 1–2.
Сапожников Д. И. Самосожжение в русском расколе (со второй половины XVII века до XVIII) М., 1891 (ЧОИДР. Кн. 3).
Сапожников Д. И. Письма восточных иерархов. Симбирск, 1898.
Сахаров В. Эсхатологические сочинения и сказания в древнерусской письменности. Тула, 1879.
Сахаров И. П. Записки русских людей. СПб., 1841.
Сахаров И. П. Сказания русского народа. 3-е изд. СПб., 1841–1849. Т. 1–2.
Сборник в память А. С. Гациского. Нижний Новгород, 1897.
Сборник Муханова. 2-е изд. СПб., 1866.
Сборник Новгородского общества любителей древности. Новгород, 1908–1915. Вып. 1–7.
Сборник статей в честь Д. А. Корсакова. Казань, 1913.
Сборник статей в честь М. К. Любавского. Пг., 1917.
Сборник статей, посвященных В. О. Ключевскому. М., 1909.
Сводный старообрядческий Синодик – см.: Пыпин А. Н. Сводный старообрядческий Синодик. СПб., 1883. (ПДПИ. Вып. 44).
СГГД – Собрание государственных грамот и договоров. М., 1813–1894. Ч. 1–5.
Сергею Федоровичу Платонову, ученики, друзья и почитатели. СПб., 1911.
Сергий (Спасский), архим. Полный месяцеслов Востока. Т. 1: Восточная агиология. М… 1875.
Синодик Колесниковской церкви. СПб., 1896–1899. Вып. 1 (ОЛДП. Вып. 110, 115).
Систематическое описание славяно-российских рукописей собрания гр. А. С. Уварова – см.: Леонид (Кавелин), архим. Систематическое описание славянороссийских рукописей собрания гр. А. С. Уварова. М., 1893. Т. 1.
Сказание о страдании и скончании священномученика Павла еп. Коломенского / Изд. С. А. Белокуров // ЧОИДР. 1905. Кн. 2. Смесь. С. 41–46.
Скворцов Д. И. Дионисий Зобниновский, архимандрит Троице-Сергиева монастыря (ныне лавры). Тверь, 1890.
Скворцов Н. Л. Археология и топография Москвы. М., 1913.
СККДР – Словарь книжников и книжности Древней Руси.
Сменцовский М. Н. Братья Лихуды: Опыт исследования из истории церковного просвещения и церковной жизни конца XVII и начала XVIII веков. СПб., 1899.
Смирнов М. Нижегородские казенные кабаки. // Сборник Нижегородской ученой архивной комиссии. Нижний Новгород, 1913. Вып. 16. Ч. 3.
Смирнов П. Города Московского государства в 1-й половине XVII в. // Университетские известия. Киев, 1918. № 1–2.
Смирнов П. Правительство Б. И. Морозова и восстание в Москве 1648 г. Ташкент, 1929 (Труды Среднеазиатского государственного университета. Серия 3: История. Вып. 2).
Смирнов П. С. [Рецензия на: Бороздин А. К. Протопоп Аввакум: Очерк из истории умственной жизни русского общества в XVII в. СПб., 1898] // ЖМНП. 1899. № 1. С. 245–276.
Смирнов П. С. Внутренние вопросы в расколе в XVII в. СПб., 1898.
Смирнов П. С. История русского раскола старообрядства. 2-е изд. СПб., 1895.
Смирнов П. С. О перстосложении для крестного знамения и благословения // Христианское чтение. 1904. Т. 1. С. 24–44, 214–237, 378–405.
Смирнов П. С. Споры и разделения в русском расколе в первой четверти XVIII в. СПб., 1909.
Смирнов С. Древнерусский духовник. М… 1914 // ЧОИДР. 1914. Кн. 2.
Смирнов С. Материалы для истории древнерусской покаянной дисциплины. М., 1914 // ЧОИДР. 1912. Кн. 3.
Смирнов С. Историческое описание Саввино-Сторожевского монастыря. 3-е изд. М., 1877.
Соболевский А. И. Образование в Московской Руси XV–XVII вв.: Речь, читанная на годичном акте имп. Санкт-Петербургского университета. СПб., 1892.
Соболевский А. И. Переводная литература Московской Руси XIV–XVII вв. СПб., 1903 (Сборник ОРЯС. Т. 74).
Собрание писем царя Алексея Михайловича / Изд. Петр Бартенев. М., 1856.
Собр. Савваитова – Курдюмов М. Г. Описание актов, хранящихся в архиве имп. Археографической комиссии: Коллекция П. И. Савваитова // ЛЗАК за 1914 г. Пг., 1915. Вып. 27. С. I–II, 1–433.
Соколов И. Отношение протестантизма к России в XVI–XVII вв. М., 1880.
Соловьев Вл. Собрание сочинений / Под ред С. М. Соловьева и Э. Радлова. СПб., 1901–1907. Т. 1–9.
Соловьев СМ. История России с древнейших времен. СПб., 1894. Кн. 2 (т. 6–10); СПб., 1861. Т. 11; СПб., 1862. Т. 12; СПб., 1863. Т. 13; СПб., 1864. Т. 14.
Списки населенных мест Российской империи. СПб., 1861–1885. Вып. 1–65.
Справочник-путеводитель по рекам, озерам, каналам СССР. М., 1925.
Срезневский В. И. Описание рукописей и книг, собранных для имп. Академии наук в Олонецком крае. СПб., 1913.
Срезневский В. И, Покровский Ф. И. Описание рукописного отделения Библиотеки имп. Академии наук. СПб., 1910–1930. Т. 1–3.
Срезневский И. И. Сказание об антихристе в славянских переводах с замечаниями о славянских переводах творений св. Ипполита. Разбор книги о них К. И. Невоструева. СПб., 1874.
Староверческий молитвенник, по благословению еп. Иннокентия. Кишинев, 1924.
Сташевский Е. Д. Очерки по истории царствования Михаила Федоровича. Киев, 1913. Ч. 1.
Сташевский Е. Д. Пятина 142 г. и торгово-промышленные центры Москвоского государства // ЖМНП. 1912. Апрель. С. 248–320; Май. С. 79–114.
Степановский И. К. Вологодская старина: Историко-археологический сборник. Вологда, 1890.
Стоглав. Казань, 1862.
Сторожев В. Н. К истории русского просвещения XVII века // Киевская старина. 1889. Т. 27.
Строев П. М. Обстоятельное описание старопечатных книг, славянских и российских, хранящихся в библиотеке тайного советника, сенатора гр. Федора Андреевича Толстова. М., 1829.
Строев П. М. Описание старопечатных книг славянских, служащее дополнением к описаниям библиотек графа Ф. А. Толстого и купца И. Н. Царского. М., 1841.
Строев П. М. Описание старопечатных книг славянских, находящихся в библиотеке купца Ивана Никитича Царского. М., 1836.
Строев П. М. Рукописи славянские и российские, принадлежащие И. Н. Царскому. М., 1848.
Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви. СПб., 1877.
Суворов Н. Описание Спасо-Каменного, что на Кубенском озере, монастыря. Вологда, 1871.
Суворов Н. Учебник церковного права. 5-е изд. М., 1913.
Султанов Н. В. Воробьевский дворец // Древности: Труды Комиссии по сохранению древних памятников Московского архитектурного общества. М., 1909. Т. 3.
Сумцов Н. Ф. Иннокентий Гизель (К истории южно-русской литературы XVII в.) // Труды Киевской духовной академии. Киев, 1884. № 10. С. 183–226.
Сырцов И. Я. Возмущение соловецких монахов-старообрядцев в XVII в. Кострома, 1888.
Татарский И. А. Симеон Полоцкий: (Его жизнь и деятельность). Опыт исследования из истории просвещения и внутренней церковной жизни во вторую половину XVII в. М., 1886 (Прибавления к изданию творений св. отцов в русском переводе. 1885. Кн. 4; 1886. Кн. 1).
Таушев Н. История Кожеозерского монастыря. СПб., 1858.
Титов А. А. Вкладная книга Нижегородского Печерского монастыря // ЧОИДР. 1898. Кн. 1. Отд. 1. С. I–VIII, 1–93. Отд. отт.: М., 1898.
Титов А. А. Город Любим и упраздненные обители в Любиме и его уезде. М., 1890.
Титов А. А. Летопись Двинская. М., 1889.
Титов А. А. Описание Ростова Великого. М., 1891.
Титов А. А. Описание славяно-русских рукописей, находящихся в собрании А. А. Титова. М., 1893–1913. Т. 1–6.
Титов А. А. Рукописи славянские и русские, принадлежащие И. А. Вахрамееву. М., 1888–1907. Вып. 1–6.
Титов А. А. Сибирь в XVII веке: Сборник старинных русских статей о Сибири и прилежащих к ней землях / Изд. Г. Юдин. М., 1890.
Титов А. А. Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь М., 1910.
Тихомиров М. Н. Разинщина. М.; Л., 1930.
Тихонравов Н. С. Памятники отреченной русской литературы / Собраны и изданы Н. Тихонравовым. М., 1863. Т. 1–2.
Тихонравов Н. С. Сочинения. М., 1898. Т. 2.
ТОДРЛ – Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН
Токмаков И. Ф. Историко-статистического описание г. Киржача. М., 1884.
Токмаков И. Ф. Историческое и археологическое описание Покровского девичьего монастыря в г. Суздале. Владимир, 1913.
Требник. М., 1651 (Каратаев. № 674).
Три челобитные справщика Савватия, Саввы Романова и монахов Соловецкого монастыря (Три памятника из первоначальной истории старообрядчества) / Изд. Д. Е. Кожанчикова. СПб., 1862.
Труды 2-го областного археологического съезда в Твери в 1903 г. Тверь, 1906.
Труды 4-го областного историко-археологического съезда в Костроме в июне 1909 г. Кострома, 1914.
Тхоржевский С. Стенька Разин. Пг., 1923.
Увет духовный святейшаго Иоакима, патриарха Московскаго и всея России. 2-е изд. М., 1882. Написан Афанасием Холмогорским и Карионом Истоминым (см.: Верюжский. С 605–611). 1-е изд: 20 сентября 1682.
Уложение, по которому суд и росправа во всяких делах в Российском государстве производится, сочиненное и напечатанное… 7156, 4-м тиснением, 1776.
Ундольский В. М. Очерк старорусской библиографии. М… 1871.
Успенский А. И. Царские иконописцы и живописцы XVII в.: Словарь. М., 1910.
Успенский Д. Видения Смутного времени // Вестник Европы. 1915. № 5.
Устрялов Н. История царствования Петра Великого. СПб., 1858–1859. Т. 1–4.
Устрялов Н. Русское войско до Петра Великого. Годичный торжественный акт Санкт-Петербургского университета 1856 г.
Фаминский В. И. Основные переживания руской народной души в годину Смутного времени // Труды Киевской духовной академии. Киев, 1915. Т. 3. С. 415–455.
Фаминицын А. С. Скоморохи на Руси. СПб., 1889.
Федоров К. Ф. Село Большое Мурашкино прежде и теперь. М., 1891.
Филарет, иером. Опыт сличения церковных чинопоследований по изложению церковно-богослужебных книг московской печати, изданных первыми пятью российскими патриархами. 3-е изд. М., 1883.
Филарет (Гумилевский), архиеп. История русской церкви. Период 4 (1588–1720). 2-е изд. М., 1850.
Филимонов Г. Д. Симон Ушаков и современная ему эпоха русской иконописи // Сборник на 1873 г. / Изд. Обществом древнерусского искусства. Под ред. Г. Филимонова. М., 1873.
Филиппов И. История Выговской старообрядческой пустыни. СПб., 1862. О ней см.: Смирнов. Внутренние вопросы. С. CI–CVIII.
Финдейзен Н. Ф. Очерки по истории музыки в России. М.; Л., 1928–1929. Вып. 1–2.
Форстен Г. В. Сношения Швеции и России во второй половине XVII в. (1648–1700) // ЖМНП. 1898. Ч. 1. Февраль. С. 210–277; Апрель. С. 321–354; Ч. 2. Май. С. 48–103; Июнь. С. 311–350; 1899. Ч. 2. Июнь. С. 277–339; Ч. 3. Сентябрь. С. 47–92.
Харламов И. Протопоп Иван Неронов. Очерк из истории раскола // Древняя и новая Россия. 1881. № 1.
Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Казань, 1914. Т. 1.
Харлампович К. В. Иосиф Курцевич, архиепископ Суздальский (1621–1642). Почаев, 1900.
Харузин Н. Н. К вопросу о борьбе Московского правительства с народными обрядами и суевериями // Этнографическое обозрение. 1897. № 1. С. 143–151.
Храмцовский Н. И. Краткий очерк истории и описание Нижнего Новгорода. Нижний Новгород, 1857. Т. 1; 1859. Т. 2.
Цветаев Д. В. К истории культуры России в XVI и XVII ст. // Филологические записки. 1890. Вып. 1. С. 1–20.
Цветаев Д. В. Литературная борьба с протестантством в Московском государстве. М., 1887.
Цветаев Д. В. Памятники к истории протестантства в России. М., 1888.
Цветаев Д. В. Протестантство и протестанты в России до эпохи преобразований. М., 1890.
Чарыков Н. В. Посольство в Рим и служба в Москве П. Менезия (1637–1694). СПб., 1906.
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских.
Чукмалдин Н. М. Записки о моей жизни / Изд. С. Шапаповым. М., 1902.
Шереметев П. Зимняя поездка в Белозерский край. М., 1902.
Шереметев П. О князьях Хованских // Летопись Историко-родословного общества в Москве. М., 1908. Вып. 1–2 (13–14).
Шимко И. И. Патриарший казенный приказ: Его внешняя история, устройство и деятельность. М., 1894 (Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. Т. 9).
Шляпин В. Житие праведного Прокопия Устюжского чудотворца и историческое описание Успенского Прокопиевского собора. СПб., 1903.
Шляпкин И. Св. Димитрий Ростовский и его время. 1651–1709. СПб., 1891 (Записки историко-филологического факультета имп. Санкт-Петербургского университета. Т. 24).
Шмелев Г. Н. Из истории московского Успенского собора. М., 1908. // ЧОИДР. 1908. Кн. 1–2.
Шмурло Е. Ф. Россия и Италия: Сборник исторических материалов и исследований, касающихся сношений России с Италией. Л., 1927. Т. 4.
Шушерин И. История о рождении и о воспитании и о житии святейшего Никона, патриарха Московского и всея России. М., 1871 (другое изд.: Русский архив. 1909. № 9. С. 1–110).
Щапов А. П. Сочинения. СПб., 1906. Т. 1–2.
Щепотъев Λ. Ближний боярин Артамон Сергеевич Матвеев как культурный и политический деятель XVII в. СПб., 1906.
Эдинг Б. Ростов Великий, Углич: Памятники художественной старины // Грабарь И. Русские города – рассадники искусства: Собрание иллюстрированных монографий. М., 1913. Вып. 1.
Юшков СВ. Очерки из истории приходской жизни… XV–XVII вв. СПб., 1913 (ЛЗАК. Вып. 26).
Ягич И. В. История славянской филологии. СПб., 1910.
Якубов К. И. Россия и Швеция в первой половине XVII в.: Сборник материалов… 1616–1651. М., 1897 // ЧОИДР. 1897. Кн. 3–4; 1898. Кн. 1.
Яцимирский А. И. Николай Милеску Спафарий: Страница из истории русско-румынских сношений в XVII в. Казань, 1908.
Яцимирский А. И. Опись старинных славянских и русских рукописей собрания П. И. Щукина. М., 1896. Вып. 1–2.
Le Stoglav ou les cent chaptres / Ed. E. Duchesne. Paris, 1920.
Lubimenko. Les relatoins commerciales et politiques de l’Angleterre avec la Russie avant Pierre le Grand. Paris, 1933.
Mattel A. La langue polonaise dans les pays ruthènes // Trav. Et Mem. De l’Universite de Lille. Nouv. série: droit et lettres № 20. Lille, 1938.
OlearusA. Relation du voyage d’Adam Olearius en Moscovie, Tartarie et Perse… trad. de l’allemand par A. de Wicquefort. Paris, 1659. T. 1.
Orthodoxa Confessio catholicae atque apostolicae Ecclesiae orientalis. Wratislaviae, 1751.
Palmer W. The Patriarch and the Tsar. London, 1871–1876. Vol. 1–6.
Possevin. Moscovia et alia opera de statu huius seculi. [Cologne], 1587.
Сноски
1
Зеньковский С. Русское старообрядчество: Духовные движения семнадцатого века. М., 1995. С. 22.
(обратно)2
Pascal P. Avvakum et les débuts du raskol: La crise religieuse au XVIIe siècle en Russie. 1e éd. Paris, 1938; 2 éd. Paris, 1963.
(обратно)3
Пьеру Паскалю было посвящено два сборника (по случаю его 70-летия и 90-летия): Mélanges Pierre Pascal // Revue des Études Slaves. Paris, 1961. T. 38; 1982. T. 54. Во второй сборник, помимо других материалов, вошли автобиографический очерк самого П. Паскаля (Mon pére Charles Pascal), воспоминания об ученом и библиография его трудов. О П. Паскале см. статью и некролог В. Водова: Russia Mediaevalis. München, 1987. T. 6(1). S. 320–324; ТОДРЛ. Л., 1990. Т. 43. С. 434–436; а также: Кокен Ф.-К. Пьер Паскаль (1890–1983): его политический и духовный путь // Из глубины времен. СПб., 1997. Вып. 8. С. 130–141; Струве Н. Петр Карлович Паскаль (1890–1983): Памяти учителя-друга // Струве Н. Православие и культура. М., 2000. С. 197–201. Ценные биографические данные содержит книга ученика П. Паскаля, профессора Женевского университета, академика Европейской академии Жоржа Нива: Нива Ж. Возвращение в Европу. М., 1999. С. 112–128.
(обратно)4
Pascal P. Mon Journal de Russie (1916–1927). Lausanne, L’Âge d’homme, 1975–1982 (4 vol.).
(обратно)5
Цит. по: НиваЖ. Возвращение в Европу. С. 118.
(обратно)6
Там же. С. 118–119.
(обратно)7
Нива Ж. Возвращение в Европу. С. 123.
(обратно)8
Житие (протопопа Аввакума), им самим написанное. Пг., 1916.
(обратно)9
Нива Ж. Возвращение в Европу. С. 118.
(обратно)10
РГАДА. Архив читального зала. Д. 412. 6 л.
(обратно)11
Там же. Л. 3.
(обратно)12
Там же. Л. 1.
(обратно)13
В деле сохранилось два таких заявления: от 30 апреля 1931 г. (л. 4) и от 30 октября 1931 г. (л. 2).
(обратно)14
Там же. Л. 6–6 об.
(обратно)15
Там же. Л. 5–5 об.
(обратно)16
Подробнее см.: Данилова О. С. 1) Французское «славянофильство» конца XIX – начала XX в. // Россия и Франция: XVIII–XX века М., 2005. Вып. 6. С. 236–270; Она же. 2) Французское «славянофильство» в начале XX в.: школа славистики аббата Ф. Порталя // Россия и Франция: XVIII–XX века. М., 2006. Вып. 7. С. 237–266.
(обратно)17
Водов В. Пьер Паскаль // ТОДРЛ. Л., 1990. Т. 43. С. 434.
(обратно)18
Pascal P. Avvakum et les débuts du raskol: La crise religieuse au XVIIe siècle en Russie. Paris, 1938.
(обратно)19
Pascal P. Avvakum et les débuts du raskol. Paris, 1963 (Études sur l’Histoire, l’Économie et la Sociologie des pays Slaves. VIII).
(обратно)20
2-е изд.: СПб., 1900.
(обратно)21
ЖМНП. 1899. Январь. С. 249.
(обратно)22
Там же. С. 251.
(обратно)23
Памятники истории старообрядчества XVII в. Т. 1. Вып. 1. Л., 1927 (РИБ. Т. 39).
(обратно)24
Библиографию последних лет см.: Шашков А. Т. Аввакум Петров // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.). СПб., 1992. Ч. 1. С. 23–30; Библиографические дополнения к статьям, помещенным в «Словаре книжников и книжности Древней Руси» (Вып. 3, части 1–3) / Сост. Д. М. Буланин // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.). СПб., 1992. Ч. 4. С. 650–657.
(обратно)25
Водов В. Пьер Паскаль. С. 435.
(обратно)26
Государственный музей Л. Н. Толстого. Ф. 56, кп 23 113/5 инв. 98 (кор. 3 папка 5). 387 л. (Предисловие, главы 1, 2, 3, 14, 15).
(обратно)27
Об этом собрании см.: ЮхименкоЕ.М. 1) Старообрядческий центр за Рогожской заставою. М., 2005. С. 96–101; 2) Рукописные и старопечатные книги // Древности и духовные святыни старообрядчества: Иконы, книги, облачения, предметы церковного убранства Архиерейской ризницы и Покровского собора при Рогожском кладбище в Москве. М., 2005. С. 212–217; Волков В. В. Книгохранилище Митрополии РПСЦ и старообрядческие книжники XX в. // Старообрядчество в России (XVII–XX вв.). М., 2010. Вып. 4. С. 450–467.
(обратно)28
Первый брак, с 1918 г., очень непродолжительный, – с Марией Александровной Кражановской, третий, с 1966 г., – с Раисой Васильевной Чучковой.
(обратно)29
Благодарю Н. Н. и Д. А. Птицыных за консультации по родословию Абрикосовых.
(обратно)30
Мариничева (Оленева) Г. История Рогожского поселка – центра старообрядчества (Воспоминания). М., 2004. С. 51. В архиве Митрополии РПСЦ хранится копия автобиографии К. А. Абрикосова, написанной в 1948 г. В этом документе автор сообщал о себе: он родился 24 марта 1894 г. в Москве; его отец был одним из совладельцев крупной кондитерской фабрики; после революции, с 1926 по 1937 г., он преподавал иностранный язык в школе-десятилетке и в техникуме. Сам К. А. Абрикосов окончил Московскую Практическую академию в 1912 г. Свободно владел французским и немецким. В 1912 г. женился на Татьяне Петровне Смирновой – дочери известного водочного фабриканта П. П. Смирнова. В 1915 г. окончил артиллерийское училище в Одессе. Получил чин поручика. В 1918 г. добровольно вступил в Рабоче-Крестьянскую Красную армию (РККА), в которой прослужил до 1922 г., занимая командные должности. В 1926 г. в годы НЭПа его жена уехала с их сыном Георгием за границу и не вернулась в СССР. В том же 1926 г. К. А. Абрикосов женился на родной сестре своей жены, Ольге Петровне Смирновой, от второго брака детей у них не было. С 1922 по 1928 г. работал юристом в частной фирме, с 1929 по 1940 г. – преподавателем математики и немецкого языка. С 1934 г. был директором школы рабочего образования (для взрослых). В 1940 г. работал в иностранном отделе Исторической библиотеки (ныне ГПИБ). По всей видимости, около 1940 г. перешел в старообрядчество. С 1941 г. работал ответственным секретарем и управляющим делами Архиепископии Московской и всея Руси. (Благодарю В. В. Боченкова, сообщившего мне данные сведения.) Некоторые сведения о трудной жизни во Франции первой жены К. А. Абрикосова Татьяны Петровны и уехавшего вместе с нею ее сына от первого брака Бориса см.: Смирнова К. В., Фомина Т. Б., Чибисова Е. В. Особняк П. П. Смирнова на Тверском бульваре в Москве // Русская усадьба: Сборник Общества изучения русской усадьбы. М., 2008. Вып. 13–14 [29–30]. С. 523–525. Здесь же, на с. 527, опубликована фотография Г. К. Абрикосова, сделанная в Париже в 1937 г.
(обратно)31
Мариничева (Оленева) Г. История Рогожского поселка… С. 51.
(обратно)32
Его матерью была Агриппина Алексеевна Абрикосова, вышедшая замуж за Адольфа Адольфовича Лемана (1854–1914), химика-технолога, служившего на кондитерской фабрике Абрикосова.
(обратно)33
В этот кружок входили также Г. П. Георгиевский, Н. П. Понятовский, Н. А. Варенцов, В. В. Чердынцев, Д. Е. Мелихов, М. К. Баранаев. Подробнее см.: Любартович В. А. Друзья-сомолитвенники (московский кружок ревнителей православного благочестия и духовного просвещения 1960–1980 гг. Н. Е. Пестова) // Исторический вестник. Москва – Воронеж, 2001. № 4 (15). С. 19–25. Заметим, что мать А. А. Солодовникова, Ольга Романовна Мальмберг, также происходила из рода Абрикосовых.
(обратно)34
Боченков В. В. «Кто, кроме нас, старообрядцев, напишет суздальский патерик» // Сибирский старообрядец. 2008. № 2. С. 13–14.
(обратно)35
Государственный музей Л. Н. Толстого. Дело ф. 56.
(обратно)36
Тома машинописи имеют номера «Ф-122» и «Ф-123». О книжных интересах архиепископа Флавиана см.: Волков В. В. Книгохранилище Митрополии РПСЦ и старообрядческие книжники XX в. С. 458–462.
(обратно)37
Перевод В. В. Боченкова. – Прим. ред.
(обратно)38
Малышев В. И. Три неизвестных сочинения протопопа Аввакума и новые документы о нем // Доклады и сообщения Филологического института Ленинградского государственного университета. Л., 1951. Вып. 3. С. 255–266.
(обратно)39
Малышев В. И. Три неизвестных письма протопопа Аввакума // ТОДРЛ. М.; Л., 1958. Т. 14. С. 413–420.
(обратно)40
Бабеф – французский социалист. Житие протопопа Аввакума, им самим написанное. Пг., 1916. – Прим. ред. Барсков Я. Л. Памятники первых лет русского старообрядчества. СПб., 1912. – Прим. ред.
(обратно)41
Мякотин В. А. Протопоп Аввакум, его жизнь и деятельность: Биографический очерк. СПб., 1893. – Прим. ред.
(обратно)42
Бороздин А. К. Протопоп Аввакум: Очерк из истории умственной жизни русского общества в XVII веке. СПб., 1898. 2-е изд. СПб., 1900. – Прим. ред.
(обратно)43
Памятники истории старообрядства XVII в. Кн. 1. Вып. 1 // РИБ. Л., 1927. Т. 39. – Прим. ред.
(обратно)44
Смирнов П. С. История русского раскола старообрядства. 2-е изд. СПб., 1895. – Прим. ред.
(обратно)45
Смирнов П. С. Внутренние вопросы в расколе в XVII веке: Исследование из начальной истории раскола по вновь открытым памятникам, изданным и рукописным. СПб., 1898. – Прим. ред.
(обратно)46
Каптерев П. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Сергиев Посад, 1909. Т. 1–3. – Прим. ред.
(обратно)47
Материалы для истории раскола за первое время его существования / Под ред. Н. И. Субботина. М., 1874–1890. Т. 1–9. – Прим. ред.
(обратно)48
Предложение добавлено П. Паскалем во втором издании книги. – Прим. ред.
(обратно)49
Никольский В. К. Сибирская ссылка протопопа Аввакума // Ученые записки Института истории Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук. М., 1927. Т. 2. С. 137–167. – Прим. ред.
(обратно)50
Гиббенет П. А. Историческое исследование дела патриарха Никона. СПб., 1882–1884. Т. 1–2. – Прим. ред.
(обратно)51
Собрание писем царя Алексея Михайловича / Изд. П. Бартенев. М., 1856. – Прим. ред.
(обратно)52
Этот абзац добавлен П. Паскалем во втором издании книги. – Прим. ред.
(обратно)53
Макарий (Булгаков), еп. Винницкий. История русского раскола, известного под именем старообрядства. СПб., 1855.
(обратно)54
Смирнов. Внутренние вопросы. С. CXXVI.
(обратно)55
Этот абзац был добавлен во втором издании. – Прим. ред.
(обратно)56
Заключительный абзац публикуется в расширенной редакции второго издания. В издании 1938 г. было: Я приношу благодарность господину Полю Буайе, который позволил мне пользоваться Библиотекой Школы восточных языков, моим друзьях господам Жюлю Легра и Раулю Лабри и, особенно, господину Андре Мазону, который на протяжении всего выполнения этого труда непрестанно поддерживал меня. Благодарю также Национальный научный фонд, который позволил мне с материальной стороны осуществить эту работу. Благодарю также и достопочтенного отца Дюмона. – Прим. ред.
(обратно)57
La vie de l’archiprêtre Avvakum, écrite par lui-même, et sa dernière epître au tsar Alxis / Traduite du vieux russe avec une introduction et des notes par Pierre Pascal. Paris, 1938. 2 éd. Paris, 1960. – Прим. ред.
(обратно)58
Самым последним печатным трудом по вопросу о Смутном времени является книга С. Ф. Платонова «Смутное время». См. также первые главы «Очерков по истории царствования Михаила Феодоровича» Е. Д. Сташевского. Но самыми характерными являются тексты этого времени, собранные Платоновым в XIII томе «Русской исторической библиотеки», или отдельные описания, как городов, так и монастырей.
(обратно)59
Кедров. С. 22 и прим. 1.
(обратно)60
Сташевский. Очерки. С. 28–29.
(обратно)61
«История» Авраамия Палицына (РИБ. ХIII. Стб. 481). Даже если цифра 127 000, взятая из официальных данных, и была преувеличена, то, по крайней мере, она свидетельствовала о том впечатлении, которое эта катастрофа произвела на современников.
(обратно)62
Эдинг. С. 162, см. прим.
(обратно)63
Монастырь, расположенный на расстоянии 5 км от Вологды, по дороге к Архангельску.
(обратно)64
Савваитов, Суворов. Описание. С. 1–51.
(обратно)65
Так называли запорожских казаков, по названию их города Черкассы.
(обратно)66
Письмо Сильвестра, архиепископа Вологодского, боярам (от 29 сентября 1612 г.) // Русская старина. 1882. XII. С. 677–678. В церковной ведомости числятся убитыми и сожженными три протоиерея, тридцать два священника, шесть дьяконов и шесть монахов, среди них святой Галактион (Коноплев. С. 108, прим. 45).
(обратно)67
Платонов. Очерки. С. 306–307.
(обратно)68
Описание этих событий взято из «Истории» Авраамия Палицына (РИБ. XIII. Стб. 475–519).
(обратно)69
Книга о чудесах преподобного Сергия. С. 23–24.
(обратно)70
РИБ. ХIII. Стб. 500. По вопросу о положении церкви на Руси во время Смутного времени существует работа Ф. Иванова, с которой автор не знаком.
(обратно)71
РИБ. ХIII. Стб. 177–184. Аналогичные видения были: в 1607 году в Москве, в последующие годы – в Нижнем Новгороде, во Владимире (Там же. Стб. 184–186, 235–248). Кроме того, см.: Успенский Д. Видения Смутного времени; Фаминский. Основные переживания.
(обратно)72
История его жизни была опубликована в 1909 году во 2-м издании ХIII тома «Русской исторической библиотеки» (также и отдельно). Краткое изложение см. в книге Забелина «Минин», с. 250–259.
(обратно)73
Миловский. С. 5–17.
(обратно)74
Амвросий. История российской иерархии. VI. С. 1122–1129.
(обратно)75
Так пишет и Зизаний в своем комментарии к 15-му огласительному поучению святого Кирилла Иерусалимского об антихристе, изданному в Вильно в 1595 году. Этот комментарий был перепечатан в Москве в «Кирилловой книге». См. выдержки, цитированные А. Лиловым (Аилов. С. 142–161).
(обратно)76
Pierling Paul S. J. La Russie et le Saint-Siege. Paris, 1897. II. P. 372–373.
(обратно)77
РИБ. XIII. Стб. 493.
(обратно)78
Šmurlo Е. Le Saint-Siege it l’Orient Russe. Prague, 1928. P. 3.
(обратно)79
Так о них отзывается Сильвестр, архиепископ Вологодский (Харлампович. Малороссийское влияние. С. 18–19).
(обратно)80
Там же. С. 17–19.
(обратно)81
Согласно представлению русских о Флорентийской унии (1439).
(обратно)82
Слова эти заимствованы из указа об учреждении патриаршества, составленного собором русских и греческих иерархов; см.: Каптерев. Характер отношений России к православному Востоку. С. 49.
(обратно)83
Мы довольно хорошо знакомы с Дионисием, особенно по его Житию, написанному Симоном Азарьиным (рукопись № 416 из Синодальной библиотеки, находящаяся в настоящее время в московском Историческом музее [ГИМ. Синодальное собр. № 416]; имеются издания с купюрами 1808, 1816, 1817, 1824, 1834, 1854 годов). Есть также хорошая монография Д. Скворцова (Скворцов. Дионисий Зобниновский).
(обратно)84
О Максиме Греке см. хорошую монографию у В. С. Иконникова «Максим Грек и его время», намного расширенную во 2-м издании (Киев, 1915), с именным указателем.
(обратно)85
ААЭ. III. С. 482–483.
(обратно)86
Слова Арсения Глухого, приведенные Д. И. Скворцовым (Скворцов. Дионисий Зобниновский. С. 215). Служебник. М., 1602. Л. 236 об. – Прим. ред.
(обратно)87
Служебник. М., 1602. Л. 234 об. – Прим. ред.
(обратно)88
Решение Собора 1618 года было напечатано И. Сахаровым в «Северной пчеле». 1842. № 198. С. 791–792.
(обратно)89
А. А. Покровский опубликовал об Антонии Подольском некоторые данные, которые исправляют или уточняют то, что ранее считалось известным о нем (Покровский А. А. К биографии Антония Подольского // ЧОИДР. 1912. II. Смесь. С. 33–38).
(обратно)90
В своей монографии о Дионисии Зобниновском (с. 175–339) Д. Скворцов исчерпывающим образом анализирует вопрос об исправлении богослужебных книг в 1616–1619 годах. За неимением этой работы, можно пользоваться другими: Казанский П. Исправление церковно-богослужебных книг при патриархе Филарете // ЧОИДР. 1848. № 8. С. 1–26; Исправление богослужебных книг при патриархе Филарете // Православный собеседник. 1862. № 2, 3; Соловьев. История России. Т. IX. Гл. V; Николаевский. Московский Печатный двор // Христианское чтение. 1890. II. С. 434–457.
(обратно)91
РИБ. VI. Стб. 26.
(обратно)92
Текст византийского происхождения XI – ХII века, введенный в славянские канонические сборники (напечатан А. Поповым: Попов А. Историко-литературный обзор. С. 58–69).
(обратно)93
Макарий. История русской церкви. XI. С. 23–30; Голубцов. Прения о вере. С. 18–24; Харлампович. Малороссийское влияние. С. 21–22.
(обратно)94
Макарий. История русской церкви. XI. С. 30–33. Вот еще подтверждение нежелания Филарета изменять церковные книги: решения собора 4 и 16 декабря 1620 года не были внесены в первое издание Требника 1623 года, а только в издание 1639 года.
(обратно)95
Макарий. История русской церкви. XI. С. 46. Согласно самым древним русским установлениям, крещение, как правило, должно было осуществляться кроплением; однако многие митрополиты, а также Стоглавый собор осудили это. См. соответствующие тексты у А. А. Дмитриевского (Дмитриевский. Богослужение. С. 289–293). Интересно, что в эту же самую эпоху на Западе многие задавали себе вопрос – христиане ли москвитяне и не нужно ли крестить их заново? 31 марта 1620 г. лютеранин Иоганн Ботвид, доктор теологии и проповедник короля Швеции, защитил в Упсале пятьдесят тезисов на тему: «Являются ли московиты христианами или нет?». Проанализировав должным образом генезис христианства на Руси, богослужебные книги, исповедания веры, церковное управление и богослужение русских времен патриарха Иова (1525–1607), он ответил на вопрос утвердительно. Эти тезисы были напечатаны в 1705 году в Лейпциге. См. каталог Парижской национальной библиотеки, рубрика в картотеке «Ботвид». В течение всего XVIII века на эти тезисы часто ссылались. Католический мир, благодаря Поссевину, был лучше информирован (Possevin. Missio Moscovitica. Roma, 1584; Moscovia. Cologne, 1587); он никогда не сомневался в христианстве русских.
(обратно)96
По вопросу о пропаганде протестантства и социнианизма в Польше и Литве через печать и школу см.: Martel A. La Langue polonaise dans les pays ruthènes. Paris, 1938. Р. 203–218.
(обратно)97
Каратаев. С. 397, 510–511. Краткий катехизис предназначался для обращения в лютеранство православных Карелии, переданных Швеции, но он также проник и в Московское государство.
(обратно)98
Киевская старина. 1882. Май. С. 200.
(обратно)99
Пирлинг. Исторические статьи. С. 148–154 (Русская старина. 1908. Апрель. С. 1–6).
(обратно)100
См.: Цветаев. Протестантство. С. 47–50 и примечания. Тут же имеется рассмотрение соответствующих источников.
(обратно)101
Там же. С. 51–68 и прим. 1 на с. 68–73, 246–250.
(обратно)102
Голицын. С. 3–18.
(обратно)103
Корсаков Д. Шаховской Семен Иванович // РБС. СПб., 1905. Т.: Чаадаев – Швитков. С. 586–589; Платонов. Древнерусские сказания. С. 231–246.
(обратно)104
Работы о Хворостинине были опубликованы В. И. Саввой в «Летописях занятий Археографической комиссии» (1905. XVIII. С. 1–106). Все данные о нем собраны С. Ф. Платоновым: Платонов. Древнерусские сказания. С. 182–203; Платонов. Москва и Запад. С. 69–78. Портрет, который дает В. О. Ключевский (Ключевский. Курс. III. С. 305–307), неточен, так как, по-видимому, Хворостинин находился больше под влиянием социниан, чем католиков.
(обратно)105
Характер Авраамия Палицына выявлен и очень ярко описан С. В. Бахрушиным: Вера. Пг., 1924. I. С. 79–110.
(обратно)106
Филипп в январе 1634 года поделился своими мыслями об этом с Олеарием, но, очевидно, они уже были у него давно (Олеарий. 1. III. Р. 253).
(обратно)107
Именно к этой эпохе следует, по-видимому, отнести статью Ивана Бегичева, опубликованную А. И. Яцимирским (ЧОИДР. 1898. II. С. Х –13). Автор, мирянин, выступает против другого мирянина по поводу символического значения слов Бога Моисею (Исх. 33, 23): «И когда сниму руку Мою, ты увидишь задняя Моя, а лице Мое не будет видимо» (этот богословский спор начался между ними на охоте). Он также не верит в то, что Господь действительно показывается Аврааму. Напротив, старый монах Филарет, проведший 50 лет в Троицком монастыре и прослуживший 40 лет екклесиархом, утверждал, что у Господа «человеческое лицо и тело»; он также утверждал, что Христос не родился от Отца прежде всех век, а лишь в момент Благовещения (Скворцов. Дионисий Зобниновский. С. 384); мы наблюдаем тут полный разброд в богословском мышлении.
(обратно)108
ЛЗАК за 1905 г. СПб, 1907. Вып. 18. С. 119.
(обратно)109
В 1631 г. полковник Лесли был направлен за границу для набора солдат всех национальностей, за исключением французов и «других романской веры» (СГГД. III. № 83. С. 317). В 1632 году, когда Иосифа, протосинкелла патриарха Александрийского, задержали в Москве, это было в основном ради перевода с греческого на славянский писаний против ереси латинян (Сторожев // Киевская старина. Киев, 1889. Т. XXVII. С. 334). В 1632 г. по договору, заключенному с Голштинской компанией, запрещалось под страхом смерти способствовать выезду на Русь лиц латинского вероисповедания (АИ. III. С. 332. № 181).
(обратно)110
Цветаев. Протестантство. С. 595.
(обратно)111
Там же. С. 524–538.
(обратно)112
Перепечатано в: РИБ. VII. Стб. 600–938. // Речь идет о «Книжице в шести отделах» Василия Сурожского-Малющинского (Острог, 1588). В разделе «О исхождении Святого Духа» автор опирался на «Слово на латинов» Максима Грека. – Прим. ред. // Имеется в виду книга «О образех, о кресте, о хвале Божией и хвале и молитве святых и о иных артыкулех веры единое правдивое Церкви Христовы», опубликованная в Вильно в типографии виленского Троицкого братства в 1596 г. Подробнее см.: Опарина Т. А. Иван Наседка и полемическое богословие киевской митрополии. Новосибирск. 1998. С. 79–82. – Прим. ред.
(обратно)113
Цветаев. Протестантство. С. 604–611.
(обратно)114
Опубликован С. Ф. Платоновым (Савва В. И., Платонов С. Ф., Дружинин В. Г. Вновь открытые полемические сочинения XVII века против еретиков // ЛЗАК за 1905 г. СПб., 1907. Вып. 18. С. 109–177). Платонов приписывает его князю Ивану Катыреву-Ростовскому, оставившему воспоминания о Смутном времени, связанные с его личной жизнью. Автор неоднократно упоминает, с целью опровержения, об одном труде иконоборцев, он называет его «их оправданием», или «их вероучением»: если бы шла речь о кратком лютеранском катехизисе, опубликованном на русском языке в 1628 г., то можно было бы датировать эту работу (посвященную Филарету, скончавшемуся в 1633 г.) периодом 1628–1633 гг. [В настоящее время атрибуция С. Ф. Платонова считается недостаточно основательной и сочинение относят к творчеству И. А. Хворостина. См.: Буланин Д. М., Семенова Е. П. Хворостинин Иван Андреевич // СККДР. СПб., 2004. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 4. С. 193–194. – Прим. ред.].
(обратно)115
Глава III книги А. П. Голубцова (Голубцов. Прения о вере. С. 76–126) представляет собой настоящую монографию об «Изложении на люторы» Наседки. См. также: Цветаев. Протестантство. С. 616–628, где имеется разбор этого произведения.
(обратно)116
Голубцов. Прения о вере. С. 110, прим. 71. [К настоящему времени выявлено 23 списка. См.: Опарина Т. А. Иван Наседка… С. 75, 305–306. – Прим. ред.]
(обратно)117
Дата этого назначения, не известная точно, но восстановленная Голубцовым как 1626 год (Голубцов. Прения о вере. С. 89–90), относится на самом деле к более раннему времени, потому что 20 мая 1625 г. Наседка подписывает акт об одном вкладе в Успенский собор (ГИМ. Синодальное собрание свитков. № 1829).
(обратно)118
Имеются в виду издания: Иоанн Златоуст, свт. Беседы на 14 Посланий св. апостола Павла. Киев, 1623; Он же. Беседы на Деяния св. апостол. Киев. 1624. – Прим. ред.
(обратно)119
Харлампович. Малороссийское влияние. С. 103–108. Протоколы беседы от 18 и 19 февраля 1627 года напечатаны Н. С. Тихонравовым: Летописи русской литературы. 1859. Т. II. Кн. 3. Отд. II. С. 80–100, затем они воспроизведены Обществом любителей древней письменности. 1878. Вып. XVII.
(обратно)120
Харлампович. Малороссийское влияние. С. 108–113. // Подробнее см.: Булычев А. А. История одной политической компании XVII века: Законодательные акты второй половины 1620-х годов о запрете свободного распространения «литовских» печатных и рукописных книг в России. М., 2004. С. 12–48. – Прим. ред.
(обратно)121
Сборник Муханова. С. 208, стб. 2. № 140.
(обратно)122
РИБ. II. Стб. 411. № 131. // Имеется в виду, что в XIX в. города бывшей патриаршей области находились в 16 губерниях, или епархиях. Подробнее см.: Макарий (Булгаков), митр. История русской церкви. М., 1996. Кн. 6. С. 309. – Прим. ред.
(обратно)123
СГГД. III. № 71.
(обратно)124
Каптерев. Светские архиерейские чиновники. С. 201–230.
(обратно)125
Шимко. Патриарший казенный приказ. С. 127, 191–192; Покровский И. Казанский архиерейский дом. С. 198–203.
(обратно)126
РИБ. II. Стб. 942–943. № 204 (1637).
(обратно)127
ААЭ. III. № 258 (1628) (=ЧОИДР. 1866. III. Смесь. С. 11–12).
(обратно)128
Олеарий. 1. III. Р. 233
(обратно)129
Макарий. История русской церкви. XI. С. 35–40; Буцинский П. Н. Основание Тобольской епархии и ее первый архиепископ Киприан // Вера и разум. Харьков, 1890. № 21. С. 555–578; № 23. С. 639–672.
(обратно)130
Буцинский. Сибирские архиепископы. С. 7–9, прим.
(обратно)131
Антоний Крылов в 1616 г. был одним из сотрудников Дионисия; он умер 21 декабря 1630 года. Арсений Глухой остался справщиком Печатного двора до 1640 г. (умер в 1643 г.).
(обратно)132
В библиографии известно три московских издания Псалтыри 20-х гг. XVII в.: 1624, 1625 и 1629 гг. (см.: Зернова. С. 30, 33, 36. № 51, 59, 71. Возможно, автор имеет в виду издание Псалтыри с восследованием 1627 г. (Там же. С. 35, № 66). – Прим. ред.
(обратно)133
Два издания Устава вышли из печати в 1633 г. – 20 февраля и 30 сентября (См.: Зернова. С. 41–42. № 94, 100) – Прим. ред.
(обратно)134
Николаевский. Московский Печатный двор // Христианское чтение. 1890. II. С. 434–467
(обратно)135
СГГД. III. № 60.
(обратно)136
Зерцалов. Киприан. С. 1–28.
(обратно)137
РБС. СПб., 1897. Т.: Иб – Кл. С. 646; Сборник Новгородского общества любителей древности. Новгород, 1908. Вып. 1. С. 71.
(обратно)138
РИБ. XXXVIII. Стб. 373.
(обратно)139
Харлампович. Малороссийское влияние. С. 32–39. См. также его монографию: Харлампович. Иосиф Курцевич.
(обратно)140
Сборник МГАМИД. 1893. Т. V. С. VIII.
(обратно)141
Постановление от 20 октября 1628 г.: «… в хлебне сковать в железа и (…) на братью сеяти мука и из печи выгребати пепел и всякую монастырскую черную работу работать, а кормить его (…) хлебом против одного брата, а еству (…) ему давати против одного брата въполы (…) а будет его постигнет смертная болезнь и смертный час (…) его при смерти (…) причастить (…) и того (…) беречь накрепко, чтоб с монастыря не ушел и дурна над собою никакого не учинил». (Архив П. М. Строева. II. № 368. Стб. 716–717 = ААЭ. III. С. 259–260. № 177).
(обратно)142
Постановление от 22 июня 1633 года (Архив П. М. Строева. II. № 421. Стб. 837–838 = ААЭ. III. № 226). Кстати сказать, по указу от 3 ноября 1633 г. Кольцов был отозван в Москву сейчас же после смерти Филарета (Архив П. М. Строева. II. № 428. Стб. 853–854).
(обратно)143
Досифей. I. С. 276–277.
(обратно)144
Скворцов. Дионисий Зобниновский. С. 347–352, 359–366.
(обратно)145
Цветаев. Протестантство. С. 734–735.
(обратно)146
Монастырь был превращен в общежительный. Велено было печь хлебы в пекарне и варить щи и кашу и другие блюда на кухне с тем, чтобы все распределялось настоятельницей и монахинями по примеру других общежительных монастырей. Только три монахини в этом, очень аристократическом, монастыре выражают свой протест, желая, чтобы капусту делили на огороде по грядам и чтобы каша, масло и все продукты распределяли по кельям. Царь сослал их в три разных монастыря (Описание актов собрания гр. А. С. Уварова. II. С. 168–169. № 147).
(обратно)147
Амвросий. История российской иерархии. VI. С. 1129–1132.
(обратно)148
Ключевский. Древнерусские жития святых. С. 344–345.
(обратно)149
ЧОИДР. 1892. II. Смесь. С. 1–45.
(обратно)150
Суворов Н. Описание Спасо-Каменного монастыря. С. 31.
(обратно)151
Юшков. Очерки. С. 95–106.
(обратно)152
Миловский. Неканонизированные святые // ЧОИДР. 1893. II. С. 5–17.
(обратно)153
Скворцов. Дионисий Зобниновский. С. 347–352, 359–366.
(обратно)154
Русская старина. 1912. Ноябрь. С. 423–424.
(обратно)155
Скворцов. Дионисий Зобниновский. С. 375–406.
(обратно)156
Не кто иной, как С. Ф. Платонов указал на значение педагогической деятельности Дионисия в своей работе «Москва и Запад в XVI–XVII вв.» (Платонов. Москва и Запад. С. 85–90.) В этом большая заслуга Платонова.
(обратно)157
Самые точные сведения о Ломовском ските см.: Титов. Рукописи славян– // ские и русские, принадлежащие И. А. Вахрамееву. V. Прил… 188–189, а также: Зверинский. II. С. 85. № 684; Амвросий. История российской иерархии. VI. С. 958 и 1022; впрочем, во всех этих источниках наблюдается досадная путаница.
(обратно)158
Русский провинциальный некрополь. I. С. 328–329.
(обратно)159
В статистических данных 1859 года еще указано, что там, то есть на севере Ярославской губернии, между правым берегом Юга и границей Вологодской губернии, в 71 версте на север от Пошехонья, имелось одно селение, состоявшее из 26 дворов и 186 жителей (Списки населенных мест. Т. 50: Ярославская губерния. С. 165–166).
(обратно)160
Все, что нам известно о Неронове до его приезда в Москву, восходит к сочинению под названием «Житие и подвиги блаженного отца Григория, архимандрита бывша во обители Даниила Переславского» (напечатано Н. И. Субботиным: Материалы. I. С. 243–305). О написании этого анонимного жития можно сказать следующее: 1) оно было написано в Даниловском монастыре, где Неронов находился с 1667 г. до своей смерти в 1670 году; за это говорит то, что рукопись, в которой сохранились эти материалы (ГИМ. Собр. Уварова. № 185–4°. Л. 265–327 об.), начинается с Жития св. Даниила Переславского; 2) оно было составлено вскоре после смерти Неронова. Житие богато фактами и в той части его, которую можно проверить, неопровержимо; в общем, книга заслуживает доверия. Статьи о Неронове П. Знаменского (1869), Харламова (1881) и Ф. Клипуновского (1886) не вносят ничего нового. Что касается даты рождения Неронова – 1591, то она вызывает сомнение: 1) согласно этой дате получается, что он умер в 1670 году около 80 лет, а на этот весьма преклонный возраст нигде нет указаний; 2) в самом Житии указано, что, когда он должен был уехать из Лома, он «становился юношей», судя по этому, ему было тогда максимум 15–16 лет: данное событие могло, следовательно, иметь место только в 1613 году.
(обратно)161
Верх. Царствование царя Михаила Феодоровича. I. С. 93–94. Таким образом, эта область опустошалась в 1612, 1613, 1614 и 1618 гг. Но, принимая во внимание период, указанный в Житии («между Рождеством и его отданием»), речь может идти только о 1613 г.
(обратно)162
Материалы. I. С. 247.
(обратно)163
Преподобный Сергий подобным же образом, будучи ребенком, гораздо хуже учился, чем его братья, что длилось до тех пор, пока у него не произошло однажды просветления: это сходство, однако, не дает права подвергнуть сомнению то, что рассказывается о Неронове.
(обратно)164
На левом берегу Волги, Березниковский уезд, Юрьевецкого округа (Готье. С. 589).
(обратно)165
Материалы. I. С. 250. Этот брак не мог состояться раньше 1617 года; однако даже здесь, в Житии, Неронов назван отроком.
(обратно)166
В списке владений Троицкого монастыря в 1592–1629 годах, составленном Готье (с. 214–221), Юрьевецкий округ не числится, и поэтому проверить этот факт из Жития Неронова нельзя.
(обратно)167
Вероятно, пребывание Неронова в Троицком монастыре относится именно к этому периоду, но уточнить дату и продолжительность его пребывания там нельзя.
(обратно)168
Платонов. Древнерусские сказания. С. 224–225. Палицын уехал в Соловецкий монастырь, место своего назначения, только после 25 декабря 1620 года (ЛЗАК. IV. С. 94).
(обратно)169
Скворцов. Дионисий Зобниновский. С. 368–374. Булатников был послан царем в Троицкий монастырь в мае 1622 года (Досифей. III. С. 117).
(обратно)170
Крылов уехал в Москву в 1620 году в качестве главного справщика Печатного двора (Скворцов. Дионисий Зобниновский. С. 205).
(обратно)171
Поступил в Троицкий монастырь в 1617 г.; с 1632 года до своей смерти (1644 г.) был хранителем библиотеки. Он провел там первую инвентаризацию: описал 742 тома (ЛЗАК. IV. С. 123).
(обратно)172
Платонов. Древнерусские сказания. С. 453; РИБ. XIII. Стб. 885. Жития были составлены за период с 1627 по 1630 год.
(обратно)173
Он приехал в Троицкий монастырь в 1624 году (ЛЗАК. IV. С. 94 и след.).
(обратно)174
В 1621–1622 гг. Наседка совершил путешествие в Данию; с Благовещения 1623 года он был в Москве. Но ему приходилось часто навещать Дионисия (Извеков. С. 89).
(обратно)175
Панин был казначеем с 1611 по 1619 г. (Скворцов. Дионисий Зобниновский. С. 363–364).
(обратно)176
Скворцов. Дионисий Зобниновский. С. 366–374. Д. Скворцов предполагает, что этим «экономом» был келарь Булатников.
(обратно)177
Материалы. I. С. 253.
(обратно)178
Житие Дионисия, написанное Азарьиным (ГИМ. Синодальное собр. № 416. Л. 120–121).
(обратно)179
Материалы. I. С. 255.
(обратно)180
О жизни Анании мы знаем только из жития Илариона Суздальского (Жизнь Иллариона, митрополита Суздальского). Вероятно, он родился между 1580 и 1590 годом (поскольку в 1652 г. он был слишком стар, чтобы принять патриаршество); в период между 1610 и 1630 г. он был священником в Кирикове.
(обратно)181
Шушерин. С. 3–4. По-видимому, Никон находился в Макарьевом монастыре с 1617 по 1622 г.
(обратно)182
Именно в Нижнем голштинские представители нашли лучших рабочих для сооружения трехмачтового корабля с двадцатью четырьмя веслами, который потом и доставил их в Персию (1634–1636 гг.) (Олеарий. 1. I. P. 48; 1. I V. P. 276).
(обратно)183
У нас имеется много данных относительно топографии и экономики Нижнего в начале XVII столетия по писцовым книгам 1619 и 1620–1622 гг. (РИБ. XVII). Эти данные были представлены Дахновичем, Богородским и Сташевским (Сташевский. Пятина 142 г.).
(обратно)184
Олеарий. 1. IV. Р. 276–278. Голштинский путешественник, проезжавший через Нижний в 1636 году, оставил нам подробное описание этого города.
(обратно)185
Олеарий. 1. II. Р. 104; 1. IV. Р. 277; Храмцовский. II. С. 131. В 1635 г. царь отправил служить в Сибирь 140 иноземцев из Нижнего (РИБ. II. Cтб. 763–764. № 182).
(обратно)186
Храмцовский. I. С. 75 (1630).
(обратно)187
РИБ. II. Стб. 505–506. № 148; Храмцовский. II. С. 86 (1631–1632).
(обратно)188
РИБ. II. Стб. 511–518. № 150. (1632); о невероятных похождениях этого персонажа см.: Харламович К. В. // Сборник статей в честь Д. А. Корсакова. Казань, 1913. С. 163–180.
(обратно)189
О религиозно-нравственном состоянии Нижнего много говорит челобитная 1636 г., о ней см. ниже.
(обратно)190
РИБ. XVII. Стб. 69.
(обратно)191
Lubimenko. Р. 169–171.
(обратно)192
Материалы. I. С. 266–268. Архив П. М. Строева. II. Стб. 778–779. № 396. (= ААЭ. III. С. 284. № 198).
(обратно)193
Житие связывает это освобождение с целым рядом чудес (Материалы. I. С. 269–270). Не исключается, впрочем, возможность того, что Неронов спасся бегством, подобно монаху Нафанаилу, который, находясь в тюрьме при подобных же обстоятельствах, бежал (Архив П. М. Строева. II. Стб. 803–804. № 408). Если так, то возвращение его на свободу могло быть санкционировано потом патриархом.
(обратно)194
Стоглав. Гл. 92 и 93 (С. 390–402). О скоморохах имеется ценная монография Фаминицына.
(обратно)195
Олеарий. 1. I V. Р. 277–278, 395.
(обратно)196
Это именно те самые даты, между которыми Василий Шереметев упоминается в Нижнем Новгороде (Барсуков. С. 149).
(обратно)197
Именно эти лица подписали челобитную в 1636 году. К этому кружку, очевидно, относился и дьякон из церкви Воскресения Гавриил, которому Неронов в дальнейшем передал свой приход (Материалы. I. С. 278).
(обратно)198
Материалы. I. С. 30. В 1636 г. он был здесь после Успения, поскольку 27 декабря 1627 г. его там видел священник Иоаким (Храмцовский. I. С. 74).
(обратно)199
В сентябре 1629 г. мы видим, что некий поп Петр производит сбор средств на восстановление этого храма (Храмцовский. I. С. 75).
(обратно)200
Макарий. Памятники церковных древностей. С. 115–120. Возможно, это был брат будущего духовного отца Неронова в Москве, Василия Климентова.
(обратно)201
Титов. Вкладная книга. С. 13, 24, 38.
(обратно)202
Там же. С. 9 (18 августа 1645 г. См. также: ГИМ. Синодальное собр. № 424. Л. 26).
(обратно)203
Это отождествление весьма вероятно, так как Тихон из Данилова монастыря обозначается как прежний келарь Печерского монастыря (Титов. Вкладная книга. С. 20) и поддерживает с Нероновым дружбу.
(обратно)204
Установилась практика рассматривать часы как часть келейного богослужения. Стоглав, напротив, предписывает чтение их пономарем перед обедней во время проскомидии (Стоглав. Гл. VIII. С. 86).
(обратно)205
Челобитная 1636 г. // ЧОИДР. 1902. II. Смесь. С. 20–21.
(обратно)206
Викторов. I. С. 251 (1634 г.).
(обратно)207
Соболевский. Переводная литература. С. 60 (перевод завершен в 1637 г.); см.: Там же, с. 64–65.
(обратно)208
Олеарий. 1. I V. Р. 326 (1636 г.).
(обратно)209
ЧОИДР. 1892. III. Смесь. С. 4–5 (декабрь 1636 г.).
(обратно)210
ААЭ. III. № 249 (5 мая 1634 г.); РИБ. III. С. 551–555. № 160 (14 сентября 1634 г.).
(обратно)211
РИБ. II. С. 583. № 164 (28 ноября 1634 г.); Буцинский. Сибирские архиепископы. С. 11–14.
(обратно)212
Описание актов собрания гр. А. С. Уварова. II. С. 175–176. № 160 (октябрь 1635 г.).
(обратно)213
Храмцовский. II. С. 21–23, прим.128; Зверинский. II. С. 254–255. № 1027.
(обратно)214
Этот чрезвычайно важный рукописный памятник найден Н. Рождественским в рукописном сборнике, относящемся к середине XVII века и принадлежащем к собранию Ф. Ф. Мазурина. Он хранился в Центральном архиве Министерства иностранных дел [ныне в Российском государственном архиве древних актов, Ф. 196. – Прим. ред.] и был опубликован Н. Рождественским в 1902 году в ЧОИДР. Т. II. Смесь. С. 18–31, с введением (Там же. С. 1–18) и с примечаниями. После этого был найден другой сборник XVII века, приобретенный в 1905 году петербургской Публичной библиотекой (РНБ. Q. I. № 1405), в котором содержится челобитная нижегородских священников патриарху Иоасафу. Это, по-видимому, тот же текст (Отчет имп. Публичной библиотеки за 1905 г. С. 110–113).
(обратно)215
Голубинский. О реформе в быте русской церкви // ЧОИДР. 1913. III. С. 22–23.
(обратно)216
См. об уставе: Сергий. Полный месяцеслов Востока. I. С. 114–116; ЧОИДР. 1867. II. С. 1–10.
(обратно)217
Это положение вещей очень хорошо описано в письме митрополита Макария, написанном в 1551 году (Православный собеседник. 1863. I. С. 100–103).
(обратно)218
Стоглав. Гл. XVI. С. 105.
(обратно)219
Домострой. Гл. LХIV (Duchesne Е. Le Domostroi: (Ménagier russe du XVI-e siècle). Paris, 1910. P. 126).
(обратно)220
Текст его письма воспроизведен: Преображенский. Вопрос о единогласном пении. С. 8–11. Гермоген был патриархом с 3 июля 1606 года по март 1611 года. Одна из челобитных, адресованных ему по поводу церковного пения (она отчасти связана и с другими вопросами), напечатана В. Майковым: Сергею Федоровичу Платонову ученики, друзья и почитатели. С. 415–431. Тут уже чувствуется внутренняя связь между реформаторскими тенденциями Смутного времени и движением 1636 года.
(обратно)221
Уложение, по которому суд и расправа производятся (глава XXV, § 11). См. также: Олеарий. 1. III. Р. 155, 232: «…нарушителям режут ноздри или же их наказывают кнутом, что нам часто и приходилось видеть». Царь жалуется на шведского резидента Круссебьерна, который торгует вином и табаком (Якубов. С. 388–390).
(обратно)222
ААЭ. III. С. 398–400.
(обратно)223
ДАИ. II. № 64.
(обратно)224
ААЭ. III. С. 401–405. № 264. (См. также: Соловьев. История России. II. Стб. 1362–1366.) Патриарший указ опускает некоторые детали, заменяет другими некоторые чисто местные выражения, заменяет один порядок слов и предложения другими. В своих исследованиях Н. Рождественский проводит детальное сравнение обоих документов и доказывает, что челобитная является документом более раннего происхождения.
(обратно)225
РИБ. II. Стб. 539–542. № 157. Этот документ не датирован, но время его написания можно ориентировочно приурочить к периоду между 1634 и 1641 г. Можно полагать, что он написан одновременно с челобитной, которая и привлекла внимание патриарха к нижегородскому движению.
(обратно)226
Новомбергский. I. С. 478–479 (октябрь 1636 г.).
(обратно)227
Сборник МГАМИД. VI. С. 378–379 (ноябрь 1637 г.).
(обратно)228
ААЭ. III. С. 428 (5 марта 1639 г.).
(обратно)229
Эта челобитная опубликована Преображенским (с. 53–63). Точно датировать ее невозможно: Серапион занимал архиепископскую кафедру в Суздале с 5 октября 1634 г. по 1653 г. Но челобитная не имела бы никакого смысла после архиепископского послания от 30 мая 1642 г.
(обратно)230
Этот документ дан в изложении у Каптерева: Каптерев. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. I. С. 8–14.
(обратно)231
Челобитная Иосифу была напечатана Каптеревым: Каптерев. Патриарх Никон и его противники. С. 174–179.
(обратно)232
Сборник рукописный Соловецкого монастыря № 923. Л. 41–43; см.: Щапов. I. С. 76–77.
(обратно)233
Зверинский. II. С. 161. № 859. В дальнейшем Тотьма стала уездным городом с подчинением Вологде.
(обратно)234
Зверинский. II. С. 355–356. № 1229.
(обратно)235
Титов. Город Любим. С. 52–53.
(обратно)236
Письмо царю от 22 августа 1639 года. Отдельные материалы, касающиеся Капитона, собраны М. Я. Диевым: Диев М. Я. Капитон, расколоучитель XVII века в Ярославской и Костромской губерниях // Ярославские губернские ведомости. 1890. № 11–12, часть неофициальная.
(обратно)237
Эти подробности мы находим в материалах конца XVII или начала XVIII века: Евфросин. Отразительное писание. С. 10–11, 96; Димитрий Ростовский, митр. Розыск. С. 570–571. Оба эти произведения написаны в тоне, враждебном Капитону); Житие Корнилия (гл. III). См. об этих источниках: Смирнов. Внутренние вопросы. С. LХХIV–LXXVI, CXXI–CXXII, CXIV–CXVI.
(обратно)238
Денисов. Виноград Российский. Л. 46
(обратно)239
Эта характерная деталь содержится в «Отразительном писании». Был ли сам Капитон священником или нет, на это указаний не имеется.
(обратно)240
Барсков. С. 69: 9–17 (Письмо дьякона Федора, 1669 г.).
(обратно)241
Наседка был уже давно в сношениях с Печатным двором. С 19 января 1640 года он являлся утвержденным справщиком вместе с Михаилом Роговым и Мартемьяновым. Савватий был там с осени 1635 года. Афанасьев был туда назначен в декабре 1641 года (Николаевский. Московский Печатный двор // Христианское чтение. 1890. II. С. 457 и след.; Голубцов. Прения о вере. С. 116, прим. 86; С. 124, прим. 105).
(обратно)242
Речь идет об изданиях: Требник иноческий. М.: Печатный двор, 20.07.1639 и Требник мирской. М.: Печатный двор, 20.07.1639 (Зернова. С. 52–53. № 145, 146). – Прим. ред.
(обратно)243
И, наоборот, в это время исчезает средневековой обряд, который, очевидно, сочли недостойным, а именно: пещное действо, которое разыгрывали в Успенском соборе за неделю до Рождества, оно уже больше не упоминается после 1639 года.
(обратно)244
Голубцов. Прения о вере. С. 111–117; Николаевский. Московский Печатный двор // Христианское чтение. 1890. II. С. 457 и след.
(обратно)245
См.: Номоканон. Киев, 1624. С. 88. – Прим. ред.
(обратно)246
Павлов А. Номоканон. С. 56–62 [см.: Требник мирской. М.: Печатный двор, 1639. Л. 50 вт. счета. – Прим. ред.]. Указания, сообщенные древними текстами относительно количества просфор были противоречивы и неопределенны.
(обратно)247
Иеромонах Филарет, сличавший разные издания Требника – Служебника начиная с 1592 до 1652 года, полагает, что самые большие изменения произошли между 1636 и 1639 годом (Филарет. Опыт сличения. С. 9).
(обратно)248
Самое точное историческое исследование (однако полное полемики) относительно «крестного знамения» принадлежит П. С. Смирнову: Смирнов. О перстосложении для крестного знамения и благословения; см. также: Каптерев. Патриарх Никон и его противники. С. 58–75; Голубинский. К нашей полемике со старообрядцами. С. 153–196. Дело, как кажется, сводится к следующему. Сначала греки крестились одним перстом, затем двумя; позднее, чтобы отличаться от несториан и монофизитов, они стали креститься тремя перстами. В конце ХIII века троеперстие в Византии доминировало. Русские унаследовали от греков двуперстие и в своем большинстве оставались ему верны. Однако новое крестное знамение не замедлило спорадически проникать даже и в Московию, во второй половине XV века по этому поводу завязались споры. Оба лагеря ссылались на одни и те же тексты (слово Феодорита [Кирского], историю о Мелетии [патриархе Александрийском]). В XVI веке Максим Грек и митрополит Даниил высказались за два перста в крестном знамении.
(обратно)249
Стоглав. Гл. XXXI. С. 133.
(обратно)250
Те, кто позднее захотели заменить двуперстие троеперстием, ссылались на крестьян, которые так крестятся. Дьякон Федор считал, впрочем, это разрешение вопроса плохим. «Есть же крестьяне, которые поклоняются солнцу», – говорил он, но самого факта он не отрицал (Материалы. VI. С. 28–29).
(обратно)251
Это определение перешло в последующие издания Псалтыри, начиная с издания 31 декабря 1642 года (Каптерев. Патриарх Никон и его противники. С. 54).
(обратно)252
Каптерев. Патриарх Никон и его противники. С. 95–96.
(обратно)253
Сергий. Полный месяцеслов Востока. I. С. 281–289 и Добавление 14. С. 181–191. [Во втором, исправленном и дополненном издании своего исследования архиеп. Сергий указывал, что славянский Пролог включал до 125 памятей без житий. См.: Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. 2-е изд. Владимир, 1901. Т. 1. С. 344. – Прим. ред.].
(обратно)254
Сборник, сданный в печать 26 апреля, был закончен 26 августа. Это был сборник, содержащий 456 листов [Зернова. С. 56. № 161]. См. относительно него: Цветаев. Литературная борьба с протестантством. С. 101–104; Голубцов. Прения о вере. С. 118–119.
(обратно)255
В главе о крестном знамении было добавление – согласно Стоглаву, свидетельство в защиту двуперстия Феодорита и Мелетия Антиохийского.
(обратно)256
См. относительно «Кирилловой книги»: Лилов. О так называемой Кирилловой книге; Каптерев. Патриарх Никон и его противники. С. 12–13 и примеч.; Цветаев. Литературная борьба с протестантством. С. 104–110; Харлампович. Малороссийское влияние. С. 118–119; Голубцов. Прения о вере. С. 119–124. Относительно продажи этой книги см.: Белокуров. Из духовной жизни московского общества XVII в. С. 152/15, прим. 64.
(обратно)257
Голубцов дает в своей статье «Вступление в патриаршество и поучение к пастве Иосифа патриарха Московского» подробный анализ этого поучения (с. 144 и след.). Поучение было напечатано в 1200 экземплярах между 9 и 24 августа 1643 года (Голубцов. Прения о вере. С. 123, прим. 103).
(обратно)258
Тем более, что царю приписывали намерение сделать королевича Вальдемара своим наследником в ущерб царевичу Алексею (Смирнов П. Правительство Б. И. Морозова. С. 4–6).
(обратно)259
Цветаев. Протестантство. С. 77. // Речь идет о втором поучении патриарха Иосифа, озаглавленном «Поучение христолюбивым князем и судиям и всем православным христианам» и напечатанном в том же сборнике вслед за первым. См.: Сборник поучений Иосифа, патриарха Московского и всея Руси. М., 1642. Л. 16–40 об. – Прим. ред.
(обратно)260
См. относительно этих происшествий: Голубцов. Прения о вере. С. 47–73.
(обратно)261
Там же. С. 126–320.
(обратно)262
Впоследствии он несколько раз одарит владимирские церкви (Виноградов П. История кафедрального Успенского собора. С. 90; Доброхотов. Памятники древности. С. 15–18). Относительно его происхождения см.: ААЭ. IV. С. 84. № 57; Голубцов. Вступление в патриаршество и поучение к пастве Иосифа. Его фамилия была, по-видимому, Дьяков (Савелов. Лекции по русской генеалогии. I. С. 13, без ссылок).
(обратно)263
Печерский монастырь. С. 166. Назначенный в 1639 году архимандритом, он сначала выказал себя усердным священнослужителем, обличая неправильное поведение и мелкие ссоры своих собратьев, других настоятелей и протопопов (РИБ. II. Стб. 959. № 212).
(обратно)264
Задорин в 1646 году состоял в гостиной сотне, то есть был второразрядным купцом (Сборник Нижегородской ученой архивной комиссии. X V. 3. С. 46). Он торговал, помимо всего прочего, пермской солью, у него было несколько лавок и особняк в Нижнем, в Нижнем городе. Позднее он купил в Москве дом Посольского приказа (который затем был отдан иконописцу Симону Ушакову, очень подробную опись предметов интерьеров которого мы имеем). Он умер около 1662 года (Филимонов. Симон Ушаков. С. 86–90).
(обратно)265
То есть чаще всего из кирпича, в противоположность дереву.
(обратно)266
Гациский. Нижегородский летописец. С. 57 и след.; Храмцовский. Краткий очерк истории и описание Нижнего Новгорода. II. С. 81, 83, 86, 92.
(обратно)267
ЧОИДР. 1907. I. Смесь. 30–31 (20 декабря 1646 г.).
(обратно)268
Согласно Житию (Материалы. I. С. 280), Неронов жил в Москве начиная с 1647 года: «за пять лет» до смерти патриарха Иосифа (апрель 1652 года) он был назначен протопопом Казанского собора, что было в начале 1649 года (см. далее), но трудно уточнить, как он выказал себя во время своего пребывания в Москве с 1647 до 1649 года.
(обратно)269
Материалы. I. С. 67.
(обратно)270
Материалы. I. С. 278.
(обратно)271
Об этом можно иметь представление по Нижегородским платежницам 1608 и 1612 гг.
(обратно)272
Согласно Берынде (Берында П. Лексикон славеноросский. Имен толкование… Добавление: Собственные имена, взятые с еврейского), имя Аввакум означает «сильный борец», или «отец восстания».
(обратно)273
Востоков. Описание русских и словенских рукописей Румянцевского музея. С. 7 (№ 3); согласно Алфавиту XVII в. Так, будущий Сильвестр Медведев, который родился 27 января 1641 года, получил свое имя во св. крещении Симеон в честь святого Симеона, праздник которого празднуется 3 февраля (Прозоровский. С. 47). Еще и поныне старообрядцы Алтая дают своим младенцам мужского пола на 8-й день их рождения имя одного из святых, если даже это имя будет удручать их своей необычайностью, как, например, Аввакум, Ананий, Евграф, Конон (Бухтарминские старообрядцы. С. 30, прим.).
(обратно)274
Житие. Л. 197, 202 об. В отношении Жития Аввакума ссылки даются на листы рукописей, указанные в Академическом издании (РИБ. Т. 39) и во французском переводе.
(обратно)275
Писцовая книга. № 292. Л. 82.
(обратно)276
РИБ. Т. 39. Стб. 926.
(обратно)277
В самом Григорове сын попа Артамона Кирилл – дьячок (Писцовая книга. № 292. Л. 82). Дьякон Федор являлся сыном, внуком и племянником священников (Материалы. VI. С. 237; I. С. 405). Указ 1640 г., запрещающий сыновьям священников и дьяконов доступ к административным должностям, будет в дальнейшем много способствовать образованию духовного класса (Соловьев. История России. II. Стб. 1370). В списках рукоположенных в духовный сан, существующих с 1645 г., много «поповских сыновей» (ГИМ. Синодальное собр. № 424).
(обратно)278
Материалы. I. С. 359–369 (Козма и Герасим); Житие. Л. 267 об. (Евфимий). Аввакум пишет, что двое из его братьев умерли от чумы в 1654 г. (Житие. Л. 210). Евфимий после этой даты больше не упоминается, но Козма и Герасим еще живы в 1666 г.; следовательно, надо полагать, что был и четвертый брат, но о нем ничего не известно.
(обратно)279
Житие. Л. 197.
(обратно)280
Труды Костромского научного общества. XXX.
(обратно)281
Смирнов М. Нижегородские казенные кабаки. С. 50–53.
(обратно)282
РИБ. XII. С. XI.
(обратно)283
Писцовая книга. № 292. Л. 82.
(обратно)284
Житие. Л. 197.
(обратно)285
Смирнов С. Древнерусский духовник. С. 93.
(обратно)286
Определение поклонов дано в книге: Староверческий молитвенник по благословению еп. Иннокентия. С. 32. «Первое, чему москвитяне обучали своих детей, это класть поклоны перед образами. Мне вспоминается, что, будучи в Ладоге, я снимал комнату у одной женщины, которая отказывала в еде своему ребенку, который еще не умел хорошо говорить, едва держался на ногах, пока он не сделает 9 поклонов перед образом святого, и пока он столько же раз не скажет свое “Господи, помилуй”» (Олеарий. Р. 252).
(обратно)287
Подручник и лестовка описаны в книге: Бухтарминские старообрядцы. С. 32, прим. 1.
(обратно)288
Житие. Л. 330. об. – 332.
(обратно)289
Чтобы понять, что такое молитва Иисусова, надо прочесть «Откровенные рассказы странника своему духовному отцу» (Irenikon. T. IV, № 5–7 (collection 1928), 78 p.). Что же касается ее происхождения, см.: Орлов. Иисусова молитва на Руси в XVI в. СПб., 1914. 32 с.
(обратно)290
Древний восточный обычай. См.: Doelger F. J. Sol salutis. Die Ostung im Gebet und Liturgie. 1925. «Мочиться на восток – грех, наказуемый 300-ми падениями ниц» (Смирнов С. Материалы. VII в, ст. 18; VIII, ст. 44; XIX, ст. 115).
(обратно)291
Смирнов С. Материалы. IV, ст. 21; VIII, ст. 19; XXI, ст. 1; XXV, ст. 12–14; другие отрывки; Павлов А. Номоканон, ст. 131. С. 274–275; Житие. Л. 217 об. Этот запрет был всем известен и строго соблюдался.
(обратно)292
Смирнов С. Древнерусский духовник. С. 30–31, прим.
(обратно)293
Нет ничего более поразительного в Житии Аввакума, чем эти слезы, одновременно предполагаемые святоотеческим преданием и вызванные горячей верой, слезы, всегда сопровождающие молитву.
(обратно)294
Примеры: Сюже, св. Фома Аквинский, св. Игнатий Лойола, св. Франциск Сальский, однажды даже Генрих IV, св. Франциск Режис, Николь, который умилялся, подобно Иеремии (Sainte-Beuve. Port-Royal. IV P. 600), Мабильон, который не мог падать ниц на скале Сюбиако без того, чтобы не проливать обильные слезы (Е. de Broglie. Mabillon et la socièté de l’Abbaye de Saint-Germen des Prés. Paris, 1888. II. P. 20). Мы довольствуемся тем, что приводим только несколько имен. Мадам Лот-Бородин опубликовала в журнале «La Vie Spirituelle» («Духовная жизнь») от 1 сентября 1936 г. глубокую и проникновенную статью под заглавием: «Тайна дара слез на христианском Востоке».
(обратно)295
Позднее он найдет слова, свойственные только ему, чтобы обличить и высмеять пьянство: РИБ. Т. 39. Стб. 670–672.
(обратно)296
Одно из самых живых воспоминаний философа В. В. Розанова была смерть коровы – кормилицы их семьи. Он смотрел на нее, как на человеческое существо: «Она походила на мою мать. Она была черная, как моя мать брюнетка…» (Голлербах. С. 6, 7). Падеж лошади крестьянки, описанный В. Г. Короленко, внушает этой крестьянке философские размышления (Короленко. История моего современника. Т. III. Ч. 1. Гл. III).
(обратно)297
Житие. Л. 197.
(обратно)298
Ср.: J. de Maistre. Soirées de Saint Petersbourg, 3e Entretien. Paris, 1821. I. P. 213). Не имея еще 8 лет, Агнесса Ланжак, увидав труп преступника, только что казненного, поднялась в собор города Пюи и посвятила себя Деве Марии (Lantages. Vie de V. M. Agnès de Jesus. Paris, 1863 I. P. 18–20).
(обратно)299
«Не было ни коллегий, ни академий; были только некоторые школы, где учили мальчиков читать и писать», – констатировал уже Поссевин (Поссевин. Московия. С. 3). А. И. Соболевский полагал, что он может заключить из статистики подписей под актами этой эпохи, сколько было грамотных; по сословиям сюда вошло все духовенство белое, ¾ монахов, половина помещиков, [1]/5 горожан и 15 % крестьян (Соболевский. Образование в Московской Руси в XV–XVII вв.).
(обратно)300
Материалы. VI. C. 95–96.
(обратно)301
В воспоминаниях купца Чукмалдина можно прочесть (Чукмалдин. Записки о моей жизни. С. 1–18, гл. 1) очаровательный рассказ о том, как обучали грамоте детей сибирских старообрядцев в сороковых годах прошлого столетия. Об азбуках см.: Маркс. К азбуке конца XVII в.
(обратно)302
РИБ. Т. 39. Стб. 763. Он утверждал, что знает наизусть всю Псалтырь.
(обратно)303
Все эти книги находились в Мурашкине (Записки отделения русской и славянской археологии Русского археологического общества. I. С. 140 и след.).
(обратно)304
Труды Владимирской архивной комиссии. X. С. 6.
(обратно)305
Это мнение Филиппа ван Тигхма (Ph. Van Tighm). См.: Nouvelles Litéraireures du 26 janvier. 1935. P. 7, col. 2.
(обратно)306
Эти мысли были также мыслями и Аввакума: РИБ. Т. 39. Стб. 256, 289, 247–248.
(обратно)307
РИБ. Т. 39. Стб. 544, 680–681, 764.
(обратно)308
Житие. Л. 224 об., 226 об.
(обратно)309
РИБ. Т. 39. Стб. 507–508.
(обратно)310
Максим Грек намекает на эти забавы (Сочинения. II. С. 157). Этнограф С. В. Максимов описывает их подробно (Максимов. Крылатые слова. С. 167–172). См. также краткое сообщение А. И. Соболевского (Русский филологический вестник. 1914. II. С. 441).
(обратно)311
РИБ. Т. 39. Стб. 774–775. Цитата из: Мф. 10: 16.
(обратно)312
Писцовые книги № 292 и 296: в середине XIX в. в Григорове не больше 119 дворов и 788 жителей (Список населенных мест Нижегородской губернии. 1863).
(обратно)313
Нижегородские платежницы. С. 4–5, 76, 94, 100; Писцовые книги № 292 и 296.
(обратно)314
Его деятельность нам известна с 1598 г. (ААЭ. II. С. 44). Он умер в январе 1646 г. (Систематическое описание… рукописей собрания гр. А. С. Уварова. III. С. 174; Древняя российская вивлиофика. ХХ. С. 97, 103). Относительно его служебных поездок см.: Барсуков. С. 458.
(обратно)315
Его поведение относительно Троице-Сергиева монастыря, поскольку он был председателем ревизионной комиссии 1641 г., рисует его жадным и несправедливым, но он был таким, чтобы оставить побольше имущества своим сыновьям (Книга о чудесах преп. Сергия. С. 61–63).
(обратно)316
И. Е. Забелин сделал очень тщательные изыскания относительно некоего поместья XVII века (имение Б. Морозова как раз в этих краях): Вестник Европы. 1871. I. С. 5–49, 465–514.
(обратно)317
Писцовые книги № 492 и 496.
(обратно)318
Памятники социально-экономической истории московского государства XIV–XVII вв. I. С. 194.
(обратно)319
Берх. Царствование царя Михаила Феодоровича. II. С. 80.
(обратно)320
Сташевский. Очерки. С. 284–285.
(обратно)321
Берх. Царствование царя Михаила Феодоровича. II. С. 133–166; I. С. 245.
(обратно)322
Щепкин // Исторический вестник. 1886. Июнь. С. 496.
(обратно)323
РИБ. II. Стб. 676–678 (10 января 1638 г.).
(обратно)324
Памятники истории крестьян ХIV–XIX вв. С. 35.
(обратно)325
Берх. Царствование царя Михаила Феодоровича. I. С. 278.
(обратно)326
В Москве в 1626 г. был огромный пожар, который уничтожил несколько кварталов; в 1629 г. был другой пожар (Берх. Царствование царя Михаила Феодоровича. I. С. 152, 167).
(обратно)327
Писцовая книга № 296 (1646 г.). Л. 399.
(обратно)328
ПСРЛ. XIV. С. 86, 72; II. С. 141–142. История, обычаи и религия мордвы очень интересно исследованы у П. Мельникова. См.: Мельников. Собр. соч. Т. VII. С. 410–483. См. также: Гераклитов. Материалы.
(обратно)329
РИБ. Т. 39. Стб. 463.
(обратно)330
Было бы интересно для истории, если бы Аввакум знал в Вельдеманове Никона. Но сын бедной мордовки и мужика Мины взлетел уже высоко, покинув свою мачеху, когда григоровский попович едва только начинал ходить. Будущие противники не играли вместе, прежде чем они начали отлучать друг друга, и это по той простой причине, что Никон родился на 16 лет раньше Аввакума.
(обратно)331
Записки отделения русской и славянской археологии Русского археологического общества. I. С. 140 и след.; РИБ. II. Стб. 925–927. № 197. О Мурашкине см. монографию: Федоров. Село Большое Мурашкино.
(обратно)332
Житие. Л. 270 об.
(обратно)333
Житие. Л. 249. Относительно Княгинина см.: Писцовая книга № 296. Л. 178–196.
(обратно)334
Жизнь Илариона, митрополита Суздальского. С. 7. В Синодальной библиотеке имеется рукопись № 424, л. 7 об. – 8, в которой содержится запись о поставлении от 4 января 1654 г.: некий Софрон посылается в церковь св. Николы в Колычево, чтобы наследовать своему отцу, попу Ивану.
(обратно)335
Жизнь Илариона, митрополита Суздальского. С. 5–7.
(обратно)336
Лысково, как и Мурашкино, было пожаловано 26 сентября 1645 г. боярину Борису Морозову. После его смерти оба поместья вернулись в Тайный приказ как государственные владения (Заозерский. С. 29).
(обратно)337
Титов. Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь. С. 38–39.
(обратно)338
РИБ. Т. 39. Стб. 304.
(обратно)339
В 1640 г. Авраамий оставил библиотеку из 64 томов (ВОИДР. 8. Смесь. С. 43–50).
(обратно)340
Речь идет о Павле, будущем игумене Пафнутьева Боровского монастыря (в 1651–1652 гг.) и епископе Коломенском и Каширском (в 1652–1654 гг.). – Прим. ред.
(обратно)341
Касательно Макариевского монастыря имеется прекрасно изданная монография: Титов. Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь. См. также: Писцовая книга № 292. Л. 878.
(обратно)342
Воздвиженский. Историческое обозрение Рязанской иерархии. С. 130–150.
(обратно)343
РИБ. Т. 39. Стб. 303–304.
(обратно)344
Житие. Л. 197.
(обратно)345
А не торговца, как об этом неправильно пишет Тихонравов, который ввел в ошибку Г. В. Есипова (Есипов. I. С. 107) и С. А. Венгерова (Венгеров. С. 25).
(обратно)346
Трудно определить дату его брака. Мы знаем, что требуемый возраст для юношей был 15 лет и 12 лет для девушек (ДАИ. I. № 52; Кормчая. Гл. L; Стоглав. Гл. XVIII). Анастасия умерла в 1710 г. (Есипов. I. С. 120); она никак не могла родиться ранее 1625 г. Так или иначе брак мог иметь место только после 1640 г.
(обратно)347
«Житие» выражается здесь неопределенно. Автор отмечает свое изгнание из Григорова до своего брака, но он вернулся туда (Житие. Л. 197, 197 об.), и выражение «в том же самом селе», по отношению к Анастасии, ясно говорит, что брак состоялся в Григорове. Аввакум повторяется, ибо этот вынужденный отъезд дает окраску всему повествованию.
(обратно)348
Мы знаем, что поп Петр сам не был из Григорова, но обосновался там несколько раньше рождения Аввакума.
(обратно)349
В Григорове я нашел одну семью, которая сама предполагает, что она происходит от Аввакума. Это притязание, впрочем, ни на чем не основано.
(обратно)350
Житие. Л. 267 об.
(обратно)351
По всей вероятности, именно в 1644 году Анна, дочь Федора Волынского, вышла замуж за Петра Шереметева, сына боярина Василия (Систематическое описание… рукописей собрания гр. А. С. Уварова. III. С. 220) и в качестве приданого принесла ему Лопатищи. Во всяком случае, они принадлежали Петру Шереметеву в 1646 г. (Писцовая книга № 296. С. 463–467).
(обратно)352
Все это не более чем вероятность. Точных данных об этом нет.
(обратно)353
Когда Аввакум говорит нам, что он священнического рода (РИБ. Т. 39. Стб. 926), это значит, что он признает себя таковым как по прямой, так и по косвенной линии. Откуда бы двоюродный брат Аввакума унаследовал вкус к книгам (Житие. Л. 267 об.), как не от отца-священника?
(обратно)354
Аввакум намекает на это примерно в 1648 г., говоря о нем как о простом мирянине. Он был, впрочем, зажиточным крестьянином (Житие. Л. 267 об. и след.).
(обратно)355
Житие. Л. 197 об. Одновременно с посвящением в сан диакона епископ возводил и в должности церковнослужителей: свещеносца, чтеца, псаломщика, иподиакона (См. ставленые грамоты у Извекова: Извеков. II. С. 228–230; АЮ. С. 407–410. № 386).
(обратно)356
Правило Ильи, архиепископа Новгородского, XII в. (Смирнов С. Материалы. С. 109); инструкции Никона от 1654 г. (Николаевский. Из истории сношений. С. 44–45); Требник 1658 г. (Л. 86).
(обратно)357
Житие. Л. 197 об.
(обратно)358
Канонический возраст для священника указывается в тех же книгах, где говорится о каноническом возрасте дьякона.
(обратно)359
Макарий. История русской церкви. XI. С. 180–181.
(обратно)360
Его приписывают алчности патриаршего казначея Ивана Кокошилова, однако последний начинает фигурировать в этой должности лишь с конца 1646 г. Далее он становится дьяком в Разряде, где он продолжает служить еще в 1660 г. (Шимко. С. 13).
(обратно)361
Однако необходимо отметить, что еще в 1645 г. в книге записей московских поставлений (ГИМ. Синодальное собрание. № 424) встречается немало имен ставленников из Нижегородского края (Курмыш, Арзамас и др.), а также из Вятского края (Вятка, Галич и др.). За 1644 год такой книги не существует.
(обратно)362
С 1274 года Суздаль и Нижний составляли часть одной митрополии – Владимирской. В начале XIV века, когда Суздаль получил своего епископа, последний носил титул «Суздальского, Нижегородского и Городецкого». Связал Нижний с Москвой митрополит Алексий. Нижний дал Суздалю основателя самого чтимого монастыря – Евфимия. Это было в 1352 г. (Труды Владимирской архивной комиссии. XIV. С. 8, 11, 23, 24).
(обратно)363
Описание актов собрания гр. А. С. Уварова. II. С. 158–165. № 123 (1614–1626 гг.). Расстояние от Лопатищ до Казани и от Лопатищ до Суздаля примерно одинаково: 365 и 350 км.
(обратно)364
Федоров. Историческое собрание. С. 34, 35, 49, 56, 59; Токмаков. Историческое и археологическое описание. Приложение; РБС. СПб., 1904. Т.: Сабанеев – Смыслов. С. 341.
(обратно)365
Подобного рода договоры были, по-видимому, единообразными. Я придерживаюсь текста 1649 г., цитированного Богословским (Богословский. II. С. 28–29). В 1649 г. он относится к одной деревне Важского региона, недалеко от Архангельска.
(обратно)366
Георгиевский. Флорищева пустынь. С. 29.
(обратно)367
Весь порядок поставления священников и дьяконов при прежних патриархах до Филарета описан в докладной выписке патриарху Иоакиму из Казенного приказа 1675 г. (АИ. I V. С. 562–565. № 259).
(обратно)368
ГИМ. Синодальное собр. № 477. Л. 159–165 об. (печатный текст). Имеются и другие более или менее аналогичные тексты хиротоний (Строев. Описание старопечатных книг… И. Н. Царского. № 213. Л. 430; № 396. Л. 133; № 420. Л. 54; АИ. I. С. 162; Горский. Описание. II. 3. С. 795).
(обратно)369
Кормчая. Гл. LIX.
(обратно)370
Строев. Описание старопечатных книг… И. Н. Царского. № 213. Л. 430; Переписная книга домовой казны патриарха Никона. С. 31. Имеется в виду однорядка, род длинной рясы, застегивающейся до пят, с широким отворотом и длинными рукавами (Павел Алеппский. II. С. 168).
(обратно)371
Дмитриевский. Ставленник. С. 123–127; Голубинский. История канонизации святых. I. С. 580–582 и прим.; Олеарий. 1. III. Р. 249, 260. С 1798 г. скуфья становится знаком особого священнического достоинства.
(обратно)372
Имеется несколько экземпляров тогдашних ставленых грамот: АЮ. С. 405–407. № 365; АЮБ. III. С. 435–437; Труды и летописи ОИДР. VIII. С. 150–152.
(обратно)373
Они перечислены в различных документах: Архив П. М. Строева. II. Стб. 1098–1118.
(обратно)374
В середине XIX века там было 78 дворов и 529 жителей.
(обратно)375
Нижегородские платежницы. С. 187, 194, 224.
(обратно)376
Писцовая книга № 292. Л. 84 об. – 85.
(обратно)377
Писцовая книга № 296. С. 463–467.
(обратно)378
Иван упоминается в Житии часто. По точному заверению своего отца 15 сентября 1653 г. ему было 9 лет (Никольский. С. 159. № 2).
(обратно)379
В том же документе указывается, что Агриппине было 8 лет. Память св. Агриппины приходится 23 июня, но правило приношения в храм на 8 день, по-видимому, меньше соблюдалось в отношении девочек, чем мальчиков.
(обратно)380
См. выше гл. II.
(обратно)381
Житие. Л. 278.
(обратно)382
Никольский. С. 159. № 2.
(обратно)383
И сейчас еще существует добрый русский обычай, чтобы жена звала мужа по имени и отчеству. В отношении Аввакума мы находим ряд примеров в Житии.
(обратно)384
Канон состоит, согласно православной литургике, из 9 песен, из которых вторая всегда пропускается.
(обратно)385
Икосы и кондаки представляют собой песнопения и молитвословия, посвященные какому-либо празднику или святому. Кондак – короче, икос – длиннее.
(обратно)386
Аввакум цитирует это песнопение в его исходной редакции (РИБ. Т. 39. Стб. 685), в отличие от новой редакции Никона.
(обратно)387
Часослов. М.: Печатный двор, 1652. Л. 25–25 об., см. также л. 37 об., 47. – Прим. ред.
(обратно)388
Там же. Л. 26. См. также л. 38, 48. – Прим. ред.
(обратно)389
Псалтырь с восследованием. М.: Печатный двор, 1651. Л. 217 об. – Прим. ред.
(обратно)390
Аввакум в ответ на вопрос некоего Бориса о домашней службе рассказывает, как он ее совершал раньше, еще будучи свободным (Послание из Пустозерска Борису и «прочим рабам Бога Вышняго»). По-видимому, он думает больше всего о Юрьевце, но описанные подробности подходят и к Лопатищам (РИБ. Т. 39. Стб. 854). Эти молитвы все еще читаются в православной церкви.
(обратно)391
РИБ. Т. 39. Стб. 542–545.
(обратно)392
Никольский. С. 159. № 2.
(обратно)393
РИБ. Т. 39. Стб. 923.
(обратно)394
Житие. Л. 233, 218. // Часослов. М.: Печатный двор, 1652. Л. 48 об. – 49. – Прим. ред.
(обратно)395
Житие. Л. 274 об.
(обратно)396
РИБ. Т. 39. Стб. 920.
(обратно)397
Житие. Л. 223, 223 об., 236 об., 237.
(обратно)398
Барсков. С. 35: 2–3.
(обратно)399
РИБ. Т. 39. Стб. 436.
(обратно)400
Там же. Стб. 688, 480–481.
(обратно)401
Там же. Стб. 955.
(обратно)402
РИБ. Т. 39. Стб. 756.
(обратно)403
Там же. Стб. 396; Житие. Л. 261.
(обратно)404
Смирнов С. Материалы. С. 23 (К 19), 25 (С 21), 147 (32).
(обратно)405
АЮ. С. 211–212. № 202.
(обратно)406
Житие. Л. 200.
(обратно)407
Три или более псалмов.
(обратно)408
РИБ. Т. 39. Стб. 855.
(обратно)409
РИБ. Т. 39. Стб. 670–672. – Прим. ред.
(обратно)410
См.: РИБ. Т. 39. Стб. 681–683. – Прим. ред.
(обратно)411
Приведенные места заимствованы из более позднего сочинения, относящегося к 1672 г. и представляющего собой не проповедь, но богословский трактат: «Списание о Божестве и о твари и како созда Бог человека» (РИБ. Т. 39. Стб. 681–684), но по ним можно составить себе представление о силе и живости проповеди Аввакума.
(обратно)412
Смирнов С. Древнерусский духовник. С. 185 (по Посошкову).
(обратно)413
Там же. С. 133–139.
(обратно)414
Требник 1651 г. Л. 144 и след. Эти правила не вышли из употребления; тот экземпляр, который я взял в Синодальной библиотеке, в этом месте весь закапан воском.
(обратно)415
Житие. Л. 197 об. – 198. Было бы нелепо сомневаться в подлинности этого факта, ссылаясь на то, что нечто аналогичное написано в Прологе. Христианин подражает христианину, а не писатель прославляет себя. Примерно в то же время молодая игуменья, мать Анжелика, в наказанье себе пустила расплавленный воск на свои голые руки (Monlaur. Angéligue Arnauld. Paris, 1902. Р. 60).
(обратно)416
С. Смирнов. Древнерусский духовник. С. 197–201.
(обратно)417
Там же. С. 14.
(обратно)418
Не приходится сомневаться в пророческом значении, ни в реальности, ни в датировке этого сна, о котором Аввакум пишет в начале Жития (л. 198 об.) и о котором он снова вспоминает далее (л. 210 об.). Этот сон характерен для молодого священника, могущего так сильно ужаснуться покаянием женщины. В силу упоминания нескольких духовных детей Аввакума можно отнести его к 1645–1646 гг.
(обратно)419
Житие. Л. 197 об.
(обратно)420
Смирнов С. Древнерусский духовник. С. 209–222.
(обратно)421
Там же. С. 97–98.
(обратно)422
Уложение. Гл. Х, § 89.
(обратно)423
Дьяконов. «Заповедные лета». С. 20.
(обратно)424
Веселовский. Сошное письмо. II. С. 226–231.
(обратно)425
Житие. Л. 199.
(обратно)426
Для установления этой даты см.: Житие. Л. 200.
(обратно)427
Житие. Л. 199 об. – 200. См. также редакция Б (Л. 11 об.); РИБ. Т. 39. Стб. 725. Доказательством того, что община не сочувствовала этому делу, кроме приведенного ниже, является то, что Аввакума никем не заместили. По возвращении он снова обрел свой приход. Но, возможно, что и во второй раз начальник сумел подобрать себе еще более многочисленных сообщников. Интересно в этой связи вспомнить, что случилось со священником храма Св. Сульпиция в Париже. Генрих Бурбонский, племянник Конде, его знатный прихожанин, находил службы слишком длинными, а пение слишком медленным. Он побуждал певцов и голосом, и жестами петь скорее. По этому поводу он учредил целое восстание: 8 июня 1645 г. храм был захвачен, священник связан. Связанного его потащили по улицам и при этом били. Его спасли только друзья, доставившие его в Люксембургский дворец. После этого, в отличие от более счастливой судьбы Аввакума, Государственный совет признал его неправым вследствие чрезмерного рвения (P. Pourrat. J. J. Olier. Paris, 1932. Р. 164–170).
(обратно)428
Материалы. VI. С. 195–196.
(обратно)429
Согласно «Житию», отношения между Нероновым и Аввакумом начались по приезде последнего в Москву. Но совершенно невозможно допустить мысль, что эти два священника со столь сходными чаяниями не встречались раньше в продолжении 5 лет, когда они были вместе в Нижегородском крае. Между прочим, было бы непонятным, без этого, быстрое продвижение Аввакума в Москве.
(обратно)430
Житие. Редакция Б. Л. 14–14 об.
(обратно)431
Житие. Л. 200.
(обратно)432
См. выше гл. I, сн. 110.
(обратно)433
С. Ф. Платонов начертал прекрасный портрет Алексея (Платонов. Статьи по русской истории. С. 26–39). Другие черты царя Алексея указаны Заозерским (С. 266–268, 280, 327).
(обратно)434
Родился 10 марта 1629 г.
(обратно)435
Он начнет заниматься политикой только после своей женитьбы в 1648 г. (Якубов. С. 412–413).
(обратно)436
См. относительно его правления (1645–1648): Смирнов П. Правительство Б. Морозова.
(обратно)437
Стефан Вонифатиев (также Вонифантьев и Нифантьев).
(обратно)438
Если имена его семьи фигурируют в синодике Макарьевского монастыря (Титов. Описание славяно-русских рукописей… А. А. Титова. I. 2. С. 413; № 638. Л. 80 об.), то они фигурируют также в списке поминаемых церкви свв. Бориса и Глеба под Ростовом (там же), также как и в списке Крутицкого архиерейского дома (Яцимирский. Опись… собрания П. И. Щукина. I. С. 205; № 136. Л. 58 об.). Ничего заключить о его происхождении из этого нельзя. Из того факта, что какой-то поп Стефан упомянут в акростихе в предисловии к русскому переводу трактата «Об образех», выполненному в Новгороде между 1602 и 1622 гг. (см. выше гл. I), и что Стефан способствовал напечатанию «Книги о вере», воспроизводившей часть этого трактата, было бы слишком смело установить тождество этих двух Стефанов (гипотеза, высказанная Голубцовым. См.: Голубцов. Прения о вере. С. 94, сн. 36. 28 сентября 1645 г. Стефан Вонифатьев получает от царя полное и роскошное облачение: «бархатную мантию вишневого цвета, рясу из английского сукна, кафтан из зеленой дамасской ткани, шапку соболью, три скуфьи вишневого цвета и сафьяновые сапоги» (Извеков. С. 145).
(обратно)439
Место было занято, но Никита, занимавший его, оставил его и удалился в монастырь св. Сергия (Голубцов. Прения о вере. С. 183, сн. 11).
(обратно)440
Материалы. I. С. 85, 91, 104, 109–110; РИБ. Т. 39. Стб. 724, 733.
(обратно)441
В 1646 г. он принимает через Акакия очень живое участие в сооружении скита между Ярославлем и Ростовом (Титов. Рукописи… принадлежащие И. А. Вахрамееву. V. Прил. С. 127–128). В 1654 г. в Москве у Красного холма он основывает Зосимо-Савватиевскую пустынь (Выходы государей, царей и великих князей. Указатель. С. 55); в 1635 г. он интересуется постройкой в Москве на «убогих домех» Покровского монастыря (Каптерев. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. I. С. 132).
(обратно)442
Извеков. С. 102.
(обратно)443
Забелин. Материалы для истории, археологии и статистики г. Москвы. II. Стб. 207–208.
(обратно)444
Подобно тому человеку благородного происхождения (сын боярский), о котором упоминается в одной рукописи (ЧОИДР. 1902. III. Смесь. С. 36).
(обратно)445
Жизнь Никона была описана одним из его приближенных – Шушериным – вскоре после его смерти в 1681 г. (существует несколько изданий начиная с 1784 г.). Эта биография очень апологетична, надо остерегаться во всем верить ей; однако она является незаменимым источником, в особенности в период допатриаршества (См. критику на эту книгу: Казминский; ЧОИДР. 1909. III. С. 13–22). Работы, посвященные Никону, написанные современными (к моменту выхода книги П. Паскаля. – Прим. ред.) авторами, умалчивают о первых шагах его деятельности.
(обратно)446
См. монографию Таушева. Относительно даты пострижения Львова см.: Ключевский. Древнерусские жития. С. 334–335.
(обратно)447
Дата назначения Никона в Новоспасский монастырь неизвестна, но последняя грамота Кожеозерского монастыря, где имеется его имя, датируется 3 февраля 1646 г. (Докучаев-Басков К. А. Кожеезерский монастырь // Христианское чтение. 1886. I. С. 267).
(обратно)448
Дмитриев. С. 33–34.
(обратно)449
Выходы государей, царей и великих князей. Указатель. С. 16; Белокуров. Арсений Суханов. I. С. 172, прим.
(обратно)450
Шушерин. С. 10–11.
(обратно)451
Соколов. Отношения протестантизма к России. С. 206.
(обратно)452
Гиббенет. II. С. 978–979.
(обратно)453
Крижанич. Собрание сочинений. Вып. 2. С. 3, 19; Крижанич. Политика. I. С. 106; Титов. Сибирь в XVII в. С. 181; Белокуров. Юрий Крижанич. С. 79. Крижанич, конечно, видел Ртищева в 1659 г., но он должен был встречать его и во время своего первого путешествия в 1647 г., тем более что он участвовал в официальной миссии.
(обратно)454
ЧОИДР. 1875. I. С. 7.
(обратно)455
АЮЗР. III. № 33 (3 апреля 1640 г.).
(обратно)456
Каптерев. Характер отношений России к православному Востоку. С. 483.
(обратно)457
Соболевский. Переводная литература Московской Руси. С. 341–342.
(обратно)458
Каптерев. Характер отношений России к православному Востоку. С. 241–243, 483–486; Николаевский. Из истории сношений России с Востоком. С. 6–7; Макарий. История русской церкви. XI. С. 129–132. Венедикт был в Москве с марта 1646 по май 1647 г.
(обратно)459
В конце XVII века (между 1696 и 1705 гг.) было написано «Житие милостиваго мужа Феодора Ртищева» (напечатано в т. XVIII «Древней российской вивлиофики» [М., 1791. Ч. 18. С. 396–422] и И. Козловским [Козловский. Ф. М. Ртищев]), чрезвычайно апологетического характера книга, неполная и неточная, которую Ключевский был не вправе принять без критики для своей, впрочем, очень хорошей статьи (Ключевский. Добрые люди Древней Руси). В монографии И. Козловского (1906 г.) совсем не использованы имеющиеся источники, даже напечатанные. Н. Н. Кашкин в своих «Родословных разведках» 1912 г. (Пашкин. Родословные разведки. С. 402–449) добавил несколько точных подробностей с библиографией. Такая оригинальная личность и такой всеобъемлющий человек, как Федор Ртищев, заслуживает более полной биографии. Помимо тех аспектов, которые нас здесь интересуют, он был еще дипломатом, военным деятелем, крупным капиталистом.
(обратно)460
Николаевский. Московский Печатный двор // Христианское чтение. 1890. I. С. 114–141.
(обратно)461
Что также отмечает и Крижанич в 1647 г. О Крижаниче см.: Белокуров. Юрий Крижанич. С. 152/14 и 15.
(обратно)462
Каратаев. № 613.
(обратно)463
Каратаев. № 614; Сергий. Полный месяцеслов Востока. I. С. 175, 301.
(обратно)464
Смирнов С. Историческое описание. С. 3, 22–23.
(обратно)465
Позднее, по приказу царя, Азарьин снова принялся за свой труд, который он закончил только в 1654 г. «Новые чудеса» были напечатаны Платоновым в 1888 г. (Книга о чудесах преподобного Сергия. Творение Симона Азарьина / Сообщил С. Ф. Платонов. СПб., 1888. ПДП. Вып. LXX). Неудачи издания 1646 г. рассказаны в «Предисловии» (Там же. С. 6–7). В частности, история чудесного источника, открытого в 1644 г. около Троицкого монастыря, была опущена в большинстве экземпляров, но внесена, по высочайшему приказу, в некоторое число экземпляров (Житие св. Сергия. М., 1646, после главы 88 между листами 175 и 176; Книга о чудесах преподобного Сергия. Гл. XXV. С. 63–67). Жизнеописания святых процветают в эту эпоху. Не довольствуясь прежними, пишут новые жития; в Соловках, вскоре после 1644 г., прежний настоятель Калязинского монастыря Иларион составляет Житие Иринарха (Ключевский. Древнерусские жития. С. 325–326); в Москве в 1647 г. неизвестный автор составляет Житие Иоанна Большого Колпака, юродивого Христа ради (Там же. С. 330). Троицкий монастырь в этом отношении первенствует. После Германа Тулупова священник Иоанн Милютин, с помощью своих трех сыновей, собирает жития святых, выбирает лучшую редакцию для каждого жития, отбрасывает ненужные части, предисловия или похвалы, заново пишет и составляет таким образом новый сборник в 12 больших томов in folio (Савва. С. 211). [Размер рукописи П. Паскалем указан ошибочно: все 12 книг в четвертую долю листа (inquarto) (ГИМ. Синодальное собр. № 797–808). – Прим. ред.] В то время как в Великих Минеях Четьих русские святые упоминались редко, у Милютина их число превышает сотню (Ключевский. Древнерусские жития. С. 297–298).
(обратно)466
Каратаев. № 610. Книга издания 1640 года содержит на 100 листов меньше и потребовала 6 месяцев для своего напечатания.
(обратно)467
Каратаев. № 623. [См. также: Зернова. С. 65. № 198. В книге 357 листов. – Прим. ред.]
(обратно)468
Между прочим, эти поучения приводили в восторг также и Запад: латинский перевод Поучений 6 раз переиздавался во Флоренции с 1481 по 1619 г.; перевод на французский язык был сделан в 1501 и 1579 гг. (последний трижды переиздавался вплоть до 1602 г.).
(обратно)469
Ефрем Сирин. Поучения. М.: Печатный двор, 1647. Л. 350–350 об. второго счета. – Прим. ред.
(обратно)470
Имеются две проповеди о Страшном суде: одна в сборнике поучений, другая в приложении к нему.
(обратно)471
См. выше, гл. I.
(обратно)472
Относительно этих текстов см.: Сахаров В. Эсхатологические сочинения; Срезневский. Сказания об антихристе, а также все описания собраний рукописей.
(обратно)473
Относительно этих сборников см.: Бычков. Каталог собрания рукописей Ф. И. Буслаева; Петухов. Русская литература. С. 327–330; ОЛДП. Вып. 108.
(обратно)474
Каратаев. № 630. [См. также: Зернова. С. 66. № 202. – Прим. ред.]
(обратно)475
Каратаев. № 624. Эта книга выдержала много изданий. [Зернова. С. 65. № 199. – Прим. ред.]
(обратно)476
Начат 1 марта и закончен 29 июня 1647 г.; размер in folio, содержит 887 листов. [Зернова. С. 65. № 200. – Прим. ред.]
(обратно)477
Грамматика Смотрицкого появилась в Евье в 1619 г. и была несколько раз перепечатана (в Евье, Вильно, Кременце). См.: Ягич. История славянской филологии. С. 27–31; Mattel A. Michel Lomonosov et la langue litèraire russe. Paris, 1933. P. 6.
(обратно)478
Относительно Смотрицкого см. исследование А. С. Осинского; между прочим, его недостатком является отсутствие объективности (ОсинскийА. С. Мелетий Смотрицкий, архиепископ Полоцкий. Киев, 1912).
(обратно)479
Каптерев. Патриарх Никон и его противники. С. 96–98.
(обратно)480
Послесловие к Апостолу, напечатанному в 1644 г., содержало уже несколько соображений о пользе грамматики, но это было указано лишь попутно.
(обратно)481
ААЭ. IV. С. 481–482. № 321.
(обратно)482
Требник 1625 г.: Как принимать латинян.
(обратно)483
Служебник 1646 г. Л. 619 об. – 628 об. «Указание» ссылается на книгу Левит 19: 27, на 1-е Послание к Коринфянам, глава 11, правила апостолов и на св. Епифания. См.: Материалы. I. С. 263.
(обратно)484
ААЭ. IV. № 324; АИ. IV. № 6 (17 марта 1647 г.).
(обратно)485
Олеарий. 1. III. Р. 247.
(обратно)486
ААЭ. IV. С. 498. № 324. 30 января 1649 г. аналогичный приказ был послан в Кашин (Харузин. С. 150–151).
(обратно)487
Досифей. I. С. 281–282.
(обратно)488
Досифей. I. С. 140–144. Приказ был получен в Соловках 29 апреля, но предписанные церковные торжества были проведены только 30 и 31 мая, так как надо было составить службу новому святому, что и было поручено Герасиму Фирсову (Никольский Н. Сочинения соловецкого инока Герасима Фирсова. С. 1–17).
(обратно)489
Между прочим, в этой канонизации проявлялась тенденция подчеркивать чудеса. В мае 1647 года, вследствие доклада Серапиона Суздальского, патриарх приказывает произвести расследование о чудесах от образа Казанской Божией Матери близ Юрьева Польского (ААЭ. IV. С. 482–484. № 323).
(обратно)490
Крижанич. Политика. II. С. 192; Макарий. История русской церкви. XII. С. 122–123.
(обратно)491
Каптерев. Характер отношений России к православному Востоку. С. 258–264. Некоторые греки дали ложные показания, поэтому в 1648 г. они все были арестованы в Путивле до получения права въезда в Москву.
(обратно)492
Смирнов П. Правительство Б. И. Морозова. С. 22–23.
(обратно)493
Вскоре Уложение подтвердило это правило (Уложение. ХХ. Ст. 70). Уложение цитирует указ 1628 г.; что касается уведомления, см.: Цветаев. Протестантство. С. 335–336.
(обратно)494
Авантюрист был сослан на Соловки. Эта история наделала много шума в России и за границей; Олеарий был осведомлен об этом (Олеарий. 1. III. Р. 242–243). Она изложена Цветаевым по документам Посольского приказа (Цветаев. Протестантство. С. 355–370).
(обратно)495
Он выбрал в феврале 1647 г. дочь Р. Всеволожского, выделенную сперва из 200 претенденток, собранных со всех местностей России, затем снова выделенную из шести наикрасивейших из них, но Всеволожская, упавшая от волнения в обморок, была сочтена страдающей падучей и отослана (Берх. Царствование царя Алексея Михайловича. II. С. 43–44). Мария Милославская была выбрана таким же способом (Забелин. Домашний быт русских цариц. С. 251–259).
(обратно)496
РИБ. Т. 39. Стб. 910. Книга была напечатана в Киеве в 1624 г.
(обратно)497
Житие. Л. 267–267 об., 271 об. Аввакум подчеркивает, что он нарушил заповедь своего духовного отца Стефана.
(обратно)498
Житие. Л. 197 об., 283.
(обратно)499
Житие. Л. 200.
(обратно)500
Житие. Л. 267 об. От каждой книги, выходившей из печати, духовник царя получал 20 экземпляров, которыми он мог располагать (Николаевский. Московский Печатный двор // Христианское чтение. 1890. I. С. 140).
(обратно)501
С теми удобствами, которыми пользовался любимец Стефана, путешествие могло совершиться в десяток дней. Относительно даты см.: Житие. Л. 200; случай с медведями, приведший к последующей ссоре с Шереметевым, как будто произошел вскоре после возвращения Аввакума в Лопатищи.
(обратно)502
Житие. Л. 200 об. Относительно вожатых медведей см.: Максимов. Лесная глушь. I. С. 71–104.
(обратно)503
Писцовая книга 1646 г. уже упоминают Петра Шереметева как помещикавладельца Лопатищ (Писцовая книга № 296. С. 463).
(обратно)504
См. выше, глава I.
(обратно)505
См. выше, эта же глава.
(обратно)506
Житие. Л. 200 об.
(обратно)507
О выполнении своих обычных пастырских обязанностей Аввакум нам ничего не повествует. Но, ввиду сходства характеров и положения, мы позволяем себе представить его облик примерно таким же, как облик известного французского священника, почитаемого многими святым, кюре д’Арс. (Цитированные выражения взяты из книги: Trochu. La vie du Bienheureux J. Vianey. Paris, 1925. P. 165, 166, 179).
(обратно)508
Гоголь. Выдержки из переписки. XXII (издание Тихонравова. 13-е изд. Т. V. С. 135–136. Это место в первых изданиях было исключено цензурой).
(обратно)509
Соборование не имеет другого происхождения, и оно «установлено специально для больных, так как исцеление телесной болезни является его первым плодом» (Макарий. Православное догматическое богословие. II. § 232. С. 360–362).
(обратно)510
Житие. Л. 282.
(обратно)511
Ввиду того места, которое занимают случаи одержимости в Житии Аввакума, а также и в его сочинениях, небесполезно узнать, как это происходило. Рязановский (с. 69–70) описывает факты, которые он сам наблюдал в одном очень бедном селе Костромской губернии в 1890–1900 гг.: «На Пасху приходской священник поднес крест женщине, чтобы она к нему приложилась. Она выполнила это с большим трудом, с измененным почерневшим лицом, затем она упала на пол, словно замертво. Причастие для нее было мучением: во время обедни, когда приближался этот момент, она кричала во все горло и с каждым мгновением металась все больше и больше. Скромная и нравственно чистая в своей обычной жизни, она выкрикивала непристойные слова. Чтобы привести ее и поставить перед священником, требовались усилия нескольких человек; она теряла чувства, сжимала так сильно зубы, что с трудом могли открыть ей рот, иногда масса белой пены текла с ее губ. Потом она успокаивалась». Рязановский добавляет (1914): «Таких “кликуш” много перед известными святынями, мощами святых и чудотворными иконами». Подобные же факты мне рассказывали в эти последние годы относительно бывшей Ярославской губернии. Совершенно несомненно, что Аввакум имел среди прочих своих опекаемых и кликуш. Можно справиться об этом по трудам Груздева и Краинского.
(обратно)512
См. выше, глава III.
(обратно)513
Житие. Л. 283, 284 об.
(обратно)514
Житие. Л. 220 об.
(обратно)515
Житие. Л. 267–272.
(обратно)516
Житие. Л. 277 об. – 278.
(обратно)517
Житие. Л. 279.
(обратно)518
РИБ. Т. 39. Стб. 591.
(обратно)519
РИБ. Т. 39. Стб. 827–828. Смирнов относит воспоминания, о которых Аввакум упоминает в «Послании рабом Христовым», к его пребыванию в Лопатищах (Смирнов П. С. [Рецензия]. С. 255).
(обратно)520
РИБ. Т. 39. Стб. 910: «Единогласно пел лет двадцать, и ныне пою Богу моему, дондеже есмь, единогласно», – говорится в письме из Пустозерска, которое П. С. Смирнов (РИБ. Т. 39. С. XIV–LXII) считает написанным ранее события 14 апреля 1670 г. Это мнение Смирнова только вероятно, а не достоверно. Но в первом случае, если Аввакум и не имеет ввиду Лопатищи исключительно, все же в своих воспоминаниях о многочисленных преследованиях за единогласие может их касаться; с другой стороны, если вычесть эти двадцать лет из какой-то последующей даты после 1670 года, то следовало бы заключить, что Аввакуму не удалось в 1650 году установить «единогласие», а не то, что он якобы вовсе не старался его добиться: представляется совершенно невозможным, чтобы после своего путешествия в Москву, и тем более после февральского собора 1649 г., он не постарался бы добиться его осуществления.
(обратно)521
Житие. Л. 201–202.
(обратно)522
Аввакум будет назначен в конце марта 1652 г. в Юрьевец, после краткого пребывания в Москве (Житие. Л. 202).
(обратно)523
Священник д’Арс несколько раз чуть не был поколочен. Даже благочестивые люди просили Бога удалить его. В один прекрасный день шестеро из его главных прихожан, находившие его слишком строгим, пришли к нему, чтобы предложить покинуть село. То были отклики революции 1830 года, которые присоединились к местному недовольству (Trochu. Le Bienheureux J. Vianey P. 207–210).
(обратно)524
Долгорукий И. М. С. 91–94.
(обратно)525
Однако он сам имел водочный завод в Лопатищах, который, прежде чем перестать функционировать, давал 120000 литров водки в год (Там же. С. 94–95).
(обратно)526
Абзац добавлен во втором издании. – Прим. ред.
(обратно)527
Материалы. I. С. 110.
(обратно)528
Строев. Списки иерархов. Стб. 36.
(обратно)529
Расходная книга митрополита Новгородского Никона. С. 4.
(обратно)530
Между февралем и августом (Белокуров. Арсений Суханов. I. С. 169. № 6).
(обратно)531
Платонов. Статьи по русской истории. С. 67. № 2. В то время как другие, очень частые, подарки царя своему духовнику занесены в дворцовый реестр (см.: Извеков. С. 145; Зерцалов. О мятежах в городе Москве. С. 9; Викторов. I. С. 147), этот дар упоминается как историческое событие, но не официальным летописцем.
(обратно)532
Был митрополитом с 1620 года. Старообрядцы его почитают (Титов. Описание Ростова Великого. С. 120).
(обратно)533
Был соловецким настоятелем с 1640 по 1645 год (Досифей. I. С. 138–140): посвящен 16 января 1645 года (Викторов. I. С. 37). См. его завещание: ЛЗАК. III. С. 38–42.
(обратно)534
Бывший настоятель Толгского монастыря и, вероятно, ученик Серапиона, назначенный в Троице-Сергиев монастырь в 1640 году. Он предписал своим монахам жить в общежитии, «вместо того чтобы бражничать в кельях» (Голубинский. Путеводитель по Лавре. С. 149). У него были видения. Он очень скоро принял единогласие.
(обратно)535
Горский. Историческое описание // ЧОИДР. 1878. I V. С. 129.
(обратно)536
Смирнов П. Правительство Б. И. Морозова и восстание в Москве. С. 50.
(обратно)537
События 1648 года были, наконец, после долгих разысканий, описаны С В. Бахрушиным (Бахрушин СВ. Московский мятеж 1648 г. // Сборник в честь М. К. Любавского. Пг., 1917. С. 709–774). Относительно Земского собора и Уложения 1648 года см.: Смирнов П. П. О начале уложения и земского собора 1648–1649 гг. // ЖМНП. 1913. № 9. С. 36–66.
(обратно)538
Согласно выходным данным, книга вышла из печати 8 мая 1648 г. См.: Зернова. С. 67, № 209. – Прим. ред.
(обратно)539
Белокуров. Арсений Суханов. I. С. 177.
(обратно)540
Относительно «Книги о вере» см.: Цветаев. Протестантство. С. 670–673; Белокуров. Арсений Суханов. I. С. 172–177. Рукопись эта существует: РГБ. Собр. Ундольского. № 427.
(обратно)541
Малый катехизис Петра Могилы имел два издания в Киеве в 1646 году, одно во Львове в 1645 году. Относительно переработок см.: Филарет. История русской церкви. IV. С. 145.
(обратно)542
Строев. Обстоятельное описание старопечатных книг… гр. Ф. А. Толстого. № 168. // Речь идет об издании: Собрание краткия науки об артикулах веры. М.: Печатный двор. 1649. См.: Зернова. С. 69, № 215. – Прим. ред.
(обратно)543
Относительно Кормчей см.: Розенкампф, Бешшевич, Петровский П., Суворов П. С. 181–183.
(обратно)544
Павлов А. 50-я глава Кормчей книги. С. 8–15 (51-я глава стала впоследствии 50-й).
(обратно)545
Предисловие напечатано: Строев. Описание старопечатных книг… И. Н. Царского. № 168.
(обратно)546
Сменцовский. С. 86–187. Относительно Могилы и его коллегии, безусловно, испытывавшей западные влияния через Польшу, см.: Mattel. P. 279–288.
(обратно)547
Труды Черниговской архивной комиссии. VIII. С. 107–108.
(обратно)548
Петр Могила умер 31 декабря 1646 г. Коссов, выбранный митрополитом 25 февраля 1647 г., был преподавателем и ректором Киевской коллегии.
(обратно)549
Последнее издание появилось в Кельне в 1625 году.
(обратно)550
Однако Послание св. Афанасия Александрийского было приложено к Псалтыри с восследованием, начатой печатанием 28 ноября 1650 года и законченной 1 октября 1651 года (Каратаев. № 675 [Зернова. С. 74, № 235. Послание св. Афанасия на л. 1–26 первого счета). Относительно вызова в Москву Славинецкого и Сатановского и их пребывания там см. работу К. В. Харламповича, который дает самые точные данные (Харлампович. Малороссийское влияние. С. 119–141).
(обратно)551
Письмо Паисия от 1 июля 1640 г. См.: Белокуров. Арсений Суханов. I. С. XLV.
(обратно)552
Колосов. С. 77–93; Каптерев. Следственное дело об Арсении Греке. С. 70–96.
(обратно)553
У Арсения Грека и Славинецого с 1649 г. уже появились ученики. Существовала ли уже школа в настоящем смысле этого слова? Во всяком случае, такой школы не существовало 4 августа 1649 г.: «Равным образом считается здесь за верное, что высшая школа собратий Арсения, прибывших из Киева, еще будет учреждена, хотя Арсений, как он здесь называется, теперь арестован за то, что он, как говорят, обрезан», – пишет об этом тогда же шведский резидент Поммеренинг, прекрасно об этом осведомленный (ЧОИДР. 1898. I. С. 452). Харлампович доказывает, что школа не была открыта.
(обратно)554
Харлампович. Малороссийское влияние. С. 133–134.
(обратно)555
Там же. С. 135–136.
(обратно)556
Сын писца, ставшего дьяком в 1634 году и умершего в Астрахани в 1647 году, Лукьян Голосов упоминается между 26 июля 1653 года и мартом 1658 года в качестве дьяка Разряда, то есть как один из первых гражданских приказных Никона. Немилость, постигшая Никона, нисколько на нем не отразилась: с 1663 по 1670 г. он дьяк в Посольском приказе, с 1674 по 1679 г. выполняет несколько поручений за границей и возвращается оттуда в 1680 г. в Посольский приказ уже как думный дьяк (Белокуров. О Посольском приказе. С. 120, 125). Знания, приобретенные им в школе киевлян, ему не повредили.
(обратно)557
Первый появился в 1637 году (Строев. Обстоятельное описание старопечатных книг… гр. Ф. А. Толстого. С. 199–203. № 88).
(обратно)558
Соболевский. Образование в Московской Руси. С. 18.
(обратно)559
При патриархе Иосифе (1642–1652) было напечатано тридцать шесть разных изданий (не считая переизданных), из которых четырнадцать были совершенно новыми на Руси. Могли быть напечатаны еще и некоторые другие книги, от которых не осталось ни одного экземпляра.
(обратно)560
Деяния московского церковного собора 1649 г. С. 49.
(обратно)561
См. текст: Каптерев. Патриарх Никон и его противники. С. 172–173. Авторы жалобы [речь идет о Челобитной патриарха Иосифа 1649 года февраля 11 царю Алексею Михайловичу на Стефана Вонифатьева. – Прим. ред.] основывали ее на статье 1-й Уложения, но они извратили ее сущность, ибо эта статья карала за хулу на Бога, Иисуса Христа, Матери Божией, Креста и Святых.
(обратно)562
Текст письма патриарха Парфения II воспроизведен: Николаевский. Из истории сношений. С. 16–20.
(обратно)563
Служебник 1651 года, сданный в печать 13 мая, вышел в свет 18 июля [Зернова. С. 73. № 231]. Текст, о котором идет речь, занимает листы с 1 по 11 (воспроизведен: Строев. Обстоятельное описание старопечатных книг… гр. Ф. А. Толстого. С. 128–137. № 79).
(обратно)564
Факт проведения Собора в 1649 году был установлен С. А. Белокуровым, который опубликовал его Деяния с очень точным исследованием относительно вопроса о единогласии, поднятого в 1649–1651 годах (Деяния московского церковного собора 1649 г. С. 31–52, с факсимиле).
(обратно)565
Ивановский. Свирский Александров монастырь. С. 35 (письмо от 1649 года); Материалы. III. С. 13.
(обратно)566
Материалы. I. С. 274.
(обратно)567
Относительно этого чиновника патриаршего приказа см.: Каптерев. Светские архиерейский чиновники. С. 155–159.
(обратно)568
Записки отделения русской и славянской археологии Русского археологического общества. II. С. 394–397. На оригинале резолюция царя по адресу противников: «Бесстыжая глупость».
(обратно)569
Трактат Шестого Мартемьянова [ «Слово о единогласном пении»] состоит из 199 листов в четвертую долю листа (in quarto). (РГБ. Музейское собр. (ф. 178.) № 1407). Выдержки из него и разбор этой рукописи см.: Преображенский. Вопрос о единогласном пении. С. 63–79, 34–37.
(обратно)570
Происхождение «хомонии» хорошо объяснено Н. Ф. Финдейзеном: Финдейзен. I. С. 90–92. См. новое исследование Е. Кошмидера: Koschmieder Ε. Przyczynki do zagadnenta chоmonji w hirmosach rozyiskich. Wilno, 1932. 42 c. + 81 c. воспроизведения Ирмология XVII в.
(обратно)571
Деяния московского церковного собора 1649 г. С. 48.
(обратно)572
См.: Майков В. Послание к патриарху Гермогену о злоупотреблении в церковном пении «хабува» // Сергею Федоровичу Платонову ученики, друзья и почитатели. СПб., 1911. С. 415–431. Эти слоги существовали уже у греков.
(обратно)573
Финдейзен. I. С. 228 и след. Трактат Евфросина дошел до нас во многих списках.
(обратно)574
Финдейзен. I. С. 101 и след., 249 и след.
(обратно)575
Оба эти высказывания Павла Алеппского находятся в выпуске II (Павел Алеппский. II. С. 165–166).
(обратно)576
Викторов. Описание записных книг и бумаг. I. С. 262 (11 мая 1639 года). Инвентарь библиотеки царя Федора, составленный в 1682 году, упоминает о шести нотно-музыкальных тетрадях, переписанных рукою царя Алексея (Финдейзен. I. С. XXVII, прим. 377).
(обратно)577
Харлампович. Малороссийское влияние. С. 72–74.
(обратно)578
Первое решение относительно «хомонии» было принято Собором 1666 года (Деяния собора 1666 г. Л. 38, 46).
(обратно)579
Служебник. М.: Печатный двор. 1651. Л. 103, 1–18 (предисловие). Это издание Служебника было чрезвычайно тщательно просмотрено: во время самого печатания было изъято восемьдесят листов, замененных другими.
(обратно)580
Материалы. I. С. 278–279. [В Житии Григория Неронова говорится: «А Иоанн в царствующем граде управляше добре вверенную себе церковь, в ней же и сам благочестивый царь Алексей Михайлович с благоверною царицею и с благородными своими чады прихождаше часто, слушания ради и словеси Божия, Иоанновыми усты проповедываемого» (Материалы. I. С. 278–279). – Прим. ред.]
(обратно)581
Деяния московского церковного собора 1649 г. С. 48–49.
(обратно)582
Собор строился с 1630 по 1637 год на деньги, пожертвованные Д. М. Пожарским, с тем чтобы поместить там образ Богоматери, сопровождавший Нижегородские войска в 1612 году (Гациский. Нижегородский летописец. С. 47–52). 3 октября 1647 г. в этом соборе освятили еще один придел (Выходы государей, царей и великих князей. Указатель. С. 35).
(обратно)583
Вестник археологии и истории. 1909. XVIII. С. 93.
(обратно)584
Материалы. I. С. 279–280.
(обратно)585
Смирнов М. Нижегородские казенные кабаки. С. 22 и след. Дело о двух кабацких головах 1650 года. Может быть, обвинение было клеветническим, и дело шло только о дефиците, происшедшем вследствие кампании, предпринятой против пьянства? Но часто эти выбранные держатели кабаков, люди бедные, обязанные принимать на себя эти обязанности безвозмездно, самовольно вознаграждали себя, беря деньги из кассы: с 1637 года они были под угрозой наказания смертной казнью. У нас нет челобитной Неронова, но у нас имеется челобитная дьяка Немирова, в которой последний горько жалуется на вмешательство Неронова «в пользу подобных людей».
(обратно)586
Скворцов. Дионисий Зобниновский. С. 56–67 (в 1651 году).
(обратно)587
Материалы. I. С. 280 (во второй половине 1652 года).
(обратно)588
Об этом чуде не упоминается в Житии Неронова, но Крижанич говорит о нем в своем «Обличении Соловецкой челобитной» (Крижанич. Собрание сочинений. III. С. 131).
(обратно)589
Чтобы угадать будущее по неожиданному узору, который отольется; суеверие, которое практикуется и по сей день.
(обратно)590
Иванов П. Описание Государственного архива старых дел. С. 296–299. Имеются более или менее идентичные тексты посланий, направленных в 1648 году в Шую (Сахаров. Сказания русского народа. II. С. 99–109), в Дмитров (Харузин. С. 147–149), в 1649 году в Псков (МГАМИД. Приказание дела новой разборки. № 598), в Кашин (ЧОИДР. 1903. IV. С. 46–47; по инициативе местного архимандрита); в Тобольск, переданные в Верхотурье, а оттуда в Ирбит (АИ. IV. С. 124–126. № 35); в Вологду (ААЭ. IV № 325), во Владимир (Владимирские губернские ведомости. 1842. № 47); в 1651 году в Новгород (Вестник археологии и истории. XXI. С. 45); в Темников (Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. VIII. С. 73–74). Это перечисление не претендует на то, чтобы быть исчерпывающим; с другой стороны, не все тексты сохранились; отсутствие посланий за 1650 год случайно. Однако, по-видимому, строгость достигла своего апогея в 1649 году.
(обратно)591
К 1649 году относятся еще специальный приказ в Кашин относительно соблюдения воскресенья и праздников (30 января. Харузин. С. 150–151) и указ, запрещающий заседать и заниматься какими-нибудь делами в государственных учреждениях в субботу после обеда и в воскресенье до обеда. (23 декабря. ПСЗРИ. I. С. 222).
(обратно)592
Один из перечней запретов (и притом самый полный) находится в письме, посланном в Тобольск (см. сноску 63), относительно этой борьбы с языческими пережитками. Можно с пользой прочитать работу Аничкова «Язычество и древняя Русь», работу хотя и путанную, но хорошо документированную; в частности, интересны главы VII–IX. Относительно скоморохов и поводырей медведей см.: Фаминицын.
(обратно)593
Павлов А. Номоканон. С. 13, 15, 16, 20, 23, 56, 57, 183.
(обратно)594
Материалы. I. С. 272; Забелин. Домашний быт русских цариц. С. 255–258.
(обратно)595
Приказ царя относительно ходатайства Тихона, нового настоятеля Николо-Песношского монастыря, о закрытии кабака в посаде Рогачеве (Историческое описание монастыря св. Николая, что на Песноше. С. 50, 133; 17 декабря 1647 г.); послание царя в Вологду от декабря 1648 года против употребления крепких напитков в монастырях (ЛЗАК. III. Отд. 3. С. 111); письмо Серапиона, архиепископа Суздальского, настоятельнице Покровского монастыря от 15 января 1649 г., где ей предлагается посещать келии монахинь для изъятия спиртных напитков (Описание актов собрания гр. А. С. Уварова. II. С. 202. № 205). Настоятель Воскресенского Деревяницкого монастыря требовал не размещать кабак как причину различных беспорядков, слишком близко к церкви (29 января 1651 г. Вестник археологии и истории. XXI. С. 45–48). Царь подготовил специальное указание по борьбе с пьянством для Собора 1651 года: чтобы священники и монахи совершенно воздерживались от пития и брани не только в церкви, но и в миру (Деяния московского церковного собора 1649 г. С. 49).
(обратно)596
Только одни дворяне и монастыри имели право изготовлять спирт, но не продавать его. Крестьяне могли, заплатив налог, изготовлять известное количество пива или медового напитка, требуемого на тот или иной семейный праздник. Государству принадлежала монополия продажи: в Москве в 1625 году ведро водки (приблизительно 12 литров) из хлеба продавалось по два рубля (Смирнов М. Нижегородские казенные кабаки).
(обратно)597
ЧОИДР. 1907. I. Смесь. С. 38–40 (20 октября 1651 г.). 30 октября 1651 года, по просьбе патриарха, царь приказал освободить патриарший посад Никольское, находившийся против Костромы, от кабака, разорявшего крестьян, приказав, однако, перевести его в другое место, во дворцовое владение, чтобы, таким образом, казна в будущем все же получала бы свой доход (ГИМ. Синодальное собр. № 1029).
(обратно)598
Курц. Состояние России. С. 53 (10 августа 1651 года).
(обратно)599
Там же. С. 54. Раскаявшийся виновный был прощен.
(обратно)600
ЧОИДР. 1905. I V. Смесь. С. 70–71. Покаянная изба тюремного двора была связана с духовно-нравственным обслуживанием заключенных; относительно нее у нас, следует сказать, не имеется никаких сведений: она могла быть создана как раз в эти годы.
(обратно)601
Мысль старых русских людей относительно взаимоотношений между церковью и государством было предметом хорошо документированной работы Вальденберга, единственная ошибка которого состоит в том, что он возвел в определенную доктрину недосказанные, колеблющиеся, неопределенные и нередко противоречивые мнения и взгляды различных иерархов, царей и писателей.
(обратно)602
См. выше гл. I, с. 71.
(обратно)603
ААЭ. IV. № 50.
(обратно)604
Востоков. Описание русских и славянских рукописей Румянцевского музея. С. 68. Имеется в виду право собирать подати и производить дознание в стране лопарей, помимо воевод (12 декабря 1649 года).
(обратно)605
Восстание в Пскове и Новгороде описано очень подробно: Соловьев. История России. II. Стб. 1526–1551; Шушерин. С. 14–20.
(обратно)606
Сборник МАМЮ. VI. С. 94–95.
(обратно)607
Строев. Списки иерархов. Стб. 78.
(обратно)608
Труды 2-го областного археологического съезда в Твери. Ч. IV. С. 81 и след.
(обратно)609
Верюжский. С. 513–514.
(обратно)610
ААЭ. № 47; ПСЗРИ. I. С. 245–246.
(обратно)611
ПСЗРИ. I. С. 246–247 (Письмо владимирскому воеводе от 25 октября 1650 года, написанное с тем, чтобы оно было прочитано всенародно. Оно санкционировало самые строгие наказания, как, например, ссылку в монастырь на покаяние).
(обратно)612
Дворцовые разряды. III. Стб. 290–297.
(обратно)613
Строев. Списки иерархов. Стб. 817, 63, 65, 59.
(обратно)614
Там же. Стб. 56, 738, 167.
(обратно)615
Строев. Списки иерархов. Стб. 610.
(обратно)616
Феоктист появляется в истории неожиданно 13 июля 1654 года (Материалы. I. С. 109), после того как он покинул свой монастырь, в котором 21 декабря 1653 года упоминается уже другой игумен – некий Феодосий (Строев. Списки иерархов. Стб. 195). Помимо этого, в сентябре 1645 года упоминается еще один игумен, Иона. Нужно полагать, что Феоктист был игуменом между 1645 и 1653 годами.
(обратно)617
ЧОИДР. 1905. III. Смесь. С. 29; Житие. Л. 203 об.; Покровский И. Казанский архиерейский дом. С. 48, 71.
(обратно)618
Строев. Списки иерархов. Стб. 613; Материалы. VI. С. 195–196. См. выше гл. II.
(обратно)619
Там же. Стб. 170, 163.
(обратно)620
Строев. Списки иерархов. Стб. 854; Историческое известие о Костромском Богоявленском монастыре. С. 18–23. Герасим был келарем только с 1642 года; жил он вплоть до 20 ноября 1672 года.
(обратно)621
На основании анонимных заметок. См.: Описание документов и дел, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. XV. С. 512.
(обратно)622
Мы находим упоминание о Марфе в ноябре 1649 г. (Срезненский В. С. 35); январе 1651 г. (ЧОИДР. 1902. III, Смесь. С. 36); феврале 1652 г. (Строев. Списки иерархов. Стб. 723; РИБ. Т. 39. Стб. 856).
(обратно)623
Относительно Симеона см. заметку А. Никольского: СПб., 1904. Т.: Сабанеев-Смыслов. С. 462–463.
(обратно)624
Строев. Списки иерархов. Стб. 571, 1031. См. также выше, глава II.
(обратно)625
Относительно Мисаила самые точные сведения сообщены в Трудах Рязанской архивной комиссии. V (1890 г.), № 8. С. 125–127 и XXV, № 1. С. 69–70; Введенский С. П. Миссионерская деятельность рязанского архиепископа Мисаила среди инородцев Тамбовского края в 1653–1656 гг. // Богословский вестник. 1910. II. С. 527–551.
(обратно)626
«У нас на Великой Руси, вокруг нашей страны, есть народы, не знающие Бога, не различающие ни учения, ни Писаний (…) и поклоняющиеся идолам, деревьям, источникам, камням, животным. Мы должны научить их закону Христову». [Подробная цитата в предисловии к Номоканону в изданиях Требника 1651 г. не обнаружена. См.: Требник. М.: Печатный двор, 1651. Л. 2–4 об. второго счета. См. также: Требник. М.: Печатный двор, 1652. Л. 664–666. – Прим. ред.]
(обратно)627
Николо-Коряжемский монастырь находился в 15 верстах от Сольвычегодска, ныне рядом с г. Коряжма. – Прим. ред.
(обратно)628
Наилучшая статья об Александре Вятском была написана Верещагиным. [См. также: Бубнов Н. Ю. Александр // СККДР. Вып. 3 (XVII в.). СПб., 1992. Ч. 1. С. 55–59; Бубнов Н.Ю., Власов А. П. Александр Вятский – писатель и книжник XVII в. // ТОДРЛ. Л., 1988. Т. 41. С. 375–380. – Прим. ред.]
(обратно)629
Относительно Даниила Костромского см.: Введенский С. Костромской протопоп Даниил: Очерк из истории раскола в первое время его существования // Богословский вестник. 1913. № 4. С. 844–854. Если Даниил был бы там в начале 1649 года, то приказ царя относительно языческих обычаев и благочиния в церкви был бы направлен ему, а не воеводе (Харузин. С. 149–150).
(обратно)630
Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. VIII. С. 73–74 (20 октября 1652 года).
(обратно)631
Конон упоминается в связи с одной книгой, взятой у него в январе 1666 года (Материалы. I. С. 339, 342). Аввакум считает его, наряду с Логгином, Тихоном и Марфой из Вязников, одним из тех, кто принял единогласие, что позволяет датировать его назначение между 1649 и 1652 годом.
(обратно)632
Симбирск был новым городом, основанным по указу от 10 февраля 1648 года, для того чтобы удерживать нападения ногайских татар. Первый протопоп симбирского Троицкого собора был некий Сергий, который упоминается в 1651 году. Никифор упоминается впервые в 1660 году (Мартынов. Гор. Симбирск. С. 170–171).
(обратно)633
РИБ Т. 39. Стб. 752; Материалы. I. С. 402, 479. Галич – небольшой городок в 120 км к северо-востоку от Костромы.
(обратно)634
От этой епархии начиная с марта 1658 года отделился один только Симбирск. Вплоть до 31 августа 1659 года он был в Казанской епархии (Покровский И. Казанский архиерейский дом. С. 194–195).
(обратно)635
Воздвиженский. Историческое обозрение Рязанской иерархии. С. 97 и след. 6 февраля 1651 года муромским протопопом был еще некий Василий (Добрынкин // Труды Владимирской архивной комиссии. Т. XVII. С. 24).
(обратно)636
Ярославль насчитывал в 1646 году 2437 дворов и 99 изб в посадах и рыбацких слободах (МГАМИД. Приказные дела старых лет. 1649 г. № 62). Помимо этого, в городе было много иностранцев (в 1630 году было 29 иностранных дворов), несколько крупных монастырей (в особенности славился Спасский монастырь). Наконец, от Ярославля до Москвы было только 280 км.
(обратно)637
В синодике Колесниковской церкви в числе членов семьи Неронова назван какой-то протопоп Ермил (Синодик Колесниковской церкви. Л. 340 об.; II. С. 132). Совпадение имени и чина – это очень редко бывает, – так же, как и близкие отношения ярославского Ермила с Нероновым (Материалы. I. С. 44–45, 157), побуждают нас предположить идентичность вышеуказанных лиц.
(обратно)638
РИБ. Т. 39. Стб. 464.
(обратно)639
Воздвиженский. Историческое обозрение Рязанской иерархии. С. 86–96.
(обратно)640
РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 400. Л. 28.
(обратно)641
Досифей. III. С. 224–229 (1650 года после 9 февраля).
(обратно)642
Сырцов. С. 15–16.
(обратно)643
Сергею Федоровичу Платонову ученики, друзья и почитатели. С. 62–63.
(обратно)644
Шушерин. С. 11–12.
(обратно)645
Дело это нам известно только благодаря жалобе воеводы, адресованной в Москву против Павла ([РГАДА. Ф. 210] Белгородский стол. Кн. 351. Л. 249–252).
(обратно)646
См. ниже, разд. VIII наст. гл.
(обратно)647
Воздвиженский. Историческое обозрение Рязанской иерархии. С. 98–99.
(обратно)648
Бедный дьякон Артемий церкви св. Николы в Череповецкой волости Устюжского края, конечно, не находился в связи с боголюбцами, однако же он в трогательных выражениях доводит до сведения своего митрополита Варлаама обо всех беспорядках своего прихода; ввиду того, что его письмо к Варлааму не имело никакого действия, он написал затем и царю, и последний уважил жалобы неизвестного ревнителя (Челобитная без даты, но от 1652 года, по-видимому, написанная до июня месяца, напечатана в: ЧОИДР. 1907. I. Смесь. С. 31–33).
(обратно)649
Что касается Нижнего Новгорода, см. выше гл. I, разд. VII. В Костроме 12 октября 1651 года освящена церковь Воскресения, окруженная с трех сторон галереей с крышей, с тремя крыльцами, построенная на средства, пожертвованные купцом Исаковым (Труды 4-го областного историко-археологического съезда в Костроме. С. LXII–LXIII). В Ярославле, где уже в 1646 году закончили возведение Успенского собора, начали 9 мая 1647 года строить знаменитую церковь во имя пророка Илии, освященную 16 июня 1650 года; она славилась своими пятью куполами, двумя колокольнями и галереями, выстроенными на средства братьев Скрипиных, купцов, торговавших драгоценными камнями. Царь даровал церкви часть Ризы Господней (Труды Ярославской губернской ученой архивной комиссии. VI. Вып. 1. С. 305). В Вологде из существовавших десяти каменных церквей четыре были закончены постройкой в 1653–1654 годы (Степановский. С. 57). В Прилуках игумен Феодосий воздвигает в 1649 году громадный собор (Амвросий. История российской иерархии. VI. С. 217). Что касается Устюга, см. ниже, гл. IX.
(обратно)650
Челобитная Артемия (ЧОИДР. 1907. Смесь. С. 31–33).
(обратно)651
Курц. Состояние России. С. 27 (7 апреля 1650 года).
(обратно)652
21 декабря 1651 года (Расходная книга митрополита Новгородского Никона. С. 4).
(обратно)653
Их присутствие в Москве с марта по июнь 1652 года подтверждается книгой записей рукоположений, сохранившейся в рукописном собрании Синодальной библиотеки (ГИМ. Синодальное собр. № 424, л. 51 и след.) Коломенский епископ был болен, архиепископы Астраханский и Тобольский находились очень далеко, а Симеон был в Тобольске (с 21 декабря). Единственное что поражает, это отсутствие архиепископов Псковского и Тверского: оба они прибыли в Москву в августе и сентябре.
(обратно)654
ПСЗРИ. С. 167–169 (1 июня 1649 года). Табакоторговля являлась лишь одной из упомянутых причин ссылки. См. донесение Поммеренга, шведского посланника, от 29 июня 1649 года: Якубов. С. 450–451; Lubimenko. Р. 210–211.
(обратно)655
Олеарий рассказывает эту историю с некоторым пристрастием по отношению к Лесли и его супруге. См.: Цветаев. Протестантство. С. 370–379; Lubimenko. Р. 167–170.
(обратно)656
Соответствующие указы до нас не дошли.
(обратно)657
30 сентября 1651 года из Польши в Москву прибыли братья Жан и Карл де Грон, французы, которые сейчас же заявили, что по внушению Святого Духа они хотят перейти в русскую веру. После их беседы с Епифанием Славинецким (24 октября) их желание было удовлетворено. 11 января 1652 года Антоний и Даниил Громовы предстали перед царем, который принял их к себе на службу и осыпал их подарками. 17 ноября они представили грандиозный проект о разных мерах, направленных на то, чтобы увеличить казну; проект состоял в следующем: строить из русского леса каждый год 100 судов, из которых одни могли быть проданы за 10 000 рублей каждый, иначе говоря, 600 бочек золота, а другие могли бы отправиться на Канарские острова, чтобы обменять лес на пряности, а также в Италию, чтобы обменять лес, пеньку, лен и кожу на шелк, и в Португалию, чтобы обменять холстину и лес на золото и жемчуг. В то же время эти вероломные люди, эти интриганы, как их обзывает Родес, требовали осуществления строгих мер против иностранцев, не принявших православия (Курц. Состояние России. С. 67, 69, 80); относительно Гронов и их проектов см.: Ученые записки Института истории Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук. 1929. I V. С. 109–122.
(обратно)658
В своем донесении от 28 апреля Родес исправил эту цифру: 14 вместо 120 человек (Курц. Состояние России. С. 104).
(обратно)659
Курц. Состояние России. С. 97–102.
(обратно)660
Там же. С. 104. (донесение от 28 апреля 1652 года).
(обратно)661
Олеарий. 1. III. С. 246.
(обратно)662
Согласно Аполлосу (Аполлос. Московские патриархи. С. 12), мощи Гермогена были перенесены в феврале 1652 года (он умер 17 февраля 1612 года) в Успенский собор. Но положение их на место упокоения рядом с Ризой Господней могло произойти и позднее (Собрание писем царя Алексея Михайловича. С. 158). // 135 Относительно Василия Босого см.: Шушерин. С. 11–12; Собрание писем царя Алексея Михайловича. С. 167, прим. 68; С. 198–199. Он умер в дороге 3 мая. // 136 СГГД III. № 147. Верх. Царствование царя Алексея Михайловича. II. С. 148–151. Достаточно прочесть это письмо и сопоставить его с другими письмами царя Алексея, чтобы убедиться, что оно написано его собственной рукой и выражает его собственные чувства, а не Никоновы или Стефановы. Но все были с ним согласны. Относительно путешествия Никона в Соловки см.: Николаевский П. Ф. Путешествие новгородского митрополита Никона в Соловецкий монастырь за мощами митрополита Филиппа // Христианское чтение. 1885. I. С. 284–335.
(обратно)663
РИБ. XIII. Стб. 944.
(обратно)664
Этот обряд был описан на свитке пергамена, выполненном для Никона прежде напечатания большого Чиновника; два дьякона держали раскрытый свиток на плечах (это была развернутая молитва поставления), а патриарх, стоя позади них, читал его (ГИМ. Синодальное собр. № 256 [Горский, Невоструев. II. С. 451–452. № 546]). Но очень возможно, что этот обряд не был составлен Никоном. Я сократил молитву и добавил имя Аввакума.
(обратно)665
Переписная книга московского Благовещенского собора. С. 32.
(обратно)666
РИБ. Т. 39. Стб. 359 (в конце [восьмой] беседы «О жертве Авраамове»).
(обратно)667
Павел Алеппский. II. С. 166.
(обратно)668
Стоглав, глава VI (Le Stoglav. P. 151); глава XXIX (Le Stoglav. P. 101–102); глава XXXVIII (Le Stoglav. P. 101–102).
(обратно)669
АИ. II. № 69. Относительно Саввы Ефимова, протоиерея церкви Преображения в Нижнем, см. работу: Платонов. Статьи по русской истории. С. 258–266.
(обратно)670
Житие. Л. 202–202 об.
(обратно)671
В приказе о высылке 1653 года Аввакум именуется бывшим протопопом собора Входа Господня в Иерусалим (Никольский. С. 159. № 1).
(обратно)672
Виноградов Н. Писцовая и межевая книги по г. Юрьевцу Поволжскому; Он же. Материалы по истории, археологии, этнографии и статистике Костромской губ. IX; ААЭ. III. С. 278 (23 февраля 1631 г.). У нас не имеется полной переписи Юрьевца 1646 года. Можно допустить, что цифры 1676 года равны в общем цифрам 1652 года.
(обратно)673
Голубинский. История канонизации. С. 126–127.
(обратно)674
Известия имп. Археологической комиссии. 1909. Т. 31. С. 276.
(обратно)675
Виноградов Н. Писцовая и межевая книга по г. Юрьевцу Поволжскому. С. 17–22. Здесь дается очень подробное описание собора Входа Господня в Иерусалим.
(обратно)676
Там же. С. 37–38.
(обратно)677
Там же. С. 80–81.
(обратно)678
Мы видим, например, как в 1668 году новгородский митрополит обязал каргопольского протоиерея вернуть на прежнее место неправильно смещенного чтеца: протоиерей вручил потерпевшему оригинал постановления, а копию оставил себе. Приказ митрополита был передан протоиерею в его духовном приказе (Белокуров. Материалы для русской истории. С. 142–143).
(обратно)679
Шимко нашел, что, согласно книгам Патриаршего казенного приказа, здесь в 1628 году было 48 церквей, в 1657 году 93 церкви и помимо этого 31 часовня (Шимко. Патриарший казенный приказ. С. 119).
(обратно)680
В 1658 году в Костромском благочинии было только 90 церквей, в Темниковском – 40, в Дмитровском – 71, в Можайском – 19, в Юрьевском – 86, в Галичском – 33 и т. д. (Николаевский. Патриаршая область).
(обратно)681
Виноградов. Писцовая и межевая книги по г. Юрьевцу Поволжскому. С. 144.
(обратно)682
Там же. С. 169–184.
(обратно)683
Там же. С. 157.
(обратно)684
Относительно антиминсов в русской церкви см.: Никольский К. Об антиминсах в православной русской церкви. СПб., 1872 (с иллюстрациями); Древности. Труды Московского археологического общества. 1909. XXII. 2. С. 268–275 (иллюстрации). 1916. XXV. С. 62–66; Покровский А. Н. // Вестник археологии и истории. 1914. XXII. С. 3–4.
(обратно)685
Шмелев. Из истории московского Успенского собора. С. 109–110.
(обратно)686
Как правило, протопоп получал два дохода простого священника, священник – два дохода дьякона (Шмелев. Из истории московского Успенского собора. С. 59–60).
(обратно)687
В принципе плата взималась и венечная память выдавалась выбранными от клира: настоятелем и его ближайшими помощниками, но, по видимому, в отдельных местах и в определенные моменты эти функции передавались светским десятникам, а также игуменам и протопопам (Шимко. Патриарший казенный приказ. С. 31). Относительно этого сбора см. выше главу I.
(обратно)688
Согласно тексту, упомянутому Шмелевым (Шмелев. Из истории московского Успенского собора. С. 103).
(обратно)689
ААЭ. III. № 258; Шимко. Патриарший казенный приказ. С. 191–192; Шмелев. Из истории московского Успенского собора. С. 99–103.
(обратно)690
Николаевский. Московский Печатный двор // Христианское чтение. 1891. I. С. 150–151.
(обратно)691
Стоглав, глава XXIX (Le Stoglav. P. 84–85); Прилежаев. Новгородская Софийская казна. С. 53. Соборное служение всего причта и вызвало к жизни слово «собор».
(обратно)692
РИБ. Т. 39. Стб. 855–856.
(обратно)693
РИБ. Т. 39. Стб. 564–566 (написано около марта 1677 года).
(обратно)694
Житие. Л. 202–203.
(обратно)695
Дело о следствии относительно мятежа в Костроме было использовано Введенским в его статье о протопопе Данииле (Богословский вестник. 1913. I. С. 844–854).
(обратно)696
Мы видим, как боярин Борис Морозов приказывает через своих управляющих своим крестьянам в Нижегородском воеводстве соблюдать воскресенье и посещать церкви, что было большой потерей времени, принимая во внимание увеличивающиеся тяготы, которые крестьяне обязаны были нести. Брат его Глеб недавно вторично женился на благочестивой Феодоре, будущей доблестной ревнительнице старой веры, мог ли он поступать иначе в своих владениях?
(обратно)697
В это же самое время страшные пожары уничтожили несколько очень отдаленных друг от друга московских кварталов. 29 мая были пожары на Покровке и на Поганом пруду; 31 мая – в Замоскворечье; 1 и 2 июня – в других местах, правда, их успели вовремя потушить. 3, 4 и 5 июня огонь бушует, начиная с Кремля до Арбатских ворот и вдоль по Неглинке. В общем, третья часть столицы погибла от пожара. Ужасная жара и гроза, о которой говорит Родес, не являются, может быть, достаточным объяснением, когда начинают поглубже вдумываться в причины пожаров, сопровождавших июньские мятежи 1648 года. Поэтому-то сейчас же и разыскивают виновных: производятся многочисленные аресты, народ волнуется (Курц. Состояние России (донесения от 31 мая и 6 июля 1652 г.); Сборник Новгородского общества любителей древностей. VII. С. 80–86).
(обратно)698
Однако не ранее 7 июня, так как с 5 по 7 июня царя не было в Москве и, Аввакум, по-видимому, не присутствовал при ужасных пожарах, которые прекратились только 5 июня.
(обратно)699
Житие. Л. 203.
(обратно)700
Царь Алексей рассказывает все обстоятельства этой смерти в очень характерном письме-дневнике, адресованном Никону (Собрание писем царя Алексея Михайловича. С. 151–185).
(обратно)701
Курц. Состояние России. С. 106–107 (донесение от 28 апреля 1652).
(обратно)702
Собрание писем царя Алексея Михайловича. С. 151–154. Это письмо датировано маем, без указания дня, что позволяет сделать догадку о времени написания, ибо Аввакум упоминает о царском письме Никону после 9 дней молений боголюбцев, а оно должно было окончиться после 7 июня. Невозможно предположить, что это было второе письмо царя, так как, во-первых, не имеется никаких к тому данных, а затем упомянутое письмо должно было поразить Аввакума и его друзей своим тоном. Но написанное в конце мая (дневник событий, к которому оно присоединено, говорит о празднике Вознесения, то есть 25 мая), оно должно было быть отправлено после 7 июня. Вся эта история избрания преемника Иосифа не вполне ясна. Согласно Житию Илариона Суздальского, священник Анания, сделавшись монахом под именем Антоний, был, по-видимому, кандидатом на патриаршество и даже жребий пал на него, но он отказался в пользу Никона. Он умер, по-видимому, в Кирикове тотчас после своего возвращения из Москвы. В цитированном выше письме Феогност был принят за существующее лицо, из которого Бартенев делает святого; но совершенно ясно, что эта личность, никому не известная ни ранее, ни потом, не существовала. Имя это являлось только намеком (так как Феогност значит «известный Богу»); в этом символе Никон должен был распознать себя. Житие Аввакума (Житие. Л. 203; см. также: РИБ. Т. 39. Стб. 245), описывает факты самым достоверным образом. Макарий (Макарий. История русской церкви. XII. С. 2–4) в основном следует нити его повествования.
(обратно)703
Расходная книга митрополита Новгородского Никона. С. 56.
(обратно)704
По-видимому, перенесение мощей святителя Гермогена не дало повода для больших торжеств.
(обратно)705
Собрание писем царя Алексея. Михайловича. С. 156–158. Я заимствую некоторые подробности у Родеса: Курц. Состояние России. С. 105–106 (донесение от 28 апреля 1652 г.).
(обратно)706
Донесения И. де Родеса // Сборник Новгородского общества любителей древности. VII. С. 92–93 (донесение от 18 июля 1652 г.).
(обратно)707
Пашкин. Родословные разведки. С. 307, 325, 409; Козловский. Ф. М. Ртищев. С. 16.
(обратно)708
Первое выражение принадлежит дьякону Федору (Материалы. VI. С. 228); второе – Аввакуму (РИБ. Т. 39. Стб. 459).
(обратно)709
Николаевский. Из истории сношений России с Востоком. С. 287–320. Обстоятельства избрания стали сейчас же известны. См.: Донесения И. де Родеса // Сборник Новгородского общества любителей древности. VII. С. 96 (донесение от 20 октября 1652 г.) Павел Алеппский знал эти обстоятельства (Павел Алеппский. III. С. 147). Никон много раз ссылался, не будучи опровергнут, на обещание царя (предисловие к Служебнику 1655 г. См.: Строев. Описание старопечатных книг славянских, служащее дополнением к описаниям библиотек гр. Ф. А. Толстого и купца Царского. № 89; Записки отделения русской и славянской археологии Русского археологического общества. II. С. 480–481, 511–513). Аввакум и его друзья ссылаются на эти обстоятельства (РИБ. Т. 39. Стб. 245, 458–460; Материалы. VI. С. 197).
(обратно)710
Церемония посвящения подробно описана в официальной записи, просмотренной самим царем (Гиббенет. I. С. 9–16).
(обратно)711
РИБ. Т. 39. Стб. 461.
(обратно)712
Я обнаружил около двенадцати записей о ставленых грамотах, данных Никоном в течение двух месяцев только для одной Нижегородской области, из которых три для своей родины – Закудемского стана (Запись ставленых грамот – ГИМ. Синодальное собр. № 424. Л. 88 и след.).
(обратно)713
Дворцовые разряды. III. Стб. 322.
(обратно)714
В сентябре 1653 г. он не решается наказать монахов Хутынского монастыря, непокорных своему архимандриту. Последний должен был пожаловаться Никону, который приказывает Макарию выгнать зачинщиков смуты (Вестник археологии и истории. 1904. XVI. С. 218–219).
(обратно)715
Посвящен 17 октября 1652 г. (Строев. Списки иерархов. Стб. 1031).
(обратно)716
ААЭ. IV. № 59, 63.
(обратно)717
ПСЗРИ. I. С. 271. № 82.
(обратно)718
Сергею Федоровичу Платонову, ученики, друзья и почитатели. С. 307–309. В 1655 г., например, Павел Алеппский подтвердил, что кабаки закрыты с субботы вечера до утра понедельника и, более того, с начала Великого поста до первого воскресенья после Пасхи и что пьяницы сурово наказываются (Павел Алеппский. III. С. 121–122, 204).
(обратно)719
Скворцов. Археология и топография Москвы. С. 371, 376–377, 402–404.
(обратно)720
Дата этих различных перестроек не уточнена, но они были закончены в 1665 г. (Дворцовые разряды. III. Стб. 329; Скворцов. Археология и топография Москвы. С. 229–231).
(обратно)721
Уже в Новгороде Никон начал в Софийском соборе работы такого рода, за что его обвинили в желании совсем разрушить собор (см. письмо царя и ответ Никона: Соловьев. История России. II. Стб. 1537–1538).
(обратно)722
ПСЗРИ. I. С. 273 (4 октября 1652 г.).
(обратно)723
ЧОИДР. 1905. I V. Смесь. С. 71 (1 октября 1652 г.).
(обратно)724
Сведения эти даны шведским резидентом в Москве Эберсом (Форстен. Сношения Швеции и России. С. 221–223). Уже 11 сентября Федор Ртищев приказал заранее изготовить особые покаянные одеяния для иностранцев, выразивших желание принять православную веру (Викторов. Описание записных книг и бумаг. I. С. 146), ибо до своего крещения они подвергались шестинедельному оглашению в монастыре.
(обратно)725
Данные этого раздела, источник которого не указан, заимствованы из донесений Родеса от 20 октября и 16 ноября 1652 г. (Сборник Новгородского общества любителей древности. VII. С. 96–104).
(обратно)726
Форстен. Сношения Швеции и России. С. 221. Весной 1653 г. уже будет запрещено учителям русских школ принимать каких-либо иностранцев для обучения их русскому языку. В июле 1653 г. иностранцы снова смогли проживать в Москве, но без храмов и священников (Там же. С. 223). В субботу 28 января 1654 г. по указу патриарха иностранные купцы, проживавшие в Москве, были вдруг среди ночи уведомлены, что им предписано переселиться за город еще до следующего понедельника: «Патриарх будет только тогда удовлетворен, когда удалит последнего иностранца» (Курц. Состояние России // ЧОИДР. 1915. II. С. 237 (донесение от 4 февраля 1654 г.)).
(обратно)727
Житие. Л. 204.
(обратно)728
Что могло произойти только не позднее декабря 1652 г., ибо Анастасия произвела на свет 2 сентября 1653 г. сына от Аввакума (Никольский. С. 159. № 2).
(обратно)729
Показание Ивана, Аввакумова сына, в 1720 г. (РГАДА Древлехранилище. Разряд VII. № 68; Есипов. I. С. 124). К несчастью, заявления этого 75-летнего старика довольно-таки путаны и часто противоречивы при сравнении с тем, что мы неопровержимо хорошо знаем. Поселение на участке церкви Троицы, по-видимому, не соответствует тому, о чем заявляет Аввакум 15 сентября 1653 г., говоря, что протопопица живет у Неронова (Никольский. С. 159. № 2). Однако эти заявления все же могут быть приняты за достоверные, ибо, во-первых, Иван очень определенно связывает это послание со временем служений своего отца в Казанском соборе (иначе можно было бы спутать это с другим пребыванием в Москве, в 1664 г.); во-вторых, после высылки Неронова Аввакум и его семья могли переселиться в его дом.
(обратно)730
Собр. Савваитова. С. 53. № 347 (22 июня 1653 г.).
(обратно)731
Относительно путешествия Неронова см.: Материалы. I. С. 280–281.
(обратно)732
РИБ. Т. 39. Стб. 856, 911.
(обратно)733
Житие. Л. 204.
(обратно)734
Мы можем до известной степени судить об Аввакуме как о проповеднике по его «Книге бесед» (РИБ. Т. 39. Стб. 425–576).
(обратно)735
РИБ. Т. 39. Стб. 911.
(обратно)736
Житие. Л. 204.
(обратно)737
Житие. Редакция В. Л. 86; РИБ. Т. 39. Стб. 567. Члены кружка обращаются с ходатайством относительно Стефана к царю и царице (Житие. Л. 203 об.).
(обратно)738
Списки Извекова (см.: Извеков. Московские кремлевские дворцовые церкви) не упоминают Козму, Евфимия и Герасима, но они не полны. Житие (Л. 210) упоминает о двух братьях, устроенных у царицы (умерших затем от моровой язвы) и, в частности, Евфимия, устроенного чтецом у великой княгини (Л. 267 об.); так как известно, что Евфимий – один из умерших от моровой язвы, очевидно, в первом упоминании есть неточность. Материалы. I, с. 359 подтверждают, что Козма был в Москве до моровой язвы. Относительно Герасима имеется сообщение Ивана, сына Аввакума (Есипов. I. С. 119). Редакция В Жития (Л. 18) говорит о братьях Аввакума, устроенных у царевны, и об одном, устроенном попом в Благовещенский собор.
(обратно)739
РИБ. Т. 39. Стб. 246.
(обратно)740
Житие. Л. 200 об.
(обратно)741
Участок Ртищева фигурирует на одном из планов, опубликованных Белокуровым (Белокуров. Планы г. Москвы. XVIII. С. 48–49), на углу Знаменки и улицы, ведущей к Пречистенским воротам (позднее Моховая), следовательно, он находился недалеко от Кремля.
(обратно)742
РИБ. XXI. Стб. 30. О Борисе Морозове см.: Забелин И. Е. Великий боярин // Вестник Европы. 1871. № 1, 2.
(обратно)743
Мятлев // Известия Русского генеалогического общества. 1903. II. С. 85–87. Даты рождения и брака Глеба Морозова и Федосьи прямо не указаны, но они вытекают из многочисленных текстов.
(обратно)744
Всякое предположение о встрече с Морозовой в 1652–1653 гг. отпадает благодаря следующей фразе: «Я своим детям велю Федора любить (…) прежде тебя его знаю (…)» (выдержка из письма Аввакума к Морозовой. См.: Барское. С 39). Он познакомился с Федором только после своего возвращения из Сибири в 1664 году.
(обратно)745
Православный собеседник. 1858. II. С. 591–598.
(обратно)746
Житие. Л. 210.
(обратно)747
Материалы. I. С. 150 (Неронов в январе 1657 г. напомнил Никону о его прошлом отношении).
(обратно)748
Достаточно вспомнить о Павле Алеппском, исполненном ужаса перед умерщвлением плоти и исключительной набожностью русских (Павел Алеппский. III. С. 29, 44, 194; IV. С. 98, 106).
(обратно)749
Белокуров. Арсений Суханов. I. С. 178–182.
(обратно)750
Белокуров. Арсений Суханов. I. С. XXXVI–XXXIX (письмо Паисия от 15 февраля 1649 г.).
(обратно)751
Там же. С. 173–177 (с более обширными цитатами).
(обратно)752
Кормчая. М., 1650. Послесловие.
(обратно)753
Белокуров. Арсений Суханов. I. С. 326–327. Один из справщиков, Захарий Афанасьев, работавший с 29 декабря 1641 года, прекрасно знал греческий язык, как об этом свидетельствуют его исправления, сделанные в Постной Триоди, сохранившейся в библиотеке Синодальной типографии.
(обратно)754
Суханов должен был рассмотреть веру иверийского народа; узнать, как они верят и не позаимствовали ли они чего-нибудь у других религий, и, если у них окажутся какие-нибудь ошибки, объявить их им, чтобы они от них отказались (Там же. С. 125). Кахетия в собственном смысле – часть Грузии, на восток от Тбилиси; в XVII веке она властвовала над всей Грузией.
(обратно)755
Там же. С. 201–206.
(обратно)756
«Прения о вере с греками» были напечатаны Белокуровым (Белокуров. Арсений Суханов. II. С. 25–101). Подлинность этой работы (долгое время отрицаемая из-за интерполяций, якобы введенных старообрядцами в некоторой части рукописи) несомненна: сохранился, по крайней мере частично, экземпляр, поднесенный Сухановым царю (Белокуров. Арсений Суханов. I. С. CXXIX–CXXXVII).
(обратно)757
Белокуров. Арсений Суханов. I. С. 247–248.
(обратно)758
Белокуров. Арсений Суханов. I. С. 248, 268–275.
(обратно)759
Там же. С. 254–256. Николаевский. Из истории сношений. С. 8. В 1653 и 1654 гг. мы снова встретимся с Иоанникием, Кириллом III и Паисием. Пателар, к счастью, отправился в Яссы, откуда он направится в Россию. С 1598 по 1654 год, в течение 56 лет, в Константинополе следовали один за другим 54 патриарха (Ильинский // Труды Киевской духовной академии. 1914. I. С. 395 и след.).
(обратно)760
Каптерев. Характер отношений России к православному Востоку. С. 161 (указ от 8 сентября 1650 года).
(обратно)761
Архимандрит Иверского монастыря Афонской Горы, прибывший в Москву 6 сентября 1652 г., испрашивал для московских греков специальный монастырь, что и было пожаловано Никоном до начала 1653 года (Белокуров. Арсений Суханов. I. С. 353–354; Каптерев. Характер отношений России к православному Востоку. С. 385).
(обратно)762
Мнение москвичей относительно этих современных изданий уже установилось в 1627 г., со времени прений с Лаврентием Зизанием: «Книги, которые попадают к нам, напечатанные на греческом языке, если они совпадают с древними рукописями, мы их принимаем и любим; но если там находятся какие-нибудь новые добавления, мы их не принимаем, хотя они и напечатаны по-гречески, ибо греки теперь живут в большой нужде в странах неверных и не имеют возможности печатать свободно» (Летописи русской литературы и древности. 1859. Вып. 4. Отдел II. С. 99).
(обратно)763
Шушерин об этом не говорит. Но по двум старообрядческим текстам конца XVII в. монах Досифей и Пимен были якобы до такой степени возмущены, увидав, как Никон благословляет народ пятью перстами, что они якобы принимали его с того времени за антихриста (Житие Корнилия, написанное Пахомием. – ГИМ. Собр. Хлудова. № 270. Л. 155–156 об.; РНБ. Q. I. 1058. Л. 49 об.).
(обратно)764
Шушерин. С. 13.
(обратно)765
Белокуров. Арсений Суханов. II. С. 117–120 (статья, написанная на Соловках около 1658 года, затем включенная в «Прения с греками». См.: Там же. С. XXXVII–XL).
(обратно)766
Николаевский. Московский Печатный двор // Христианское чтение. 1891. II. С. 170–172.
(обратно)767
Переписная книга домовой казны патриарха Никона. С. 133–134. В общем Арсений привез из Новгорода сотню книг.
(обратно)768
Николаевский. Московский Печатный двор // Христианское чтение. 1891. II. С. 172–173.
(обратно)769
Предисловие к Служебнику 1655 года объясняет именно таким образом происхождение реформы: открыв в Патриаршей библиотеке Деяния 1593 года, патриарх Никон «впал в большой страх при мысли, что русская церковь могла сойти с пути греческой православной веры». Продолжая свои поиски, он нашел много расхождений в Символе веры и в литургии; тогда он держал совет с царем и предложил ему созвать собор, который и состоялся в 1654 году… (Строев. Описание старопечатных книг славянских, служащее дополнением к описанию библиотек гр. Ф. А. Толстого и купца Царского. № 80. С. 147–169). Ясно, что это объяснение было придумано позже.
(обратно)770
Мансветов. Как у нас правились церковные книги. С. 538.
(обратно)771
См.: Зернова. С. 76. № 247. – Прим. ред.
(обратно)772
Белокуров. Арсений Суханов. I. С. 435–436 и прим. 12. См. Также: LebretonJ. Les Origines du dogme de la Trinité. I. Р. 524–531.
(обратно)773
Закончена 18 октября 1652 г. (Строев. Описание старопечатных книг славянских, служащее дополнением к описаниям библиотек гр. Ф. А. Толстого и купца Царского. № 80). [Зернова. С. 75. № 243.]
(обратно)774
Начата 9 октября, закончена 28 ноября 1652 года (Строев. Описание старопечатных книг славянских, служащее дополнением… № 81). [Зернова. С. 76. № 244.]
(обратно)775
Голубцов. Прения о вере. С. 125, прим. 105.
(обратно)776
10 июля 1653 года. Оставаясь все еще на Печатном дворе, он умер от моровой язвы осенью 1654 года. Относительно изменения личного состава см.: Николаевский. Московский Печатный двор // Христианское чтение. 1891. II. С. 156–165.
(обратно)777
Ввиду того, что Наседка еще в ноябре 1652 года получил экземпляр Канонника (Голубцов. Прения о вере. С. 125, прим. 105), надо считать переворот на Печатном дворе происшедшим в декабре. Наседка будет возвращен в Москву только в июне 1656 года.
(обратно)778
ЧОИДР. 1847. № 6. Смесь. С. 1–44. Список охватывает 39 монастырей и включает 2672 номера.
(обратно)779
См. Зернова. С. 76. № 245. – Прим. ред.
(обратно)780
Текст этого достопамятного предписания до нас не дошел. Подтверждение его существования исходит от Аввакума (Житие. Л. 204). Он упоминает только «память», полученную Нероновым, но невозможно, чтобы такое принципиальное решение было послано только в Казанский собор. Что касается содержания документа, Аввакум передает его лишь в общих чертах. Относительно крестного знамения все совершенно ясно. Что касается запрещенных падений ниц, то все зависело от времени. Кроме того, падения ниц обуславливались некоторыми особыми положениями, оговоренными в уничтоженных Никоном дополнительных статьях к изданию Псалтыри. Можно допустить, что обряд, предписанный Никоном, – это обряд, соблюдаемый и поныне православной церковью.
(обратно)781
Материалы. I. С. 55.
(обратно)782
Там же. С. 56–58 (ср. Стоглав, гл. 31).
(обратно)783
Там же. С. 64–65.
(обратно)784
Там же. С. 72.
(обратно)785
Там же. С. 53. Ср.: РИБ. Т. 39. Стб. 246.
(обратно)786
Все указанные соображения заимствованы из двух писем Неронова к царю и Стефану Вонифатьеву, от 27 февраля 1654 года (Материалы. I. С. 51–69, 70–78).
(обратно)787
Житие. Л. 204 об.
(обратно)788
Материалы. I V. С. 265.
(обратно)789
Павел и Даниил поименованы в Житии, л. 204 об.; Ермил – Материалы. I. С. 44.
(обратно)790
Житие. Л. 204. Неронов довел до сведения Стефана об услышанном голосе письмом от 13 июля 1654 года (Материалы. I. С. 99–100) в более точных выражениях, чем об этом говорится в Житии Аввакума. Неронов уже намекал об этом в письме к царю от 6 ноября 1653 года (Материалы. I. С. 40).
(обратно)791
Житие. Л. 204 об.
(обратно)792
Павел Алеппский. III. С. 123.
(обратно)793
Кормчая. Л. 37 об.
(обратно)794
Согласно греческому изданию 1547 года.
(обратно)795
Строев. Обстоятельное описание старопечатных книг… гр. Ф. А. Толстого. № 114.; Строев. Описание старопечатных книг славянских… купца И. Н. Царского. № 169 (с подробным указанием различий между Кормчей 1650 г. № 168 и Кормчей 1653 года).
(обратно)796
Патриарший Служебник-Чиновник Пателара имеется в Синодальной библиотеке в греческом оригинале (ГИМ. Синодальное греческое собр. № 245) и в переводе на церковнославянский язык (ГИМ. Синодальное собр. № 698). Между прочим, этот Чиновник не был напечатан. Первый Чиновник, напечатанный в Москве, появится в 1668 году (4°; 1+41+16). Пателар знал латынь, итальянский, еврейский и арабский языки, он поощрял Никона в его реформе. См.: Труды Киевской духовной академии. 1915. I. С. 395–432.
(обратно)797
Житие. Редакция В. Л. 60 об.
(обратно)798
Забелин. Материалы для истории, археологии и статистики г. Москвы. I. Стб. 350.
(обратно)799
Никанор покинул Соловки 16 июня 1653 года (Сырцов. С. 18). Итак, упомянутые происшествия имели место в начале июля. Монастырь свв. Зосимы и Савватия чрезвычайно нуждался в реформе: монахи, пишет царь 25 мая, не только пьют, но и курят, архимандрит глух к этому (Записки отделения русской и славянской археологии Русского археологического общества. II. С. 695–697).
(обратно)800
Нам известно от Олеария (Олеарий. 1. III. С. 139–140), что русские женщины белили лицо свинцовыми белилами: «У них красивые лица (…) но они так грубо красятся, что, если бы они намазали краску кисточками или бросили бы пригоршню муки на лицо, они не могли бы стать более безобразными. И этот обычай сделался настолько всеобщим, что даже самые красивые не решились бы от него отойти».
(обратно)801
Материалы. I. С. 41–44, 234. В челобитной, поданной Собору 1667 г., Неронов объясняет пристрастное отношение Никона к Логгину тем, что Никон обвинял его в небрежном отношении и высокомерии по отношению к нему, Никону.
(обратно)802
Богословский вестник. 1910. Август. С. 531.
(обратно)803
Материалы. I. С. 44.
(обратно)804
Он посадил их на цепь в своем дворце; он отлучил представителя Соловков в Москве за то, что тот его, Никона, обозвал врагом своего монастыря (Сырцов. С. 15–16, согласно соловецким архивам).
(обратно)805
Верюжский. С. 594, прим. 11. Между прочим, Феодосий был восстановлен в 1663 году.
(обратно)806
Эта подробность заимствована из жалобы Неронова на соборе 1667 года, в которой он обращается к воспоминаниям Ионы, присутствовавшего на соборе (Материалы. I. С. 237).
(обратно)807
Дело, вероятно, касается Герасима Фирсова, нещадно высеченного в Патриаршем дворце (Материалы. III. С. 87), затем высланного в Николо-Корельский монастырь 20 июля 1653 года (РИБ. XIV. Стб. 414) за то, что он написал обличение против своего архимандрита Ильи. Может быть, Никону сообщили, что Фирсов был в сношениях с кружком? Фирсов, ученый монах и искусный писатель, составил церковную службу на перенесение мощей митрополита Филиппа в Спасо-Преображенский собор Соловецкого монастыря. Он будет одним из главных защитников старой веры. Он сыграет главную роль в подготовке бунта в Соловках. Его моральное значение уступало его интеллектуальным способностям. Его произведения были напечатаны Н. Никольским: Сочинения соловецкого инока Герасима Фирсова // ПДПИ. Вып. CLXXXVIII. 1916; с библиографическим приложением.
(обратно)808
Материалы. I. С. 44–50. Аввакум в своем письме от 14 сентября 1653 года также намекает на жалобу патриарху, написанную против Неронова его собственными священниками (Материалы. I. С. 24). Один из этих священников признается в этой махинации (Материалы. I. С. 32).
(обратно)809
Дата 4 августа фиксируется одним сообщением о жизни Неронова за период с 1653 по 1659 год; сведения этого источника в общем точны и достоверны (Материалы. I. С. 134). Дата эта, между прочим, соответствует датам предшествующих событий.
(обратно)810
РИБ. Т. 39. Стб. 734–735. Части, заключенные в квадратных скобках, можно прочесть в многочисленных рукописях, но не в краткой редакции (Там же. Стб. 725), сохранившейся в подлиннике; однако они не подлежат сомнению; все обстоятельства указывают на то, что имел место правеж, а последний был как раз наказанием для злостных неплательщиков.
(обратно)811
Нужно отметить, что Аввакум, составляя свое Житие восемь лет спустя после вышеуказанного письма, опускает рассказ о «правеже». Может быть, он считает это дело слишком личным, не содержащим общерелигиозных моментов.
(обратно)812
Олеарий. 1. III. Р. 259.
(обратно)813
РИБ. Т. 39. Стб. 461.
(обратно)814
Материалы. I. С. 50.
(обратно)815
Материалы. I. С. 23–24. Эти подробности заимствованы из одного письма Аввакума к Неронову от 14 сентября 1653 года, которое для нас является первой рукописью Аввакума. Оно находится в Синодальной библиотеке как подлинник (ГИМ. Синодальное собр. свитков. № 1096); в начале письма недостает нескольких строк. Оно было напечатано Субботиным (Материалы. I. С. 20–26) с частичным факсимиле (но не в академическом издании).
(обратно)816
Сличение материалов (Материалы. I. С. 24 и 25) заставляет допустить существование двух челобитных: одной челобитной Аввакума и Даниила, врученной непосредственно царю от имени боголюбцев; другой личной, одного Аввакума, переданной Стефану для царя.
(обратно)817
Материалы. I. С. 50–51.
(обратно)818
Житие. Л. 205.
(обратно)819
Материалы. I. С. 23.
(обратно)820
Эта паперть исчезла в 1802 году, во время постройки новой колокольни. См.: Никольский А. // Московская церковная старина. IV. С. 1–2.
(обратно)821
Факты переданы согласно письму, которое один из священников Казанского собора послал Неронову 29 сентября 1653 года (Материалы. I. С. 28–31). Это исповедь, исполненная редкой непосредственности. Она ценна именно своей непосредственностью, но естественно, что доводы Аввакума там не изложены.
(обратно)822
Материалы. I. С. 20–23 (письмо Аввакума). По поводу сцены с властями (см.: РИБ. Т. 39. Стб. 725; Житие. Л. 205 об.) Иоанн Данилович указывает на 33 верующих, арестованных в «сушиле»; цифра «сорок или больше» захваченных и отлученных обозначает у него подписавшихся под челобитной за Неронова (Материалы. I. С. 31). Аввакум говорит о сорока и больше арестованных в «сушиле», но Иоанн Данилович, оставшись на свободе, мог лучше узнать точное число заключенных.
(обратно)823
Не тогда ли Неронов отдал Аввакуму ключ от своей любимой шкатулки, сданной на хранение в церковь? (Материалы. I. С. 26).
(обратно)824
Материалы. I. С. 31, 33. Тем не менее, Бебехов был выслан в Пафнутьев монастырь в Боровске.
(обратно)825
Смирнов. Внутренние вопросы. С. 163.
(обратно)826
Аввакум рассказывает о том, что произошло после его ареста, в своем письме к Неронову (См.: Материалы. I. С. 22–24); в своем письме к царю в 1664 году (РИБ. Т. 39. Стб. 725); в своем Житии (л. 205 об. – 206 об.).
(обратно)827
Никольский. С. 159. № 1.
(обратно)828
Материалы. I. С. 24–25; Житие. Л. 206 об. – 207 об.
(обратно)829
Житие. Редакция В. Л. 20–20 об.
(обратно)830
Материалы. I. С. 26.
(обратно)831
О происхождении этого праздника рассказано и крестный ход описан: Голубцов. Чиновники московского Успенского собора. С. 6–9.
(обратно)832
Житие. Л. 207 об.
(обратно)833
РГАДА. Сибирский приказ. Стб. 400. Л. 404.
(обратно)834
В эту эпоху мы встречаем других священников, высланных в Сибирь на таких же условиях. Поп Полиевкт Максимов из Новоторжского уезда, арестованный в 1652 году за клевету, был тоже послан архиепископу Симеону в Тобольск, чтобы исполнять там свое служение. Поп Фирс из Псковского уезда, арестованный за пьянство, равным образом посылается к Симеону, «чтобы служить обедню, где Симеон ему прикажет» (РГАДА. Сибирский приказ. Кн. 465. Л. 1–26, 233).
(обратно)835
Никольский. С. 159–160. № 3; РГАДА. Сибирский приказ. Стб. 465. Л. 49–51. Трое стрельцов были назначены 17 сентября (Там же. Л. 50).
(обратно)836
Выходы государей, царей и великих князей. С. 293 (4 августа 1653 года).
(обратно)837
Материалы. I. С. 32.
(обратно)838
Житие. Л. 207 об.
(обратно)839
Приказ Cибирского приказа воеводам городов, расположенных на пути, от 16 сентября 1653 года (РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Cтб. 465. Л. 56–58).
(обратно)840
Двина, даже в Архангельске, а равно и Вычегда не замерзают ранее 1 ноября (Справочник-путеводитель по рекам, озерам, каналам СССР. С. 78, 81).
(обратно)841
Путь указан приказом Сибирского приказа (РГАДА. Сибирский приказ. Стб. 465. Л. 49). По этому пути, называемому путем Бабинова (который открыл его в 1597 году), единственному в то время (1598–1763) официальному, и следовал Аввакум (см.: Бахрушин. Очерки по истории колонизации Сибири. С. 102–107).
(обратно)842
Приказ, посланный из Москвы 19 января 1653 года архиепископу Тобольскому, был доставлен к нему 22 декабря (РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Cтб. 400. Л. 236, 259). Курьер, отбывший из Москвы самое раннее 30 января 1676 г., чтобы объявить о смерти царя Алексея, прибыл в Тобольск 13 февраля (Берх. Царствование царя Феодора Алексеевича. I. С. 8). Архиепископ Симеон совершил путешествие в Москву в один месяц.
(обратно)843
Житие. Л. 208.
(обратно)844
Столбец архива Сибирского приказа № 400 изобилует документами о Симеоне, о его сношениях с Москвой, о его деятельности в Тобольске, о его путешествиях. Царица прислала ему 16 января 1652 года целый набор дорогих церковных украшений (РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 400. Л. 17–22).
(обратно)845
РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214) Стб. 400. Л. 47, 49.
(обратно)846
В то время, как протопоп собора св. Софии получал от казны ежегодно вспомоществование в 15 рублей, 30 четей ржи, 30 четей овса и 1 пуд соли, настоятель Вознесенского собора получал 12 рублей, 15 четей ржи, 15 четей овса и 7 пудов соли (Там же. Л. 46, 49).
(обратно)847
С. А. Белокуров собрал относительно населения Тобольска цифровые данные за 1624, 1633, 1672 и 1678 годы, которые дают представление о состоянии города в 1654 году (Белокуров. Юрий Крижанич. С. 192–194).
(обратно)848
РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 651 (1656–1660 гг.).
(обратно)849
Титов. Сибирь в XVII в. С. 76–77. В 1663 году караван к озеру Ямыш из 21 дощаника и 659 человек 26 сентября привез 12954 пуда соли. К официальной экспедиции присоединились и суда вольных купцов: они привезли в этом же самом году около 15000 пудов соли, из которых они внесли десятину в царские соляные амбары (РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 663. Л. 120–122).
(обратно)850
РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 496. Л. 189.
(обратно)851
П. Н. Буцинский (Буцинский. Заселение Сибири. С. 184, 197–199, 208) приблизительно исчисляет число лиц, высланных в Сибирь в период 1593–1645 гг., в 1500 человек. В Енисейске, несравненно менее населенном, чем Тобольск, среди свидетелей, упомянутых в одном деле, оказались выходцы из 22 русских городов, занимавшиеся пятнадцатью видами ремесел (РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 79. Л. 35 и след.).
(обратно)852
См. выше, глава I.
(обратно)853
РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 400. Л. 410–411 (сообщение, полученное в Москве 10 февраля 1652 года; это первое сообщение, посланное Симеоном).
(обратно)854
Там же. Л. 410–411 (сообщение, полученное в Москве 10 февраля 1652 года; это первое сообщение, посланное Симеоном).
(обратно)855
РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 400. Л. 414 (донесение, полученное в Москве 4 января 1654 года).
(обратно)856
Титов. Сибирь в XVII в. С. 137.
(обратно)857
РГАДА. Сибирский приказ. Стб. 400. Л. 143 (получено в Москве 11 марта 1652 года).
(обратно)858
Там же. Л. 410 (донесение получено 10 февраля 1652 года).
(обратно)859
Там же. Л. 158 (март 1653 г.) См.: Оглоблин Н. Н. Женский вопрос // Исторический вестник. 1890. № 7. С. 201–206; Он же. Архиепископы и воеводы // Русская старина. 1893. № 10. С. 177.
(обратно)860
РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 400. Л. 130.
(обратно)861
Там же. Л. 414.
(обратно)862
РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214) Стб. 400. Л. 415–416 (1652 г.); Л. 404 и 212 (получено в Москве 16 февраля 1653 года).
(обратно)863
С. Ф. Платонов приписывает ему составление Столяровского Хронографа (Сборник статей, посвященных В. О. Ключевскому. С. 18–28). Баим покинул Тобольск 28 марта 1654 года. Василий Хилков оставался там с 1652 до 1656 года, следовательно, пробыл в Тобольске четыре года вместо обычных двух лет, что дает повод предположить, что против него не было возбуждено серьезных обвинений.
(обратно)864
РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 400. Л. 19–20.
(обратно)865
РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 400. Л. 78–76, 422–423 (ответ из Москвы от 7 апреля 1863 г.).
(обратно)866
Там же. Стб. 592. Л. 136 (1653 г.).
(обратно)867
Там же. Стб. 400. Л. 151–152, 212 (получено в Москве 16 февраля 1653 года).
(обратно)868
Там же. Л. 36–38, 55, 135 (получено в Москве 11 марта, даровано 8 апреля 1652 г.); Л. 85–89 (послано из Москвы 19 марта 1653 г.). Симеон интересным образом объясняет причину своего ходатайства относительно замощения улиц: «Священники и дьяконы падают. А с ними и кресты, образа и книги: невозможно провести крестный ход достойным образом. Иностранцы над нами смеются, так как в Тобольске их много, и все различного исповедания» (Л. 89).
(обратно)869
Там же. Л. 17 (послано из Москвы в июле 1653 года).
(обратно)870
РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214) Стб. 400. Л. 408–410 (получено 2 марта 1653 года).
(обратно)871
У нас имеется подробная опись архиепископского дома, составленная после отъезда Симеона в Москву в январе 1654 года (Там же. Л. 271–274).
(обратно)872
Петровский М. К истории сибирского епархиального быта в половине XVII в. // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. 1911. Вып. 27. С. 2.
(обратно)873
РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 400. Л. 150 (получено в Москве 16 февраля 1653 года).
(обратно)874
Там же. Л. 156, 218–219. Впоследствии это будет Троицкий скит в Кодском городке, в 240 верстах от Березова.
(обратно)875
Там же. Л. 38.
(обратно)876
Там же. Л. 197 (получено в Москве 17 февраля 1653 года). Одновременно Симеон потребовал больше ладана, так как имевшийся у него ладан содержал одну треть камня и пыли. В ответ ему стали ежегодно посылать из Москвы 5 пудов ладана вместо 2 пудов и из Казани 10 пудов воска вместо 7. По этим данным можно судить о том, насколько единогласие удлиняло службу.
(обратно)877
РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 592. Л. 261. На оборотной стороне жалобы можно прочесть решение: «15 ноября 1653 года. Послать Хилкову приказ относительно отзыва и ареста Прокопия и направить его к архиепископу Симеону».
(обратно)878
Приглашение Симеона датировано 19 ноября. Оно прибыло в Тобольск 22 декабря 1653 года. Архиепископ должен был взять с собой четырех писцов и четырех дворян, передать воеводам инвентарь своего дома и получить от них повозки в необходимом количестве (РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 400. Л. 236–237, 259).
(обратно)879
Там же. Л. 259 (отчет воевод, полученный в Москве 10 марта; это, без сомнения, являлось также и датой прибытия архиепископа в Москву).
(обратно)880
Там же. Л. 259; Стб. 592. Л. 256.
(обратно)881
В одном письме от 1650 года Симеон называет в церкви Вознесения священников Иоанна и Андрея, дьякона Федора и других духовных лиц, но возможно, что один из этих двух священников заменял Аввакума, тем более что Вознесение не названо уже собором, но лишь церковью (РГАДА. Сибирский приказ. Стб. 592. Л. 118).
(обратно)882
Житие. Редакция В. Л. 86.
(обратно)883
Никольский. С. 160–161. № 4.
(обратно)884
РИБ. Т. 39. Стб. 563–564 (1677 г.).
(обратно)885
РИБ. Т. 39. Стб. 561–562.
(обратно)886
Житие. Л. 279–283.
(обратно)887
Там же. Л. 208.
(обратно)888
Житие. Л. 208–208 об.; Редакция В. Л. 22 об.
(обратно)889
РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 592. Л. 255–256 (челобитная Симеона от 7 февраля 1659 года была получена в Москве 24 марта).
(обратно)890
Это происшествие со Струной изложено по двум челобитным Симеона (РГАДА. Сибирский приказ. Стб. 592), написанным в середине 1655 года и 7 февраля 1659 года, а также по решению из Москвы от 4 августа 1656 года (Никольский. С. 162. № 6), равно и по челобитной Струны (РГАДА. Сибирский приказ. Стб. 492), написанной между 7 и 13 февраля 1659 года, и по Житию. (Л. 208, 210). Никольский (С. 145–149, ср. с. 164–166) говорит об этом, используя все документы, которые он мог найти, но с некоторой долей пристрастия в пользу непорядочного дьяка. Этим, однако, карьера Струны не кончилась. Мы встречаем его восстановленным Никоном после его отлучения от церкви 4 августа 1656 года, посланным новым воеводой Буйносовым-Ростовским в Москву, затем в Тобольске 13 сентября 1659 года, уже дворянином (РГАДА. Сибирский приказ. Стб. 560. Л. 1), переведенным в Енисейск 10 февраля 1659 года. Затем он снова отлучается Симеоном 1 сентября 1659 года (Там же. Стб. 492. Л. 1, 12–15), но почти сразу же назначается воеводой в Тюмень в 1660 году (Древняя российская вивлиофика. VI. 1-е издание. С. 291). Он получает предписание произвести следствие в Далматовом скиту на Исети, а также в отношении сборщика ясака в Туруханске в сентябре 1668 года (ДАИ. V. С. 320–321). Эта карьера указывает на ловкость Струны, а может быть, и на его способности администратора, но не на его нравственные качества (см. также: Оглоблин Н Н. Дело о самовольном приезде в Москву тобольского архиепископа Симеона в 1661 г. // Русская старина. 1893. № 10. С. 172–175).
(обратно)891
Это дело изложено в: 1) докладной записке воевод, полученной в Москве 30 декабря 1655 года (РГАДА. Сибирский приказ. Стб. 496. Л. 34–49), 2) в письме Симеона царю, полученном 29 ноября (РГАДА. Сибирский приказ. Стб. 592. Л. 129–132); 3) в приказе относительно назначения в комиссию Аввакума (Никольский. С. 161. № 6).
(обратно)892
Скит Далмата расположен в пятидесяти верстах на запад от Шадринска. О Далмате см.: ЧОИДР. 1863. I. Смесь. С. 72–114; 1906. I. С. 474; РГАДА. Сибирский приказ. Стб. 651. Л. 364; ДАИ. III. № 90 (1651).
(обратно)893
Далмат умер только в 1697 году, Исаак – в 1724 году. Будущий холмогорский архиепископ Афанасий Любимов во время своего пребывания на Исети под началом Исаака в 1666 году был сторонником старой веры (Верюжский. Афанасий архиепископ Холмогорский. С. 7–49). См.: Смирнов. Внутренние вопросы. С. 019–034.
(обратно)894
РГАДА. Сибирский приказ. Стб. 496. Л. 34 и след. Фефилов затем обвинил казначея Филарета в том, что он нарушил договор о монопольной поставке ревеня, снабдив Далмата семью возами этого драгоценного корня. Таким образом, ему удалось спастись и не попасться в руки Симеона. Но 14 июля Филарет на допросе доказал свою невиновность: у него было всего-навсего только два воза с ревенем! Все дело было переслано в Москву, откуда оно было направлено патриарху. Я не нашел следов его решения.
(обратно)895
Никольский. С. 160. № 4 (ответ воевод).
(обратно)896
Житие. Л. 276–277 об.
(обратно)897
Я нашел в документах Сибирского приказа, что в течение первых четырех месяцев 1657 года сообщения из Сибири были привезены шестнадцатью курьерами, т. е. еженедельно поступало по одному сообщению. Вероятно, курьеры из Москвы в Тобольск ездили не менее часто.
(обратно)898
Точная дата неизвестна. Но в одном письме от 27 февраля Неронов пишет, что созыв Собора весьма желателен (Материалы. I. С. 56); епископ Мисаил, который должен был там присутствовать, находился 18 марта еще в Тамбовском воеводстве (Богословский вестник. 1910. II. С. 538). С другой стороны, Лаврентий, рукоположенный 16 апреля во архиепископы Тверские (Дворцовые разряды. III. Стб. 407), не находился в числе подписавшихся под Деяниями собора 1654 года. Следовательно, Собор состоялся между 20 марта и 15 апреля.
(обратно)899
Деяния Собора 1654 года были напечатаны в «Скрижали» с некоторыми изменениями, и в 1873 году изданы Н. И. Субботиным по подлинному тексту Синодальной библиотеки [ГИМ. Синодальное собр. № 379].
(обратно)900
Расходная книга Печатного двора 1654 года. Л. 92 (опубл.: Румянцев. Древние здания Московского Печатного двора. С. 33. № 69).
(обратно)901
Христианское чтение. 1911. I. С. 627–643.
(обратно)902
Белокуров. Арсений Суханов. I. С. 416.
(обратно)903
Legrand. Bibliothèque hellénique des XV et XVI siècles. Paris, 1885. T. II.; Николаевский. Из истории сношений. С. 35; Оглавление книг, кто их сложил. С. 43, § 99.
(обратно)904
Иконников. Максим Грек. С. 484–485.
(обратно)905
Письмо Плещеева Неронову, адресованное в Спасо-Каменный монастырь, следовательно, до июля 1654 года (Бороздин. Приложение. С. 3. № 1). Это единственный текст, доказывающий, что слово «истинный» было действительно зачеркнуто именно в упомянутую дату.
(обратно)906
Деяние Собора 1654 года. Л. 6 об.–7.
(обратно)907
Ср. в Деянии Собора 1654 года подписи на л. 20 об. – 22 об. с перечнем присутствующих л. 16 об. – 17 об. Отсутствуют также и другие подписи, но их отсутствие менее знаменательно.
(обратно)908
2 мая 1654 года несчастье, постигшее Павла, стало известно в Спасо-Каменном монастыре (Материалы. I. С. 78, 87).
(обратно)909
Материалы. I. С. 34–40.
(обратно)910
Там же. С. 41–51. Письма Неронова были сохранены его друзьями еще при его жизни. Сборник XVIII века (ГИМ. Собр. Уварова № 494/131. См.: Систематическое описание… рукописей собрания гр. А. С. Уварова. I. C. 579–580) воспроизводит собрание рукописей, вероятно, составленное игуменом Феоктистом. Н. И. Субботин напечатал текст по сборнику Уварова, однако несколько небрежно (См.: Материалы. I. С. 18–19).
(обратно)911
Там же. С. 51–69.
(обратно)912
Там же. С. 70–78 (также от 27 февраля 1654 года).
(обратно)913
Материалы. I. С. 78–83 (2 мая 1654 года).
(обратно)914
Там же. С. 84–94 (2 мая 1654 года).
(обратно)915
О пребывании Неронова в Спасо-Каменном монастыре рассказано Феоктистом (Материалы. I. С. 109–119, 13 июля 1654 года).
(обратно)916
Материалы. I. С. 119–123.
(обратно)917
Там же. С. 136–137, 105–108 (приписка Неронова от 4 апреля 1655 года к одному письму от 13 июля 1654 года; к сожалению, не имеется автографа).
(обратно)918
Там же. С. 90 (2 мая 1654 года).
(обратно)919
8 июня 1654 года был издан приказ предоставить в распоряжение Симеона две лодки (РГАДА. Сибирский приказ. Стб. 400. Л. 360). 2 августа он был еще на Волге (Житие. Л. 192–192 об.). Может быть, преднамеренно, для того чтобы ближе узнать о настроении населения, он совершал свое путешествие очень медленно: он достиг Урала только в декабре.
(обратно)920
Его радостный возглас, когда он узнал, что царь отказывается изменить крестное знамение, доказывает, как было бы неправильно считать Стефана убежденным никонианином. «О кресте же, благочестивый государь царь, радость ми възвести, яко тако, якоже издревле: воистину славлю Спаса моего Христа о сем, яко прекословие о сем преста!» (Материалы. I. С. 90). Если бы он вместе с царем был инициатором никоновских реформ, как это предполагает Н. Ф. Каптерев, он не смог бы, какова бы ни была его любовь к миру, выражаться таким образом.
(обратно)921
Об истории мучений и кончины епископа Павла см.: ЧОИДР. 1905. II. С. 41–46.
(обратно)922
Письмо Плещеева см.: Бороздин. Приложение. С. 3–6.
(обратно)923
Все это соответствовало трагической картине, начертанной Хилковым в конце сентября 1654 года и основанной на официальных данных (Гиббенет. II. С. 481–484).
(обратно)924
Доклад Пронского от 25 августа 1654 года (Гиббенет. II. С. 473–474).
(обратно)925
Житие. Л. 210–210 об.
(обратно)926
Никольский. С. 161. № 4 (отчет воевод). [См. также новейшую работу: Шаткое А. Т. Из истории сибирской ссылки протопопа Аввакума // Старообрядчество в России (XVII–XX вв.). М., 2004. Вып. 3. С. 43–74. – Прим. ред.]
(обратно)927
Лопарев. Самарово. С. 115 и след.
(обратно)928
Этот переезд от Тобольска в Енисейск описан: Бахрушин. Очерки по колонизации Сибири. С. 110–112.
(обратно)929
Архангельский. Город Енисейск; Оглоблин // Исторический вестник. 1890. № 7. С. 197.
(обратно)930
РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 508. Л. 106–107, 117–118, 137.
(обратно)931
Бороздин. Приложение. С. 117 (№ 26). Аввакум при отъезде из Енисейска должен был получить 15 рублей, 15 четей пшеничной муки, 2 чети с восьмой крупы и столько же толокна (РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 508. Л. 118).
(обратно)932
Номоканон. Ст. 84 (Павлов А. Номоканон. С. 215–217); Смирнов С. Древнерусский духовник. С. 36–37.
(обратно)933
Так называлась тогда вся река Амур.
(обратно)934
ДАИ. III. № 72 (получено в Москве летом 1651 г.).
(обратно)935
РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 1560. Л. 39; Стб. 427. Л. 209.
(обратно)936
Там же. Стб. 427. Л. 432–435, 476.
(обратно)937
РИБ. XV. Инструкции, данные Пашкову.
(обратно)938
РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 471. С. 56, 57, 61.
(обратно)939
Инструкции напечатаны в «Русской исторической библиотеке» (РИБ. XV. С. 1–37) по оригиналу, оставшемуся в семье Пашкова.
(обратно)940
ААЭ. II. С. 137. № 60. Платонов. Древнерусские сказания. С. 326–327, 337. Конечно, позднее Пашковы утверждали, что они происходят из польских дворян (Пашковичей), прибывших в Россию при Иване Грозном (Общий гербовник дворянских родов Всероссийской Империи. Т. VIII. С. 21).
(обратно)941
Иванчин-Писарев. С. 108–110; ЧОИДР. 1892. IV. С. 108–171.
(обратно)942
РИБ. Х. Стб. 314.
(обратно)943
Титов. Рукописи славянские и русские, принадлежащие И. А. Вахрамееву. III. С. 12. № 728; Яцимирский А. Опись… рукописей П. И. Щукина, II. С. 180; № 430; Максимов. Год на Севере. С. 519.
(обратно)944
ПСЗРИ. I. С. 223–224.
(обратно)945
Оглоблин. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа. I. С. 180–181.
(обратно)946
РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 509.
(обратно)947
Там же. Стб. 592. Л. 260.
(обратно)948
РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 1560. Л. 161 (получен в Москве 21 апреля 1656 г.).
(обратно)949
См. работу Г. Вернадского: ЖМНП. 1915. Апрель. С. 332–354.
(обратно)950
РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 1560. Л. 98–124, 140–149; Стб. 509. Л. 109.
(обратно)951
РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 509. Л. 137.
(обратно)952
Там же. Л. 153.
(обратно)953
РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 508. Л. 205–206.
(обратно)954
Там же. Стб. 509. Л. 150 (донесение Пашкова).
(обратно)955
Там же. Л. 156–163 (донесение Пашкова); Л. 11 (донесение Ртищева).
(обратно)956
Имя уменьшительно-уничижительное.
(обратно)957
РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 508. Л. 184–187.
(обратно)958
В челобитной к царю от 1664 г. (РИБ. Т. 39. Стб. 726) и в Житии, (Л. 212–214); челобитная к царю, хотя много короче, содержит воспоминания Аввакума об этом периоде времени.
(обратно)959
Эта челобитная, приложенная к донесению Пашкова (РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 508. Л. 188–193), написана той же рукой и теми же чернилами, что и донесение. На обороте – находится собственноручная подпись иеромонаха. Таким образом, несомненно, что она была составлена воеводой и навязана его людям.
(обратно)960
Житие. Л. 213–214 об.
(обратно)961
Там же. Л. 214 об. – 215 об.; РИБ. Т. 39. Стб. 726.
(обратно)962
РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 508. Л. 237–241 (донесение от 4 июня, полученное в Москве 27 октября 1657 г.).
(обратно)963
РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 508. Л. 313–316 (другое донесение от того же числа).
(обратно)964
Симеону это стало известно около конца 1657 г. (Бороздин. Приложение. С. 117).
(обратно)965
РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 508. Л. 317–335 (донесение от 29 июля 1658 г., получено в Москве 4 августа 1659 г.; листы в беспорядке).
(обратно)966
Там же. Л. 386, 354–357, 345 (другое донесение от 29 июля 1658 г.; получено 4 августа 1659; листы в беспорядке).
(обратно)967
Первые алтайские поселенцы, например, делали себе хлеб из пихтовой коры (Бухтарминские старообрядцы. С. 10). В течении 7 лет жители Выга ели хлеб из толченой соломы, трав и коры (Любомиров. Выговское общежительство. С. 33).
(обратно)968
Житие. Л. 217–218 об., Житие. Редакция В. Л. 86 об.; РИБ. Т. 39. Стб. 726–727.
(обратно)969
Житие. Л. 223 об. – 224 об.
(обратно)970
Житие. Л. 233; РИБ. Т. 39. Стб. 704.
(обратно)971
Житие. Л. 228–229 об.
(обратно)972
Там же. Л. 219–222 об.
(обратно)973
Там же. Л. 241 об. – 244.
(обратно)974
РИБ. Т. 39. Стб. 702.
(обратно)975
РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 508. Л. 62–63 (донесение, составленное после 18 августа 1658 г.).
(обратно)976
Там же. Л. 345, 353.
(обратно)977
Имеется памятная записка Аввакума о жестокостях Пашкова, представленная царю в 1664 г. (РИБ. Т. 39. Стб. 701–704).
(обратно)978
Житие. Л. 223–223 об.
(обратно)979
Житие. Л. 224 об. – 226.
(обратно)980
Подобное происшествие описано Щаповым (Щапов. Сочинения. II. С 501), как происшедшее уже в XIX в., в нижнем течении Енисея. Крижанич описывает его как частое в его эпоху (Крижанич. История Сибири. С. 124–125).
(обратно)981
Житие. Л. 226–230 об.
(обратно)982
РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 509. Л. 7–8 (письмо тобольского воеводы от 1 февраля 1658 г.); Бороздин. Приложение. С. 118. № 27 (письмо Симеону от 11 февраля).
(обратно)983
ДАИ. IV. С. 177–178. № 66.
(обратно)984
Там же. С. 272. № 116; С. 278. № 121; С. 320. № 133.
(обратно)985
Житие. Л. 231–233.
(обратно)986
Там же. Л. 240–241.
(обратно)987
Житие. Редакция В. Л. 86 об. – 87 об.
(обратно)988
Житие. Редакция В. Л. 82 об. – 84 об.
(обратно)989
РИБ. Т. 39. Стб. 728.
(обратно)990
Эту картину наблюдал Хрисанф Лопарев на своей родине на Оби в Самарове, около 1870 года (Лопарев. Самарово. С. 38–39).
(обратно)991
Житие. Л. 234 об. – 235.
(обратно)992
Там же. Л. 235–236.
(обратно)993
Иркутская летопись. С. 4, 370.
(обратно)994
Он будет сменен Голохвастовым 31 июля 1663 года (РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 604. Л. 18; Стб. 638. Л. 137).
(обратно)995
Ржевский был тульским воеводой в 1636 году (РИБ. X. С. 26); у него в феврале 1651 года умерла жена (Токмаков. Историко-статистическое описание г. Киржача. С. 73–74), затем он был нежинским воеводой в 1665–1672 годах, потом воеводствовал в Устюге в 1672–1674 годах, умер в 1678 году (Корсакова В. Ржевский Иван Иванович // РБС. СПб., 1913. Т.: Рейтерн-Рольцберг. С. 157–159).
(обратно)996
РИБ. Т. 39. Стб. 922.
(обратно)997
Там же. 39. Стб. 687.
(обратно)998
Житие. Л. 236–237. Этот отрывок определяется как относящийся к моменту «по прибытии в русские города», то есть до зимовки в Енисейске, но тут нельзя заключить ничего точного, так как в этом месте изложение Жития носит очень беспорядочный характер. Надо прочесть в оригинале из-за его внутренней красоты весь диалог между Аввакумом и Анастасией, но так как не исключается, что он мог состояться и на десять лет раньше, будучи произнесен в тех же самых выражениях, то можно констатировать единственное, что важно для истории, – смысл этого диалога.
(обратно)999
РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 592. Л. 106.
(обратно)1000
Житие. Л. 237 об. – 238 об.
(обратно)1001
Древняя российская вивлиофика. С. 290. Его прибытие в Соликамск отмечено как раз в момент вскрытия льда (РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 663. Л. 58–59, 117).
(обратно)1002
Бахрушин. Тобольские воеводы // Ученые записки Института истории Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук. 1927. II. С. 191–192, 197.
(обратно)1003
РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 663. Л. 36–37.
(обратно)1004
Там же. Л. 177–181.
(обратно)1005
РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 592. Л. 368. Они были высланы в декабре 1659 г. Относительно Василия Иванова см.: Материалы. I V. С. 287.
(обратно)1006
Трофимов покинул Москву 20 января 1661 г. (Белокуров. Юрий Крижанич. С. 198).
(обратно)1007
Лазарь был отправлен в Сибирь 14 июля 1661 г. (Там же. С. 198. № 116).
(обратно)1008
Ответ православных – ГИМ. Собр. Хлудова. № 282. Л. 67, 67 об. Против Иродиона были и другие нарекания: обвинения за искажение житий святых, а также написанные им анонимные обличения касательно состояния Церкви (Материалы. I. С. 471–479).
(обратно)1009
Материалы. IV. С. 285–290.
(обратно)1010
Крижанич. Обличение Соловецкой челобитной (Крижанич. Собрание сочинений. III. С. 129). // Зернова. С. 87. № 281. – Прим. ред.
(обратно)1011
Относительно Крижанича см. работу С. А. Белокурова (Белокуров. Юрий Крижанич), непосредственно основанную на источниках (относительно рассматриваемого периода, с. 87–198; относительно его работ в Тобольске, с. 216–219).
(обратно)1012
Крижанич. Обличение Соловецкой челобитной (Крижанич. Собрание сочинений. III. С. 128).
(обратно)1013
2 Ин. 10: 11.
(обратно)1014
Материалы. I V. С. 288–289 (свидетельство Трофимова). Между прочим, Симеон ввел собственные новшества. Девушки должны были венчаться без фаты. Незамужние работницы должны были ходить простоволосыми. Он высказал относительно Пресуществления какое-то смущающее многих мнение. Все это позволяет чувствовать произвол и непоследовательность нововведений, предпринятых епископами, а также и тот хаос, который был их результатом.
(обратно)1015
Русская старина. 1894. № 3. С. 225, 223–224; РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 582.
(обратно)1016
Аввакум рассказывает это происшествие в своей челобитной [первой] к царю от 1664 г. (см.: РИБ. Т. 39. Стб. 723–724). Ввиду того, что он не говорит, что он там присутствовал, более вероятно, что ему об этом сообщили.
(обратно)1017
Житие. Л. 239 об. – 240.
(обратно)1018
Каптерев. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. I. С. 151–152.
(обратно)1019
Прибыв 2 февраля 1655 г. (ЧОИДР. 1898. III. С. 1), Макарий окончательно покинул Москву только 29 мая 1656 г. (Павел Алеппский. IV. С. 182). Он сделал это после того, как принимал участие во всех решениях Никона. Его сын Павел Алеппский приписывает инициативу обычно ему; по Каптереву же получается, что Никон только выполнял реформу, желаемую царем и его духовником Стефаном, лишь принимает их предписания. Мне кажется, скорее, что Никон, независимо от того, был ли он согласен с царем, а также и со Стефаном, первым проявлял инициативу. Макарий же настаивал на своем, и, гордясь тем, что у него спрашивают советов, и не имея, с другой стороны, никаких оснований уважать русские традиции, обхаживал Никона, и находил все новые и новые поводы для внесения исправлений.
(обратно)1020
Гавриил прибыл в Москву 28 мая 1654 г. (Макарий. История русской церкви. XII. С. 166).
(обратно)1021
Павел Алеппский. III. С. 136–137.
(обратно)1022
Союз «а» означает «но». Это заставило старообрядческих исповедников позднее говорить: «Умрем за единый “аз”».
(обратно)1023
Этот Евхологий был найден в библиотеке Синодальной типографии С. А. Белокуровым (ЧОИДР. 1885. IV. С. XXIX–XXXIV). Три рукописных Евхология, привезенных с Афона Арсением Сухановым, не могли быть использованы ввиду того, что они были привезены только 22 февраля. Сличение их с напечатанным Служебником, между прочим, удостоверяет это (Белокуров. Арсений Суханов. I. С. 416–419).
(обратно)1024
Там же. Прим. 87. Научное сличение изданий, выпущенных до и после Никона, не сделано ни в отношении Служебника, ни в отношении других книг. Одна из причин тому – это трудность собрать нужные экземпляры. Без такого тщательного изучения материалов трудно проследить все этапы реформы. [В последнее время этот пробел восполняется. См., например, работы: Сиромаха В. Г., Успенский Б. А. Кавычные книги 50-х гг. XVII в. // Археографический ежегодник за 1986 г. М., 1987. С. 75–84; Агеева Е. А. Требник 1658 г.: история издания // Патриарх Никон и его время. М., 2004. С. 174–188 (Труды ГИМ. Вып. 139); Вознесенский А. В. К истории дониконовской и никоновской книжной справы // Там же. С. 143–162. – Прим. ред.]
(обратно)1025
Павел Алеппский. IV С. 117, 169. Сохранилось предписание Ионы, митрополита Ростовского, обнародовавшего эту реформу (ЧОИДР. 1906. I. С. 472–473).
(обратно)1026
Павел Алеппский. IV. С. 105–108.
(обратно)1027
Скрижаль. Дополнение, без пагинации.
(обратно)1028
Прибыл в Москву 27 июня 1655 г. (Макарий. История русской церкви. XII. С. 190., прим. 113).
(обратно)1029
Скрижаль. Л. 10 об. – 11 об. Павел Алеппский ничего об этом не говорит (Павел Алеппский. IV. С. 148).
(обратно)1030
Скрижаль. Л. 9 об. – 10. У Павла Алеппского имеется только намек на это (Павел Алеппский. IV. С. 153).
(обратно)1031
Относительно этой книги см. выше, глава VII.
(обратно)1032
Скрижаль. Л. 1–21.
(обратно)1033
Материалы. IV С. 10.
(обратно)1034
ГИМ. Синодальное собр. № 477, печатное добавление. Л. 1–44.
(обратно)1035
Христианское чтение. 1911. I. С. 627–643.
(обратно)1036
См. подлинный текст: Христианское чтение 1881, I. С. 302–353, 539–595; ср.: Там же. II. С. 405–430. В Скрижали Неронов назван вместо Исайи, в статье 25 изложение противоречит тому, что говорится по-гречески; статья 26 умалчивает о коленопреклонениях, сопровождающих молитву св. Ефрема Сирина.
(обратно)1037
Приложение, вероятно вызванное спорами Арсения Суханова (см. выше). [В обоснование именословного благословения в Скрижали помещено слово Николая Малаксы. См.: Скрижаль. М., 1656. Без пагинации, между с. 817–818. – Прим. ред.]
(обратно)1038
Все эти новшества старообрядцы не преминули отметить, в частности, это сделал Никита Добрынин в пространной челобитной. См.: Материалы. IV. С. 4–12.
(обратно)1039
РИБ. XII. Стб. 300–301 (до 1658, в Устюг). Во время Смоленской кампании царь поручает одному из своих воевод совершать церковную службу «единогласием», ибо противное могло повлечь за собой поражение.
(обратно)1040
Вологодские губернские ведомости. 1864. № 32. 1839. № 33 (1657 г., район Устюга и Сольвычегодска).
(обратно)1041
В 1655 г. отбирают у В. Придо, посланника Кромвеля, его русского повара (Lubimenko. P. 215). В 1656 г. был произведен обыск в шведском посольстве, ибо гоф-юнкеры взяли себе в услужение русских (Форстен. Сношения Швеции и России. С. 262).
(обратно)1042
Павел Алеппский. IV. С. 135–137.
(обратно)1043
Барсов. Новые материалы. С. 3–13. [См. также: Документы Разрядного, Посольского, Новгородского и Тайного приказов о раскольниках в городах России. 1654–1684 гг. / Сост. В. С. Румянцева. М., 1990. С. 29–58. – Прим. ред.]
(обратно)1044
Материалы. I. С. 137–143. Единственное обстоятельство, делающее сомнительным тождественность Силы и Алексея, товарищей Неронова, с ростовскими обвиненными, то, что нигде в процессе этих последних не упоминается их прошлое.
(обратно)1045
Этот церковный чин известен нам благодаря трем источникам: ГИМ Синодальное собр. № 93. Л. 65 об. – 67 об.; Павел Алеппский. IV. С. 178–179 (он утверждает, что Неронов скрывался некоторое время в Москве); Голубцов. Чиновники московского Успенского собора. С. 261–262. Приговор Собора напечатан: Материалы. I. С. 124–133.
(обратно)1046
ЧОИДР. 1906. I. С. 473 (грамота архимандриту Кирилло-Белозерского монастыря Митрофану).
(обратно)1047
РИБ. XII. Стб. 292–294 (письмо Ионы Ростовского в Устюг, между 26 августа и 1 сентября 1656 г.). Подтверждение этому см.: Материалы. I. С. 144.
(обратно)1048
В 1657–1658 гг. наблюдалось интересное явление мятежа: крестьяне Московского воеводства начали грабить и поджигать крупные владения, убивали помещиков и их семьи и убегали в Нижний, Арзамас, Алатырь. В Нижегородской земле крестьяне также нападали и грабили большие имения и убегали в Казань и еще дальше на Восток. Царь дал приказ нижегородским воеводам разыскивать и сечь беглецов, вешать поджигателей и убийц (ПСЗРИ. I. № 220. 15 февраля 1658 г.).
(обратно)1049
Может быть, имелись сведения также о его смерти, которая обычно приурочивается к 3 апреля 1656 года.
(обратно)1050
Павел Алеппский свидетельствует об этом, указывая на собор 1655 г. (Павел Алеппский. III. С. 171). День, когда Никон надел на себя греческую митру, говорит он, возбудил против него всех присутствовавших епископов, настоятелей монастырей, священников и мирян; этот акт вызвал сильный ропот против него. Народ гневался на него за это, впрочем, втайне опасаясь царя (Павел Алеппский. IV. С. 108).
(обратно)1051
Архимандрит Спасо-Каменного монастыря был рукоположен 3 июня 1655 г. в день Пятидесятницы (Павел Алеппский. IV. С. 18–20). Он был рукоположен, может быть, за свои способности, а может быть, и в награду за донос, который он в минуту плохого настроения сделал против Неронова.
(обратно)1052
Петров. Описание рукописных собраний, находящихся в Киеве. I. С. 101 (№ 58. Л. 53).
(обратно)1053
Письма русских государей. С. 305; Материалы. I. С. 158–159.
(обратно)1054
Материалы. I. С. 146–156.
(обратно)1055
Там же. С. 157.
(обратно)1056
Там же. С. 162–163 (21 января 1658 г.). Также 1 марта 1658 г. в Иверском монастыре, находившемся непосредственно в ведении Никона, появился Часослов, отредактированный по старым образцам, где в «Верую», например, сохранилось слово «истинный» в отношении к Св. Духу (Материалы. VI. С. 150; Христианское чтение. 1890. II. Приложение. С. 278–279).
(обратно)1057
Окончательно царь возвратился в Москву 14 января 1657 г.
(обратно)1058
Неронов жил то в Москве, видясь запросто с царем и Никоном, а также с Питиримом, Ртищевым, проповедуя в Казанском соборе, то в своей Игнатьевой пустыни (Материалы. I. С. 159–166, 287–289).
(обратно)1059
Было бы ошибочно преувеличивать, как это делает Н. Ф. Каптерев, охлаждение Никона в эту эпоху к своим реформам. Так, в это самое время он придумал внести в Требник обычай вносить новорожденных в церковь, хотя все иерархи протестовали против того, чтобы вносили в церковь и на паперть некрещеного новорожденного. В продолжении трех дней его умоляли не вводить этого обряда, но он держался своего и приказал напечатать так, как он хотел, вопреки тому, что было в прежних Требниках (ГИМ. Синодальное собр. № 294. Л. 125. См. также: Горский, Невоструев. II. 3). (Однако, кажется, вопреки рассказу епископа Александра, Никон затем дал себя склонить к пересмотру этого, так как в Требнике 1658 г., л. 7–11, указано, что младенец вносится в церковь на самый амвон, если это мальчик, и лишь до Царских врат, если это девочка, но только на сороковой день; следовательно, после крещения и после очищения матери.)
(обратно)1060
Требник 1658 г. С. 538–540. Между прочим, этот текст был заимствован с греческого (Синайский Евхологий. С. 779–780). Относительно этого текста см. Arnaud L. Echos d’Orient. 1909, juillet. P. 201; 1913, mars – avril. P. 123–133.
(обратно)1061
Требник 1658 г. С. 42. Иеромонах Филарет (Филарет. Опыт сличения. С. 29–30) уверяет, что эта редакция была уже во многих старых рукописях и в Требнике, изданном в Стрятине в 1606 г.
(обратно)1062
Зернова. С. 87. № 280. – Прим. ред.
(обратно)1063
Барсков. С. 229–230 (Житие Епифания).
(обратно)1064
Сочинение о крестном знамении было опубликовано Н. К. Никольским (Никольский. Сочинения соловецкого инока Герасима Фирсова. СПб., 1916. ПДПИ. Вып. 188. С. 145–196). Там же имеются указания относительно даты написания этой работы и откликов на нее, с. XVII–XIX.
(обратно)1065
Этот Служебник был отпечатан в сентябре 1655–1656 гг., надолго был задержан в Новгороде, прежде чем его распределили, затем появился в Холмогорах 30 августа 1657 г. и был передан за плату настоятелю Соловецкого монастырского подворья, который отправил книги только 8 октября (Сырцов. С. 47). Этот пример показывает сроки, в которые реформа могла распространиться.
(обратно)1066
Сырцов. С. 19, 47 и след.; Материалы. III. С. 10 и след.
(обратно)1067
Гиббенет. I. С. 26–33.
(обратно)1068
Гиббенет. I. С. 34–51.
(обратно)1069
Питирим, назначенный архимандритом в суздальский Спасо-Евфимиев монастырь в 1650 г., т. е., следовательно, кружком боголюбцев, был переведен в Новоспасский монастырь и посвящен в сан митрополита 12 августа 1655 г. (Христианское чтение. 1890. II. С. 489).
(обратно)1070
Челобитная напечатана: Материалы. I. С. 167–179. Дата и обстоятельства ее вручения сообщены в нескольких строчках (вероятно, они написаны Феоктистом), которые предшествуют самому документу в рукописном сборнике № 10, л. 147, из собрания Рахманова (опубликованы Петром Власовым в «Голосе Церкви». 1918. № 4. С. 202–203).
(обратно)1071
Дело о патриархе Никоне. С. 62–63, 72–87; Гиббенет. I. С. 66, 203–220; Каптерев. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. II. С. 256–267.
(обратно)1072
Оглоблин. Дело о самовольном приезде в Москву. C. 182.
(обратно)1073
Записки отделения русской и славянской археологии Русского археологического общества. II. С. 532–553.
(обратно)1074
Ответы епископов сведены в письме Неронова: Материалы. I. С. 182–188.
(обратно)1075
СГГД. IV. № 28. Лигарид прибыл в Москву 12 февраля 1662 г.
(обратно)1076
Александр Вятский передал свой ответ царю 8 июня; Макарий Новгородский – 13 октября.
(обратно)1077
В действительности же пес был выдрессирован протягивать лапы, чтобы просить еду; только после того как Никон порвал с царем, Стрешнев сказал, что эта повадка была «Никоновым благословением» (Письмо Александра Вятского. – ГИМ. Собр. Уварова. № 147. Л. 30–32 об.).
(обратно)1078
Гиббенет. II. С. 518–550. М. В. Зызыкин предполагает, что вопросы и ответы были делом рук самого Лигарида (Зызыкин. С. 207).
(обратно)1079
Дневальные записки Приказа тайных дел. С. 162.
(обратно)1080
Гиббенет. I. С. 561–580 (22–26 декабря 1662 г.).
(обратно)1081
Там же. С. 245–246 (23 декабря 1662 г.).
(обратно)1082
Там же. С. 585–589 (указ от 29 декабря 1662 г.).
(обратно)1083
Каптерев. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. II. С. 311–315 (текст письма от 23 июля).
(обратно)1084
Можно прочесть этот громадный трактат Никона в переводе на английский язык у Пальмера (Palmer W. The Patriarch and the Tsar. I). По-русски имеются только выдержки. Разбор этого сочинения см.: Макарий. История русской церкви. XII. С. 390–433; Каптерев. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. II. С. 181–201.
(обратно)1085
Гиббенет. II. С. 492–493 (июль 1659 г.).
(обратно)1086
Относительно изданий этих годов см.: Белокуров. Арсений Суханов. I. С. 433–434 и Приложения: V. С. CXIX–CXXII. [См. также: Зернова. С. 87–93. № 281–306. – Прим. ред.]
(обратно)1087
РИБ. Т. 39. Стб. 751.
(обратно)1088
Каптерев. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. II. С. 370–373.
(обратно)1089
Библия сделалась очень редкой книгой: редки были как рукописные списки, так и Острожское печатное издание. Она даже отсутствовала на Печатном дворе. Поэтому царь повелел не дать хода проекту Епифания, именно: выпустить пересмотренное издание, – и перепечатать как можно скорее Острожскую Библию. Предисловие намекает на тех, кто готов всегда сказать: «Старое лучше нового». Оно кончается тем, что приводятся некоторые примеры исправлений слов, а также орфографии, внесенных иногда в самом тексте, иногда на полях.
(обратно)1090
Румянцев И. Никита Константинов Добрынин. С. 139–142.
(обратно)1091
Материалы. I. С. 166 (в 1659 г.).
(обратно)1092
Описание актов собрания гр. А. С. Уварова. № 554. С. 360. Челобитная 1659 г. известна лишь постольку, поскольку об этом сообщил Третьяк в своей второй челобитной 1660 года. С другой стороны, в 1659 г. несколько ссыльных также были возвращены из Соловков (Белокуров. Библиотека и архив Соловецкого монастыря. С. 73), но ничто не подтверждает, что они были туда высланы именно из-за их оппозиции реформам.
(обратно)1093
Румянцев И. Никита Константинов Добрынин. С. 100–105.
(обратно)1094
Там же. С. 108–124.
(обратно)1095
Материалы. I. С. 471–479.
(обратно)1096
Описание актов собрания гр. А. С. Уварова. II. С. 360–361. № 556.
(обратно)1097
Надо думать, Аввакум получил извещение о возвращении в Иргенском остроге, в то же самое время, как и Пашков, в мае 1662 г. Расстояние между Иргенским острогом и Москвой требовало для путешествия целого года времени. В том же 1661 г. Симеон должен был прибыть в Москву в январе (8 января он писал царю из Ярославля).
(обратно)1098
См. выше раздел II настоящей главы.
(обратно)1099
Белокуров. Арсений Суханов. I. С. 433.
(обратно)1100
ГИМ. Синодальное собр. № V. Л. 70–174. Конец памятной записки отсутствует.
(обратно)1101
Сырцов. С. 39–40, 80. В документе от 4 ноября 1659 г. также упоминается, что он находился в Саввино-Сторожевском монастыре (ЧОИДР. 1909. IV. С. 44).
(обратно)1102
Письмо Неронова по сборнику № 10 собрания Рахманова напечатано П. Власовым: Голос Церкви. 1918. № 4. С. 203–205.
(обратно)1103
Материалы для истории Крестовоздвиженского Бизюкова монастыря, собранные Н. А. Поповым / С предисл. А. А. Голомбиовского // ЧОИДР. 1892. II. Отд. I. С. 1–45 (Сергий назван на с. 6, 24, 34).
(обратно)1104
Материалы. VI. С. 230–232 (письмо дьякона Федора к сыну Максиму).
(обратно)1105
Там же. С. 230.
(обратно)1106
Там же. С. 79.
(обратно)1107
Так он назван Нероновым 25 октября 1661 г.
(обратно)1108
П. С. Смирнов, приводя хронологические данные относительно составления этих двух проповедей, датирует их все до 1658 г. Но Потемкин, с другой стороны, упоминает новый Требник, появившийся только 10 декабря 1658 г., и ссылается даже на поправку, внесенную туда впоследствии. Похоже, сборник был написан в 1660 г.
(обратно)1109
Труды Спиридона Потемкина остались неизданными (Дружинин. Писания. С. 231–236). Я пользовался сборником: ГИМ. Собр. Щукина. № 399. Можно прочесть разбор «Слов» и найти довольно большие извлечения из них у А. К. Бороздина (Бороздин. С. 97–104).
(обратно)1110
Сырцов. С. 64.
(обратно)1111
Материалы. III. С. 13; Сырцов. С. 116–118.
(обратно)1112
Материалы. III. С. 42; Сырцов. С. 135–136.
(обратно)1113
Архив Министерства Юстиции (ныне в РГАДА). Московский стол. Кн. 365. Л. 29–33.
(обратно)1114
Царская грамота новгородскому воеводе Григорию Куракину от 10 марта 1660 г. (ААЭ. IV. № 115. С. 160–162); список грамоты найден в Клименцах в Заонежье (Барсов. Онежский монастырь Клименцы. С. 57).
(обратно)1115
Нет никакого документа, говорящего о пребывании Павла Коломенского в Палеостровском монастыре. Об этом известно только по устному преданию. Там он якобы свободно учил население (Филиппов. История Выговской старообрядческой пустыни. С. 78–79), советуя верующим не принимать священников, рукоположенных Никоном, так же как и их крещения (ЧОИДР 1905. II. С. 41–46). После этого он, по-видимому, был сослан в Хутынский монастырь, в Новгород; пребывание здесь подтверждено царем на Соборе 1666 г. (Макарий. История русской церкви. XII. С. 710). Но он, видимо, бежал оттуда, изображая юродивого Христа ради, прошел по Новгородской земле и умер или был сожжен (Материалы. VI. С. 196, письмо дьякона Федора) или утоплен (выражение на Соборе 1666 г., где было сказано «лишился рассудка»; См.: Дело о патриархе Никоне. С. 450) 3 апреля 1656 г. Во всяком случае, память о нем сохранялась в этой местности до конца XVII века, став совершенно легендарной историей; его имени было суждено оправдывать ту или иную точку зрения на актуальные проблемы (Смирнов. Внутренние вопросы. С. 048–052).
(обратно)1116
Существует Житие инока Кирилла, написанное в середине XVIII в., однако, вполне достоверное (Дружинин. Писания. С. 180; Смирнов. Внутренние вопросы. С. CXVII–CXIX).
(обратно)1117
Это описано в Житии Епифания, написанном им самим около 1675 г. Оно было напечатано Бороздиным (Христианское чтение. 1889. I. С. 211–240) и Барсковым (С. 229–262), но оригинал, обнаруженный в Пустозерском сборнике, не был ни воспроизведен, ни сличен с другими текстами. См.: Смирнов. Внутренние вопросы. С. XC–XCI; Барсков. С. 389–392. Относительно рукописей см.: Дружинин. Писания. С. 169.
(обратно)1118
Мы знаем Корнилия только по его Житию, написанному одним из его учеников в 1723–1731 гг. Оно грешит хронологическими ошибками, как и ошибками другого рода. Поэтому очень трудно отличить легенду от истины (Дружинин. Писания. С. 181–182; Смирнов. Внутренние вопросы. С. CXIV–CXVI). Оно было напечатано в сокращенном виде С. В. Максимовым: Максимов. Рассказы из истории старообрядства. С. 5–38.
(обратно)1119
Барсков. С. 243–245 (Житие Епифания).
(обратно)1120
Материалы. VI. С. 229–230 (послание дьякона Федора сыну Максиму). Симеон был настоятелем Александро-Свирского монастыря с 1650 г. (Строев. Списки иерархов. Стб. 992); ранее он был казначеем в Чудовом монастыре в Москве (ЛЗАК. III. Материалы. С. 16).
(обратно)1121
Строев. Списки иерархов. Стб. 62, 94.
(обратно)1122
Досифей – это один из видных, но менее известных деятелей начала движения за старую веру. См.: Смирнов. Внутренние вопросы. С. XXIV и след., прим. 38; Православная богословская энциклопедия. 1904. V. С. 28–30.
(обратно)1123
Эпизод, рассказанный в Житии Корнилия, подтверждает это, хотя определить его дату невозможно (Максимов. Рассказы из истории старообрядства. С. 20–21).
(обратно)1124
Дружинин. Раскол на Дону. С. 69–70.
(обратно)1125
Показания Сергия на допросе 1 июня 1666 г. (ГИМ. Синодальное собр. свитков. № 1161).
(обратно)1126
Строев упоминает о его пребывании в Болдине в 1660 г. (Строев. Списки иерархов. Стб. 597).
(обратно)1127
Эти сведения сообщены Ефремом на допросе 30 апреля 1666 г. (ГИМ. Синодальное собр. свитков. № 1143). Предание старообрядцев, рассказанное П. Мельниковым в его «Исторических очерках поповщины» (Полное собрание сочинений. VII. С. 35. прим. 2), приписывает основание первого скита на Керженце, Смольяны, близ Семенова, Сергию Салтыкову, Ефрему Потемкину и другим уроженцам Смоленщины и Бизюкова и приурочивает его к 1656 г. Эта дата, по меньшей мере, не точна. Я исследовал труды Ефрема Потемкина в статье «Mélanges Legras».
(обратно)1128
ДАИ. I V. С. 243. № 99.
(обратно)1129
Житие. Л. 277 об.
(обратно)1130
Там же. Л. 282–282 об.
(обратно)1131
Житие. Л. 238.
(обратно)1132
Степановский. Вологодская старина. С. 152; Шляпин. Житие праведного Прокопия Устюжского чудотворца. С. 65. Ги Миеж, секретарь английского посла Карлейля, прибывшего из Архангельска в Москву в 1663 г., сказал: «Устюг – самый прекрасный город, который мы видели в продолжение нашего пути» (Донесение трех послов. С. 32).
(обратно)1133
Известия имп. Археологической комиссии. 1917. Т. 64. С. 5–6.
(обратно)1134
Там же. С. 17–18.
(обратно)1135
Там же. С. 9.
(обратно)1136
РИБ. XII. Стб. 232–233, 370, 373–383, 391. Собор был закончен только в 1686 г. (РИБ. XIV. Стб. 978). Относительно Потоцкого см.: Древности. Труды имп. Московского Археологического общества. 1916. XXV. С. 192 и след.
(обратно)1137
Степановский. Вологодская старина. С. 269–270; Строев. Списки иерархов. Стб. 782, 784, 777.
(обратно)1138
1 Кор. 3: 18; 1: 25; 4: 10; 4: 13.
(обратно)1139
Кузнецов. Юродство и столпничество. СПб., 1913, с библиографией, между прочим, очень недостаточной в отношении как истории, так и психологии. См. статьи: Gillet (Irenicon. 1927. 25 april. P. 14–19), Беленсона (Путь. 1927. Август. С. 89), Hilpisch (Zeitschrift für Askese und Mystik. 1931. VI. P. 121–131).
(обратно)1140
Житие. Л. 254–254 об. Относительно его происхождения см.: Там же. Редакция В. Л. 54–54 об.
(обратно)1141
Житие. Л. 238 об.
(обратно)1142
Об этом упомянул И. Е. Забелин: Забелин. Материалы для истории, археологии и статистики г. Москвы. I. Стб. 449 (в 1656–1669 гг.). Ср.: Материалы. I. С. 369 (в 1666 г.).
(обратно)1143
Козловский. Ф. М. Ртищев. С. 118 и след.; Форстен. Сношения Швеции и России // ЖМНП. 1898. Май. С. 89, прим.
(обратно)1144
Древняя российская вивлиофика. 2-е изд. Т. XVIII. С. 401–402.
(обратно)1145
Гиббенет. II. С. 89 (письмо Никона Ртищеву, конец 1663 г.).
(обратно)1146
Житие. Л. 238 об.
(обратно)1147
Житие. Л. 238 об. Первые месяцы 1664 года были полны военных церемоний и совещаний с английским послом Карлейлем (Garlisle).
(обратно)1148
Намек на замену «несть конца» на «не будет конца».
(обратно)1149
Челобитная и приложенная памятка (РИБ. Т. 39. Стб. 723–730, 701–704) сохранены в оригинале (ГИМ. Синодальное собр. свитков. № 1121 б). Они не датированы, но их содержание показывает, что они были написаны Аввакумом в Москве, вскоре после его возвращения, в феврале или марте 1664 г. Имеются также два различных варианта послания, один из которых можно датировать 1668–1669 годами по одной рукописи, принадлежавшей монаху Авраамию (ГИМ. Синодальное собр. № 641).
(обратно)1150
Мы были бы лучше осведомлены обо всем этом, если бы могли отыскать несколько писем царя Алексея к протопопу Аввакуму, которые, по заявлению П. И. Бартенева, он читал в Государственном архиве и которые, согласно ему, Н. А. Гиббенет «незадолго до своей смерти намеривался напечатать во втором издании своей работы о Никоне» (Русский архив. 1909. III. С. 143; 1911. III. С. 334, 356, прим.). В Московском древлехранилище, куда были переданы Государственные архивы, мне не удалось получить сведений об этих письмах, библиотечный шифр которых Бартенев, кстати сказать, не указывает.
(обратно)1151
Житие. Л. 238 об. – 239.
(обратно)1152
[См.:] Материалы. I. С. 402–403 (допросные речи дьякона Федора от 9 декабря 1665 года); Житие. Л. 244.
(обратно)1153
Алексей Михайлович в 1654 году подобным образом запретил Неронову ему писать; после того как Аввакум обратился к нему с новой челобитной, он его выслал.
(обратно)1154
Житие. Редакция В. Л. 34 об. – 35; РИБ. Т. 39. Стб. 922.
(обратно)1155
Житие. Л. 222 об.
(обратно)1156
Житие. Л. 226.
(обратно)1157
Житие. Л. 253.
(обратно)1158
Ксения была крещена до отъезда из Иргенского острога; в своем письме дьякон Федор (Барсков. С. 69: 27) упоминает ее после Акилины; откуда следует, что Акилина была старше.
(обратно)1159
Афанасий, который был крещен на Мезени (Житие. Л. 233).
(обратно)1160
Письмо дьякона Федора от 1 сентября 1669 г. (Барсков. С. 69: 25); в это время у Ивана была дочь Марья, которая как будто не была новорожденной, поскольку в своем письме Федор упоминает и ее. Марина, племянница, которую Аввакум взял с собой в Сибирь в 1653 году, больше нигде не упоминается.
(обратно)1161
Житие. Л. 274.
(обратно)1162
Житие. Л. 274 об. – 276.
(обратно)1163
Следы этого имеются в Житии.
(обратно)1164
Елена продолжала быть уставщицей в декабре 1664 года (Дело о патриархе Никоне. С. 134). Но когда новые книги появились и в Вознесенском монастыре, она перестала посещать службу и была замещена другой. См.: Калужские епархиальные ведомости. 1862. № 9. С. 142–144 (жалоба настоятельницы Мариамны царю).
(обратно)1165
Этот факт предшествует февралю 1664 года, то есть времени, когда Александр покинул Москву, следовательно, это было по прибытии Аввакума. Он упоминает об этом в своей челобитной к царю от ноября 1664 года (РИБ. Т. 39. Стб. 751).
(обратно)1166
Материалы. I. С. 479; Забелин. Материалы для истории, археологии и статистики. г. Москвы. I. Стб. 630 (имеется в виду церковь Введения в Барашах на Покровке).
(обратно)1167
Материалы. I. С. 482–483.
(обратно)1168
Варлаам, архим. О пребывании патриарха Никона в заточении в Ферапонтове и Кириллове монастырях // ЧОИДР. 1858. III. С. 148–149, прим. Дело Ивана Фокина упомянуто: АИ. V. Стб. 480. № 263. Забелин нашел его имя в Введенском соборе, где он упоминается в составе клира вплоть до 1671 года (Забелин. Материалы для истории, археологии и статистики г. Москвы. I. Стб. 630). Этот год был, вероятно, годом его смерти, ибо дьякон Федор повествует в одном письме о его жалком конце и говорит там относительно «казни Божии новым отступникам»; письмо это датируется концом 1677 года. «Барашевский поп Иван Фокин растерзан удицею Божиею, яко Арий, жив, и чревом вся внутренняя его вон изыде, и от того тако и скончался» (Материалы. VI. С. 253).
(обратно)1169
Материалы. I. С. 482.
(обратно)1170
В добавлениях к «Преням с греками» Арсения Суханова (1665) Григорий упоминается в связи с Иваном Фокиным (Белокуров. Арсений Суханов. II. С. 151–152). Он упоминается как находящий в церкви св. Марии Египетской с 1664 по 1680 год (Забелин. Материалы для истории, археологии и статистики г. Москвы. I. Стб. 465); в 1668 году он упоминается также в надписи на кресте, пожертвованном им в церковь богоугодных заведений на Пречистенке (Скворцов Н. Московская церковная старина. 1904. I. С. 3); упоминается он также в 1669 г. (РИБ. XXIII. Стб. 1050).
(обратно)1171
Белокуров. Арсений Суханов. II. С. 152.
(обратно)1172
РИБ. Т. 39. Стб. 908 (письмо Феоктисту, конец 1664 г.).
(обратно)1173
РИБ. Т. 39. Стб. 850, 940. К сожалению, трудно с точностью выявить, кто был этот Козма и где была его церковь. Здесь речь отнюдь не идет о Козме, уехавшем в 1668 году в Стародуб, ибо друг Аввакума находился Москве еще при царе Федоре. Некий Козма Иович находился в это время (в 1662–1678 гг.) в монастыре на Лыщиковой горе; но, рукоположенный в 1663 году (Невоструев. Запись о ставленниках московских церквей. С. 52), мог ли он пользоваться доверием Аввакума? Упоминается еще некий поп Козма в Козмодемьянской церкви, который преследовался Патриаршим разрядом за то, что «произнес безумные речи» (РГАДА. Государственный архив. Разряд XXVII. Д. 364. I. Л. 233), но он с отрезанным языком был выслан в Симбирск (РИБ. XXI. Стб. 341–342). Можно найти и других лиц под именем «Козма»; между прочим, один Козма был в церкви св. Николы на Мясницкой в 1646–1683 гг. (Забелин. Материалы для истории, археологии и статистики г. Москвы. I. Стб. 1047), который подходит по всем датам, но в иных отношениях не подходит.
(обратно)1174
Материалы. I. С. 481 (слова Саввы Семенова садовнику Фоме Данилову 24 августа 1664 года).
(обратно)1175
РИБ. Т. 39. Стб. 909. Он отсоветовал Феоктисту ходить в Никольскую церковь из боязни, что никониане «его удавят»; захотел ли бы Феоктист поступить туда, если бы это не было обычным местом свидания друзей Аввакума?
(обратно)1176
Имеются два письма Аввакума к Исидору (РИБ. Т. 39. Стб. 939–946), написанные после 1676 года, и одно к Стефану (РИБ. Т. 39. Стб. 909), написанное до 1670 года. Аввакум, по всем данным, знал их лично; это знакомство могло иметь место только в 1664 году. Акиндин писал Аввакуму в 1669 году (Барсков. С. 40).
(обратно)1177
Барсков. С. 35: 8–10; 71: 21.
(обратно)1178
Материалы. I. С. 404–406 (допросные речи Федора 13 декабря 1665 г.); VI. С. 237–238 (послание Федора сыну Максиму).
(обратно)1179
Материалы. I. С. 400.
(обратно)1180
Материалы. VI. С. 18, 33–34 (1666 г).
(обратно)1181
Относительно Федора имеется следующее: очень обстоятельная биография неизвестного автора (Из истории русского раскола: Диакон Федор, его сочинения и учение // Православный собеседник. 1859. II. № 7. С. 314–346, № 8 С. 447–470); заметка Н. Т. в «Русском биографическом словаре» (РБС. СПб., 1913. Т.: Яблоновский-Фомин. С. 275–277); Извеков. С. 113–115. Главный источник – данные в томе VI Субботина (Материалы. VI); также см.: Барское и, наконец, писания Аввакума.
(обратно)1182
Материалы. VI. С. 126, 131.
(обратно)1183
Древние акты, относящиеся к истории Вятского края. С. 187–188. № 133. Александр не присутствует на соборе, созванном 21 февраля (ГИМ. Синодальное собр. свитков. № 1610).
(обратно)1184
Материалы. I. С. 307–398. В январе 1666 года в его келье нашли 87 рукописей (Материалы. I. С. 323–339), из которых некоторые существуют доныне, другие же, которые особенно осветили бы начало раскола, к сожалению, утрачены.
(обратно)1185
Павел Алеппский. IV С. 145.
(обратно)1186
Бороздин. С. 37 (текст Аввакума. Ср: РИБ. Т. 39. С. LXXXV).
(обратно)1187
Нижегородские губернские ведомости. 1849. № 33. С. 137.
(обратно)1188
РИБ. XXIII. Стб. 551.
(обратно)1189
Материалы. I. С. 397–398.
(обратно)1190
Житие. Л. 254 об. – 255.
(обратно)1191
Если бы Барсков не нашел одного письма Акиндина к Аввакуму, мы не знали бы имени этого священника. Сколько имен остаются еще неизвестными!
(обратно)1192
Материалы. I. С. 397–398.
(обратно)1193
Там же. I. С. 402.
(обратно)1194
РИБ. Т. 39. Стб. 908, 909.
(обратно)1195
РИБ. Т. 39. Стб. 419.
(обратно)1196
Барское. С. 52.
(обратно)1197
Показания Ивана сына Аввакума. Есипов. I. С. 120, 124.
(обратно)1198
РИБ. Т. 39. Стб. 419. См. челобитную Авраамия: ЛЗАК. VI. Отд. II. С. 23 (Материалы. VII. С. 262–263); Денисов С. Виноград Российский. Л. 35 об. – 36 об.
(обратно)1199
Житие. Л. 249; Шереметев. О князьях Хованских. С. 125–129.
(обратно)1200
Барское. С. 43–44.
(обратно)1201
РИБ. Т. 39. Стб. 947.
(обратно)1202
Там же. Стб. 927–928.
(обратно)1203
Житие. Л. 244 об.; Барское. С. 71, 300, 325.
(обратно)1204
Относительно Петра Урусова см.: Долгоруков П. Российская родословная книга. II. С. 27–28; Дополнения к тому 3-му Дворцовых разрядов, Приложение III. Стб. 32, 43, 53, 61, 114 и т. д.; Акты Московского государства. III. С. 357, 401.
(обратно)1205
РГАДА. Белгородский стол. Кн. 443. Л. 15–22; в 1648 году у Глеба Морозова было 1688 дворов (Древности. 1913. III. Стб. 203–204). Вероятно, что его богатство еще увеличилось с 1656 года до его смерти.
(обратно)1206
РИБ. Т. 39. Стб. 252.
(обратно)1207
Аввакум, десять лет спустя и именно в подобных выражениях, вспоминает ее блеск и прошлые заслуги (РИБ. Т. 39. Стб. 408–417).
(обратно)1208
Житие. Л. 244 об.
(обратно)1209
В 1629 году у Глеба Морозова был терем, расположенный совсем недалеко от Георгиевской церкви (РГАДА. Московский стол. Кн. 24. Ст. 36–37), на месте старого Университета. Позднее он переселился в хоромы своего брата Михаила, расположенные несколько севернее на границе приходов церквей св. Георгия и св. Леонтия Ростовского (Забелин. Материалы для истории, археологии и статистики г. Москвы. II. Стб. 80–83).
(обратно)1210
Аввакум часто говорит о княгине Урусовой как о лично ему знакомой (РИБ. Т. 39. Стб. 252, 392, 471, 924 и т. д.). Что касается ее дочерей Анастасии и Евдокии, см.: РИБ. Т. 39. Стб. 848, 849.
(обратно)1211
Иакинф Иванович Данилов со своим братом Денисом являлся и простым «жильцом» в полку Михаила Бутурлина, стоявшем в 1647 году в Новосили – Ливнах (РГАДА. Севский стол. Кн. 167. Л. 155); в июне 1660 года, будучи полуголовой рейтаров, он был послан князем Репниным из Смоленска в Москву, чтобы оправиться от ран (Акты Московского государства. III. С. 91). Но в октябре мы снова находим его в полку Ивана Андреевича Хованского (Там же. С. 195); 25 декабря он прибыл вместо Москвы в Полоцк литовским узником. Затем он был в плену у поляков и не был на Руси до сентября 1662 г. Таким образом, его жена часто оставалась в Москве одна. Аввакум в своем теплом отношении приобщает ее к двум сестрам – Морозовой и Урусовой (РИБ. Т. 39. Стб. 393–394).
(обратно)1212
Барсков. С. 52: 10–13; 301. Эти лица упоминаются в писаниях, составленных после 1664 года. Аввакум, по-видимому, хорошо знал их всех лично.
(обратно)1213
РИБ. Т. 39. Стб. 917.
(обратно)1214
Житие боярыни Морозовой. С. 149–151. Житие боярыни Морозовой, княгини Урусовой и Марии Даниловой, которое можно прочесть в многочисленных рукописных списках, из которых некоторые принадлежат XVII веку (Дружинин. Писания. С. 207–209), было написано вскоре после описанных событий (после 1682 года). Оно могло быть составлено одним из братьев Морозовой (Смирнов. Внутренние вопросы. С. XCI; Материалы. VIII. С. XIII–XV). Хронологически оно не точно, но представляет собой бесспорную историческую ценность. Это сочинение, от которого веет искренним чувством и которое соединяет церковнославянский книжный язык с русским обыденным разговорным языком, что роднит его с писательской манерой Аввакума. [В настоящее время доказано, что автором Жития боярыни Морозовой был ее старший брат Ф. П. Соковнин. См.: Понырко Н. В. О том, кто был автором Жития боярыни Морозовой // Житие протопопа Аввакума. Житие инока Епифания. Житие боярыни Морозовой / Изд. подг. Н. В. Понырко. СПб., 1994. С. 212–218. – Прим. ред.].
(обратно)1215
См., например, имена, цитированные Федором в его письме к Феоктисту и в его показаниях 1665 года, (Материалы. I. С. 397–406).
(обратно)1216
Барское. С. 71: 22.
(обратно)1217
Материалы. I. С. 484. Самойлов говорил, что он был сторожем Благовещенского собора с 1653 года. Извеков находит его имя, начиная только с 1658 года (Извеков. С. 96).
(обратно)1218
РИБ. Т. 39. Стб. 909–910. Неронов был в Москве до марта 1663 года и после октября 1664 года (Материалы. I. С. 205); есть данные о том, что в период между этими датами он иногда бывал в Москве.
(обратно)1219
Материалы. I. С. 340–341.
(обратно)1220
Барское. С. 70–71.
(обратно)1221
Материалы. I. С. 401.
(обратно)1222
Этот Антоний, от которого оставалась челобитная (Материалы. VIII. С. 113–130), одно письмо к Морозовой, одно «Показание» и «Покаянный свиток» (Материалы. I. С. 452–457), мало известен. Его жизнь можно восстановить следующим образом: он был архимандритом Спасо-Преображенского монастыря в Муроме с 1658 по 1662 год (Строев. Списки иерархов. Стб. 677); далее он снова призывается в Чудов монастырь, может быть, на место его прежнего служения, откуда он был с начала Пасхальной недели 1662 года вплоть до февраля 1663 года послан в миссию на Волгу; он преследуется с этого момента за анонимную челобитную, совпавшую с июльскими волнениями 1662 года; далее он был арестован и заключен в Москве на Мстиславском дворе, оттуда, «спустя больше года», он направил царю свою трогательную челобитную, призывающую к умиротворению Церкви; далее он был переведен в Рождественский монастырь во Владимире, где он сложил с себя сан в апреле 1666 года. Он говорил, что, будучи архимандритом, он служил по новым книгам; его челобитная, однако, говорит о нем как о стороннике старой веры. Он, вероятно, был обращен в новую веру на Мстиславском дворе через посредничество Ивана Трифонова.
(обратно)1223
Материалы. I. С. 338. № 86.
(обратно)1224
9 января 1664 года крымские татары осадили Брянск и сожгли Свенский монастырь (Евсеев. Описание рукописей, хранящихся в Орловском древлехранилище. С. 130).
(обратно)1225
Все эти писания, так же как и другие, были найдены у Феоктиста в январе 1666 года (Материалы. I. С. 323–339).
(обратно)1226
Соф. 1: 8.
(обратно)1227
Материалы. I. С. 484–485.
(обратно)1228
См. выше, гл. I.
(обратно)1229
Миловидов. Содержание рукописей, хранящихся в архивах Ипатьевского монастыря. I. С. 58.
(обратно)1230
Показания Вавилы, конец 1665 года (Барсков. С. 334).
(обратно)1231
Барсков. С. 329.
(обратно)1232
Перечисление это находится в одном документе того времени (Барсков. С. 332).
(обратно)1233
Сырцов. С. 84–85.
(обратно)1234
Каптерев. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. II. С. 199–201.
(обратно)1235
См. выше, главу VI.
(обратно)1236
Гиббенет. II. С. 183–184.
(обратно)1237
Если пересчитать по труду Голубинского имевшие место в тот период канонизации святых, то их окажется двадцать две между 1600 и 1653 годом и всего одна (в 1655 г.) между 1653 и 1690 годом (Голубинский. История канонизации святых. С. 120–133).
(обратно)1238
Материалы. I. С. 482.
(обратно)1239
Материалы. II. С. 7. Это были – согласно выражениям обвинителей – собственные слова Аввакума.
(обратно)1240
Позднее он вернулся в Россию, был помилован царем, но с трудом приспособился к московской жизни. Статья, которую Е. Лихач посвящает Ордину-Нащокину в «Русском биографическом словаре», представляет большой интерес (РБС. СПб., 1905. Т.: Обезьянинов-Очкин. С. 282–303).
(обратно)1241
Чарыков. Посольство в Рим. С. 2–3; Белокуров. О Посольском приказе. С. 45–46; Щепотьев. Ближний боярин А. С. Матвеев. С. 24 и след. (монография эта, между прочим, далеко не полная).
(обратно)1242
Платонов. Москва и Запад. С. 121.
(обратно)1243
Форстен. Сношения Швеции и России // ЖМНП. 1898. Май. С. 69.
(обратно)1244
Сборник МГАМИД. V. С. 239. См. также: Relation d’un voyage en Moscovie, d’Augustin baron de Mayerberg. 2 vol. Paris, 1858. XVII + 168 et 200 p.
(обратно)1245
Lubimenko. P. 236–242; см. также: La Relation de trois ambassades de Mr le comte de Carlisle. Paris, 1857. XXXI + 368 p.
(обратно)1246
Платонов. Москва и Запад. С. 128; Устрялов. Русское войско до Петра Великого. С. 59–62. // 105 Акты Московского государства. III. С. 388.
(обратно)1247
Сборник МГАМИД. V. С. 261; Заозерский. Царь Алексей Михайлович в своем хозяйстве. С. 260–261.
(обратно)1248
Донесения Карлейля. С. 73–77.
(обратно)1249
С 1659 по 1667 г. См.: Collins S. The Present State of Russia. London, 1667 (французский перевод: Париж, 1679).
(обратно)1250
Новомбергский Н. // ЖМНП. 1911. Март. С. 175.
(обратно)1251
Грабарь. История русского искусства. VI. С. 412–414; Réau L. L’art russe des origines à Pierre le Grand. Paris, 1921. P. 346–348.
(обратно)1252
Ostrogorskij. Les Décisions du Stoglav sur l’iconographie et les principes de l’iconographie byzantine // Orient et Byzance, études d’art médiéval sour la direction de G. Millet. T. IV. L’art byzantin cher les Slaves. Paris, 1930. P. 393; отд. изд.: Paris, 1931.
(обратно)1253
См. критику Андрея Плещеева, например, в письме к Аввакуму (Аввакум. Сочинения б. юрьевецкого протопопа Аввакума Петрова. С. 340–341).
(обратно)1254
Theatrum biblicum, hoc est historiae Veteris et Novi Testamenti tabulis aereis expressae. Amsterdam, 1650.
(обратно)1255
Первухин. Церковь Илии пророка. С. 19–20, 29. У Никона было 270 изображений «фряжского письма» (Переписная книга домовой казны патриарха Никона. С. 114).
(обратно)1256
Он уже был известен в это время, ибо в этом самом году (или даже в 1657 году) был вызван в Киржач Иваном Андреевичем Милославским, чтобы написать там икону Спасителя (Токмаков. Историко-статистическое описание г. Киржача. С. 22, 77). В 1657 году он был призван украсить кремлевский царский дворец. Эта работа продолжалась до 1660 года.
(обратно)1257
Успенский А. Царские иконописцы и живописцы XVII в. С. 323–331.
(обратно)1258
Древняя российская вивлиофика. III. С. 309–392. 10 февраля 1660 г. он обратился с поздравительной речью к Федору Ртищеву и 6 апреля – к Павлу, архимандриту Чудова монастыря.
(обратно)1259
Относительно жизни и деятельности Симеона Полоцкого см. интересные монографии Татарского (1886 г.) и Майкова (1880 г.).
(обратно)1260
Харлампович. Малороссийское влияние. С. 250–312.
(обратно)1261
Материалы. I. С. 199 (Неронов).
(обратно)1262
Заозерский. Царь Алексей Михайлович в своем хозяйстве. С. 260–261.
(обратно)1263
Материалы. II. С. 7–8, 81–82 (Деяния Собора 1666 г.). Сочинения, о которых идет речь, до нас не дошли, но упоминания о них находятся в описи бумаг, захваченных у Феоктиста (Материалы. I. С. 323–339). См. также: РИБ. Т. 39. Стб. 782 (воспоминание о споре относительно «Его же царствию не будет конца»).
(обратно)1264
Материалы. I. С. 199 (Неронов).
(обратно)1265
Павел Алеппский. III. С. 108. В Благовещенском соборе Стефан Вонифатьев был уже замещен Лукьяном Кирилловым до 29 мая 1656 года, окончательного отъезда Павла Алеппского из Москвы (Павел Алеппский. IV. С. 182).
(обратно)1266
РИБ Т. 39. Стб. 335–336.
(обратно)1267
Аввакум. Сочинения б. юрьевецкого протопопа Аввакума. С. 340–341.
(обратно)1268
РИБ. Т. 39. Стб. 282–284 (1673 (?) г.).
(обратно)1269
Речь идет об издании: Иоанн Златоуст. Беседы на 14 посланий апостола Павла. Киев, 1623. – Прим. ред.
(обратно)1270
Материалы. I. С. 485–490.
(обратно)1271
Бароний стал известен русским в середине XVII века благодаря своей «Книге о вере» [название основного труда Барония указано ошибочно. Речь идет о его «Церковной истории». – Прим. ред.]. Скоро по Руси распространился ряд переводов книги Барония или же отрывков из нее, по сокращенному изданию П. Скарги. Аввакум, конечно, знал эту единственную церковную историю: без сомнения, именно ее он цитирует много раз под заглавием «Латинская хроника» (РИБ. Т. 39. Стб. 276, 289, 694, 699). Книга Барония была напечатана в Москве по изданию Скарги в 1719 году, и старообрядцы, которые всегда сохраняли свое уважение к ней, переиздали это сочинение в 1913–1915 гг.
(обратно)1272
Св. Григорий Нисский – брат св. Василия Великого, а не св. Григория Назианзина. – Прим. переводчика.
(обратно)1273
Это сочинение было напечатано в 1916 году И. А. Кирилловым в книге «Правда старой веры» (С. 257–262), по тексту из сборника № 10 собрания Рахманова [современное местонахождение: РГБ. Рогожское собр. (ф. 247). № 667 – Прим. ред.]. Н. И. Субботин (Материалы. I. С. 485–490) воспроизводит два черновика, захваченных 30 августа 1664 г. у Андрея Самойлова, из которых первый написан рукой Аввакума (см.: РИБ. Т. 39. С. LXXVIV–LXXIX). [Цитата сверена по новейшему изданию: Демкова П. С. «Писанейце» протопопа Аввакума Феодору Михайловичу Ртищеву (конец июля – август 1664 г.) // Демкова П. С. Сочинения Аввакума и публицистическая литература раннего старообрядчества. СПб., 1998. С. 9–10. – Прим. ред.]
(обратно)1274
Сборник из собрания Рахманова № 10 может относиться к 1670–1680 годам.
(обратно)1275
Маргарит. Л. 109. Ср.: «Мысли» Паскаля: «Молчание – самое сильное гонение» (Brunschwig. P. 745).
(обратно)1276
Житие. Л. 245; Редакция В. Л. 46 об.
(обратно)1277
Материалы. I. С. 198–199. Это письмо было среди бумаг Феоктиста (Материалы. I. С. 335–336. № 60), но до нас оно не дошло.
(обратно)1278
Житие. Л. 244 об. – 245 об.; Редакция В. Л. 47–48. Упоминание архимандрита Павла позволяет датировать эти события временем до 21 августа, даты его посвящения в митрополита Крутицкого.
(обратно)1279
РИБ Т. 39. Стб. 751–754. Фраза: «Еда ли Питириму митрополиту не известно ли?» (Стб. 751) предполагает, что этот последний все еще был блюстителем патриаршего престола; однако 5 августа он был назначен новгородским митрополитом (ГИМ. Синодальное собр. № 424. Л. 283). Это позволило бы датировать письмо, если бы Питирим ушел с должности местоблюстителя. Однако факт этот сомнителен, ибо он оставался в Москве, а его преемник Иона вступил в должность только 2 декабря (ГИМ. Синодальное собр. № 424. Л. 285 об.).
(обратно)1280
Материалы. I. С. 198–199 (челобитная Неронова от 6 декабря 1664 г.); Житие. Редакция В. Л. 47 об.
(обратно)1281
Белокуров. Арсений Суханов. I. С. 334–335; Дворцовые разряды. III. Стб. 401; Дмитриев. С. 67–68; Викторов. Описание записных книг и бумаг. I. С. 218; Извеков. С. 123–124; Дневальные записки Приказа тайных дел. С. 43, 184, 190, 291; Дело о патриархе Никоне. С. 28; Христианское чтение. 1886. I. С. 593–619; ВОИДР. V. С. 65–83.
(обратно)1282
Материалы. VI. С. 233–234. Эти слова были произнесены в присутствии двух свидетелей, имена которых Федор приводит. См. также: Там же. С. 254.
(обратно)1283
Харлампович. Малороссийское влияние. С. 253–254.
(обратно)1284
Житие патр. Иоакима (Житие и завещание св. патриарха Московского Иоакима. С. 4) говорит: «…удалился с горя, ибо он потерял свою жену и четырех детей». Дьякон же Федор говорит, что он постригся, чтобы избежать насмешек своих товарищей, ибо жена ему изменяла (Материалы. VI. С. 226–227).
(обратно)1285
Относительно жизни Иоакима в Малороссии см.: Харлампович. Малороссийское влияние. С. 332–333.
(обратно)1286
Материалы. VI. С. 228–229.
(обратно)1287
Житие. Л. 246.
(обратно)1288
Выходы государей, царей и великих князей. С. 424.
(обратно)1289
Материалы. I. С. 484.
(обратно)1290
Материалы. I. С. 200.
(обратно)1291
Летопись Двинская. С. 17, 25, 27; Платонов. Очерки. С. 12. От древних Холмогор не осталось ничего. Современный городок Холмогоры (1350 жителей в 1911 г.) построен более чем на километр ниже по течению реки.
(обратно)1292
Житие. Л. 246.
(обратно)1293
Материалы. I. С. 480–490; РИБ. Т. 39. Стб. 909. 26 марта 1665 г. он был уже в Москве, вернувшись из ссылки (Материалы. I. С. 397), но нет уверенности в том, что Самойлов прибыл в Москву непосредственно из Холмогор, ибо в начале 1665 года Аввакум писал с Мезени, что Самойлов посылает поклоны своим друзьям москвичам.
(обратно)1294
РИБ. Т. 39. Стб. 753–754.
(обратно)1295
Материалы. I. С. 314 (письмо Феоктиста Морозовой от марта 1665 года).
(обратно)1296
Там же. С. 198–201; См.: Там же. С. 180, прим.
(обратно)1297
Таковы данные переписи 1677 г. (МАМЮ. Писцовая книга № 15055. Л. 186 и след.). В 1775 году обе слободы были объединены и образовали город Мезень (2750 жителей в 1811 году). Согласно С. В. Максимову (Максимов. Год на Севере. I. С. 2–4), «еще и сейчас город в жалком состоянии, даже худшем, чем любое местечко центральной России: дома готовы рухнуть, церкви полусгнили».
(обратно)1298
Эти цифры указаны Матвеевым в 1680 году в челобитной, в которой он, будучи также выслан, жалуется на то, что он меньше получает на свое содержание, чем жена и дети Аввакума (Матвеев. История о невинном заключении ближнего боярина А. С. Матвеева. С. 208).
(обратно)1299
Житие. Л. 233 об. Священнику возбранялось крестить своего собственного ребенка, за исключением случая отсутствия другого священника. Может быть, Аввакум считал священников никониан недостойными или же игнорировал попов, служивших в двух приходах Окладниковой слободы, в церкви Богоявления и церкви св. Климента. Но он мог служить обедню в одной из этих двух церквей, что позволяет предположить, что тамошние священники были к нему расположены.
(обратно)1300
Материалы. I. С. 192–198.
(обратно)1301
Там же. С. 397.
(обратно)1302
Воскресенский монастырь, построенный Никоном близ Москвы, с церковью, воспроизводящей Храм Гроба Господня в Иерусалиме. К тому же здесь находился и сам Никон.
(обратно)1303
РИБ. Т. 39. Стб. 907–910 (по копии с автографа, хранящейся в Синодальном собрании свитков [ГИМ. Синодальное собр. свитков. № 1119]).
(обратно)1304
Федор переслал это письмо 26 марта 1665 г. (Материалы. I. С. 399), что позволяет датировать его февралем 1665 года. Оно, как мы выяснили, находилось среди бумаг Феоктиста (Материалы. I. С. 335. № 59).
(обратно)1305
Материалы. I. С. 339–340 (показания Феоктиста 15 февраля 1664 г.).
(обратно)1306
Там же. С. 398–399.
(обратно)1307
Этот необыкновенный рассказ можно прочесть целиком в Житии. Редакция Б. Л. 71–74 об.
(обратно)1308
Житие. Л. 246 об.
(обратно)1309
Царь так сильно желал мира с Польшей, что послал в ноябре 1665 года к папе тайного посланника, чтобы испросить его посредничества (Форстен. Сношения Швеции и России // ЖМНП. 1898. Май. С. 103). Позднее заключение Андрусовского договора было ускорено из-за беспокойства, вызванного религиозной смутой (частное письмо от 4 января 1667 года, посланное в Англию: Lubimenko. P. 244. № 4).
(обратно)1310
Барское. С. 329–330.
(обратно)1311
Барсков. С. 331.
(обратно)1312
Форстен. Сношения Швеции и России // ЖМНП. 1898. Июнь. С. 334. Лилиенталь прибыл в Москву в июне 1665 года. Его интересовала русская религия. Он по просьбе Арно поручил Паисию Лигариду написать трактат о греческой и русской вере, а также относительно св. причастия. Этот материал в 1666 г. был включен в книгу «Пребывание во век католической веры».
(обратно)1313
Уже 1 января сотник из полка Лопухина подал в Москве донесение о расследовании (РИБ. XXIII. Стб. 694). 27 декабря Лопухин получил приказ специально допросить инокиню Евпраксию, влиятельную среди прочих монахинь (Барсков. С. 332). Приказ от 3 января 1666 года (РИБ. XXI. Стб. 1143).
(обратно)1314
Барсков. С. 79.
(обратно)1315
РИБ. XXIII. Стб. 698 (распоряжение Тайного приказа от 4 февраля 1664 года, отвезти Моисея в Трифоно-Печенгский монастырь).
(обратно)1316
Барсков. С. 332–334.
(обратно)1317
ГИМ. Синодальное собр. свитков. № 1143 (донесение Лопухина в Приказ тайных дел).
(обратно)1318
Согласно показанию Вавилы (Барсков. С. 334).
(обратно)1319
Барсков. С. 335.
(обратно)1320
См. ниже, глава XV. Евфросин. Отразительное писание. С. 22, 44 (ср. с. 125–128).
(обратно)1321
РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 1237. Л. 232 (назначить вышеупомянутым десяти заключенным четыре денги на день, до нового приказа). Они провели 1 октября в Казани, 15 октября в Макарьевом монастыре (Материалы. I V. С. 294–295).
(обратно)1322
Доментиан был священником Знаменской церкви в Тюмени (Материалы. I. С. 434); впоследствии он опять оказался в Сибири. Полиевкт Максимов был сыном попа Ржевского уезда и сам был также попом Торжокского уезда. Будучи арестован в 1652 году по поводу «анонимного послания», он был привезен в Москву 21 августа 1653 года, далее направлен в Тобольск, в распоряжение Симеона (РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 465. Л. 1–26). Если он и не был выслан из-за старой веры, то, во всяком случае, он стал ее сознательным защитником в Тобольске под влиянием Аввакума. Позднее он пострадал за старую веру в Боровске. Из десяти поименованных лиц о шести священнослужителях нет больше никаких сведений.
(обратно)1323
14 апреля 1666 г. пустозерский воевода был осведомлен об их предстоящем приезде (Материалы. I. С. 433–434).
(обратно)1324
Эта знаменитая челобитная Лазаря опубликована: Материалы. IV. С. 179–223.
(обратно)1325
Материалы. VI. С. 232–233; Материалы. I. С. 404.
(обратно)1326
Материалы. I. С. 400–403.
(обратно)1327
Там же. С. 403–406; Материалы. VI. С. 234.
(обратно)1328
Гиббенет. II. С. 792.
(обратно)1329
Румянцев. Никита Константинов Добрынин. С. 156–158.
(обратно)1330
Материалы. I. С. 320–321.
(обратно)1331
Там же. С. 339–344.
(обратно)1332
Материалы. I. С. 203–208.
(обратно)1333
Там же. С. 211–213.
(обратно)1334
Там же. С. 225–226.
(обратно)1335
Дело о патриархе Никоне. С. 168–198; Гиббенет. II. С. 114. Относительно Сысоя имеется дело на 6 листах в собрании Савваитова. (Собр Савваитова. С. 99. № 661).
(обратно)1336
Материалы. I. С. 226–231; см. также. с. 406–408.
(обратно)1337
Там же. С. 231–232, прим.
(обратно)1338
Белокуров. Библиотека и архив Соловецкого монастыря. С. 74. № 2679.
(обратно)1339
РИБ. Т. 39. Стб. 708.
(обратно)1340
Житие. Л. 246 об.
(обратно)1341
РИБ. Т. 39. Стб. 708.
(обратно)1342
Дневальные записки Приказа тайных дел. С. 210.
(обратно)1343
Малинин. Калуга. С. 190–194; Боровск. Материалы для истории города. С. 17 и след.; Зверинский. II. С. 261–264. № 1038. В 1648–1651 годах сюда выслали на покаяние Ивана Засецкого (РГАДА. Белгородский стол. Кн. 53. Л. 120–124).
(обратно)1344
Житие. Л. 246 об. – 247.
(обратно)1345
Деяния Собора 1666 г. Л. 8–8 об.
(обратно)1346
Эти заявления были напечатаны: Дело о партиархе Никоне. С. 250–263.
(обратно)1347
Дело о патриархе Никоне. С. 257–258. Трудно определить хронологический порядок обсуждения вопросов на соборе 1666 года, так как Деяния, отредактированные сразу же Симеоном Полоцким, не учитывают хронологического момента, что было доказано Каптеревым (Каптерев. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. II. С. 28–31) и Румянцевым (Румянцев. Никита Константинов Добрынин. С. 161–163). Заявление Александра не датировано, но можно полагать, что его дело было рассмотрено первым, ибо, выехав 9 февраля из Хлынова (старое название Вятки), он должен был приехать в Москву в конце месяца. Можно только задать себе вопрос, подчинился ли он до официального открытия собора или после, на одном из первых заседаний (на третьем, согласно Симеону Полоцкому).
(обратно)1348
Румянцев дает прекрасную оценку Большой Челобитной Никиты (Румянцев. Никита Константинов Добрынин. С. 329–338), сопровождая ее критическим анализом одного пункта за другим (С. 338–481). Самый текст был напечатан первоначально Субботиным (Материалы. IV. С. 1–178) и затем правильнее Румянцевым (Румянцев. Никита Константинов Добрынин. Приложения. С. 153–248, 326–382).
(обратно)1349
Деяния Собора 1666 года. Л. 16–19 (Заседание V).
(обратно)1350
Относительно всего процесса Никиты см.: Румянцев. Никита Константинов Добрынин. С. 168–183.
(обратно)1351
Материалы. VI. С. 236.
(обратно)1352
Материалы. I. С. 405.
(обратно)1353
Там же. С. 408–413 (подлинные протоколы сохранились в Синодальном собрании свитков (ГИМ).
(обратно)1354
Материалы. VI. С. 1–21 (подлинник находится в Синодальном собрании свитков).
(обратно)1355
См.: Материалы. I. С. 413–416. Приговор, вынесенный Федору (ср. Деяния собора 1666 года. Л. 22–23, заседание VI).
(обратно)1356
Деяния собора 1666 года. Л. 16–16 об., заседание. I V. Ввиду того, что отлучение было произнесено во время обедни, 13 мая, прения не могли состояться в тот же день, тем более что это было воскресенье. С другой стороны, из Жития (л. 247) вытекает, так же как и из других материалов (РИБ. Т. 39. Стб. 708), что Аввакум был привезен из Пафнутьева монастыря только для суда на соборе. Поэтому надо допустить следующее: 11 мая был суд над Федором; 12 мая состоялись суд и осуждение Аввакума; 13 мая – произнесли отлучения.
(обратно)1357
Житие. Л. 209.
(обратно)1358
Там же. Л. 247 об.
(обратно)1359
Материалы. VI. С. 221; Материалы. I. С. 422.
(обратно)1360
Автор Екклесиаста. [Автор не вполне точен в изложении мысли дьякона Федора: «А толкуют, государь, нам: того де ради мы приложили иже ко Иисусу: г образует божество, а и человечество. Так по тому их безбожному толкованию равны будут Исусу Христу Исус Навин, Исус Сирахов, понеже и тем ныне по лишной литере также приписаша: Иисус Навин и Сирахов Иисус же» (Материалы. VI. С. 32). – Прим. ред.]
(обратно)1361
Челобитная опубликована по автографу: Материалы. VI. С. 21–45.
(обратно)1362
На рукаве Москвы-реки, следовательно, немного дальше по другую сторону Болота: сейчас он называется Малый Каменный мост.
(обратно)1363
Материалы. I. С. 421–422.
(обратно)1364
Уехав 12 мая после вечерней службы со всей своей семьей, несмотря на дождь, царь, очевидно, вернулся только 19 мая вечером (Дневальные записки Приказа тайных дел. С. 214; Выходы государей, царей и великих князей. С. 461).
(обратно)1365
Житие. Л. 247 об.; Редакция В. Л. 49–49 об.
(обратно)1366
Зверинский. II. С. 236–238. № 1007.
(обратно)1367
Материалы. I. С. 422.
(обратно)1368
РИБ. Т. 39. Стб. 765–766.
(обратно)1369
Житие. Л. 192 об. – 193.
(обратно)1370
Материалы. I. С. 423–424, 416–417 (текст покаянного письма).
(обратно)1371
Материалы. I. С. 417–419.
(обратно)1372
Там же. С. 385–393.
(обратно)1373
Там же. С. 419–420.
(обратно)1374
Материалы. I. С. 425; Материалы. VI. С. 237.
(обратно)1375
Румянцев. Никита Константинов Добрынин. С. 202–204.
(обратно)1376
Деяния Собора 1666 г. Л. 30 об.; Материалы. II. С. 109. Его изложение веры в издании «Дела о патриархе Никоне», с. 263 датировано 12 мая неправильно, ибо первый допрос (Материалы. I. С. 427–429) происходил 15 мая. Он был отослан в монастырь св. Макария.
(обратно)1377
Деяния собора 1666 г. Л. 29–30 об.; ГИМ. Синодальное собр. свитков. № 1162.
(обратно)1378
ГИМ. Синодальное собрание свитков. № 1161. Деяния Собора 1666 года. Л. 24 об. – 28.
(обратно)1379
Деяния Собора 1666 г. Л. 34. Отослан в Кирилло-Белозерский монастырь.
(обратно)1380
Там же. Л. 34 об. Отослан в Троице-Сергиев монастырь.
(обратно)1381
Деяния Собора 1666 г. Л. 34 об. Его изложение вероисповедания в «Деле о патриархе Никоне», с. 262–263. Отослан в свой Бизюков монастырь.
(обратно)1382
Материалы. III. С. 106–107.
(обратно)1383
Материалы. I. С. 220. В Иосифо-Волоколамском монастыре он исполнял должность иеромонаха и комментировал толкования св. Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея. Но он называл монахов отступниками, так как они не слушали его наставлений, что имело своим следствием доносы царю и расследования. (Материалы. I. С. 213–219, май 1666 года).
(обратно)1384
Деяния Собора 1666 г. Л. 34. 16 июля он был выслан в Николо-Песношский монастырь (Материалы. II. С. 9, 116–117).
(обратно)1385
Материалы. III. С. 107–110. 12 июля он был еще раз допрошен.
(обратно)1386
От него, так же как и от Александра, потребовали подробного изложения вероисповедания: Дело о патриархе Никоне. С. 260–261.
(обратно)1387
Деяния Собора 1666 г. Л. 36–48 об.
(обратно)1388
Опубл.: Материалы. IX. С. 13–265.
(обратно)1389
Первые экземпляры были поднесены царю 10 июля 1667 года (ДАИ. V. С. 109).
(обратно)1390
Он не выполнил этого еще 18 августа 1666 года, ссылаясь на недостаток книг в Иосифо-Волоколамском монастыре. Вскоре он, кстати сказать, заболел и умер приблизительно 21 сентября 1666 года (Материалы. III. С. 113–117).
(обратно)1391
Я нашел отчет об этой «миссии» в Синодальном собр. свитков. № 1147 (конца нет). О Ефреме см. мою статью: Mélanges Legras. Paris, 1938. [Публикацию этих документов см.: Юхименко Е. М. Новое о старце Ефреме Потемкине // Старообрядчество в России (XVII–XX вв.). М., 2010. Вып. 4. С. 21–56. – Прим. ред.]
(обратно)1392
По приезде в Москву Ефрем был прощен. 13 января 1668 г. он будет назначен «большим игуменом» монастыря св. Кирилла Белозерского (Шереметев. Зимняя поездка в Белозерский край. С. 163–164). После апреля 1668 г. его следы исчезают.
(обратно)1393
Житие. Л. 248 об. – 249. Для уточнения дат этих посещений никаких данных не имеется.
(обратно)1394
Протокол подписан одним только Иваном за Прокопия и Макара, «не умевших писать»: им ведь было выгодно выдать себя за неграмотных.
(обратно)1395
Все дело опубликовано: Материалы. I. С. 359–370.
(обратно)1396
Начиная с 9 июля спрашивали у детей Аввакума, не рассказал ли он им о своем видении: следовательно, оно было уже известно до их посещения отца.
(обратно)1397
Материалы. I. С. 373–374.
(обратно)1398
РИБ. Т. 39. Стб. 708–709.
(обратно)1399
12 сентября эти четыре стрельца требуют платы за прогонные за семь дней; им дают плату за четыре дня, из расчета 5 денег ежедневно десятнику и четыре денги простым стрельцам (РГАДА. Севский стол. Кн. 215. Л. 20).
(обратно)1400
Материалы. I. С. 372–373.
(обратно)1401
РИБ. Т. 39. Cтб. 709.
(обратно)1402
Дневальные записки Приказа тайных дел. С. 230–231; Каптерев. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. II. С. 327–333.
(обратно)1403
31 августа Лазарь уезжает из Ижемской слободы на Печоре (Материалы. I. С. 439). Чтобы приехать оттуда в Москву, требовалось около двух месяцев. Федор говорит, что Лазарь должен был первым предстать перед патриархами (Материалы. VI. С. 243).
(обратно)1404
Материалы. VI. С. 243–245. Лазарь не говорит об этом (Материалы. IV. С. 264), но он еще раз предложил суд Божий в своей челобитной царю, написанной из Пустозерска в 1668 году (Там же. С. 236).
(обратно)1405
Дневальные записки Приказа тайных дел. С. 232–233; Каптерев. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. II. С. 333–352.
(обратно)1406
Каптерев (Там же. С. 209–255) излагает ход прений на соборе, согласно Паисию Лигариду (ГИМ. Синодальное греческое собр. № 469). Ему принадлежит заслуга первым указать на эту сторону деятельности собора, дотоле почти неизвестную. Павел и Иларион были помилованы 8 февраля.
(обратно)1407
Каптерев. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. II. С. 449–451; Деяния собора 1667 г. Л. 20, 39, 78 об. – 79.
(обратно)1408
Дневальные записки Приказа тайных дел. С. 235.
(обратно)1409
Выходы государей, царей и великих князей. С. 473.
(обратно)1410
Деяния собора 1667 г. Л. 67–74 (заседание 15 марта).
(обратно)1411
Он выехал из Соловков вместе с Варфоломеем 18 февраля.
(обратно)1412
Материалы. III. С. 199–201.
(обратно)1413
Там же. С. 201–203. Согласно Румянцеву (Румянцев. Никита Константинов Добрынин. С. 209), с Никиты не было снято запрещение; Румянцев приводит много доказательств искренности его покаяния (с. 211–230).
(обратно)1414
Материалы. I. С. 240–243.
(обратно)1415
Житие. Редакция В. Л. 51; Житие. 249 об. – 252 об.
(обратно)1416
РИБ. Т. 39. Стб. 709.
(обратно)1417
Житие. Л. 255.
(обратно)1418
РИБ. Т. 39. Стб. 709.
(обратно)1419
Каптерев (Каптерев. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. II. С. 390–392) преувеличивает разницу между деяниями 2 июля 1666 года и 13 мая 1667 года, говоря, что первый собор не осуждал древние обряды, но только тех, которые называли новые обряды еретическими. В 1666 году, так же как и в 1667 году, обязывали раскаявшихся не только допускать троеперстие, но и самим знаменовать себя троеперстно, то же в отношении предписаний трегубить аллилуию и т. д. Исключение, касающееся молитвы Исусовой, только подтверждает это правило.
(обратно)1420
См.: Житие. Л. 255–258; РИБ. Т. 39. Стб. 291–292, 468–469, 770.
(обратно)1421
Материалы. I V. С. 264–265.
(обратно)1422
Деяния собора 1666 г. Л. 32.
(обратно)1423
Барсков. С. 249, 250, 254, 391 (Житие Епифания); ГИМ. Собр. Хлудова. № 270. Глава 6. Л. 27 об. (Житие Корнилия); Материалы. II. С. 181–182.
(обратно)1424
Дневальные записки Приказа тайных дел. С. 240, 241.
(обратно)1425
РИБ. Т. 39. Стб. 709.
(обратно)1426
Султанов. Воробьевский дворец. С. XIV–XLI; Забелин. Московские сады в XVII в. // Забелин. Опыты изучения русских древностей. II. С. 317.
(обратно)1427
Житие. Л. 258–258 об.; Редакция В. Л. 58. об. – 59.
(обратно)1428
РИБ. XXI, см. указатель.
(обратно)1429
Житие. Редакция В. Л. 59. О присутствии Неронова говорится только в анонимной заметке (РИБ. Т. 39. Стб. 709; см. прим. 162). Но она, несомненно, достоверна. Это доказывается следующим: 1) эта заметка принадлежит по меньшей мере соузнику протопопа, она точна и по своему характеру правдива; 2) «крики» и «стыд», о которых упоминается в Житии, не могут объясняться разговорами только с одним Тимофеем; 3) молчание Аввакума относительно Неронова соответствует чувствам, которые он питал к своему духовному наставнику.
(обратно)1430
Житие. Редакция В. Л. 59. Это послание не дошло до нас.
(обратно)1431
РИБ. Т. 39. Стб. 709.
(обратно)1432
Житие. Редакция В. Л. 59 об.
(обратно)1433
РИБ. Т. 39. Стб. 709; Заозерский. Царь Алексей Михайлович в своем хозяйстве. С. 76, 123, 289, 292 (здесь говорится о Лутохине).
(обратно)1434
Житие. Л. 258 об.; РИБ. Т. 39. Стб. 762.
(обратно)1435
РИБ. Т. 39. Стб. 703; Материалы. II. С. 21–26, 32–34.
(обратно)1436
Макарий. Нижегородские монастыри. 1848. № 44. С. 174–176; № 45. С. 178–179; РБС. СПб., 1901. Т.: Фабер-Цявловский. С. 107.
(обратно)1437
Эта «сказка» не сохранилась.
(обратно)1438
РИБ. Т. 39. Стб. 703; Житие. Л. 259–259 об.
(обратно)1439
РИБ. Т. 39. Стб. 703–706.
(обратно)1440
Барсков. С. 250 (Житие Епифания).
(обратно)1441
Распоряжение Тайного приказа от 28 января 1665 года предписывало князю Дашкову, воеводе симбирскому, наблюдать за тем, чтобы священники неукоснительно совершали богослужение по новым Служебникам (РИБ. XXI. Стб. 1149–1150).
(обратно)1442
В Симбирске патриархи оставили водный путь по Волге и перешли на сухопутный: поэтому произошла приостановка путешествия на 13 дней (с 11 по 24 сентября); в течение этого времени они приказали изготовить себе повозки (Сапожников. Письма восточных иерархов. С. 11–14). Их строгость по отношению к местному клиру отмечена в докладе бояр, прикомандированных к ним (Гиббенет. II. С. 960–961).
(обратно)1443
Материалы. VI. С. 237.
(обратно)1444
Материалы. I. С. 425.
(обратно)1445
Материалы. I. С. 420–426.
(обратно)1446
Материалы. II. С. 31. Федор утверждал: «А мене пред ними и не поставили ни единожды, и не видал их аз; точию Аввакума протопопа и старца Епифания показали нарознь» (Материалы. VI. С. 248).
(обратно)1447
РИБ. Т. 39. Стб. 710.
(обратно)1448
Барсков. С. 146. Указ отредактирован очень неясным образом, но я даю самую естественную его интерпретацию.
(обратно)1449
Барсков. С. 250: 9–11 (Житие Епифания). Относительно Братошина см.: Голубинский. Путеводитель по Троице-Сергиевой Лавре. С. 389.
(обратно)1450
Материалы. IV. С. 266. Эта казнь имела разные степени наказания: в противоположность этой казни, в 1654 г. (10 января) стрелец Василий Федоров, осужденный за то, что нехорошо говорил о кресте, был высечен кнутом, ему отрезали язык с двух сторон, после чего он был сослан в Сибирь (РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 465. Л. 190).
(обратно)1451
Письмо Аввакума (РИБ. Т. 39. Стб. 710–712) включено в текст, где сначала вкратце описаны все нравственные терзания трех узников с 29 августа 1664 года вплоть до 22 июля 1667 года (РИБ. Т. 39. Стб. 707–709), затем описаны казнь и ее последствия (РИБ. Т. 39. Стб. 710–712). Рассказ, хотя и составленный в безличной форме, изложен с точки зрения Аввакума. Письмо совершенно определенно написано из Братошина, и весь текст является своего рода протоколом, написанным протопопом, или одним из его соузников, так как пропуск описания событий между 22 июля 1667 года и казнью 27 августа 1667 года дополнен другим текстом того же содержания, бесспорно, написанным самим Аввакумом, обнимающим период с 5 по 24 августа (РИБ. Т. 39. Стб. 703–706). Замена третьего лица местоимением «я» – дело рук переписчика. Весь этот материал находится в драгоценном сборнике рукописей, составленном иноком Авраамием (ГИМ. Синодальное собр. № 641. Л. 179 об. – 184 об.; Савва. С. 226). РИБ. Т. 39. Стб. 705–708 являются вариантом РИБ. Т. 39. Стб. 710–712 (согласно рукописям XVIII и XIX веков).
(обратно)1452
Смирнов П. Города Московского государства. С. 73–74; Платонов. Очерки. С. 10–11.
(обратно)1453
[РГАДА] Писцовая книга. № 306. В Пустозерске в 1646–1679 годы переписи не было произведено.
(обратно)1454
РГАДА. Сибирский приказ (ф. 214). Стб. 471. Л. 419.
(обратно)1455
ГИМ. Синодальное собр. свитков. № 1114 (письмо игумена Феоктиста воеводе Дмитрию Жеребцову, оставившему Пустозерск 23 апреля 1660 года).
(обратно)1456
РГАДА. Приказные дела новой разборки (ф. 159). Д. 1213. Л. 209–211, 237–238.
(обратно)1457
См. выше, гл. XI.
(обратно)1458
РГАДА. Белгородский стол. Кн. 599. Л. 827–829.
(обратно)1459
Материалы. I. С. 433–437.
(обратно)1460
Он находился в Пустозерске с 20 июня 1667 г. (РГАДА. Приказные дела старых лет (ф. 141). Д. 434. Л. 559).
(обратно)1461
Отписка И. С. Неелова (Барсков. С. 150–153).
(обратно)1462
Барсков. С. 69: 22–23; Веселовский. С. 12.
(обратно)1463
Имеются в виду тундровые ненцы, жившие на побережье Карского моря.
(обратно)1464
ДАИ. V. С. 375–376.
(обратно)1465
РГАДА. Приказные дела, 1670–1671, связка 431. № 467. Л. 29–30, 77–78 (отписка от 31 августа 1670 г.).
(обратно)1466
Челобитная Лазаря царю Алексею Михайловичу (Материалы. IV. С. 263).
(обратно)1467
РИБ. Т. 39. Стб. 756. Пуд содержит 40 фунтов. Соответственно количества, указанные Лазарем и Аввакумом, почти совпадают. Фунт равен приблизительно четыремстам граммам. Федор также говорит про себя, что он «голоден и наг» (Материалы. VI. С. 132).
(обратно)1468
РИБ. Т. 39. Стб. 950.
(обратно)1469
Письмо Федора (Барское. С. 68); РИБ. Т. 39. Стб. 406, 859, 928.
(обратно)1470
Барское. С. 150: 7–8.
(обратно)1471
Там же. С. 68: 4–7.
(обратно)1472
Там же. C. 55: 13, 17.
(обратно)1473
Материалы. IV. C. 236.
(обратно)1474
Материалы. I V. С. 259.
(обратно)1475
Напечатано Н. И. Субботиным: Материалы. I V. С. 223–266.
(обратно)1476
Барсков. С. 68: 21–25.
(обратно)1477
Опубликовано по автографу: Барсков. С. 53–67; по копии: Материалы. IV. С. 266–284.
(обратно)1478
Согласно указаниям списков, 8-го или 20-го (Барсков. С. 317–319).
(обратно)1479
Веселовский. С. 3–5.
(обратно)1480
Еще четверо стрельцов были добавлены позднее.
(обратно)1481
Все дело было найдено и напечатано Барсковым (Барское. С. 147–149). Перфилий вернулся в Москву 27 июня.
(обратно)1482
РИБ. Т. 39. Стб. 755–756 (Барское. С. 32–33), по списку из Приказа тайных дел. Кроме последнего абзаца, приведенного полностью, я привел другие абзацы с сокращениями. Челобитная не имеет точной даты, но по содержанию видно, что она написана сразу по прибытии в Пустозерск. Поскольку дети Аввакума прибыли на Мезень после апреля 1669 г., то необязательно датировать челобитную концом 1668 г.: Перфилий прибыл в Москву 27 июня, просьба протопопа Аввакума не была исполнена немедленно, более того, и дети не выехали быстро.
(обратно)1483
Материалы. III. С. 45–47 (Первая челобитная, доставленная Варфоломею в Вологду 28 марта 1666 года). [См. также современное исследование: Чумичева О. В. Соловецкое восстание 1667–1676 гг. Новосибирск, 1998. – Прим. ред.]
(обратно)1484
Материалы. III. С. 47–75 (особенно с. 66).
(обратно)1485
Там же. С. 117–122.
(обратно)1486
Там же. С. 125–137; Досифей. III. С. 165.
(обратно)1487
Материалы. III. С. 160–164 (Вторая челобитная); 164–171 (Третья челобитная). Это лишь две редакции одного и того же: вторая более пространна.
(обратно)1488
Там же. С. 143–151 (донесение Сергия).
(обратно)1489
Там же. С. 152–160.
(обратно)1490
См. выше в этой же главе.
(обратно)1491
23 июня 1667 года (Материалы. III. С. 203–206).
(обратно)1492
Там же. С. 291–292.
(обратно)1493
Материалы. III. С. 208–211 (Четвертая челобитная).
(обратно)1494
Показания, данные в Москве Иосифом, Варфоломеем и их спутниками (Там же. С. 207–208, 276–285, 288–291). С Никанором вместе отказались от своего отречения священник Амвросий, дьякон Пахомий и монах Никита.
(обратно)1495
Это была Пятая челобитная. О дате ее отправки – вероятно, 22 сентября – см.: Барское. С. 286–289.
(обратно)1496
Барсков считает, что обе редакции, короткая и пространная, были отправлены из Соловков одновременно или почти одновременно (Барское. С. 283–286). Оригинал Пятой челобитной не был найден. Современный список, по всей вероятности, весьма близкий оригиналу, был опубликован Барсковым (Барское. С 12–27). Публикация Н. И. Субботина (Материалы. III. С. 217–262) выполнена по списку Синодального собрания. № 641. Написан он рукой Авраамия в 1668 и 1669 гг. Челобитная была напечатана старообрядцами в сборнике, неоднократно перепечатанном (Супрасль, 1788), в частности архиепископом Никифором с опровержениями в 1798 г. [Никифор (Феотоки), архиеп. Ответы на вопросы старообрядцев. М., 1800; изд. 5-е, М., 1854. – Прим. ред.], издателем Кожанчиковым в сборнике, озаглавленном «Три челобитные». Дружинин (Дружинин. Писания. С 459–460) упоминает тридцать четыре рукописи.
(обратно)1497
Материалы. III. С. 285–288.
(обратно)1498
Там же. С. 292–296.
(обратно)1499
Материалы. III. С. 297–315.
(обратно)1500
«Ответ православных» не был напечатан полностью, за исключением некоторых отрывков (Материалы. VI. С. 315–334, 269–298; VIII. С. 354–360). Он содержится в Пустозерском сборнике (л. 1–84. Дружинин. Пустозерский сборник. С. 5–7) и в рукописи из сборника Хлудова № 282. Л. 1–108 (ГИМ). См.: Смирнов. Внутренние вопросы. С. LXIV–LXV; Барсков. С. 320–323, 366.
(обратно)1501
Это учение о духовном антихристе господствовало в письме, адресованном верующим Тюмени от имени Далматского монастыря на Исети на Урале и напечатанном П. С. Смирновым (Смирнов. Внутренние вопросы. С. 019–034). Верюжский (Верюжский. С. 13–14) приписывает его молодому Афанасию, будущему холмогорскому архиепископу, родом из Тюмени и в то время бывшему сторонником старой веры. Он, следовательно, датирует его 1666 годом, отнюдь не позднее, тогда как Смирнов его помещает между 1666 и 1676 годами.
(обратно)1502
РИБ. Т. 39. Стб. 909–912. Совершенное согласие среди высланных, отражающееся в этом послании, относится к 1666 году, не позже (Смирнов. Внутренние вопросы. С. XLIX–L).
(обратно)1503
Под благословением Федор понимает все таинства, совершаемые священником: крещение, исповедь, причащение и остальное.
(обратно)1504
Материалы. VI. С. 60–79. Поскольку это письмо имело на полях отметку Авраамия, арестованного после 13 февраля 1670 г., это доказывает, что оно было написано до конца 1669 г. (Смирнов. Внутренние вопросы. С. LXIII).
(обратно)1505
Барсков. С. 40, 302.
(обратно)1506
РИБ. Т. 39. Стб. 942.
(обратно)1507
РИБ. Т. 39. Стб. 913–914.
(обратно)1508
Там же. Стб. 913.
(обратно)1509
Барсков. С. 52: 20–25.
(обратно)1510
При допросе в 1688 г. Прокопий рассказал о своей жизни следующее: родился во Всехсвятском Пошехонского уезда; сын и внук священников; посвящен в сан Ионой Ростовским в 1654 г., чтобы заменить своего отца; через год перебрался в Москву, не имел постоянного места жительства, нанимался то там, то тут, чтобы петь за обедней; был полковым священником в полку Петра Шереметева, под Ригой; по благословению патриарха Никона служил священником в соборе Александра Невского, а потом в церкви Саввы Стратилата (ДАИ. XII. С. 203–205. № 17); ср.: Барсков. С. 52: 14.
(обратно)1511
РИБ. Т. 39. Стб. 928 (конец 1674 г.); Барсков. С. 37.
(обратно)1512
РИБ. Т. 39. Стб. 913.
(обратно)1513
Барское. С. 38–40.
(обратно)1514
Там же. С. 43: 1–14 (письмо Аввакума Морозовой и Евдокии); 304–305.
(обратно)1515
Там же. С. 35–38.
(обратно)1516
Барсков. С. 33–35.
(обратно)1517
Там же. С. 36: 33–37: 4.
(обратно)1518
РИБ. Т. 39. Стб. 914. Протопоп написал своим родным, чтобы всех примирить: «Буде от нея [Морозовой. – Прим. ред.] грамотки вам придут, не роспечатовайте. Буде годно, я отселе к вам пришлю».
(обратно)1519
Барсков. С. 69: 23–32; РИБ. Т. 39. Стб. 910, 923.
(обратно)1520
Писцовая книга № 366.
(обратно)1521
РГАДА. Приказные дела новой разборки (ф. 159). Д. 1128 (1681 г.).
(обратно)1522
РИБ. Т. 39. Стб. 763.
(обратно)1523
РИБ. Т. 39. Стб. 763–764.
(обратно)1524
«Откровение Авраама», весьма распространенный апокриф, помещенный в Палее, был напечатан Н. С. Тихонравовым: Тихонравов. Памятники русской отреченной литературы. I. С. 54–77.
(обратно)1525
То есть, к 1 сентября 7178 (1669) г. Для воевод обычный срок службы также был двухлетним.
(обратно)1526
Веселовский. С. 15–16. «Сказка» Лазаря датируется 7 августа.
(обратно)1527
Так же, как и младенец Евдокия (Древняя российская вивлиофика. II. С. 205).
(обратно)1528
Недоумов. Московский придворный Архангельский собор. С. 35 (надгробная плита).
(обратно)1529
Верх. Царствование царя Алексея Михайловича. I. С. 250; Дневальные записки Приказа тайных дел. С. 281 (21–22 июня 1668 г.).
(обратно)1530
РИБ. Т. 39. Стб. 757–766. Подлинный текст этой челобитной был найден Барсковым и напечатан им на с. 45–51 (ср. с. 308–309); она также имеется в Пустозерском сборнике, л. 94–103. Я дал полный комментированный его перевод в «Mesures» от 15 октября 1936 г., р. 67–84.
(обратно)1531
РГАДА. Приказные дела (1670–1671 гг.). Кн. 431. № 467 [РГАДА. Ф. 141. № 467. Л. 748 – Прим. ред.].
(обратно)1532
Дружинин. Пустозерский сборник. С. 7.
(обратно)1533
Барсков. С. 68: 36–69, 1–3.
(обратно)1534
Там же. С. 67–70.
(обратно)1535
РИБ. Т. 39. Стб. 915; Барсков. С. 45: 4–6.
(обратно)1536
Барское. С. 44–45, ср. с. 305–306. Это письмо датируется между Крещением (6 января) и весной 1670 г., когда он предвидел приезд в Пустозерск некоторых членов своей семьи.
(обратно)1537
Греков указан как воевода на Мезени в октябре 1669 года и в октябре 1670 г. (дополнение к экземпляру книги А. П. Барсукова «Списки городовых воевод» из библиотеки Древлехранилища [РГАДА]. Он пишет Аввакуму 16 ноября 1669 г.).
(обратно)1538
Барское. С. 68: 31–32.
(обратно)1539
Дата подачи «Сказки» Лазаря в Новгородский приказ (Веселовский. С. 5).
(обратно)1540
ДАИ. V. № 67; Сырцов. С. 257–265.
(обратно)1541
Степан Разин находился в Астрахани с 7 августа по 4 сентября 1668 г.
(обратно)1542
Тхоржевский. С. 56–65.
(обратно)1543
В этом можно убедиться, читая «Дневальные записки Приказа тайных дел».
(обратно)1544
С 1660 г. приходской священник небольшой деревянной церкви святого Григория Неокесарийского в Замоскворечье; 25 марта 1666 г. был назначен протопопом Благовещенского собора; в 1668 г. с помощью царя отстроил свою церковь в камне по грандиозному плану, с цветным фризом и изразцами, с росписью Симона Ушакова (По Москве / Под ред. Н. П. Гейнике и др. М., 1917. С. 320–324). // Андрей Постников славился своей жадностью: 30 октября 1668 года царь отдал приказ по дворцовым складам выдать ему по подписанной им записке все, что бы ему ни потребовалось, даже не предупреждая казначея. 19 августа 1670 г. в день своего ангела он получил 2 быков, 10 баранов и 20 кур (Извеков. С. 146). Можно ли себе представить подобную пирушку в день ангела Стефана Вонифатьева?
(обратно)1545
Глава Малороссийского приказа с 9 апреля 1669 года (Белокуров. О Посольском приказе. С. 45–46).
(обратно)1546
28 ноября 1669 года состоялись первые смотрины царских невест.
(обратно)1547
Древняя российская вивлиофика. XIV. С. 65–68; Берх. Царствование царя Алексея Михайловича. I. С. 252–253.
(обратно)1548
1 февраля 1670 г. (Погодин. С. 3).
(обратно)1549
Древняя российская вивлиофика. XXI. Стб. 1229–1230; Заозерский. Царь Алексей Михайлович в своем хозяйстве. С. 31.
(обратно)1550
Забелин. Домашний быт русских цариц. С. 123.
(обратно)1551
Леонид. Вкладная книга московского Новоспасского монастыря. С. 123. 4 марта 1670 г. сюда поступает новый вклад Ивана (Амвросий. История российской иерархии. VI. С. 277).
(обратно)1552
Барсков. С. 51–52; РИБ. Т. 39. Стб. 400–403, 859.
(обратно)1553
Барсков. С. 52 (см. также с. 313–314).
(обратно)1554
Барсков. С. 70–71 (см. также с. 325–326).
(обратно)1555
Смирнов. Внутренние вопросы. С. 16–20.
(обратно)1556
РИБ. Т. 39. Стб. 930.
(обратно)1557
Переработка Авраамия находится в сборнике его сочинений (ГИМ. Синодальное собр. № 641. Л. 61–64 об.). В академическом издании (РИБ. Т. 39. Стб. 731–741) текст публикуется по рукописи Киевской духовной академии с вариантами по рукописи Синодального собрания.
(обратно)1558
Материалы. VII. С. 1–258.
(обратно)1559
Материалы. VII. С. 389.
(обратно)1560
Барсков. С. 52: 12–14.
(обратно)1561
Барсков. С. 72: 22–25.
(обратно)1562
Барсков. С. 52: 20 и след.
(обратно)1563
РИБ. XXIII. Стб. 1273.
(обратно)1564
ААЭ. III. С. 460; РИБ. XXIII. Стб. 517; XXI. Стб. 1216.
(обратно)1565
В декабре 1672 г. воевода Петр Львов покинул Мезень: назначен туда он был, вероятно, в ноябре – декабре 1670 г. Последний раз Греков упоминается в октябре 1670 г. (Барсуков. Списки городовых воевод. Экземпляр из Древнехранилища [РГАДА]).
(обратно)1566
Житие. Л. 260–261 об.; ср. Житие. Редакция В. Л. 55 об–56; 61 об. – 62 об. Во времена Семена Денисова, то есть в начале XVIII в., около Окладниковой слободы была небольшая часовня, построенная на месте, где были погребены Федор и Лука (Денисов. Виноград Российский. Гл. 73). Эту самую часовню в 1910 г. посетил Л. Ивановский. Он нашел там крест с многочисленными любопытными буквенными изображениями (Сборник Новгородского общества любителей древности. 1911. V. С. 2 и след., рис. на с. 39).
(обратно)1567
О событиях, предшествовавших и последовавших за казнью 1670 г., см.: Понырко Н. В. Узники пустозерской земляной тюрьмы // Древнерусская книжность. Л. 1985. С. 243–253. – Прим. ред.
(обратно)1568
Житие. Редакция В. Л. 78 об. – Прим. ред.
(обратно)1569
РИБ. Т 39. Стб. 713–716. – Прим. ред.
(обратно)1570
Барсков. С. 251: 17–29 (Житие Епифания); см. также: Житие. Л. 262 об.
(обратно)1571
Житие. Л. 263–263 об.
(обратно)1572
РИБ. Т. 39. Стб. 716.
(обратно)1573
Житие. Редакция В. Л. 63–63 об.
(обратно)1574
Житие. Л. 263 об.
(обратно)1575
Барсков. С. 251–253 (Житие Епифания).
(обратно)1576
Барсков. С. 68: 17–18.
(обратно)1577
Материалы. VI. С. 132–133 (послание дьякона Федора сыну Максиму); Барсков. С. 256–257 (Житие Епифания).
(обратно)1578
РИБ. Т. 39. Стб. 929.
(обратно)1579
Там же. Стб. 691. В Канаде также иезуит отец Лежен плакал от дыма и был им настолько ослеплен, что едва мог читать свой молитвенник. Он использовал этот же способ. См.: Goyan G. Les origines religieuses du Canada // Revue des Deux Mondes, 15 mars 1924.
(обратно)1580
РИБ. Т. 39. Стб. 936.
(обратно)1581
Барское. С. 257–261 (Житие Епифания).
(обратно)1582
Этот текст опубликован: РИБ. Т. 39. Стб. 713–716. Вначале рассказ ведется от третьего лица, как и подобает в протоколе. Но тон историка не нравится Аввакуму, и он его нарушает. «Я, протопоп, щупал и градил во рте…». После чего повествование вновь ведется в безличной форме. То же самое явление отмечалось в рассказе о московских страданиях и о первой казни. Из этого, впрочем, нельзя заключить, чтобы Аввакум не написал все целиком.
(обратно)1583
О Разине см. работы Тхоржевского, Тихомирова; о его налетах на места по ту сторону Волги см.: ЧОИДР. 1894. III; 1895. II и у Кабанова.
(обратно)1584
Не найдено никаких документов, свидетельствующих о совместных действиях старообрядцев с Разиным. Если в Царицыне стрельцы и открыли ему ворота и если троицкие монахи настраивали жителей в его пользу, если в Астрахани монахи были также за него, а иные сельские священники шли за ним, если курский священник Никифор Иванов, уехавший на Дон, начал собирать для него пожертвования и писал за него манифесты, – то еще требуется доказать, что те и другие были сторонниками старой веры. С другой стороны, шел слух, что Разин возит с собой Никона, чтобы восстановить его на патриаршем престоле (Попов. Материалы. С. 6–18, 76, 134–136). Сын протопопа Даниила из Темникова (Там же. С. 171), поп Пимен, вернулся из Москвы в этот город, когда ставленник Разина Сидоров его занял. Он, впрочем, поминал Никона (Попов. Материалы. С. 108).
(обратно)1585
Попов. Материалы. С. 94–95 (Алатырь), 63 (Симбирск); Первухин. Церковь Илии пророка. С. 7 (Ярославль); РГАДА. Московский стол. Кн. 421 (Муром). Цифра от 30 до 35 дана в Челобитной Авраамия (Материалы. VIII. С. 263).
(обратно)1586
Новосельский. С. 91–92.
(обратно)1587
29 октября 1668 г. монах Пахомий из Изборска был сожжен в Пскове (Белокуров. Материалы для русской истории. С. 228–244).
(обратно)1588
Петров. Описание рукописных собраний, находящихся в г. Киеве. I. С. 101; ГИМ. Синодальное собр. свитков. № 1628 (2 октября 1666 г.), РИБ. Т. 39. Стб. 249. Тождественность названных в этих трех источниках лиц не установлена точно, но возможна.
(обратно)1589
РИБ. Т. 39. Стб. 249. «История об отцах и страдальцах соловецких» (Денисов. История. С. 9–10) сообщает нам, что этот Иван жил на Соловках и предсказал осаду и падение монастыря; затем он появился в Кандалакше и прошел до Архангельска, проповедуя старую веру. Он был арестован и отправлен в Холмогоры; после пыток был всенародно сожжен в присутствии воеводы.
(обратно)1590
Житие боярыни Морозовой (Материалы. VIII. С. 174, прим.) подтверждает факт казни в Боровске: Иван (верный слуга Морозовой) был сожжен в Боровске вместе с другими мучениками. О Полиевкте, одном из первых мучеников, см. выше. гл. VI, разд. V, прим. 135; гл. IX, разд. II.
(обратно)1591
РИБ. Т. 39. Стб. 249, 845–846. Невозможно точнее указать дату этих казней.
(обратно)1592
Его дело было опубликовано С. Б. Веселовским (Веселовский. С. 22–26). Приказ о казни относится к 14 января. О Красулине говорится в «Винограде Российском» (Денисов. Виноград Российский. Гл. 68), но сведения о нем даны с очень многими хронологическими ошибками (например, он якобы прожил в Кольском остроге в течение тридцати лет) и подробностями, не могущими быть проверенными.
(обратно)1593
Материалы. III. С. 154, 162, 165; Барское. С. 143–145, 361–362. [Полную публикацию следственного дела см.: Юхименко Е. М. Соловецкое восстание и старообрядческая «История об отцах и страдальцах соловецких». Ч. 2 // Очерки феодальной России. М., 1998. С. 248–265. – Прим. ред.]
(обратно)1594
Житие. Л. 264.
(обратно)1595
РГАДА. Московский стол. Кн. 421. Л. 41–43 (жалоба митрополита Новгородского Питирима, полученная в Москве 28 июля 1669 г.).
(обратно)1596
Филиппов. С. 29–30
(обратно)1597
ДАИ. XI. С. 346. № 67; Филиппов. С. 124
(обратно)1598
Филиппов. С. 81–82; Смирнов. Внутренние вопросы. С. XI.
(обратно)1599
Смирнов. Внутренние вопросы. С. XII.
(обратно)1600
Смирнов. Внутренние вопросы. С. XIII.
(обратно)1601
Там же. С. XV–XVI; о его Житии см.: Там же. С. CXVII–CXIX.
(обратно)1602
ГИМ. Собр. Хлудова. № 270. Л. 29–30 (Житие Корнилия. Гл. VI) Ср.: Смирнов. Внутренние вопросы. С. XIII–XIV, CXIV. Филипп оставался восемнадцать месяцев при Корнилии, затем отправился в Новгород. Там он был арестован, отправлен в Москву и сожжен в царствование Федора, то есть после 1676 г.
(обратно)1603
Хронологию странствий Досифея установить трудно, имея лишь отрывочные сведения, притом неточно датированные Филипповым, или приблизительно установленные по Житиям Морозовой и Корнилия. П. С. Смирнов (Смирнов. Внутренние вопросы. С. XXIV–XXVII) без необходимости пренебрегает указаниями Строева (Строев. Списки иерархов. Стб. 94), по которым Досифей остался в Тихвине до 1670 года; его пребывание в Москве в ноябре-декабре 1670 года засвидетельствовано; см.: Материалы. VIII. С. 155; Житие Морозовой (Барское. С. 310). Ничто не указывает на то, что он был в Курженской области до 1671 года. [О Досифее также см.: Агеева Е. А., Шаткое А. Т., Юхименко Е. М. Досифей // Православная энциклопедия. М., 2007. Т. 16. С. 58–61. –Прим. ред.]
(обратно)1604
РИБ. Т. 39. Стб. 834 (1675 г.). Некий «монах Досифей, восставший против Церкви», был арестован близ Великих Лук в 1675 году до 12 июля и отправлен в Москву; у Георгия Томилова, крестьянина, у которого он останавливался, нашли Псалтырь, Святые Дары, ладан, воск и исписанные тетради (РГАДА. Белгородский стол. Кн. 820. Л. 1–10). Возможно, что здесь речь идет об игумене Досифее, но это ничем не подтверждается. Зато это был, несомненно, именно игумен Досифей от Троицы на Олонце, который в 1677 году в частном доме в Ярославле постригает горшечника Дениса Фомина, который сейчас же уединяется после этого на Дону, проживает там три года в лесах, прежде чем вернуться оттуда в города, точнее в Рыбное, а затем в Москву. (Румянцев. Лет. С. 97–98). [Последние разыскания показывают, что с Троицкой Сунарецкой пустынью близ Олонца был связан именно Досифей, игумен Николо-Беседного монастыря. См.: Агеева Е. А., Шаткое А. Т., Юхименко Е. М. Досифей // Православная энциклопедия. М., 2007. Т. 16. С. 59. – Прим. ред.]
(обратно)1605
Донос Серапиона (Барсков. С. 78–85) дает в этом отношении много точных указаний. Он, по-видимому, относится к периоду 1667–1670 годов. См. также Барсков. М. 328–336.
(обратно)1606
ГИМ. Синодальное собр. свитков. № 1268.
(обратно)1607
Макарий // Нижегородские губернские ведомости. 1848. № 44, 45; 1849. № 24.
(обратно)1608
Барсков. С. 13–14.
(обратно)1609
Карабинович. II. С. 56.
(обратно)1610
Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. I. Стб. 583–584. № 2 (мать Феодора, арестованная в 1721 году, дает показания о том, что она приняла иноческий чин «сорок пять лет» назад у Досифея в соседнем, недалеком от Онуфриева, скиту).
(обратно)1611
Евфросин. С. 68; Смирнов. Внутренние вопросы. С. 159–164.
(обратно)1612
Relation des particularitéz de la rébellion de Stenko-Razin… épisode… précédé ďune introduction… par le prince Augustin Galitzin. Paris, 1856. P. 20. Все это происходило именно в 1671–1672 годах в Нижегородском воеводстве, где число крестьянских дворов в те годы уменьшилось на 10 000 Тихомиров. С. 132).
(обратно)1613
Древняя российская вивлиофика. XVIII. С. 92.
(обратно)1614
РИБ. Т. 39. Стб. 873.
(обратно)1615
Димитрий Ростовский, митр. Розыск. III. Л 16–17.
(обратно)1616
Его допрос в 1682 г. дает ценные сведения о биографии Иова (Румянцев. Лет. С. 98–106).
(обратно)1617
Первухин. О тверских иерархах. С. 78 и след. Иоасаф умер в конце 1675 года.
(обратно)1618
По Нифонту, их было сто тридцать человек (Описание документов и дел, хранящихся в архиве Св. Прав. Синода. II. 2. С. 474. № 1152). По Нафанаилу, десять монахов и несколько послушников (ДАИ. XII. С. 235. № 17).
(обратно)1619
О жизни Иова известно главным образом из «Истории о бегствующем священстве» Ивана Алексеева, произведению, написанному уже много позднее, в 1755 году, но по многочисленным свидетельствам, тщательно собранным автором. Оно было напечатано Тихонравовым в «Летописях русской литературы» (IV. Отд. 3. С. 53–69) и Субботиным в журнале «Братское слово» (1889. I. С. 429 и след.) См так же: Смирнов. Внутренние вопросы. С. CVIII–CIX. Об Иове см. также: Дружинин. Раскол на Дону. С. 69–73.
(обратно)1620
Дружинин. Раскол на Дону. С. 79–80.
(обратно)1621
Главные источники по истории раскола в Стародубье следующие: Алексеев И. История о бегствующем священстве; Лилеев. Новые материалы для истории раскола на Ветке и в Стародубье; Лилеев. Из истории раскола на Ветке и в Стародубье (уточнения в рецензии Голубева: ЧОИДР. 1898. II. Смесь. С. 1–35). Хронология заселения старообрядцами этой области, тем не менее, остается неясной (Смирнов. Внутренние вопросы. С. XX–XXII; ЧОИДР. 1898. II). Район Пскова и Новгорода также будет новым центром старообрядчества, но ничто не дает возможности найти там следы деятельности какого-нибудь Варлаама либо Ивана Дементьева (Смирнов. Внутренние вопросы. С. XVI–XVII). [Последние архивные разыскания позволяют обнаружить такие следы. См.: Румянцева В. С. Народное антицерковное движение в России в XVII веке. М., 1986. С. 188–197, 227–242. – Прим. ред.]
(обратно)1622
Материалы. I. С. 331. № 42.
(обратно)1623
Барское. С. 37: 14–18.
(обратно)1624
Там же. С. 156–157.
(обратно)1625
О Трифилии нам известно очень мало. Биография, имеющаяся в «Винограде Российском» (гл. 40), требует подтверждения. Но сообщение о совете с ним по существу правдоподобно.
(обратно)1626
Все это дело было опубликовано Барсковым (Барсков. С. 71–78; см. также с. 326–328). Оно относится к концу 1670–1671 году. Евдокия была представлена ко двору в то же время, что и Наталья Нарышкина (Забелин. Домашний быт русских цариц. С. 260).
(обратно)1627
Материалы. VII. С. 386–433 (между 12 августа и 1 сентября 1670 года).
(обратно)1628
Смирнов. Внутренние вопросы. С. 08–016 (1671 г.).
(обратно)1629
Материалы. VII. С. 417–426.
(обратно)1630
Там же. С. 386–416.
(обратно)1631
Там же. С. 259 (1671 г.). Челобитная эта была напечатана впервые Е. Е. Замысловским (ЛЗАК. 1877. VI. Отд. II. С. 21–129). О писаниях Авраамия см.: Смирнов. Внутренние вопросы. С. LXXI–LXXIV.
(обратно)1632
Материалы. VII. С. 1–258. Этот сборник (ГИМ. Синодальное собр. № 641) описан Субботиным: Материалы. VII. С. V–XXIV.
(обратно)1633
Дворецкий Исаия упоминается в челобитной Авраамия 1671 года; см. также: Житие. Л. 249, 264; РИБ. Т. 39. Стб. 249, 419.
(обратно)1634
Житие. Л. 249.
(обратно)1635
Материалы. VII. С. 386–389, 393, 394, 412–416; Барсков. С. 315–316. Аввакуму было известно о казни Авраамия, когда он писал свое Житие (Житие. Л. 254 об., 264), с другой стороны, это случилось «два года спустя после повешения Федора» (Там же. Л 254 об., 264).
(обратно)1636
Дата 6 декабря сохранена преданием (Русская старина. 1908. Октябрь. С. 684). Житие боярыни Морозовой (Материалы. VIII. С. 154–156), описывающее ее пострижение, довольно правдоподобно относит это к 1670 году, незадолго до ее отказа присутствовать на бракосочетании царя.
(обратно)1637
Сенсация в Москве была такова, что иностранец Рейтенфельс упоминает о ней в своих мемуарах (ЧОИДР. 1906. III. С. 171).
(обратно)1638
Материалы. VIII. С. 154–175. (Житие Морозовой). Иов, в это время, очевидно, был в Москве случайно, на пути в Льгов на Дону.
(обратно)1639
Барсков. С. 310–312 (отрывок из Жития Морозовой, не напечатанный Субботиным).
(обратно)1640
Дополнения к 3-му тому Дворцовых разрядов. Стб. 447.
(обратно)1641
Вскоре он попросил об отставке (ГИМ. Синодальное собр. № 130. Л. 151–152).
(обратно)1642
Около 15 мая 1672 г. царь посылает в Курляндию полковника фон Стадена, и тот к 3 декабря привозит на Русь пятерых музыкантов. В начале июня он приглашает Грегори, пастора храма в Немецкой слободе, поставить комедию «Эсфирь». 17 октября ставят «Артаксерксово действо», и царь допускает Грегори до целования руки, что было необычайно для иностранца, если он не был послом. В играемых пьесах большое место занимали музыкальная часть и грубый комизм; диалог велся на немецком языке, но знатным гостям раздавали русский перевод; музыка сочинялась иностранцами в Москве; затем ставили спектакли и в Кремле, до самой смерти Алексея. Об этих начатках русского театра см. материалы, опубликованные С. К. Богоявленским (Московский театр при царях Алексее и Петре // ЧОИДР. 1914. II. Отд. I. С. 1–192), а так же: Финдейзен. I. С. 311–324.
(обратно)1643
Румын Николай Милеску, вызванный в Москву и прозванный в Москве Спафарием (Спатаром), был назначен 14 декабря 1671 года в Посольский приказ переводчиком с греческого и латинского языков. Он, между прочим, переводит арифметику, книгу о четырех монархиях, трактат о «семи искусствах» для царевича Феодора и становится наставником сына Матвеева (Legrand. Bibl. hell. du XVII siècle. I V. Paris, 1896. P. 62–104; Каптерев. О греко-латинских школах в Москве. C. 622–623; Михайловский // Сборник историко-филологического общества при Институте кн. Безбородко в Нежине. 1899. II. С. 24 и след.; Новые данные о службе Николая Спафария в России (1671–1708 гг.) / С предисл. Ю. Арсеньева // ЧОИДР. 1900. IV. Отд. I. С. 1–63; Соболевский. Переводная литература Московской Руси. см. указатель; Яцимирский. Николай Милеску Спафарий). Писец А. Никифоров перевел в 1672 г. немецкое научное сочинение (РНБ. Собр. Погодина. № 1682). Андрей Виниус перевел в 1674 году собрание ста двадцати четырех басен (ГИМ. Собр. Забелина. № 78). Царь велел раздать по монастырям «Меч духовный» Лазаря Барановича (Киев, 1666), наполненный цитатами из латинских авторов и насыщенный латинскими заблуждениями, на что Никон горячо возражал из своей ссылки (Барсков. С. 112–113). В 1673 году Посольский приказ обладал ста двенадцатью книгами, польскими, латинскими и немецкими (Белокуров. О библиотеке московских государей. С. 34–48). В Киеве издаются книги даже на польском языке, до восшествия на патриарший престол Иоакима они свободно продавались в Москве (ЧОИДР. 1895. II. Смесь. С. 18–19; изложение реферата В. О. Эйгорна). См. также: Шляпкин. С. 52–108. Здесь имеются многочисленные данные о западном влиянии на Руси (к сожалению, без уточнения дат).
(обратно)1644
Менезий отправляется в путь 20 октября 1672 года, вместе с саксонским медиком Ринхубером в качестве секретаря. Он проезжает через Дрезден, Вену, Венецию, Лоретто (город в Италии), остается в Риме с 8 августа по 20 сентября 1673 г. и возвращается в Москву 28 марта 1674 г. (О Менезии см. пространную монографию Чарыкова; о Ринхубере см.: Pierling P. Saxe et Moscou. Un médecin diplomate. Paris, 1893).
(обратно)1645
Период, в котором считали 9 часов и более ночи, был с 22 июля по 23 апреля (Забелин. Домашний быт русских царей. I. С. 111). Кроме того, в августе и сентябре, марте и апреле сказали бы вместо «девятого часа ночи» скорее «час, два часа до утра». Очевидно, речь идет о зимних месяцах, с ноября 1672 по февраль 1673 года.
(обратно)1646
Он умер 19 апреля 1673 г. от болезни горла (Материалы. VI. С. 250–251). См. его завещание от 17 апреля: Христианское чтение. 1890. II. С. 522–523.
(обратно)1647
Уже давно русские монахини были заменены там малороссиянками (Павел Алеппский. IV. С. 151).
(обратно)1648
Малинин. Калуга. С. 185. Это указание основано на предании, но это предание, существующее в городе, где были погребены мученицы и где старая вера создала многочисленную общину, заслуживает доверия. Монастырь Рождества Богородицы существовал с 1544 года. На его месте в 1834 году был построен храм Рождества Христова (Там же. С. 189).
(обратно)1649
См. выше гл. V, разд. II.
(обратно)1650
Материалы. VIII. С. 175–192 (Житие Морозовой).
(обратно)1651
Тринадцать писем княгини Урусовой были найдены в бумагах Преображенского приказа и изданы с введением и примечаниями. Эти письма вводят нас в тесный круг московской аристократической семьи того времени; они освещают нам личность Евдокии, оставленную на втором плане в Житии Морозовой. Что касается датировки, то Высоцкий напрасно считает, что они все написаны из Боровска: те, в которых она упоминает о будущем втором браке князя Урусова, предшествуют апрелю – июню 1672 года, ибо Аввакум, когда писал в Пустозерск в июне – июле 1672 г., уже знал об этой женитьбе (Житие. Л. 249–249 об.).
(обратно)1652
Высоцкий. С. 22–23 (ср. с. 12–13).
(обратно)1653
Получив в конце июня 1670 года строгое приказание выступить против Разина (Древняя русская вивлиофика. XXIII. Стб. 1344; РГАДА. Московский стол. Кн. 281. Л. 21–26), он был обвинен в том, что не оказал помощи Симбирску и бежал от Алатыря (Попов. Материалы. С. 84, прим. 30; 93). Он был вновь призван в ноябре 1670 г., но затем замещен Юрием Долгоруким и выслан в свое имение (Там же. С. 97, 181). Он должен был вернуться в Москву в течение 1671 г.
(обратно)1654
В 1676 г. он был уже стольником (Дворцовые разряды. III. Стб. 1638; Боярские книги. VII. С. 80).
(обратно)1655
Высоцкий. С. 9–11 (письмо, адресованное одному только Василию).
(обратно)1656
Аввакум видел Анастасию «совсем крошкой» в Москве еще в 1664 году; в 1681 году она уже заневестилась (РИБ. Т. 39. Стб. 848–849).
(обратно)1657
Письма II, IV, VII–X, XII обращены к Анастасии и Евдокии; V, VI, XI – детям вообще.
(обратно)1658
РИБ. Т. 39. Стб. 849.
(обратно)1659
Ис. 8: 9, 10, 12–14.
(обратно)1660
Мф. 10: 28.
(обратно)1661
Далее следует просительная формула.
(обратно)1662
Кол. 3: 12–13.
(обратно)1663
Мф. 24: 13.
(обратно)1664
Откр. 16: 16.
(обратно)1665
РИБ. Т. 39. Стб. 771–785 (две более поздние редакции текста с вариантами см.: Там же. Стб. 785–795 и 795–808). О датировке см.: РИБ. Т. 39. С. LII.
(обратно)1666
РИБ. Т. 39. Стб. 927–930. Возможно, но не несомненно, что адресатом этого письма был Афанасий-Авраамий.
(обратно)1667
Аввакум берет слово «образ» в обоих смыслах; чаще для обозначения ‘личности’, но также и для обозначения ‘субстанции’ или ‛существа’ (РИБ. Т. 39. Стб. 631: «естество и существо и образ то же есть»).
(обратно)1668
Материалы. VI. С. 118–120. (послание дьякона Федора сыну Максиму). [См. новейшее исследование и публикацию этого памятника: ТитоваЛ.В. Послание дьякона Федора сыну Максиму – литературный и полемический памятник раннего старообрядчества. Новосибирск, 2003. –Прим. ред.]
(обратно)1669
Gabrol F. Dictionnaire d’archéologie et de liturgie. V. 14. I (1921). Сol. 682–693; Quillet Mgr. Dictionnaire de théologie catholique. Paris, 1924. I. Col. 565–619; Real Encyclopedie für Protestantische Theologie. Leipzig, 1901. Православный катехизис приближается в этом к католическому учению (Православный катехизис. С. 98–99).
(обратно)1670
Скворцов. Дионисий Зобниновский. С. 236–237.
(обратно)1671
Прение литовского протопопа Лаврентия Зизания. С. 82–84.
(обратно)1672
Материалы. VI. С. 106. Как Федор мог насчитать три ночи?
(обратно)1673
Эту фразу из главы IV «Просветителя» Федор не цитирует в послании к сыну Максиму (Материалы. VI. С. 106–107), посвященном этому вопросу. Но изложение вопроса там очень сжатое.
(обратно)1674
Сборник в 12 главах. М.: Печатный двор, 1642. Л. 97 об. – Прим. ред.
(обратно)1675
РИБ. Т. 39. Стб. 640. – Прим. ред.
(обратно)1676
Там же. Стб. 645–646. – Прим. ред.
(обратно)1677
«Ходила к Богу Отцу, и кровь Христову гостинца носила и на жидов била челом» (Материалы. VI. С. 107). Это предположение приписывается Федором Аввакуму, возможно, что он высказал его мимоходом, но в сохранившихся текстах его нет.
(обратно)1678
Пс. 77: 65–66, по тексту Аввакума, отличающемуся от синодального издания.
(обратно)1679
Учение Аввакума изложено в третьей части «Евангелия вечного» (РИБ. Т. 39. Стб. 635–650), которое было написано после этих споров. Но элементы его встречаются уже в Беседе о днях поста и мясоястия (РИБ. Т. 39. Стб. 299), относящейся к 1672–1673 гг., и в письме к Симеону, относящемуся к 1677 г. (РИБ. Т. 39. Стб. 572).
(обратно)1680
Материалы. VI. С. 120.
(обратно)1681
РИБ. Т. 39. Стб. 645. – Прим. ред.
(обратно)1682
Эта первая половина дискуссии представлена в «Беседе об Аврааме», которая относится к первой половине 1672 года (РИБ. Т. 39. Стб. 338–341).
(обратно)1683
Cпор о Троице излагаем с точки зрения Аввакума по «Евангелию вечному» (РИБ. Т. 39. Стб. 623–632); с точки зрения Федора – по изд.: Материалы. VI. С. 97, 119–125.
(обратно)1684
Материалы. VI. С. 109.
(обратно)1685
Там же. С. 95–96.
(обратно)1686
Оно содержится на л. 110–111 Пустозерского сборника и было напечатано Дружининым: ЛЗАК. 1914. Вып. 26. С. 19–21. См. также: РИБ. Т. 39. Стб. 719–722.
(обратно)1687
Материалы. VI. С. 99–100.
(обратно)1688
1 Тим. 6: 16.
(обратно)1689
РИБ. Т. 39. Стб. 604, 618–619.
(обратно)1690
Лазарь в своей челобитной царю, написанной в 1668 году, отрицал это (Материалы. IV. С. 229–231). Он порицал за этот взгляд Федора (РИБ. Т. 39. Стб. 619).
(обратно)1691
РИБ. Т. 39. Стб. 344–345 («Беседа об Аврааме»).
(обратно)1692
РИБ. Т. 39. Стб. 619–621 (первая часть «Евангелия вечного»). Он хочет сказать: твое нравственное воровство, твои заблуждения. Та же озабоченность в «Беседе об Аврааме» (РИБ. Т. 39. Стб. 342).
(обратно)1693
Во всяком случае, Федор именно так формулирует мнение Лазаря (Материалы. VI. С. 107–108).
(обратно)1694
РИБ. Т. 39. Стб. 608.
(обратно)1695
Материалы. VI. С. 125 (царица не упоминается; видимо, это было до получения в Пустозерске сообщения о браке Алексея с Натальей; следовательно, ранее апреля 1671 года).
(обратно)1696
РИБ. Т. 39. Стб. 395. Письмо было написано после ареста Морозовой и ее подруг, но ранее, чем в Пустозерске узнали, что ее перевели в Боровск, следовательно, ранее второй половины 1673 года.
(обратно)1697
Материалы. VI. С. 100–101.
(обратно)1698
«Книга бесед» в том виде, как она была напечатана (РИБ. Т. 39. Стб. 241–424) согласно четырем рукописям, представляет собой окончательную редакцию, установившуюся самое раннее к концу 1675 г. Но Аввакум написал десять бесед, из которых состоит сборник, в ином порядке и рассылал их своим корреспондентам в различные даты. Согласно одной рукописи, «Беседа об Аврааме», поставленная в дальнейшем восьмой, была первой. Беседы 5 и 7 написаны после второй половины 1673 года; беседа 6 «О посте», несомненно, связана с письмом Морозовой. Имеются, следовательно, все основания думать, что первая отсылка материалов Морозовой содержала эти четыре беседы (см.: РИБ. Т. 39. С. XIX–XXXII).
(обратно)1699
Хотя точно установить даты написания этих сочинений и даже их хронологический порядок (кроме Жития) невозможно. См.: РИБ. Т. 39. С. XXXII–XLII.
(обратно)1700
РИБ. Т. 39. Стб. 336. – Прим. ред.
(обратно)1701
Там же. Стб. 336–337. – Прим. ред.
(обратно)1702
Там же. Стб. 342–344. – Прим. ред.
(обратно)1703
Там же. Стб. 349–350. – Прим. ред.
(обратно)1704
РИБ. Т. 39. Стб. 350–351. – Прим. ред.
(обратно)1705
Там же. Стб. 358–359. – Прим. ред.
(обратно)1706
РИБ. Т. 39. Стб. 329–360. А. К. Бороздин в своем анализе «Книги бесед» указывает на заимствования, сделанные Аввакумом из Палеи и Хронографа (Бороздин. С. 233–238).
(обратно)1707
РИБ. Т. 39. Стб. 293–304.
(обратно)1708
Ссылка на очень распространенное греческое полемическое сочинение XIII века «Прение Панагиота с Азимитом», оригинал которого найден А. Васильевым и которое имело в России громадный успех (См.: Попов А. Историко-литературный обзор. С. 238–286). Аввакум, цитируя по памяти, ошибался. Азимит – кардинал-латинянин, философ Панагиот – грек.
(обратно)1709
РИБ. Т. 39. Стб. 303–330.
(обратно)1710
1 Кор. 1: 19–21.
(обратно)1711
РИБ. Т. 39. Стб. 289–294. – Прим. ред
(обратно)1712
Она часто перепечатывалась, в частности П. П. Вяземским: ПДПИ. I. С. 63–130; об источниках этого текста см.: Жданов И. Беседа трех святителей и Joca Monachorum // ЖМНП. 1892. I. С. 157–194.
(обратно)1713
Этот факт остается неоспоримым, но Аввакум преувеличивал временной разрыв: даже свв. Василий Великий и Иоанн Златоуст были современниками на протяжении тридцати двух лет.
(обратно)1714
Выше я привел некоторые характерные черты этих явлений.
(обратно)1715
Пересчитывая старую хронологию на новую, мы определяем 1672 вместо 1680. Беседа «О Божестве и о твари» была напечатана (РИБ. Т. 39. Стб. 651–684). Автограф Аввакума сохранился в Пустозерском сборнике из собрания Дружинина (БАН. Собр. Дружинина. №. 746. Л. 301–330 об.). [Еще один автограф сохранился в Пустозерском сборнике И. Н. Заволоко (ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 24. № 43, Л. 130 об. – 162 об. Изд.: Пустозерский сборник: Автографы сочинений Аввакума и Епифания. Л., 1975. С. 92–111. – Прим. ред.]
(обратно)1716
РИБ. Т. 39. Стб. 689–700.
(обратно)1717
С 1861 года Житие перепечатывалось несколько раз. В 1916 г. все три редакции (первая по рукописи) были опубликованы в хронологическом порядке (Стб. 1–82, 83–150, 151–240). О Житии см.: Pascal P.. La Vie de l’Archiprêtre Abbakum écrite par lui-même. Paris, 1938. [См. также последнее исследование: Демкова Н. С. Житие протопопа Аввакума: (Творческая история произведения). Л., 1974. – Прим. ред.]
(обратно)1718
Житие Епифания было напечатано два раза: Бороздиным (Христианское чтение. 1889. I. С. 211–240) и Барсковым (Барское. С. 229–262; примеч. на с. 389–392). Дружинин (Дружинин. Писания. С. 169) указывает три рукописи, к которым следует добавить автограф в Пустозерском сборнике [из собр. В. Г. Дружинина], который, к сожалению, не был сличен с другими рукописями. См. также: Смирнов. Внутренние вопросы. С. XC–XCI. [Еще один автограф Жития Епифания находится в другом Пустозерском сборнике – из собр. И. Н. Заволоко. – Прим. ред.]
(обратно)1719
РИБ. Т. 39. Стб. 922–923. [О дальнейшей судьбе Афанасия Аввакумова см.: Понырко П. В. Новые материалы о протопопе Аввакуме (Два «дела» мезенской воеводской канцелярии о сыне Аввакума Афанасии) // ТОДРЛ. Л., 1990. Т. 44. С. 397–402. – Прим. ред.]
(обратно)1720
РИБ. Т. 39. Стб. 919–924 (1673 г.).
(обратно)1721
Там же. Ст. 929–932.
(обратно)1722
РИБ. Т. 39. Ст. 923–928.
(обратно)1723
2 Ин. 1: 1.
(обратно)1724
Еф. 4: 14.
(обратно)1725
Лк. 12: 32.
(обратно)1726
Откр. 13: 10.
(обратно)1727
Мф. 10: 28.
(обратно)1728
Деян. 2: 40.
(обратно)1729
РИБ. Т. 39. Стб. 807–811.
(обратно)1730
Воздвиженский. Историческое обозрение Рязанской иерархии. С. 135–136; судя по его завещанию (там же. С. 136–150), Иларион был гонителем старины, не имевшим себе равных.
(обратно)1731
Древняя российская вивлиофика. V. С. 63–67 (Житие Федора Ртищева).
(обратно)1732
Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. 1908. XXIV. С. 95–101. Лебедев (Труды 4-го Археологического съезда. С. 103–105) фиксирует его смерть по книгам монастыря.
(обратно)1733
Московский некрополь. II. С. 387. Панегирик умершему был произнесен Симеоном Полоцким (ЧОИДР. 1886. I. С. 605).
(обратно)1734
Берх. Царствование царя Алексея Михайловича. I. С. 295.
(обратно)1735
Цветаев. Протестантство. С. 113–114 (в 1674 г.).
(обратно)1736
Там же. С. 123–126.
(обратно)1737
Тихонравов. Сочинения. II. С. 354, 358.
(обратно)1738
РИБ. Т. 39. Стб. 939 (письмо Исидору). Для того чтобы Аввакум говорил о заблуждении квакеров как обо всем известном учении, о нем должны были много говорить в Москве раньше; письмо Исидору написано ненамного позднее 1676 года.
(обратно)1739
Цветаев. Протестантство. С. 178.
(обратно)1740
Между 1666 и 1669 годами Римская курия вполне серьезно предвидела возможность соединения православной и католической церквей, между прочим, через посредство Паисия Лигарида (см.: Шмурло. Россия и Италия. I V. С. 70, 88, 168, 252).
(обратно)1741
Русский вестник. 1885. Сентябрь. С. 364; Сборник МГАМИД. V. С. 240; Сборник статей, посвященных В. О. Ключевскому. С. 67.
(обратно)1742
Сборник МГАМИД. V. С. 240 (отчет Лысека, Страсбург, 1676 г.).
(обратно)1743
Харлампович. Малороссийское влияние. С. 422–429.
(обратно)1744
Митрополит Павел имел эту книгу в своей библиотеке (ВОИДР. V. Смесь. С. 65–72).
(обратно)1745
Сумцов. Иннокентий Гизель. С. 37–41.
(обратно)1746
Древняя российская вивлиофика. 2-е изд. XI. С. 244; Дворцовые разряды. III. Стб. 965.
(обратно)1747
Он прибыл туда 4 февраля 1673 года (Бычков. С. 3).
(обратно)1748
Указ от 31 декабря 1673 г. (АИ. IV. № 240).
(обратно)1749
Кадыков, Шляпкин. Летопись и акты новгородского мужского Деревяницкого монастыря. С. 75.
(обратно)1750
Соловецкий монастырь подчинялся Новгородской митрополии.
(обратно)1751
ААЭ. IV. С. 259–263. №. 204.
(обратно)1752
Труды Вятской архивной комиссии. 1908. II. Ч. 3. С. 75. Так, Кашира перешла из Рязанской в Коломенскую епархию, Епифань и два других города, наоборот, из Коломенской в Рязанскую. См.: Пискарев. С. 104–106. № 41 (25 августа 1675 года).
(обратно)1753
АИ. V. № 259. В 1687 г. это было распространено на всю Русь.
(обратно)1754
Чиновник вышел из печати в марте 1677 г. вместе с Соборными постановлениями 1674 года [Зернова. С. 102. № 345. – Прим. ред.].
(обратно)1755
Амвросий. История российской иерархии. I. С. 331–332.
(обратно)1756
Дворцовые разряды. III. Стб. 1104, 1116; Извеков. С. 102–110.
(обратно)1757
ААЭ. IV. № 200.
(обратно)1758
Цветаев. К истории культуры в России. С. 11.
(обратно)1759
Харлампович. Малороссийское влияние. С. 446.
(обратно)1760
Мансветов. Как у нас правили церковные книги. С. 527 и след.
(обратно)1761
ПСЗРИ. I. С. 1007. № 607; Берх. Царствование царя Алексея Михайловича. I. С. 289.
(обратно)1762
Вероятно, речь идет о старшем брате Морозовой, Алексее Соковнине, а не о брате Мелании, который неизвестен истории и посещения которого Морозова имела меньше оснований желать. Этот старший брат, по-видимому, и является автором Жития, ибо как раз в связи с этим автор переходит от третьего к первому лицу. [Старшим братом Ф. П. Морозовой являлся Федор Соковнин, который и написал как доказала Н. В. Понырко, ее Житие. – Прим. ред.]
(обратно)1763
Материалы. VIII. С. 191–193 (Житие Морозовой).
(обратно)1764
В этом почитании Матери-Земли боярыня Морозова следует общенародной традиции. См. Смирнов С. «Исповедь Земле» в «Исповеднике». С. 255–283.
(обратно)1765
Весь этот рассказ о смерти боровских узниц основан на «Житии Морозовой» (Материалы. VIII. С. 191–203). Это Житие является в данном случае единственным источником, но зато источником верным, идущим из первых рук: в каждой строке чувствуется очевидец, видевший мертвое тело Евдокии и проверивший вместе с Меланией одновременность ее видения со смертью Феодоры. Судя по всему, он расспрашивал стражу. Надмогильная надпись на плите двух сестер, сделанная их братьями Федором и Алексеем Соковниными, была снята в 1884 г. (Русская старина. 1884. Т. XLII. С. 156; более подробно см.: Русская старина. 1908. Ноябрь. С. 680–684). Наименование [Ф. П. Соковнина] боярином и [А. П. Соковнина] окольничьим показывает, что плита более позднего происхождения, после 1682 года.
(обратно)1766
Сырцов. С. 297–306 (согласно разным источникам, в частности см.: Материалы. III. С. 330, 354, 411, 429, 441). Денисов в своей «Истории об отцах и страдальцах соловецких» дает волнующее описание взятия Соловков и массового истребления, имевшего там место, однако к его рассказу следует относиться с осторожностью, в частности к дате 29 января, приведенной, чтобы указать на полное совпадение со смертью царя.
(обратно)1767
СГГД. I V. С. 336. № 104; Посольство Кунраада фан-Кленка. С. 430.
(обратно)1768
РИБ. Т. 39. Стб. 244.
(обратно)1769
Там же. Стб. 248, подтверждается отпиской воеводы (РГАДА. Приказные дела. 1675–1676. № 227. Л. 139). Не датирована, но относится к последней трети 1675 года.
(обратно)1770
Это указание позволяет датировать Беседу, поскольку единственной значительной турецкой угрозой между 1670 и 1675 г. (в другом месте царь Алексей назван живущим) был переход через Дунай Магомета IV 1 июля 1672 г. и взятие Каменец-Подольска 17 августа. 30 сентября царь был уведомлен польским королем о серьезности этой опасности: Украина могла отойти к Турции. В Москве была большая паника. 20 октября Менезий отправился в Рим организовывать крестовый поход. Эхо этих событий могло достичь Пустозерска к декабрю 1672 – январю 1673 года. Значит, Аввакум пишет между сентябрем 1673 и сентябрем 1674 г.
(обратно)1771
РИБ. Т. 39. Стб. 271–282.
(обратно)1772
Ранее было Никола, теперь Николай.
(обратно)1773
РИБ. Т. 39. Стб. 281–288. Беседа датируется на основании следующего: боровские узницы сравниваются с тремя отроками в пещи; следовательно, она не могла быть написана до конца 1673 г.; вероятно, она писалась вскоре после этого, так как некоторые выражения напоминают Житие.
(обратно)1774
РИБ. Т. 39. Стб. 245–258. Датируется по содержанию: Соловки в осаде семь лет, а Киприан еще жив (Стб. 248); следовательно, это начало 1675 г. Вторая беседа связана с первой чисто литературной традицией: она была написана сразу же после.
(обратно)1775
Соответствующее объяснение стиха Ис. 60: 13, вошло в церковную традицию еще со времени св. Иоанна Дамаскина, Григория Омиритского и Германа Константинопольского. Его приводили в пользу восьмиконечного креста еще Никита (Материалы. IV. С. 98–99) и Соловецкая челобитная (Материалы. III. С. 224). Данное Аввакумом объяснение Еф. 3: 18 заимствовано из «Книги о вере» (начало гл. IX), равно как и примеры из Ветхого Завета. Но разделение значения между тремя крестами принадлежит, по-видимому, самому Аввакуму.
(обратно)1776
О споре о различных формах креста см.: Смирнов. Внутренние вопросы. С. 193–201.
(обратно)1777
РИБ. Т. 39. Стб. 259–272.
(обратно)1778
РИБ. Т. 39. Стб. 361–376. Написана в 1675 году: «двадесять два лета плаваю…»
(обратно)1779
Там же. Стб. 375–392. Написана при жизни царя Алексея.
(обратно)1780
Здесь создается впечатление, что крещение в этом случае было бы недействительно. Но он все же советует причащать детей, окрещенных по-новому. Аввакум, хотя и чувствует различие между неправильностью и недействительностью таинства, не выражает его ясно.
(обратно)1781
Из четырех вариантов этого послания, напечатанных в академическом издании (РИБ. Т. 39. Стб. 829–846, 417–424), подлинным является лишь вариант стб. 836–841 (с добавлением в конце текста № 4, стб. 841). За его подлинность говорит характер языка, равно как и древность рукописи, относящейся к XVII веку. Послание было присоединено к «Книге бесед». Громадное значение этого послания для повседневной жизни верующих вызвало необходимость размножить его, при этом, случайно или преднамеренно, были внесены некоторые изменения. В дальнейшем сам Аввакум пользовался им. Г. Ланц дал несколько выдержек из «Книги бесед», см.: Slavonic Review 1929. Décembre. P. 249–258.
(обратно)1782
РИБ. Т. 39. Стб. 429, 437, 447, 513–514.
(обратно)1783
Там же. Стб. 283, 460, 637, 665–666.
(обратно)1784
Там же. Стб. 256, 345.
(обратно)1785
Там же. Стб. 438, 667.
(обратно)1786
Там же. Стб. 344, 659.
(обратно)1787
Там же. Стб. 445.
(обратно)1788
РИБ. Т. 39. Стб. 475–477.
(обратно)1789
Там же. Стб. 532.
(обратно)1790
«Нравоучение» содержит измененное толкование притчи о нанятых делателях, которым заканчивалась «Книга бесед» (сопоставление текстов показывает, что текст «Книги бесед» является более ранним, см.: Бороздин. С. 238–243).
(обратно)1791
«Книга толкований» (РИБ. Т. 39. Стб. 427–562) датируется по нескольким высказываниям: Стб. 470: «А в нашей Росии в 20 в 3 лета, отнележе враг развратил Церковь и внесены быша еретическия уставы»; Стб. 522: «От вас в осаде сидят седмь годов». Это указывает на конец 1675 г. или начало 1676 г., на время, предшествующее получению в Пустозерске известия о смерти царя Алексея.
(обратно)1792
Материалы. VI. С. 91–94. Присутствие в Пустозерске этих десяти соловецких узников подтверждается письмом местного воеводы в Москву в связи со смертью одного из них в октябре 1680 г. (РГАДА. Приказные дела новой разборки (ф. 159). № 1128. Л. 249–255).
(обратно)1793
РИБ. Т. 39. Стб. 767–770. Все послание в целом и некоторые его выражения в частности объясняются лишь при том предположении, что оно было отправлено вскоре после сообщения о вступлении Федора на царство.
(обратно)1794
18 февраля (Дневальные записки Приказа тайных дел. С. III).
(обратно)1795
Извеков. С. 102–110 (суд состоялся 14 марта 1676 г.).
(обратно)1796
4 июня он был назначен воеводой в Верхотурье, затем задержан в Лаишеве по обвинению в колдовстве. Не кто иной, как Федор Соковнин, брат Морозовой, обыскивал его вещи. Затем его отправили в Казань, где 4 июня 1677 г. его лишили боярства (боярином он стал в октябре 1674 г.).
(обратно)1797
1 сентября (Каптерев. Характер отношений России к православному Востоку. С. 206).
(обратно)1798
10 сентября (Там же. С. 268).
(обратно)1799
Иностранные военные во главе с Лефортом, 25 августа 1675 г. сошедшие на берег в Архангельске, были приняты лишь после преодоления ряда трудностей (Устрялов. История царствования Петра Великого. II. С. 8–11). В 1677–1678 гг. проживавшие в Москве голландцы были подвергнуты ряду притеснений (Lubimenko. P. 271).
(обратно)1800
В 1677 г. Симеон Полоцкий написал сочинение о молитве за умерших. Его перу принадлежит сборник сочинений о почитании креста, икон, призывании святых, почитании св. мощей. Все эти сочинения были направлены против протестантов (Срезневский, Покровский. Описание рукописного отделения Библиотеки Академии наук. II. С. 108).
(обратно)1801
Материалы. VI. С. 255. К сожалению, рассказ Федора обрывается (вследствие пропуска в рукописи) на том самом месте, где повествуется о прибытии сотника.
(обратно)1802
РГАДА. Приказные дела новой разборки (ф. 159). № 1128. Л. 312–313.
(обратно)1803
Челобитные Матвеева включены в «Историю о невинном заточении… А. С. Матвеева», сборник, составленный его сыном и опубликованный Новиковым в 1776 г.
(обратно)1804
ЧОИДР. 1917. II. Смесь. С. 25–29.
(обратно)1805
25 октября 1676 г. последовало распоряжение архимандриту Новоспасского монастыря заменить старые книги новыми, а деревянные сосуды – другими, изготовленными из металла (Забелин. Материалы для истории, археологии и статистики г. Москвы. I. Стб. 845). В 1673 г. архиепископ Вологодский дал распоряжение священникам и приходам заменить прежние потиры, копия, звездицы и лжицы на оловянные, а также сделать рукописную копию или приобрести новый Требник (Описание собрания свитков, находящихся в Вологодском епархиальном древлехранилище. Вып. 3. С. 35–37). В Новгородской епархии всякий, скрывавший старый Служебник, подвергался десятирублевому штрафу (Досифей. II. С. 235–237).
(обратно)1806
Голубинский. История канонизации святых. С. 124.
(обратно)1807
Московский собор о Житии благоверныя княжны Анны Кашинския // ЧОИДР. 1871. I V. Отд. I. С. 45–62; Голубинский. История канонизации святых. С. 165 и след.
(обратно)1808
Смирнов. История русского раскола. С. 172.
(обратно)1809
Тождественность лица не очевидна, но очень вероятна (см.: РИБ. Т. 39. С. XXXIV–XLV).
(обратно)1810
Дата, которую имеет в виду Аввакум, может быть только временем его первого московского изгнания: а именно, это сентябрь 1653 года. Следовательно, его письмо приурочивается к марту 1677 года (РИБ. Т. 39. Стб. 567).
(обратно)1811
Исх. 15: 1.
(обратно)1812
РИБ. Т. 39. Стб. 563–576.
(обратно)1813
Там же. Стб. 572.
(обратно)1814
РИБ. Т. 39. Стб. 568.
(обратно)1815
Игнатий еще в бытность свою екклесиархом в Соловках направил царю по этому поводу челобитную (Смирнов. Внутренние вопросы. С. 045–047), это послание позднее послужило содержанием небольшого трактата (Там же. С. 016–018).
(обратно)1816
РИБ. Т. 39. Стб. 627. № 5.
(обратно)1817
Там же. Стб. 582. Ранее, в 1666 году, Ефрем выражал мнение, что при Втором пришествии Бог-Отец будет иметь свой язык, у Сына будет другой и у Духа Святого – третий (ГИМ. Синодальное собр. свитков. № 1161).
(обратно)1818
РИБ. Т. 39. Стб. 579.
(обратно)1819
Там же. Стб. 585.
(обратно)1820
Скрижаль. Л. 312.
(обратно)1821
Материалы. III. С. 270–271.
(обратно)1822
Материалы. VI. С. 128–130.
(обратно)1823
Там же. С. 128–130.
(обратно)1824
Dom Moreau. Les liturgies eucharistiques. Bruxelles, 1924. P. 134, h. 1. Федор не предполагал, что его столь логическое и столь обоснованное мнение вскоре будет определено в Москве как «латинская ересь».
(обратно)1825
Материалы. I V. С. 97, 130–131. Аввакум цитирует текст Евангелия от Матфея (Мф. 16: 18–19), относительно креста Петрова см.: РИБ. Т. 39. Стб. 824, 271.
(обратно)1826
Материалы. VI. С. 131–132.
(обратно)1827
Федор сообщил о чуде в послании своим единоверцам, которое сохранилось до нашего времени в списке, относящемся к более позднему времени, но оно несет на себе отпечаток подлинности (Барсков. С. 155: 21–156: 17; 363–364).
(обратно)1828
Материалы. VI. С. 90–137, 138–192, 192–261. Третья часть написана в то время, когда о смерти Александра Вятского (17 декабря 1678 г.) было уже известно, то есть самое раннее в 1679 году, но первые две части могли быть начаты много раньше.
(обратно)1829
Можно было предположить, что он все-таки располагал текстом Федора: разорвал ли он на самом деле его «тетрадь», как это утверждал Федор?
(обратно)1830
РИБ. Т. 39. Стб. 633. Можно считать доказанным, что тетрадь, попавшая в руки Аввакума, очутилась у него без согласия ее владельца.
(обратно)1831
Материалы. VIII. С. 238–239. «Евангелие вечное» (РИБ. Т. 39. Стб. 577–650) является хорошо составленным сочинением, разделенным на три следующие части: 1. Мысли Федора относительно Пресвятой Троицы, Христа и о природе души; 2. Определение Аввакумом сущности Божества, его природы и его ипостасей; 3. Вопрос о нисхождении во ад. (Относительно подлинности рукописи, а также датировки (1679 год) см.: РИБ. Т. 39. С. XXXVI–XLI.
(обратно)1832
Житие. Редакция В. Л. 87.
(обратно)1833
Впоследствии нашли на месте нахождения этого дома треножник, медную кастрюлю, две серебряные ложки и печать для просфор с восьмиконечным крестом (Пискарев П. // Нижегородские губернские ведомости. 1849. № 67. С. 267–268).
(обратно)1834
Показания изверженный из сана Прокопия в 1688 году (ДАИ. XII. С. 203–205. № 17) и приказ о расследовании 1686 года (Русская старина. 1912. № 12. С. 674–675).
(обратно)1835
РИБ. Т. 39. Стб. 940.
(обратно)1836
Ундольский. Очерк старорусской библиографии. С. 103.
(обратно)1837
Румянцев. Никита Константинов Добрынин. С. 257–258.
(обратно)1838
РИБ Т. 39. Стб. 949–950.
(обратно)1839
Там же. Стб. 947–948.
(обратно)1840
Возможно, но совершенно не обязательно, чтобы Максим, один из владельцев лестовки, был сыном дьякона Федора.
(обратно)1841
Материалы. V. С. 250–252; Житие протопопа Аввакума. М., 1935. С. 368–370. Эта записка вошла во 2-й том академического издания, см.: РИБ. Т. 39. С. LXXVI. П. С. Смирнов (Смирнов. Внутренние вопросы. С. LX–LXI) полагает, что нет причины сомневаться в подлинности этой записки.
(обратно)1842
Поэтому экземпляры, которыми мы пользуемся, – анонимны.
(обратно)1843
См. выше, гл. XIII, разд. II.
(обратно)1844
АИ I V. С. 536. № 248 (1674 г.)
(обратно)1845
О пустозерских казнях не упоминается: очевидно, о них в Москве к 23 июня еще не было известно, по крайней мере частным лицам.
(обратно)1846
Главным источником для описания событий июня – июля 1682 года является сообщение Саввы Романова, напечатанное дважды (оба раза без особой тщательности): Кожанчиков. Три челобитные. С. 72–143; Тихонравов. Летописи русской литературы. Ч. V. Разд. II. С. 111–148. Румянцев (Румянцев. Никита Константинов Добрынин. С. 256–328) дает документально обоснованное, критическое, разумное, обстоятельное и относительно объективное повествование.
(обратно)1847
Евфросин. Отразительное писание. С. 19.
(обратно)1848
Бонч-Бруевич. Материалы. I. С. 225.
(обратно)1849
Сводный старообрядческий синодик. С. 21.
(обратно)1850
Дружинин. Раскол на Дону. С. 240.
(обратно)1851
Верюжский. С. 76. Профессор Е. Ляцкий, путешествуя по Северу России незадолго до 1914 г., услышал и записал в Пустозерске песню об Аввакуме (устное сообщение сделанное Е. А. Ляцким в 1934 году). Вряд ли она была сочинена позднее, чем в конце XVII века.
(обратно)1852
Материалы. VIII. С. 242, 260, 337.
(обратно)1853
Такого типа изображение еще недавно хранилось в библиотеке единоверческого Никольского монастыря и в настоящее время находится в подвалах московского Исторического музея; оно воспроизведено в натуральную величину в «Изборнике народной газеты» (1906. Сентябрь. № 8. С. 37), затем имеется уменьшенная фотографическая копия, сделанная Ягодичем и помещенная против титульного листа его немецкого перевода Жития (рис. 1). Частично это изображение воспроизведено Субботиным (Материалы. V). Анисимов видит тут произведение ремесленников конца XVIII века (Ягодин. С. 227). [В настоящее время икона, о которой идет речь, хранится в Отделе древнерусской живописи ГИМ, инв. 54727 ИVIII 4419. Опубл.: Неизвестная Россия: К 300-летию Выговской старообрядческой пустыни: Каталог выставки. М., 1994. С. 35, № 6. – Прим. ред.]
(обратно)1854
Коллекционер А. Е. Бурцев (Бурцев. Полное собрание библиографических трудов. Т. IX: Материалы по истории раскола) описывает подобное изображение. [Речь идет не об иконе, а о настенном рисованном лубке «Описание лицевое Жития протопопа Аввакума» начала XIX в., находившемся в собрании А. Е. Бурцева. Его воспроизведение и анализ см.: ИткинаЕ.И. Рисованные настенные картинки на тему житий протопопа Аввакума и боярыни Морозовой // Старообрядчество в России (XVII–XX вв.). М., 1999. [Вып. 2]. С. 419–427. – Прим. ред.]
(обратно)1855
Таковы были изображения, которые подверглись преследованию в 1724 г. (см. ниже).
(обратно)1856
Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. I. Стб. 769.
(обратно)1857
Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания. I V. С. 257. № 1398; V. С. 226. № 1689 (20 ноября 1725 г.). Указ 1716 г. признал за «раскольниками» те же права, какими обладали другие граждане городов и деревень, при условии, что они заявят о себе, дабы платить двойную подушную подать. Но распространение своего учения им было запрещено; затем из года в год в этот указ о веротерпимости вносились еще многочисленные ограничения.
(обратно)1858
Об этом изгнании: Востоков. Пребывание ссыльных князей В. В. и А. В. Голицыных в Мезени // Исторический вестник. 1886. Т. 25. № 8. С. 387–398.
(обратно)1859
Н. Дружин // Московская церковная старина. IV; Русский вестник. 1879. Декабрь. С. 767. Шаболовка была заселена лишь во второй половине XVII века. В 1698 году там насчитывалось всего около двадцати дворов (в 1756 году – 32).
(обратно)1860
Все сведения, имеющиеся об Анастасии и Иване, проистекают из допросов последнего (РГАДА. Государственный архив. Разряд VII. № 68, за подписью Ивана. Изложение см.: Есипов. I. С. 117–127). О других детях Аввакума история не сохранила следов. Возможно, что они остались в Окладниковой слободе, где в 1677 г. у Афанасия был дом (РГАДА. Писцовые книги. № 15 055. Л. 191). Жмаев нашел в Пустозерске некую вдову Безумову, а я видел в Григорове семью Темных, утверждавших, что они происходят от протопопа, но в этих преданиях нет ничего более или менее достоверного.
(обратно)1861
Дружинин. Писания. С. 1–31; РИБ. Т. 39. С. III–VI.
(обратно)1862
Евфросин. Отразительное писание. С. 038–058.
(обратно)1863
Труды Рязанской архивной комиссии. V. 1890. № 9. С. 153 (13 сентября 1684 г. послан в Рязань; 26 февраля 1685 г. направлен в Солодчинский монастырь).
(обратно)1864
См.: Stchoukine I. Le suicide collectif dans le raskol russe. Paris, 1903. P. 120. В XIX веке насчитывают около двадцати коллективных самоубийств: последнее из них было в 1897 г.
(обратно)1865
Рождественский Т. Памятники старообрядческой поэзии. С. XVII.
(обратно)1866
Найдено Хр. Лопаревым и издано им в 1895 году, с введением и комментариями. Это весьма поучительное исследование о жизни старообрядцев в период 1680–1690 годов. Споры о самосожжении изучены П. С. Смирновым: Смирнов. Внутренние вопросы. С. 53–82.
(обратно)1867
В 1710 году на Керженце была составлена история споров о «Евангелии вечном» для осведомления общины на Ветке (образовавшейся на польской территории из беглых из Стародубья и иных). Она была напечатана Н. И. Субботиным: Материалы. VIII. С. 204–353. См. также: Смирнов. Споры и разделения. С. 311–329.
(обратно)1868
Рождественский Т. Памятники старообрядческой поэзии. С. XIV.
(обратно)1869
См. выше раздел V предыдущей главы.
(обратно)1870
Смирнов. Внутренние вопросы. С. LXXXVII–LXXXVIII и прим. 151.
(обратно)1871
См.: Филиппов; Смирнов. Внутренние вопросы. С. CI–CVIII; Островский, Любомиров, с хорошей библиографией. [См. также: Юхименко Е. М. Выговская старообрядческая пустынь: Духовная жизнь и литература. М., 2002. В 2-х т.; Она же. Литературное наследие Выговского старообрядческого общежительства. М., 2008. В 2-х т. – Прим. ред.]
(обратно)1872
Об этих подразделениях история точно ничего нам не сообщает. О разделениях в XVIII в. см.: Смирнов. Споры и разделения. См. также его работы, опубликованные в «Христианском чтении» за 1906, 1908 и 1911 годы. О поповцах см.: Мельников П. Исторические очерки поповщины.
(обратно)1873
См.: Grass К. Die russischen Sekten: 1. Die Gottenleute (Chlüsten). Leipzig. 714 s.; Die Weissen Tauben (Skopzen). Leipzig. 1909. 448 s.; Séverac J.-B. La Secte russe des Hоmmes de Dien. Paris, 1906.
(обратно)1874
Попов И. Сборник из истории старообрядчества. II. Вып. 4. С. 1–272; Вып. 5. С. 1–226.
(обратно)1875
Материалы. VI. С. 161
(обратно)1876
Мельников. Полное собрание сочинений. VII. С. 38, 40–46.
(обратно)1877
Бухтаринские старообрядцы. С. 35–40; Беликов. С. 139–155 (глава VII).
(обратно)1878
Смирнов. История русского раскола. С. 166–167.
(обратно)1879
Весьма любопытный дневник этого похода, составленный Г. Хохловым, был издан Короленко.
(обратно)1880
Вл. Рябушинский, описывающий странствия Павла (Рябушинский. С. 92–98), рассматривает его как одну из самых удивительных личностей среди старообрядцев. Он был оратором, подвижником, прекрасным стилистом и удивительно умел практически осуществлять свои замыслы. См. также: Попов Н. Сборник из истории старообрядчества. II. Вып. 5. С. 227–272.
(обратно)1881
В 1926 году были двадцать один епископ в России и пять в Румынии, не считая еще трех епископов-противоокружников (Рябушинский. С. 90). Сюда же нужно добавить и единоверцев – «объединенных в вере и в священстве» с официальной церквью, но сохранивших старые книги и обряды. Но это, чисто политическое, создание митрополита Платона, осуществленное в 1800 году, имело очень слабый успех.
(обратно)1882
На спине – красный, окаймленный желтым квадрат (указ от 6 апреля 1722 года).
(обратно)1883
ПСЗРИ. VI. № 4012; Смирнов С. Древнерусский духовник. С. 234–240.
(обратно)1884
Историческое описание Козельской Оптиной пустыни. С. 85–87.
(обратно)1885
Титов. Рукописи славянские и русские, принадлежащие И. А. Вахрамееву. III. С. 61–63; Голубинский. О реформе в быте русской церкви // ЧОИДР. 1913. III. С. 22–23 (написано в 1881 году). О положении официальной церкви см.: Соловьев В. С. Духовная власть в России // Соловьев. Собр. соч. III. С. 206–220 – и, главным образом, статью прекрасно осведомленного приверженца православной церкви библиотекаря Синодальной библиотеки Н. П. Попова в «Богословском вестнике» (1905. III. С. 778–815).
(обратно)1886
Mgr. d’Herbigny. Vl. Soloviev. Paris, 1911. P. 288–292; Strémooukhoff D. Vladimir Soloviev et son oeuvre messianique. Paris, 1935 (диссертация, защищенная на литературном факультете в Страсбурге в 1938 году). P. 62–63.
(обратно)1887
Макарий, иеросхим. Собрание писем. С. 220; Киреевский. Сочинения I. С. 100; Историческое описание Козельской Оптиной пустыни. С. 123–130. И. Смолич (Smolitsch I. Leben und Lehre der Starzen. Wien, 1936) упоминает и о других старцах в официальной церкви, но как Тихон Задонский, Афанасий [в Площанской пустыни], Клеопа [Валаамский], Серафим Саровский и Феофан Затворник похожи на русских христиан дониконовских времен!
(обратно)1888
Смирнов П. С. О перстосложении. С. 26.
(обратно)1889
Эдемский // Записки Русского географического общества. LXI. I (1929). С. 94–97 (наблюдения 1927 г.).
(обратно)1890
Пришвин. В краю непуганых птиц. С. 174. Одно из самых продуманных исследований о старой вере и ее взаимоотношениях с религиозным сознанием русских вообще принадлежит перу В. П. Рябушинского. Переписанное рукой единственного священника Кирилла из Жуанвиль-ле-Пон и размноженное на гектографе в двухстах пятидесяти экземплярах, оно продолжает укоренившуюся среди старообрядцев традицию столь дешевого распространения своих произведений.
(обратно)1891
Рябушинский. С. 107. Нет труда более верного и справедливого о синодальной церкви и народном духовном сознании, как короткие главы г-жи Данзас в ее книге, написанной на французском языке (Mile Danzas. Itinérairе Religieux de la Conscience Russe. Istina. Ed. Gerf). С другой стороны, толстая русская книга Г. Флоровского «Пути русского богословия» (Белград, 1937), несмотря на ряд спорных положений, согласно которым спасение для церкви могло быть только в возврате к Византии (особенно для XVIII и XIX столетий), является неисчерпаемым источником фактов и библиографических сведений.
(обратно)1892
Во втором издании этим заключительным предложением был заменен абзац: «Но на обломках поднимается новое здание. Уже зарубежный православный епископат снял клятвы 1666 года, признал законность старой веры и восстановил мир с “австрийской” иерархией. Надлежит осуществиться и другим путям примирения, так как невозможно, чтобы великие потрясения современности не имели религиозных последствий. Новая русская церковь будет более чистой, более святой и более кафоличной, чем прежняя».
(обратно)

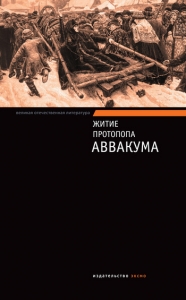



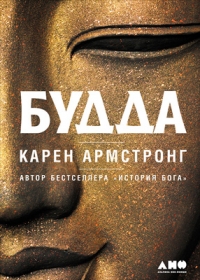

Комментарии к книге «Протопоп Аввакум и начало Раскола», Пьер Паскаль
Всего 0 комментариев