Иосиф Крывелев Xристос: миф или действительность?
Несколько вступительных замечаний
В течение последних двадцати столетий постоянно и громко звучало в истории и в жизни миллионов людей имя Иисуса Христа. Оно пронизывало все области общественной и частной жизни. Этим именем совершались и добро, и зло, творились подвиги милосердия и деяния невообразимой, бесчеловечной жестокости. Оно использовалось для прикрытия и освящения своекорыстных интересов рабовладельцев, крепостников, капиталистов, колониальных завоевателей, в нем же находили свое выражение мечты угнетенных о возмездии поработителям, об идеальном общественном порядке, о лучшей жизни. И в памяти людей, в исторической памяти почти двух тысячелетий сам образ Христа сложился как нечто многоликое и противоречивое.
Различным выглядит и субъективное отношение людей к личности Христа — от глубокого почитания и умиления до презрения и ненависти. Между этими двумя полюсами располагается много переходных звеньев. Мы не будем их здесь перечислять, приведем лишь примеры полярно противоположных высказываний.
Для Эрнеста Ренана Христос — личность, которую следует поместить на «недосягаемую вершину» человеческого величия. Категорически отрицательные характеристики Христа содержатся в сочинениях мыслителей французского Просвещения. Не будем пока взвешивать степень основательности тех и других оценок. На данной стадии изложения нам важно лишь указать, как далеко они расходятся.
В начале работы над этим разделом книги автор собирался озаглавить его «Образ Христа в исторической памяти тысячелетий». Но скоро стало ясно, что написать такой раздел как нечто целое невозможно: никогда не было и теперь нет такого единого представления о личности Иисуса, которое фигурировало бы в общественном сознании и литературе всех времен и даже у всех идеологических направлений одного и того же времени. И в нашу эпоху нет одного образа Христа, а есть далеко расходящиеся варианты этого образа. Поэтому соответствующий раздел книги назван «Христос многоликий», и автор попытается осветить некоторые из его «ликов».
Задача эта будет достаточно трудная, ибо даже сам подход к трактовке личности Христа у различных истолкователей разный: одни усматривают в нем прежде всего черты человека, другие — облик религиозного подвижника и пророка, третьи — образ политического деятеля, моралиста, философа, для четвертых он просто продукт мифологического творчества. В соответствии с этим они берут в основу своего анализа признаки, лежащие в разных плоскостях, так что изложение их взглядов создает общее ощущение чрезвычайной пестроты и мозаичности. Но с этим ничего не поделаешь — такое ощущение выражает реальную картину распространенных представлений, связанных с личностью действительного или мнимого основателя христианства.
Начнем с того учения о личности Иисуса, которое проповедуется христианской церковью.
I. Христос многоликий
Богочеловек?
Богословская литература, посвященная образу Христа, практически необозрима и по своему смыслу многообразна. Мы находим в ней большое количество различных толкований, нередко противоречащих одно другому. Совпадают эти толкования лишь в оценке исторической роли Христа как основоположника христианства и основателя церкви.
В соответствии с новозаветной традицией считается, что Христос при жизни собрал вокруг себя группу апостолов и учеников, которые после его смерти неустанной проповеднической деятельностью добились распространения нового учения в странах Средиземноморского бассейна, а затем христианство постепенно завоевало всю Европу. Основатель церкви позаботился и о преемнике для себя в качестве руководителя церкви; он назначил таким преемником, как сказано в Евангелии от Матфея, апостола Петра.
Для выяснения церковной трактовки самой личности Иисуса Христа мы воспользуемся главным официальным документом христианского учения — Символом веры, а также некоторыми постановлениями вселенских соборов — они тоже являются официальными документами христианского вероучения и признаются церковью непреложно истинными.
Не для критики, а в порядке констатации несомненного факта нужно сказать, что признаваемое церковью учение о Христе весьма туманно и с трудом поддается логически последовательному изложению. Впрочем этого не отрицают и сами идеологи христианства. В богословских сочинениях можно часто встретить ссылки на таинственность и неисповедимость того или иного элемента христианской догматики, связанного с учением о личности основателя христианства. В таких случаях дается принятая церковью формула и сообщается, что так как ее уразумение невозможно для человеческого ума, то в нее надо верить как в высшую и окончательную истину. Попытаемся разобраться в смысле того учения о Христе, которое церковь отстаивает как истинное.
Начнем с того, как это учение изложено в Символе веры. Он именуется Никеоцареградским по той причине, что обсуждался и был принят на двух церковных вселенских соборах: Никейском в 325 году и Константинопольском (Цареградском) в 381 году. Никейский собор принял первые семь пунктов Символа, Константинопольский — еще пять пунктов. Во всех многочисленных ожесточенных спорах, сотрясавших христианское вероучение и богословие в течение столетий, двенадцать статей Символа веры остались до сих пор тем устоем христианства, в котором ни одна из основных церквей не позволяет сомневаться.
Что же говорится в Символе об Иисусе Христе?
Он занимает в этом основном документе христианского вероучения центральное место: из двенадцати пунктов шесть (со второго по седьмой) посвящены ему. Символ требует верить «во единого господа Иисуса Христа», который характеризуется как «сын божий единородный, рожденный от отца прежде всех веков». Здесь уже, правда, возникает некоторая трудность для понимания: если Иисус Христос рожден, пусть даже от бога, то это должно было произойти в какой-то момент времени, а если «прежде всех веков», то значит он существовал всегда и, следовательно, не мог быть когда бы то ни было рожден.
Это противоречие заметил еще в свое время знаменитый еретик Арий. Он исходил из того, что, поскольку Иисус в некоторый момент родился, значит он возник из небытия, был создан, сотворен. Отсюда у Ария следовали далеко идущие выводы относительно всего значения Христа: сотворен — значит не вечен, т. е. не бог, а лишь творение божие, хотя и самое совершенное. Взгляды Ария были осуждены церковью как самая зловредная ересь.
В той же второй статье Символа утверждается, что Иисус есть «свет от света, бог истинный от бога истинного, рожденный, несотворенный, единосущный отцу…». Речь идет, таким образом, о боге. Иисус Христос — бог, рожденный богом-отцом, он составляет в то же время со своим отцом нечто единое. Он был и человеком — об этом говорят последующие статьи Символа.
«Ради нас, людей, и ради нашего спасения» Иисус сошел с небес и воплотился от духа святого и девы Марии и «вочеловечился». Иначе говоря, бог Христос на время воплотился в человеческий образ и появился на Земле в качестве человека Иисуса. Сделал он это с целью спасения заблудшего и исстрадавшегося человечества.
Спасительную миссию, принятую на себя, Христос выполнил путем самопожертвования: «Распят за нас при Понтии Пилате и страдал, и погребен». Это было искупительной жертвой за грехи человеческие. Пострадал и погиб, однако, не бог, а человек, в которого бог воплотился. И погиб этот человек небесповоротно. Пятая статья Символа сообщает, что на третий день после своей смерти Иисус воскрес «по Писанию». Потом он, как сказано в шестой статье, взошел на небеса и сел по правую руку бога-отца. В дальнейшем, как сообщает седьмая статья Символа, он опять («паки») явится «со славою судить живых и мертвых». И уж на этот раз «его царствию не будет конца».
Таким образом, с церковной точки зрения образ Христа двойственен: это — богочеловек, он олицетворяет одновременно и божественное, и человеческое начала. В качестве бога он составляет второе лицо Троицы, и в этом его вечное вневременное значение. Человеческий же образ Иисуса выглядит как временный, связанный лишь с тремя десятилетиями его земной жизни. Но здесь налицо очередное осложнение.
Человеческое начало в Иисусе церковь считает таким же постоянным и вечным, как и божеское, хотя это не согласуется с признанием его рождения, т. е. того факта, что он в некий момент времени «вочеловечился». В будущем Иисус должен, правда, опять прийти на Землю, но уж на этот раз «во всей славе своей», значит как будто не в человеческом, а в божественном образе. Но все равно церковь стоит на той позиции, что два «естества» Христовы в нем нераздельно слиты. С этим, однако, непостижимо сочетается положение о том, что эти естества соединены, хотя «нераздельно и неразлучно», но «неслиянно»…
В этот логический тупик церковь заходила постепенно, в ходе борьбы против «ересей», нашедшей свое выражение на вселенских соборах.
Уже на первом из них — Никейском (325 год) — объектом такой борьбы явилось учение Ария. На третьем — Эфесском (431 год) — выступил со своей христологической концепцией Несторий. Он учил, что Иисус был не богом, а лишь богоносцем, в его человеческом естестве бог обитал как в некоем храме. Это было признано злейшей ересью. Следующий собор — Халкедонский (451 год) — имел уже дело с противоположной несторианству точкой зрения. Там выступил Евтихий, который учил, что в Христе только одна природа — божественная, полностью поглотившая человеческую. Это учение получило название монофиситства и было, в свою очередь, категорически осуждено собором. В дальнейшем оно выплыло в компромиссной форме монофелитства, т. е. учения о том, что Христос является носителем двух начал (божеского и человеческого), но воля у него одна — только божеская.
Три последующих собора продолжали заниматься этим вопросом и поисками такого решения, которое не совпадало бы ни с несторианством, ни с монофиситством и монофелитством. Вероятно, в этой борьбе вокруг богословских тонкостей действовало не столько стремление найти истину, сколько реальное соотношение интересов и влияний борющихся группировок: руководящей верхушке в каждый момент надо было отстаивать свою точку зрения, чтобы тем самым утвердить свое положение обладателя и непогрешимого носителя вечной истины. От этого зависели вполне реальные материальные и политические интересы. Против одних групп, идеологическим знаменем которых было несторианство, выдвигалось положение о том, что два естества соединены в Христе «нераздельно» и «неразлучно»; против монофиситов надо было отстаивать концепцию о том, что эти естества соединены «неслиянно». И приходилось уже мириться с тем, что в итоге получается «таинственная» неувязка.
В общем, христианское вероучение сохранило в виде незыблемого догмата положение, что в личности Христа соединены две разные «природы» и две разные воли. При полной непонятности этого положения нам остается только зафиксировать его и перейти к дальнейшему изложению церковного учения о Христе.
Как сказано в Символе веры, Христос находится теперь на небе и в течение уже почти двух тысячелетий сидит по правую («одесную») руку бога-отца, дожидаясь того момента, когда надо будет вновь вернуться на Землю, чтобы судить живых и мертвых. Погиб он на Земле, как слабый, бедный, смиренный человек, а явится «во всей славе», как всемогущий бог и распорядитель Вселенной.
Какую же миссию выполнил Христос за время своей деятельности на Земле? По учению церкви, это была миссия троякого рода: он выступил в своей земной жизни как пророк, первосвященник и царь.
Первая из этих функций довольно понятна и не нуждается в особых объяснениях. Богочеловек пророчествовал о неизбежном конце света и о своем грядущем втором пришествии, он просвещал людей истинами возвещаемой им веры.
Сложней обстоит дело с другими двумя функциями.
Основная обязанность иудейских первосвященников заключалась в приношении богу жертв во искупление грехов человеческих. Первосвященник Иисус выполнил эту обязанность совсем иным, новым способом. В качестве жертвы, приносимой сразу за все человечество, он отдал самого себя. Этим он прежде всего искупил первородный грех Адама и Евы и примирил людей с богом, который находился в состоянии конфликта с ними со времени грехопадения.
И здесь в христианском учении имеются некоторые неясности. Распространяется ли искупительная жертва Христова только на грех Адама и Евы или и на всю колоссальную массу грехов, совершавшихся человечеством за его последующую историю? В богословской литературе этот вопрос обычно обходится. Если считать, что моральная порча человечества имела своей первопричиной грех Адама и Евы, то, очевидно, его искупление автоматически снимало и те его последствия, которые выразились во всеобщей греховности человечества. Тогда возникает вопрос, почему выполнение Иисусом его первосвященнической миссии не привело к исчезновению зла на Земле, являющегося, по учению церкви, последствием первородного греха. На это следует довольно туманный ответ, по которому совершенное Христом искупление только сняло проклятие с Земли и тварей божьих, а реализация самого спасения должна наступить только после второго пришествия.
Нелегко понять смысл и последней — царской — функции Христа на Земле. Если речь идет о его вселенских обязанностях в качестве одного из лиц Троицы, то особых затруднений не встречается — бог есть царь Вселенной. Но здесь имеется в виду деятельность Христа на Земле в его человеческом воплощении. Оказывается, и в этом своем бытии, бедным, гонимым, страдающим человеком, Христос все-таки оставался царем, притом не «царем иудейским», как говорится в евангелиях (на «иудейскую» сущность его царства богословы особенно не напирают), а общечеловеческим и всемирным.
Вот как описывает авторитетный богослов митрополит Макарий «главные действия, в которых выразилось царское служение Иисуса Христа»: во-первых, чудеса, в которых он «проявлял царскую власть свою над всей природой, так, в частности, над адом и над смертью; во-вторых, его нисшествие в ад и победа над адом; в-третьих, его воскресение и победа над смертью; в-четвертых, его вознесение на небеса…»[1].
Вероятно, нуждается в объяснении только пункт о сошествии в ад, так как об остальных проявлениях царской деятельности Христа читатели, надо полагать, в какой-то мере осведомлены. Этот элемент христианского вероучения основан на таком тексте из I Послания апостола Петра: «…Христос, чтобы привести нас к богу, однажды пострадал за грехи наши… был умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духам сошед проповедал» (III, 18–19).
В богословской литературе на этом тексте построено большое повествование о том, как Христос за те три дня, пока его тело лежало в гробу, дожидаясь воскресения, совершил путешествие в ад, причем участвовала в этом путешествии только его душа; там он победил дьявола и вывел из ада всех ветхозаветных праведников. Этим он показал свою царскую силу и власть.
Так в церковно-христианской проповеди образ распятого страдальца переплетается с образом небесного и даже земного царя. С одной стороны, это тот Христос, который «терпел и нам велел», а с другой — тот, «кто имеет право судить живых и мертвых», владыка мира, повергающий все и вся в трепет своим величием и мощью. А поскольку церковь является его представителем на Земле, поскольку в качестве «мистического тела Христова» она действует и учит его именем и его властью, она должна выдвигать на первый план черты величия и могущества Христа.
Особенно ярко эта тенденция проявляется в вероучении и практике католической церкви. Римские папы титулуют себя «Vicarius Christi» — наместниками или заместителями Христа на Земле. Им, конечно, важно подчеркивать те стороны личности Христа, в которых он предстает не как нищий проповедник, всепрощающий и кроткий страдалец, а как властитель не только сердец и умов людей, но и их земных судеб, как принцип силы и власти, стоящий выше всех земных инстанций. В качестве непосредственных уполномоченных Иисуса Христа на Земле папы претендуют на то, что им принадлежат эта сверхземная сила и непререкаемая власть.
Было время, когда римские папы не только претендовали на «царскую» власть над всем миром, но и порой были близки к обладанию ею. В средние века наместники «царя царей» нередко ставили в полное подчинение себе светских монархов Западной Европы. В настоящее время не может быть, конечно, и речи о господстве Ватикана над теми или иными государствами мира, даже если большинство населения в них состоит из верующих католиков. Но претензия на «царство» все же сохранилась: Ватикан существует как самостоятельное государство, и папа — его монарх. Идеологически это обстоятельство обосновывается тем, что Иисус, через посредство апостола Петра основавший римскую церковь, был не только небесным, но и земным царем.
Несколько по-иному эта установка оказалась использованной в православной церкви — византийской, а потом и русской. В силу исторических обстоятельств православная церковь не имела возможности претендовать на верховенство над светской властью, и сама долгие столетия находилась в подчинении у византийских императоров и у русских царей. В этом положении она освящала их господство, славила земных царей как воплощение и отражение царя небесного. В роли этого небесного царя выступает опять-таки Иисус Христос.
На иконах он уже в раннее средневековье стал изображаться не только в нищенском и мученическом евангельском образе, но и как царь с короной на голове и скипетром в руках; апостолы и другие люди, окружающие его, ведут себя в полном соответствии с правилами пышного придворного этикета, принятого в Византии. На многих иконах вместе с Христом изображен тот или иной император, причем «царь царей» благословляет реального царя или возлагает на него корону. В титул византийских, а потом и русских императоров входило наименование «помазанник», что по-древнееврейски звучит как «мессия», а по-гречески — «христос».
Милосердие и кротость евангельского Христа также претерпели в церковном изображении весьма существенный ущерб. Мощная и грозная владычица, опора, а иногда и соперница тронов, владелица миллионов крепостных душ в средние века, жестокий палач всех инакомыслящих и склонных к малейшему сопротивлению (вспомним хотя бы инквизицию!), церковь действовала Христовым именем. Не всегда ей было поэтому удобно и выгодно говорить о милосердии Христа, а о непротивлении злу — тем более. Об этом ее идеологи вспоминали тогда, когда нужно было побудить к непротивлению и к милосердию потерявших терпение угнетенных и эксплуатируемых.
Образ Иисуса-простолюдина, бедняка и мученика, всепрощающего и кроткого, абсолютно равнодушного к земным благам, не снимается церковью с ее идеологического вооружения. В зависимости от обстоятельств он даже иногда выдвигается ею на первый план. Но это все же происходит по мере надобности, от случая к случаю, а Христос-владыка, первый из царей во всей Вселенной, грозный повелитель, давно уже занимает в церковной идеологии и проповеди центральное место.
Для многих верующих то преображение, которое претерпел Христос в практике и идеологии церкви, было неприемлемо в прошлом, как неприемлемо и сейчас.
В течение почти двух тысячелетий существования христианства много раз возникали направленные против церкви социальные движения под лозунгом возвращения к евангельскому нищему Христу, смиренному, милосердному и всепрощающему. По существу этот лозунг никогда не исчезал, его отголоски слышны и в наше время.
В прошлом веке против церковного понимания Христа выступили такие титаны духовной жизни человечества, как великие русские писатели Федор Достоевский и Лев Толстой.
Поборник внутренней свободы? (по Ф. Достоевскому)
С наибольшей яркостью писатель выразил свои взгляды устами героев его произведений. Обаятельный и кристально чистый князь Мышкин в «Идиоте» обвиняет католическую церковь в том, что она исказила образ Христа: «Католицизм… искаженного Христа проповедует, им же оболганного и поруганного, Христа противоположного! Он антихриста проповедует…»[2]. Итак, церковный Христос — по существу Антихрист.
То же говорит и Шатов в «Бесах»: «Рим провозгласил Христа, поддавшегося на третье дьяволово искушение и… возвестив всему свету, что Христос без царства земного на Земле устоять не может, католичество тем самым провозгласило Антихриста и погубило весь западный мир»[3]. Напомним, что «третье искушение» состояло, по евангелиям, в следующем: дьявол поднял Иисуса на «весьма высокую гору», оттуда показал ему «все царства мира и славу их» и предложил все это отдать ему, если он «падши поклонится». Иисус, якобы, это предложение с негодованием отверг. Для персонажа же из романа Достоевского дело выглядит так, что церковь проповедует Христа, не устоявшего перед искушением властью и продавшегося Антихристу за эту чечевичную похлебку.
Иван Карамазов в «Братьях Карамазовых» рассказывает своему брату Алеше сочиненную им поэму о великом инквизиторе. В ней два героя: инквизитор и Христос[4]. Первый — кардинал католической церкви, девяностолетний монах, умный и циничный, горящий фанатизмом; этот фанатизм относится, впрочем, не к вере в бога и его распятого сына, а к горделивому сознанию величия церкви и ее миссии руководителя человечества. Второй герой, явившийся людям через пятнадцать веков после своего воскресения, сын божий; он молча проходит в толпе с тихой улыбкой бесконечного сострадания, безгранично скромный и полностью беззащитный, все понимающий и прощающий. Хотя он не произносит ни слова на протяжении всей поэмы и совершает лишь одно деяние — воскрешает умершую семилетнюю девочку, а кардинал говорит очень много и красноречиво, подлинным героем поэмы является все же он, богочеловек. В речах инквизитора раскрывается взгляд католической церкви на личность Христа, как представляет себе это Иван Карамазов. Христос предстает здесь перед читателем в чрезвычайно оригинальном свете, и рассмотреть это понимание его личности интересно и поучительно.
Напомним, что дело происходит в испанском городе Севилье в XVI веке, в самое страшное время инквизиции, когда «во славу божию» в стране ежедневно горели костры. К этому времени прошло уже пятнадцать столетий после того, как Христос «дал обетование прийти во царствии своем», пятнадцать веков, как пророк написал: «Се гряду скоро…» Но человечество ждет его с прежней верой и умилением. И в праздничный летний день он явился на площади перед собором «мучающемуся, страдающему, смрадно-грешному, но любящему его народу». И народ узнал его, хотя он появился тихо и незаметно, устремился к нему, окружил его, последовал за ним.
Но вот является великий инквизитор. Он немедленно велит стражникам забрать богочеловека, и толпа моментально вся, как один человек, склоняется до земли перед инквизитором. Ночью последний является к Иисусу в его одиночную тюремную камеру и обрушивает на него град упреков и обвинений. Главным мотивом того гнева, которым обуреваем инквизитор-кардинал, является: зачем ты пришел нам мешать? Ведь ты передал нам, церкви, «право связывать и развязывать, и уж, конечно, не можешь и думать отнять у нас это право теперь». А если так, то ты нам на Земле не только не нужен, но и вреден и в высшей степени опасен. Больше того, по смыслу всей обвинительной речи инквизитора, человечеству был вреден и первый приход Иисуса, когда бог воплотился в человеческом образе.
С точки зрения кардинала, деятельность Иисуса на Земле вытекала из непонимания сущности и природы человека — слабого и неумного существа. «Есть три силы, — говорит инквизитор, — единственные три силы на Земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков для их счастья, — эти силы: чудо, тайна и авторитет». Вместе взятые, они связывали свободу людей, и это было к благу человечества, ибо «ничего и никогда не было для человека и человеческого общества невыносимее свободы», «нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться». И вот Иисус отверг все три основоположения жизни общества, дававшие людям спасительную свободу от свободы. Он просто позвал их за собой, соблазнил их тем, что они могут, имея лишь в руководстве его образ пред собою, свободно решать вопрос о том, что есть добро и что есть зло… Это было губительно.
В чем инквизитор усмотрел инкриминируемое Иисусу зловредное направление его борьбы против чуда, тайны и авторитета? В отношении последнего дело обстоит довольно ясно: он отвергал авторитет фарисеев и книжников, первосвященников и законников иудейских: «вы слышали, а я говорю…». Что касается тайны, то, ссылаясь на нее, можно было учить людей «повиноваться слепо, даже мимо их совести», Иисус же апеллировал к свободному решению их сердец на основе любви. И понятие чуда он также скомпрометировал: дважды не принял вызова совершить чудо, не бросился со скалы, когда ему предложил это Сатана, и не сошел с креста, когда враждебная толпа вызывала его на это.
За истекшие полтора тысячелетия церковь, утверждает кардинал, исправила то зло, которое совершил Иисус. «Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете». Собственный Иисусов подвиг церковь основала в глазах верующих совсем на другом фундаменте и, прикрываясь его именем, его авторитетом, вступила в союз с антиподом Христа, с Сатаной. «Слушай же, — возглашает кардинал, — мы не с тобой, а с ним. Мы давно уже не с тобою, а с ним, уже восемь веков».
Откуда взялась эта временная координата? Почему восемь веков, а не пятнадцать? Видимо, Достоевский или, точней, Карамазов у Достоевского, говорит не вообще о христианской церкви, а о католическом ее ответвлении; единство же христианства он признает нарушенным с восьмого века, после седьмого церковного собора, который православная церковь рассматривает как последний вселенский. После него римский епископат откололся-де от общехристианского древа и повел себя весьма сомнительно — не исключено, что предался Нечистому. Разумеется, католическая церковь таким же образом трактовала позицию православной. Но в данном случае нас интересует не эта сторона вопроса, а сама концепция, по которой Иисус призвал человечество к свободе, отменив тем самым такой фундамент веры, как ставка на чудо, тайну и авторитет.
По существу эта концепция ни на чем не основана.
Чудо? Да. Дважды Иисус в евангелиях отказался совершить чудо. Но сколько совершенных им чудес описано в тех же евангелиях? В сущности вся практическая деятельность Иисуса, если не считать проповеди, сводилась к чудесным исцелениям, воскрешениям и вообще чудесам.
Отменил ли Христос тайну веры? Нет, наоборот, все его проповеди насыщены атмосферой тайны. Он — сын божий и сын человеческий, облеченный таинственной миссией божественного значения; густым туманом тайны покрыто для людей, слушающих Иисуса, его происхождение, как и будущее его и его последователей. Правда, учитель много говорит о своей миссии, о том, что ему надлежит пострадать и погибнуть, потом воскреснуть, а затем прийти во всей славе своей, но все это темно и загадочно, часто выражено в притчах и других иносказаниях. Когда апостолы спрашивают Иисуса, почему он говорит притчами, он объясняет это нежеланием раскрытия тайны перед народом.
Отказался ли Иисус от ссылки на авторитеты? Нет, конечно. В евангелиях он непрестанно ссылается на «реченное в Писании», на самый высший из возможных авторитетов — Отца, которого он знает, а они, слушатели, не знают. Дополняя ветхозаветные заповеди новыми наставлениями или даже противопоставляя им эти наставления, Иисус в то же время настаивает на том, что «Закон» должен во что бы то ни стало исполняться и что «ни одна йота его не прейдет». Вовсе не так уж нигилистически относился Иисус к фетишу авторитета, как это изображает инквизитор в поэме Ивана Карамазова.
Верно, что в очень многом христианская церковь — не только католическая, но и все прочие ее ветви — отошла от того учения Христа, которое сформулировано в Новом завете. Но характеристику личности и учения Иисуса, данную в поэме о великом инквизиторе, никак нельзя считать исторически достоверной.
Искажение и подмену образа Христа Достоевский ставит в вину католической церкви. Она и раньше продавала его и продолжает продавать, утверждал Достоевский в 70-х и 80-х годах прошлого века. Писатель предсказывал, что в будущем эта чудовищная измена христианству приобретет в деятельности католической церкви новую форму. Он полагал, что такой формой явится не что иное, как проповедь социализма.
Достоевский не был сторонником социалистических ид, ей. Но с присущим ему историческим чутьем он предвидел, что им предстоит великое будущее. А католическая церковь, утверждает он, с дьявольской хитростью приспосабливается к исторической обстановке и берет на свое вооружение все идеи, приобретающие популярность в народных массах. Она приспособится и к идее социализма, она скажет народу, «что все, что проповедуют им социалисты, проповедовал и Христос», и таким образом «исказит и продаст им Христа еще раз». Ибо социализм — вовсе не идеал Христа. Он «имеет задачей разрешение судеб человечества уже не по Христу, а вне бога и вне Христа»[5].
Даже само появление и распространение социалистических идей автор приписывает католической церкви: тем, что она исказила и «продала» Христа, она вызвала реакцию в виде материализма и атеизма, тем самым породив и социализм. Это невероятно парадоксальное утверждение надо привести в словах самого Достоевского: «Римское католичество, продавшее Христа за земное владение, заставившее отвернуться от себя человечество и бывшее, таким образом, главнейшей причиной материализма и атеизма Европы, это католичество, естественно, породило в Европе и социализм»[6]. В дальнейшем, значит, католицизму будет не так уж трудно приспосабливать образ Христа и христианства фактически к своему же детищу.
Кое в чем Достоевский уловил тенденции грядущего развития. В наши дни социализм действительно стал самой мощной и влиятельной в мире идейной и материальной силой. И католическая церковь в самом деле не прочь заигрывать с этой силой, используя средства и способы довольно ловкой социальной демагогии. Но, конечно, вряд ли заслуживают серьезного рассмотрения теоретические построения Достоевского о роли католической церкви в возникновении социализма и в дальнейших его исторических судьбах.
Во всей своей силе здесь сказалось ослепление великого писателя теми реакционными идеями, которые владели им в последний период жизни. Оно выразилось и в том, что католическому искажению образа Христа он противопоставил его сохранение в идеологии и проповеди православной церкви. Алеша Карамазов говорит Ивану по поводу поэмы о великом инквизиторе: «Не то понятие в православии». И уже от себя говорит сам Достоевский: «Утраченный образ Христа сохранился во всем свете чистоты своей в православии»[7]. Исторически это было возможно потому, считал писатель, что православная церковь, находясь под властью государства, не имела возможности претендовать на светскую власть и «земное владение», ей оставалось поэтому сосредоточиться лишь на духовных ценностях. И основа этих ценностей — некий «русский социализм», воплощенный в образе Христа. Что означает этот «социализм» реально — понять трудно. Речь идет, во всяком случае, не о каком-то решительном изменении самой жизни людей, а об «умиляющей, примиряющей, всепрощающей правде божией», выраженной в умонастроении и взглядах старца Зосимы, Алеши Карамазова, Макара Ивановича из романа «Подросток». И в основе этой «правды» должен лежать очень туманный, предельно абстрактный образ Христа.
Нелишним здесь будет отметить, что, противопоставляя православную церковь католической в отношении трактовки ими образа Христа, Достоевский закрывает глаза на многие исторические факты, показывающие, что в реальной практике обеих церквей, как и в содержании их проповеди, разница не так уж велика. Инквизиторскими делами, хотя и в меньших масштабах, но в принципиально том же направлении, занималась и православная церковь. Если «земное владение» (в собственном смысле этого слова) ей было и недоступно, то «владения», в том числе и колоссальные земельные массивы с сотнями тысяч крепостных, в течение многих столетий составляли экономическую основу ее мощи. И уже широко известна та идеологическая и материальная поддержка, которую всегда оказывала православная церковь эксплуататорам и угнетателям народа, истолковывавшим образ Христа примерно так же, как и западные эксплуататоры, которым католическая церковь «продала» его.
Это обстоятельство достаточно отчетливо видел другой великий деятель русской литературы — Лев Толстой. А образ Христа выглядит у него значительно конкретней, чем у Достоевского, и, во всяком случае, почти понятно.
Идеал нравственного совершенства? (по Л. Толстому)
До пятидесятилетнего возраста Лев Толстой относился к личности Иисуса Христа примерно так же, как и большинство его современников, родных, друзей и знакомых. Особых разногласий с церковью по этому вопросу у него не было — в значительной мере, видимо, потому, что он над ним особенно и не задумывался. Потом наступила пора тяжелых сомнений, мучительных раздумий, споров с самим собой и с окружающими. Толстой занялся глубоким изучением проблемы — он усовершенствовал свое знание греческого языка, чтобы в подлиннике читать Новый завет, он изучил современную ему богословскую литературу и большое количество исторических исследований.
Наконец, в итоге этой колоссальной работы писатель нашел для себя решение того вопроса, который он признал самым важным и насущным для человека, — кто был Иисус и чему он учил людей. И до самой своей смерти (в течение почти трех десятилетий) Толстой проповедовал свое понимание Христа и христианства в многочисленных статьях, книгах и письмах.
Это понимание резко расходилось с церковным. С присущей ему суровой прямотой, с неустрашимым мужеством писатель и борец отверг авторитет церкви как истолкователя христианского учения, да и вообще как общественного установления. «Христос, — заявил он, — никогда не устанавливал никакой иерархии церкви в том смысле, как ее понимает богословие»[8].
Целью церкви, утверждал Толстой, никогда не были сохранение учения Христа в чистоте и проповедь этого учения людям. «Церковь, все это слово, есть название обмана, посредством которого одни люди хотят властвовать над другими. И другой нет и не может быть церкви. Только на этом обмане построились те безобразные догматы, которые уродуют и закрывают всё учение. И божество Иисуса и св. духа, и троица, и дева Богородица…»[9]. И «священные книги» она всегда толковала так, как это ей было нужно, а не в соответствии с их истинным смыслом.
Толстой не считал эти книги священными в церковном понимании этого слова. Он видел, в частности, их противоречивость и говорил о «невозможно-разноречивых писаниях Пятикнижия, Псалмов, Евангелия, Посланий, Деяний, т. е. всего, что считается священным писанием»[10]. Он указывал на несостоятельность принятого у богословов приема — поисков «наименее противоречивого смысла» безусловно несовместимых по своему смыслу текстов Писания. Надо, требовал Толстой, самим, без церковных посредников читать евангелия и извлекать из них незамутненное, ясное представление о личности Христа и его учении.
Как же, однако, быть с тем, что, читая евангелия, мы наталкиваемся в них на большое количество противоречивых и явно ошибочных мест, как быть с тем, что они «исполнены погрешностей», что в них много непонятного? Необходимо признать: «столь привычное нам представление о том, что все евангелия, все четыре, со всеми стихами и буквами, суть священные книги, есть, с одной стороны, самое грубое заблуждение, с другой — самый грубый и вредный обман»[11]. И нет в них никакой особой таинственности, сокрытой от человеческого ума. Если даже считать Иисуса богом, сошедшим на Землю, то и в этом случае невозможно себе представить, чтобы он открывал людям свою истину с целью, по существу, скрыть ее в туманных до непонятности текстах. А «если Иисус не бог, а великий человек, то учение его еще менее может породить разногласия»[12]. Короче говоря, надо искать понятный смысл евангельского учения.
Но все же в евангелиях многое темно и противоречиво! Этого Толстой не отрицает. Он дает совет — как преодолеть эту трудность. Надо, говорит он, темные места истолковывать в свете тех мест, которые выглядят ясными.
Нельзя сказать, чтобы такой прием выглядел безупречным в логическом отношении. Если, например, два текста по своему смыслу взаимно противоречат один другому, то признать один из них темным, а другой — ясным можно и с применением известной доли логического произвола: для меня может показаться непонятным как раз то, что для другого человека будет выглядеть самым простым и ясным, и наоборот. А ведь именно от этого зависит, что следует признать важным и существенным и что, наоборот, надо каким-нибудь способом подчинить этому важному и существенному.
Этот исходный пункт всей концепции Толстого тем более обнаруживает свою слабость, что автор заранее отказывается от доказательства правильности его точки зрения: «…доказательств истинности моего учения не может быть. Оно есть свет. Учение мое есть свет; и кто видит его, тот имеет свет и жизнь и потому доказывать нечего. А кто во тьме, тот должен идти к свету»[13]. Конечно, такой подход к вопросу в достаточной мере субъективен. Мы увидим в дальнейшем, что та трактовка личности и учения Христа, которую дает Толстой на основании этого подхода к евангельским текстам, действительно не свободна от субъективности и произвольности. Пока же: вернемся к изложению его точки зрения.
Для Толстого Иисус — очень хороший, очень добрый и умный человек, который впервые в истории понял, как надо жить людям, чтобы они были счастливы, и наставлял их в этом своем абсолютно правильном учении. И вовсе он не бог. Он и не называл себя никогда богом, он говорил о себе как «сыне человеческом» и о боге как отце, но совсем не в том смысле, в каком толкует эти слова церковное христианство. Христос называл всех людей сынами человеческими и себя в том числе. «Отношение свое и всех людей к богу он выражает отношением сына к отцу… Сын человеческий есть сын божий. Предсказывая свое соединение с богом после смерти, он совсем не имел в виду вознесения на небо, и свое водворение «одесную бога»: «Не сын бога собственный, а я сын бога только тем, что исполняю волю его»[14]. Соединение здесь — символическое, «в духе», а не буквальное. Как же, однако, получилось, что человека Христа превратили в бога?
На это следует простой ответ — во всем, с одной стороны, виновата «толпа» с ее «грубым пониманием», а с другой стороны, сыграла свою роль церковь, которая на неправильной трактовке личности Христа построила свое благополучие и основала свои претензии на власть и богатство. Когда «толпа пристала к новому учению», ей говорили, что Христос был «божественный человек, и он смертью своею дал нам спасительный закон». Но «толпа из всего учения больше всего понимает то, что божественный, стало быть, бог, и что смерть его дала нам спасение. Грубое понимание делается достоянием толпы, уродуется, и все учение отступает назад, а на первое место становится божество и спасительность смерти… Это противоречит самому учению, но есть люди — учители, которые берутся примирить и разъяснить…»[15].
Того, что проповедуют эти «учители», в евангелиях нет. «В учении Иисуса нет «ни одного намека» на то, чтобы он «искупил своей кровью род человеческий, павший в Адаме, что бог — Троица, что для спасения нужны семь таинств, что причастие должно быть в двух видах и т. п.». Больше того, по мнению Толстого, «теория грехопадения Адама и вечной жизни в раю и бессмертной души, вдунутой богом в Адама, не была известна Христу, и он не упоминал про нее и ни одним словом не намекнул на существование ее»[16]. То же относится и к учению о воскресении мертвых: Христос отрицал его, он говорил «о восстановлении сына человеческого из мертвых, разумея под этим не плотское и личное восстановление мертвых, а пробуждение жизни в боге»[17]. И царства небесного в смысле загробного существования людей не признавал Христос. «Верование в будущую личную жизнь есть очень низменное и грубое представление, основанное на смешении сна со смертью и свойственное всем диким народам»[18]. Оно не может быть присуще не только христианству, но и иудейству. Царство небесное будет на Земле, но не в сверхъестественном смысле этого слова, а в том смысле, что «все люди будут братья», будет всеобщий мир, и все люди будут благоденствовать в течение своей единственной жизни на Земле.
При таком рационалистическом подходе к евангельским рассказам о Христе Толстой должен отвергать все сообщения о чудесах, творившихся им и его учениками, о деятельности дьявола и, в частности, о тех искушениях, которым он подвергал Христа; он должен по-иному, чем это делает церковь, истолковывать и все те евангельские тексты, на которых покоится христианский культ и которые вообще идут вразрез с его взглядами. Он прилагает большие усилия в этом направлении, но далеко не всегда они дают ему возможность построить достаточно убедительную аргументацию.
Большие трудности доставляют Толстому евангельские легенды о чудесах. Непорочное зачатие и рождение, воскресение и вознесение на небо, как и многие другие подобные евангельские сообщения, он просто игнорирует. Некоторые он пытается разъяснить так, что вроде ничего необычайного там и не было. Рассказ о том, что Иисус укротил бурю на море, преподнесен так: «Они (апостолы — И. К.) взбудили его (Христа — И. К.) и говорят: учитель, что же, или тебе все равно, что мы погибаем. И когда буря затихла, он сказал: что же вы так робки? Нет у вас веры в жизнь духа»[19].
На самом деле в евангелии сказано так: «Иисус встав…, запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И убоялись страхом великим и говорили между собою: кто же это, что и ветер и море повинуются ему?» (Марк, IV, 39–41). Примерно таким же образом обходится Толстой и с евангельским рассказом о чуде насыщения пяти тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами — вместо чуда у него получается нечто совсем обычное.
И все-таки некуда деться от того факта, что в евангелиях на каждом шагу рассказы о чудесах. С большой неохотой признает это Толстой, как и то, что там ничего не говорится против веры в чудеса. Он находит выход из положения лишь в заявлении о том, что по всему духу учения якобы видно, что его истинность Иисус основывал не на чудесах. Нельзя сказать, чтобы это выглядело убедительно. В евангелиях сотворенным Иисусом чудесам придается значение главного доказательства его божественной миссии; Толстой обходит этот вопрос полным молчанием.
Очень показательно для того, каким образом Толстой пытается устранить из биографии Иисуса элемент сверхъестественного, истолкование знаменитых искушений Христа Сатаной в пустыне.
Первое испытание: «И голос плоти его сказал ему… (Следует ссылка на Матфея, IV, 3.— И. К.). Но Иисус сказал себе: если я и не могу сделать из камня хлеба, то это значит, что я не сын бога плоти, но сын бога духа. Я жив не хлебом, а духом. И дух мой может пренебречь плотью»[20]. А что на самом деле сказано у Матфея в той главе, на которую Толстой ссылается? «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от диавола… И приступил к нему искуситель и сказал: если ты сын божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст божиих». Не голос плоти искушал Иисуса, а дьявол собственной персоной!
Второе искушение: «И ему представилось, что он стоит на крыше храма, и голос плоти говорит ему… (Лука, IV, 9). Но Иисус сказал себе: я могу пренебречь плотью, но не могу отрешиться от нее, потому что я рожден духом по плоти». А у Луки в указанном месте говорится так: «И повел (дьявол — И. К.) его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма и сказал ему: если ты сын божий, бросься отсюда вниз… Иисус сказал ему в ответ: сказано: не искушай господа бога твоего» (Лука, IV, 9—12). Совсем, как видим, не то, что у Толстого.
Третье испытание (в евангелии от Луки оно второе, так что Толстой поменял их местами). Опять «работает» голос плоти: «Иисусу представились все царства земные и все люди, как они живут и трудятся для плоти, ожидая от нее награды»[21]. В соответствующих евангельских текстах говорится так: «И возвед его на высокую гору, диавол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, сказал ему диавол: тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их… и так, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Иисус сказал ему в ответ: отойди от меня, сатана» (Лука, IV, 5–8; почти в тех же выражениях у Матфея, IV, 8—10).
Мы сопоставили здесь толстовскую трактовку с тем, что действительно содержится в евангелиях не для того, чтобы уличить писателя в недобросовестном изложении. Он и сам неоднократно подчеркивает, что в евангелиях содержится много для него неприемлемого и им устраняемого. Другое дело — что приемы устранения и замены устраняемого собственным текстом не могут быть признаны научными и ведущими к раскрытию объективной исторической истины. Фактически получается евангелие не от Луки и Матфея, а от Льва…
Такими же способами разделывается Толстой с теми притчами, из которых вытекает несимпатичная ему мораль. Знаменитую притчу о талантах (талантом именовалась весовая мера золота и серебра), согласно которой всякий раб должен приумножать имущество своего господина, Толстой обрабатывает таким образом, что вместо денег оказывается «дух божий в людях». Конечно, приумножать в людях дух божий — более приличная в нравственном отношении цель, чем наживать серебро и золото. Толстой осторожно обходит те места в евангелиях, где говорится об основании церкви, о загробном мире и о наградах и наказаниях в нем, об учреждении нового культа с его обрядами.
Интересно, как он обходится с евангельским рассказом о тайной вечере и об обряде причащения, преподанном там Иисусом его ученикам. В евангелиях это описано достаточно конкретно и определенно. Разделив между апостолами хлеб, он предложил им съесть его и сказал, что «сие есть тело» его, а подав им вино, сообщил, что «сие есть кровь» его, причем предложил им в дальнейшем «сие творить в его воспоминание».
Как известно, на этой евангельской легенде основано христианское таинство причащения, занимающее виднейшую роль во всем культе. Но Толстой дает ей совсем иное, притом очень простое истолкование. В его изложении Христос, предлагая апостолам хлеб и вино, говорит им: «Вспоминайте же меня за вином и хлебом; при вине вспоминайте кровь мою, которая прольется для того, чтоб вы жили без греха; при хлебе — о теле, которое отдаю за вас»[22]. Простое воспоминание, ничего больше. А ведь по церковному учению, когда священником, проводящим обряд причащения, произносится соответствующая молитвенная формула, то тут же происходит чудо: хлеб превращается в тело Христа, а вино — в его кровь. Толстой находил самые ядовитые слова, чтобы поиздеваться над этим, как он его называл, богоедским обрядом.
Единственное, что интересовало его в евангелиях и во всем христианстве— это то нравственное учение, которое можно из него извлечь. «Для меня, — писал он, — главный вопрос не в том, бог или не бог был Иисус Христос и от кого исшел святой дух и т. п.; одинаково не важно и не нужно знать, когда и кем написано какое евангелие и какая притча может или не может быть приписана Христу. Мне важен тот свет, который освещает 1800 лет человечество и освещал и освещает меня…»[23]. Нельзя здесь не поразиться непоследовательности мышления гениального художника. Он великолепно знает и много раз грозно и гневно обличает все те гнусности и жестокости, которые творились в течение этих 1800 лет людьми, считавшими себя просветленными учением Христа. Практически «свет, который освещает», ни в малейшей степени не улучшил ни нравственность, ни жизнь людей, и Толстому это хорошо известно. Но моралист закрывает глаза на это важнейшее, в сущности, решающее обстоятельство.
Страстно и последовательно пропагандирует Толстой тот путь жизни, те законы и нормы нравственного поведения, которые, по его мнению, оставил человечеству Иисус Христос. Кое-что и здесь ему приходится опустить, кое-что истолковать субъективно и произвольно. В итоге остаются пять заповедей, исполнения которых вполне достаточно для спасения души человеческой, причем это спасение Толстой толкует не в смысле избавления от адских мук, а как обретение человеком душевного покоя и радостей жизни. Вот пять толстовских заповедей: «1. Не сердитесь и будьте в мире со всеми; 2. Не забавляйтесь похотью блудной; 3. Не клянитесь никому ни в чем; 4. Не противьтесь злу, не судите и не судитесь; 5. Не делайте различия между разными народами и любите чужих так же, как своих»[24].
Наиболее существенной из этих заповедей является четвертая. В запрещении сопротивления злу Толстой усматривал центральный пункт, фокус всего учения Христа. Оно, утверждал писатель, «связывает все учение в одно целое…, оно есть точно ключ, отпирающий все»[25]. В любой обстановке, при всяких условиях, если хотят причинить зло тебе, твоей семье или твоим детям, пусть даже слабому и беззащитному существу, пусть зло будет нападение разбойников или бешеной собаки, самое большее, что ты можешь сделать, это поставить себя на место того, который подвергся нападению. А если собака тебя или детей искусает, разбойник ограбит или убьет, никакой в этом особой беды не будет; важно, что ты не нарушил заповедь Христову.
И опять-таки Толстому некуда уйти от того упрямого факта, что до сих пор никто в истории человечества не следовал этой заповеди, хотя евангелия почитаются всеми ответвлениями христианства. Заповедь не действует! Толстой не может не признать этого, и он, вообще говоря, правильно указывает причину ее недейственности. Она может действовать лишь тогда, когда она «не есть изречение, а есть правило, обязательное для исполнения, когда она есть закон». Все-отпирающий ключ делает свое дело только в том случае, «когда ключ этот просунут до замка». А «признание этого положения за изречение, невозможное к исполнению без сверхъестественной помощи, есть уничтожение всего учения»[26].
Для того, однако, чтобы разобраться в существе дела, нужно задать следующий вопрос: почему евангельский призыв к непротивлению так и остался изречением, а не стал законом поведения людей? Виновато несовершенство человеческой натуры? Но какие есть основания считать, что в дальнейшем эта натура усовершенствуется настолько, что проповедь Иисуса, даже подкрепленная призывами Толстого, перейдет из области слов в самую жизнь и перестанет быть благим пожеланием?
Немало лет уже прошло после того, как Лев Толстой поведал человечеству свое понимание учения Христа и свой призыв к выполнению этого учения. А запрещение сопротивления злу как было, так и остается евангельским изречением, которое никто не принимает всерьез и не делает правилом своего поведения.
Примерно то же можно сказать и об остальных сформулированных Толстым заповедях Христа. В непосредственной связи с запрещением сопротивления злу стоит запрещение сердиться. Здесь, правда, Толстому мешает одна оговорка, имеющаяся в евангелии. Текст гласит: «Всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду» (Матфей, V, 22). А если не напрасно? Если «брат» поступил в отношении тебя нехорошо и твой гнев против него не напрасен, а справедлив, то имеешь ли ты моральное право сердиться? Нет. Толстой уверяет, что запрещение сердиться не обусловлено никакими ограничениями, а словечко «напрасно» попало в евангелия случайно или оно, может быть, вставлено теми злонамеренными церковниками, которые всегда стремились исказить учение Христа.
Обращает на себя внимание то значение, которое было придано Толстым заповеди, запрещающей клятву. Он говорит, что вначале его самого удивляла немотивированность этой заповеди: почему в самом деле не подкрепить свои слова клятвой, что в этом греховного? И не странно ли, что Иисус поместил это как будто неважное и малосущественное наставление рядом с теми, которые касаются самих основ поведения человека? Но после долгих размышлений Толстой нашел такое его истолкование, которое, по его мнению, вполне оправдывало приданное ему значение. Дело, оказывается, вовсе не в клятве, а в присяге, даваемой государству его подданными, и прежде всего солдатами. Не запрещена ли тут, спрашивает Толстой, присяга, та самая, без которой невозможно разделение людей на государства, невозможно военное сословие? Солдаты — это те люди, которые делают все насилия, и они принимают «присягу». Запрещение клятвы Толстой трактовал как анархистское отрицание государства и обязанностей человека по отношению к нему. В этом толковании запрещение клятвы приобретает серьезное принципиальное значение.
В целом, таким образом, Иисус был для Толстого лишь учителем и проповедником нравственности, причем из всех его этических наставлений Толстой выбирал лишь те, которые совпадали с его собственными взглядами. Но ведь и в проповедях, и в делах Иисуса, как о них рассказывается в евангелиях, много такого, что противоречит сформулированным Толстым пяти заповедям! Богословы и идеологи христианских церквей использовали это обстоятельство в своей борьбе против толстовства. Не лишено, в частности, интереса то его опровержение, которое содержится в выступлениях известного деятеля православной обновленческой церкви митрополита Александра Введенского. Мы рассмотрим это в следующем разделе, посвященном анализу взглядов на Христа как на социального реформатора и бунтаря.
Революционер-бунтарь? (по А. Введенскому, К. Каутскому и др.)
Толстой, утверждал А. Введенский, совершенно исказил облик Иисуса Христа, изобразив его непротивленцем. «Нельзя себе представить, — заявил он, — более чудовищной клеветы, чем та, которою Христа опозорил Толстой». Митрополит признал поэтому толстовство гораздо более серьезным врагом христианства, чем атеизм. Он вдосталь поиздевался над тем, как обрисовывается облик Христа в изображении Толстого: «Герой в стиле немецкой Гретхен», «льняные волосы, расчесанный пробор, волосок к волоску, белые одежды, непорочные лилии и какой-то не замечающий всех ужасов социальной драмы взгляд»[27] и т. д. Введенскому Христос представляется совсем в другом свете — как суровый и грозный боец, как политический вождь, как человек действия и силы.
В какую же сторону направлялась эта его активность? В революционную, отвечает митрополит; деятельность Христа была революционной борьбой, притом в такой мере, что вся последующая история революционного движения вплоть до наших дней является-де лишь продолжением этой деятельности и воплощением его учения. Марксизм же, по Введенскому, есть не что иное, как «евангелие, напечатанное атеистическим шрифтом». И напрасно атеисты настаивают на противоположности марксистского учения религии вообще и христианству в частности. «Те идеи, которые противопоставляет сейчас марксизм христианству, например идеи братства, бесклассовое состояние… идея бесклассового государства, бесклассового человечества, грядущий «цукунфт» (будущее. — И. К.), где нам будет так хорошо, ведь это же идеи Христа, его учение о всечеловеческом братстве…»[28].
Трактовка Христа как революционера и социалиста была впервые предложена отнюдь не Введенским. Она имеет большую историю.
Еще в средние века антифеодальные и антицерковные еретические движения в Западной Европе вдохновлялись образом Христа-бунтаря, призывающего массы ополчиться против богатых, разрушить общественный порядок, основанный на их власти, и создать новый строй на началах всеобщего равенства, включая и экономическое. Материала для такой трактовки образа Иисуса еретики находили вполне достаточно, и прежде всего в Новом завете.
Иисус в евангелиях призывает к себе не всех людей, а лишь трудящихся и обремененных. Богатые не вызывают у него никаких симпатий, и он неоднократно предупреждает их: «Горе вам, богатые!» Об этом же свидетельствуют и неоднократные заявления о трудности или даже невозможности для богатых попасть в царство небесное («как верблюду — в игольное ушко»). Знаменитая евангельская притча о богатом и Лазаре с не меньшей убедительностью выражает враждебное отношение Иисуса к богатым. В самом деле, нищий Лазарь, при жизни валявшийся на пороге у богача, после смерти оказывается на самой высшей ступени райского блаженства («на лоне Авраамовом»), а богач навеки погряз в дебрях ада, где подвергается, конечно, соответствующему обращению.
Не последнюю роль в оценке Христа как сторонника и вождя бедных играли и такие детали его биографии, как происхождение из семьи мастерового-плотника, предельно скромный образ жизни, гибель на кресте в обществе таких же простых людей. Да и учеников своих вербовал Христос не из богачей, а из простых рыбаков.
Программа, с которой он, согласно евангелиям, выступал, также вроде бы выглядит в этом свете как призыв к решительным революционным действиям против угнетателей. Он прямо говорил, что пришел принести на Землю не мир, но меч, он приказывал своим апостолам приобрести мечи, которые, конечно, могли быть нужны только для вооруженного выступления. И нападая с оружием в руках на светских и духовных крепостников, участники еретических движений считали, что они идут по стопам Иисуса Христа и следуют его учению.
Конечно, в тех же евангелиях они могли найти и прямо противоположные мотивы. Но обычно в таких случаях вычитывается преимущественно то, что хочется вычитать, что соответствует интересам и вкусам данного человека и той социальной группы, настроения которой он выражает. Революционные массы, проникнутые христианской набожностью, были склонны заимствовать в Новом завете не столько призывы к непротивлению, сколько бунтарскую ненависть к богачам.
В середине XIX века в Западной Европе возникло движение «христианского социализма», основателем которого считается Ф. Ламенне — католический священник, под конец жизни вышедший из церкви. В своих многочисленных сочинениях он проповедовал учение о том, что сущность христианства заключается в призыве к установлению равенства между людьми и свободы в их взаимных отношениях. Все остальные стороны учения Христа, считал Ламенне, подчинены этой основной идее перестройки общества на началах справедливости, равенства и свободы. Сама личность Христа представлялась красноречивому и пламенному проповеднику христианского социализма воплощением этих высоких принципов.
В лице таких своих представителей, как Этьен Кабе и Вильгельм Вейтлинг, и утопический социализм оказался связанным с «революционно-социалистической» трактовкой образа Иисуса. Касаясь, например, требования общности имуществ, первый из них писал: «Моралью этой новой религии была… общность имуществ… Иисус Христос заповедал своим ученикам ее пропаганду и проповедь по всей Земле. Потом апостолы нового бога проповедовали эту новую религию в Риме и Римской империи и всем бесчисленным прозелитам. В дальнейшем христиане образовали тысячи общин и огромную республику, рассеянную по всей Империи, основанную на практике равенства, братства и общности имуществ»[29]. По существу, никакой такой республики, «основанной на практике равенства» и т. д., не было. Важно лишь в данной связи то, что автором программы общности имуществ Кабе считал именно Христа.
В поэме «Двенадцать» А. Блок образом группы красногвардейцев, идущих сквозь «ветер, ветер на всем божьем свете» выполнять революционное задание, символизировал трудовой народ, борющийся за свое освобождение, а во главе этой группы представил не кого иного, как Иисуса Христа:
Впереди — с кровавым флагом, И за вьюгой невидим И от пули невредим, Нежной поступью надвьюжной, Снежной россыпью жемчужной, В белом венчике из роз — Впереди — Исус Христос.Официальные инстанции разных христианских церквей долго и упорно сопротивлялись «революционной» трактовке личности Иисуса. Ватикан много раз высказывал свое решительное осуждение тем, кто ее разделяет и одобряет. Ряд документов такого порядка относится даже к 30-м и 40-м годам нашего столетия. Типична в этом отношении радиоречь папы Пия XI в феврале 1931 года. Он призывал в ней угнетенных и угнетателей ориентироваться на Христа и по его примеру не пренебрегать накоплением духовных богатств. А что касается материальных благ, то, как уверял наместник бога на Земле, хранить и распределять их Иисус уполномочил «имущих», т. е. капиталистов, а неимущим заповедал «быть покорными» правителям как самому богу.
Православная церковь в России до Великой Октябрьской социалистической революции столь же настойчиво опровергала любые попытки обнаружить в личности и учении Христа малейшие элементы революционности. В многочисленных книгах, брошюрах и статьях, в курсах, которые читались студентам духовных академий, богословы занимались «обличением социализма» и истреблением зловредной ереси о Христе-социалисте.
И все же с конца прошлого века даже в церковных кругах разных ответвлений христианства «революционная» трактовка образа Христа постепенно перестала восприниматься как абсолютно немыслимая. В резолюции конференции англиканской церкви 1884 года даже говорилось, что много из того, что хорошо и верно в социализме, можно найти в предписаниях Иисуса Христа. Комплименты в адрес социализма были здесь, конечно, вынужденными — деятели церкви не могли не считаться с успехами социалистических идей в широчайших народных массах всех стран. Интересно, однако, что идеологи англиканской церкви сочли нужным в этой обстановке искать корни таких идей в учении Иисуса Христа.
В последнее время концепции «христианского социализма» все чаще проповедуются официальными церковными инстанциями всех вероисповеданий христианства, включая и Ватикан. Последний, в частности, с готовностью подчеркивает «пролетарское» происхождение Иисуса Христа и в честь его отца-плотника даже призывает праздновать день Первого мая, но не как День международной солидарности трудящихся в их борьбе с угнетателями, а просто как день труда. Правда, по вопросам политической тактики и ориентации в церковных кругах существуют серьезные разногласия, в соответствии с которыми по-разному трактуется и образ Христа. При этом имеет существенное значение и то обстоятельство, что мотивы, по которым «революционизируются» Христос и христианство, в разных группах церковных и общественных деятелей тоже различны.
Одни исходят из того, что в современных условиях, когда социализм представляет собой уже не просто движение и идеологию, а мощную международно-государственную экономическую и политическую силу, церкви нет смысла открыто оставаться на прежних позициях безоговорочной защиты капитализма. И образ Христа-социалиста является для них аргументом против современного социализма: для чего, мол, все это нужно, если еще две тысячи лет тому назад Христос проповедовал «настоящий», «истинный» социализм, который остается теперь лишь претворить в жизнь, следуя учению богочеловека, а не тому, чему учат марксисты?
Правда, вопрос сильно осложняется при первой же попытке рассмотреть его в свете исторической практики. В самом деле, уже почти две тысячи лет проповедуется и исповедуется учение Христа-«социалиста», а от этого жизнь человечества ни в малейшей мере не улучшилась! Но для ответа на такое возражение мобилизуются схоластические доводы, при помощи которых можно суть дела утопить в туманной богословской словесности и создать впечатление, что затруднение ликвидировано: бог-де рассчитывает на свободную волю его творений, люди неправильно до сих пор понимали заветы Христовы и т. д.
Другие прогрессивные деятели современности, в том числе принадлежащие к духовенству, искренне руководствуются интересами борьбы за мир и прогрессивное развитие народов и именно в этих целях используют образ Христа, истолковывая его в революционно-социалистическом духе. Наиболее типичным представителем этой группы был покойный английский общественный деятель священник Хьюлетт Джонсон. Он считал, что строительство социалистического общества в Советском Союзе полностью соответствует духу евангельского Христа и вел большую пропагандистскую работу в международном масштабе в пользу мира и социализма.
Такие же взгляды, как и Джонсон, высказывают лютеранский богослов Эмиль Фукс, англичанин Ф. Кларк. С их точки зрения, содержание той борьбы, которая ведется в современном мире сторонниками социализма, совпадает с учением Иисуса Христа, изложенным в евангелиях. Они утверждают даже, что настоящими последователями Христа являются теперь коммунисты и идущие за ними сторонники социалистического пути преобразования общества, независимо от того, веруют ли они в бога и в Христа как божественную личность. Больше того, они склонны отказать в наименовании христиан тем формально набожным членам христианских церквей, которые в своей жизненной практике руководствуются волчьими законами капитализма и империализма, пусть они даже считают и изображают себя пламенными поклонниками распятого Христа. Объективно такие взгляды связаны с призывом к поддержке прогрессивных устремлений и движений современности.
Существуют ли, однако, реальные исторические основания к тому, чтобы рассматривать евангельского Христа как социалиста, бунтаря и революционера? Аргументы в пользу такой его трактовки собрал в свое время Карл Каутский в книге «Происхождение христианства». На ее примере мы имеем возможность проверить, в какой степени обоснована эта концепция в целом.
Помимо всей совокупности обычно приводимых в этих случаях евангельских изречений Христа, направленных против богачей и богатства, Каутский обращает еще особое внимание на те тексты Деяний апостольских, которые свидетельствуют о том, что у первых христиан существовала общинная собственность на материальные блага. На самых ранних стадиях существования христианской общины «ее проникал действенный, хотя и неопределенный коммунизм, отрицание частной собственности, стремление к новому, лучшему общественному порядку, в котором все классовые различия выравнивались бы путем раздела имущества»[30]. Источником этого коммунистического духа могла быть только проповедь Иисуса Христа, воспринятая и осуществлявшаяся его учениками.
Каутский признает и неоднократно подчеркивает как в данном, так и в других своих сочинениях несовершенный, незрелый характер этих коммунистических идей и соответствующей им практики. По существу, вместо общности имуществ здесь был более или менее систематически проводившийся уравнительный их передел между членами общины. Не могло быть и речи об общественной собственности на средства производства — коммунизм этот был чисто потребительский и уравнительный. И все же, как считает Каутский, важно провозглашение самого принципа, отрицавшего институт частной собственности.
Независимо от того, как расценивать порядки, существовавшие в первоначальных христианских общинах, выводить из них характер проповедей Иисуса Христа — значит позволять себе натяжку. Условия, в которых жили первохристианские общины в окружении «языческого» населения, побуждали их сплачиваться в более или менее замкнутые коллективы с широко организованной внутренней взаимопомощью. Что дело не касалось реорганизации всего общества на новых началах, а сводилось лишь к внутриобщинным порядкам, вытекает хотя бы из того, что членам общины рекомендовалось продавать свое имущество и вносить деньги в общинную кассу. Если бы имелась в виду реорганизация всех общественных порядков, то, разумеется, надо было бы учитывать, что покупать имущество будет некому.
Революционно-бунтарский характер проповеди и деятельности Иисуса Каутский непосредственно выводил из его мессианства. Одно из двух, говорит он, либо Иисус считал себя мессией, — тогда он должен был принимать на себя и все функции политического, социального и даже военного вождя, которые были связаны с этим званием, либо он рассматривал себя как мирного страдальца и мученика. Но ведь он совершенно определенно выступал в роли мессии-страдальца!
Каутский не может отрицать и другой стороны евангельского образа Христа, обрисовывающей его как проповедника непротивления и общественной пассивности. Как можно, спрашивает он, примирить эти два не только различных, но прямо противоположных образа? Решение вопроса достигается тем, что мессианские воинствующие элементы образа Иисуса объявляются первоначальными, а противоречащие им черты непротивленчества и пассивного ожидания — позднейшими наслоениями. В одно и то же время облик Иисуса не мог представляться людям такими взаимоисключающими чертами.
Подобная концепция имела бы право на существование, если было бы доказано, что исторически напластование разных элементов образа Христа шло именно так, как она этого требует, т. е., что «бунтарские» тексты евангелий появились раньше непротивленческих. Но это-то и не доказано. Следовательно, вся концепция остается чисто умозрительной и ничем, кроме логических сопоставлений, не аргументированной.
Последний существенный довод в пользу теории социально-бунтарского характера Иисусовой проповеди Каутский усматривал в том, что мессианство другого типа не имело бы успеха в неиудейских кругах. Разве могли бы другие народы Римской империи воодушевиться национально-ограниченной проповедью иудейского мессианизма? Нет, говорит Каутский, успех христианства в интернациональном масштабе можно понять и объяснить, только если допустить, что оно оперировало не столько национальными, сколько классовыми лозунгами и требованиями. Мессианизм и коммунизм объединились в проповеди Иисуса Христа, и, только «соединившись, эти два фактора… стали непобедимыми». Лишь «мессианские чаяния, сводившиеся к избавлению всех бедных, должны были встретить живой отклик среди бедняков всех наций»[31]. Если бы Христос выступил не как социальный вождь угнетенных, независимо от их национальной принадлежности, а как узко-иудейский мессия, его проповедь, по Каутскому, не пережила бы того страшного краха, который претерпело иудейство в своих национально-освободительных войнах, и того маразма, в который ввергнута была после них сама идея мессианизма.
И это доказательство не выходит за пределы умозрительных допущений. К тому же оно нарушает логическую последовательность построений самого Каутского. Он считает, что революционный характер проповеди Иисуса, унаследованный его непосредственными учениками, быстро выветрился. «Распятому мессии, вышедшему из рядов пролетариата», удалось покорить Рим и весь мир. «Но он завоевал его не для пролетариата». Диалектика истории повела к тому, что христианство стало оплотом социального угнетения, и это было вполне закономерно. «Распятый мессия не был ни первым, ни последним завоевателем, который под конец обратил армии, давшие ему победу, против собственного народа и использовал их для его покорения и подчинения». В этой связи Каутский вспоминает Цезаря и Наполеона, которые тоже «выросли из победы демократии»[32].
Но если принять положение, что проповедь Иисуса вскоре после его смерти потеряла свой революционный характер (а это выглядит само по себе довольно правдоподобно), то нельзя объяснить ее успех среди населения Римской империи именно этим ее характером, ибо распространение христианства в неиудейских кругах относится отнюдь не к раннему периоду его существования, а к тому времени, когда его революционность уже должна была выветриться.
* * *
Когда митрополит Введенский в диспуте с Луначарским сказал, что всем бы хотелось иметь Христа в своем лагере, Луначарский ответил: «А нам — нет. Мы в Христе не нуждаемся»[33]. Это совершенно правильно по существу, но, как подчеркнул и сам Луначарский, не влияет на характер решения научной проблемы историчности Христа. Как и в любом другом научном вопросе, нам важно и здесь выяснить истину.
Классики марксизма неоднократно обращали внимание на попытки породнить коммунизм с первоначальным христианством и этим, с одной стороны, «христианизировать» коммунистическое учение, а, с другой стороны, изобразить христианство и фигуру его основателя в революционно-коммунистическом свете. Типичный образчик такой попытки мы находим в недавно вышедшей книге X. Рольфеса «Иисус и пролетариат»[34]. Она направлена на доказательство того, что в современном рабочем движении лишь продолжается традиция, идущая не от кого иного, как от Христа. По поводу подобных попыток Ф. Энгельс писал: «Одна из излюбленных аксиом гласит, что христианство есть коммунизм…». Сторонники такого взгляда «стараются это подтвердить ссылками на Библию, на то, что первые христиане жили на общинных началах, и т. д.». Энгельс заявляет, что весь дух библейского учения «совершенно враждебен коммунизму»[35]. Научный коммунизм не нуждается ни в каком религиозном или в каком бы то ни было другом прикрытии.
Обаятельный герой-страдалец? (по Э. Ренану)
Во второй половине прошлого века облик Христа в общественном мнении европейской интеллигенции преломлялся сквозь призму того изображения, которое дал французский ученый и писатель Эрнест Ренан в своей книге «Жизнь Иисуса», вышедшей впервые в 1863 году. Еще при жизни Ренана (он умер в 1892 году) книга выдержала не один десяток изданий на разных языках, в том числе и на русском. Небывалому ее успеху способствовал блеск литературного изложения, но немаловажную роль сыграло при этом и то обстоятельство, что Ренан сумел дать по-своему цельный и яркий литературный портрет человека Иисуса во всей жизненности и живой противоречивости человеческого образа. С большим трудом лишь впоследствии научной литературе о Христе удалось освободиться от чар того образа, который был создан Ренаном, и опять стать на путь объективного исторического исследования.
Для характеристики самого Ренана существенно, что еще в молодости он отказался от сана католического священника и посвятил свою жизнь науке; следует при этом иметь в виду, что научные интересы всегда переплетались в деятельности Ренана со стремлением к художественной репродукции прошлого. Огромная историческая и филологическая эрудиция нередко вступала у него в спор с блестящей художественной одаренностью, причем далеко не всегда побеждала научная тенденция. Субъективность художника одержала верх над научной беспристрастностью и в «Жизни Иисуса». Тем не менее анализ ренановского образа Иисуса представляет большой интерес — хотя бы только из-за того влияния, которое он долгое время оказывал на общественное мнение. Не лишним здесь будет отметить, что христианские церкви почти всех вероисповеданий (за исключением некоторых ответвлений протестанства) отнеслись резко отрицательно к книге Ренана. После ее выхода разразилась настоящая буря нападок на нее и на ее автора.
Это и не удивительно, если учесть, что автор решительно отказался от подхода к личности Иисуса Христа с точки зрения категории сверхъестественного. В его изложении нет места ни для непорочного зачатия, ни для воскресения и вознесения Христа, оно начинается с его детства и кончается смертью. В предисловии к XIII изданию своей книги Ренан декларировал эту свою позицию совершенно категорически: «Уже одно допущение сверхъестественного ставит нас вне научной почвы; этим допускается совершенно ненаучное объяснение, которого не мог бы признать никакой астроном, физик, химик, геолог, физиолог, которого не должен признавать также и историк. Мы отрицаем сверхъестественное на том же основании, на каком мы отрицаем существование центавров и гипогрифов: их никто никогда не видел. Я отрицаю чудеса, о которых рассказывают евангелисты»[36].
Обоснование отрицания сверхъестественных явлений тем, что их никто не видел, не выглядит особенно убедительным — есть куда более весомые аргументы в пользу такого отрицания. В данной связи, однако, важно, что Ренан стремился держаться на позициях рационализма. Отметим, что по своим философским взглядам он был близок к позитивизму.
В личности Иисуса Христа его не привлекали, таким образом, свойства чудотворца — он их отрицал. Помимо блестящих качеств человека, которые он усматривал в Иисусе, Ренан исходил из той колоссальной роли, которую, по его мнению, этот человек сыграл в истории. Возникновение христианства Ренан считал главным событием всемирной истории. И творцом этого события он признавал Иисуса Христа.
Ренан не отказывается даже от того, чтобы признавать Иисуса «сыном божиим», он считает, что «всемирное сознание» присвоило Иисусу этот титул «вполне справедливо, ибо он заставил религию сделать шаг, с которым ничто не может сравниться и подобного которому, вероятно, никогда и не будет»[37]. Но, по убеждению Ренана, чтобы оценить по достоинству этого великого человека и сделанный им вклад в историю человечества, необходимо снять те многочисленные наслоения, которыми исказили образ Христа церковники и богословы.
В океане толкований, которые созданы в течение почти двух тысячелетий писаниями благочестивых христологов, нельзя найти и следов стремления к восстановлению исторической истины. Для христиан, как заметил Ренан, всего важней было доказать, что Иисус исполнил все тексты пророков и псалмов, которые считались имеющими отношение к мессии. Для достижения этой цели считались пригодными все средства. Ничто не может сравниться с произволом, практиковавшимся при применении ветхозаветных текстов к жизнеописанию Иисуса. Ренан приводит убедительные примеры на этот счет, причем сообщает, что когда иудейские богословы заявляли, что в их текстах Ветхого завета нет ничего подобного тому, что изобразили христианские экзегеты, им говорили, что они исказили свой текст по чистой злобе и недобросовестности.
Сам Ренан не нуждался в таких приемах. Мы вовсе не хотим этим сказать, что в его построениях все основано на прочном научном фундаменте. Наоборот, в них очень много произвольного, субъективного, гипотетического и просто неверного. Но для их обоснования ему было достаточно его художественной фантазии. Он просто оставлял без внимания те евангельские сообщения, которые представлялись ему неправдоподобными, невозможными (прежде всего рассказы о чудесах и вообще сверхъестественных событиях), а остальное объединял единой нитью связного изложения, заполняя пустоты иногда выдумками, а иногда просто изящной и красноречивой словесностью. Таким способом он сумел создать привлекательный и импонирующий образ трагического героя, жившего, страдавшего и погибшего за идею, которая после его смерти покорила весь мир. Другое дело, в какой мере этот образ соответствует исторической действительности, о чем, впрочем, мы будем говорить в дальнейшем.
Иисус, по Ренану, был сыном своего времени и своего народа, продуктом той географической и исторической среды, в которой он вырос и сформировался как личность. Он разделял идеологию современной ему эпохи, включая и ее иллюзии. Без этого он не имел бы никакого успеха, ибо, по замечанию Ренана, все великое совершается народом, народом же нельзя руководить, не разделяя его идей. Ренан прозрачно намекает на то, что если даже Иисус верил не во все, что он проповедовал народу, и если даже он в некоторых случаях пользовался обманом, то и в этом нет ничего, что компрометировало бы его в наших глазах. В истории обман далеко не всегда играл отрицательную роль. «Нет великого дела, которое бы не было основано на легенде»[38].
Виновато-де в этом само человечество, которое желает быть обманутым. Тем более такая постановка вопроса должна относиться, считает Ренан, к странам и народам древнего Востока. У них были совсем другие понятия о правде и лжи, чем те, которые бытуют у нас. «Добросовестность и обман в нашем прямолинейном сознании — понятия, друг друга взаимно исключающие. На Востоке от одного к другому существуют тысячи переходов и оттенков… Для восточного человека фактическая правда имеет весьма мало значения; он все видит сквозь призму своих предрассудков, интересов, страстей»[39]. Исходя из этого, можно приписать Иисусу не всегда правдивое и искреннее поведение, не бросая этим тени на его нравственный облик.
Такой подход применяет Ренан к вопросу о чудесах, творившихся, по евангелиям, Иисусом. Он допускает наличие в этих сообщениях многих легенд, созданных впоследствии воображением верующих, но не отрицает и того, что некоторые из них соответствуют происходившему в действительности. Отделить вымышленные рассказы от истинных он признает в данном случае невозможным. Но наличие «истинных» описаний чудес не свидетельствует о подлинности самих этих сверхъестественных событий; речь идет лишь о тех чудесах, в которых Иисус дал согласие играть «активную роль». Эта обтекаемая формулировка призвана выразить в «приемлемой» форме мысль, что Иисус иногда соглашался инсценировать чудо, пользуясь для этого не вполне, по взглядам нашего времени, чистоплотными средствами.
Что ему было делать, восклицает Ренан, если в его время чудеса считались непременным признаком божественности и знамением пророческого призвания? Перед Иисусом стояла дилемма: «Или отказаться от своей миссии, или сделаться чудотворцем». Он выбрал последнее, чем уступил духу своего времени. А это значит, что он лишь повиновался насилию, которое совершила над ним его эпоха, он стал чудотворцем и заклинателем «лишь поневоле».
Впрочем Иисус и сам был непрочь подвергнуться этому насилию. В довольно ярком противоречии с собственной концепцией Ренан заявляет, что Иисус со своей стороны не только верил в совершаемые им чудеса, но и не имел ни малейшего понятия о естественном порядке и его законах; знания его в этом отношении были ничуть не выше, чем у его современников. Иисус, считает Ренан, разделял представления своих современников не только о чудесах, но и о боге, о дьяволе, об ангелах и злых духах. В этом отношении Иисус ничем не отличался от своих соотечественников[40]. В общем, здесь было некое сочетание обмана и самообмана, представляющее собой вообще характерную черту подавляющего большинства религий.
Самообману Иисуса могло способствовать и то, что некоторые чудеса ему удавались; это относится к исцелениям. Ренан говорит в этой связи о том влиянии, которое оказывается на нервную систему больного самой личностью врача и применяемыми им приемами. Иногда одно прикосновение к больному особенного человека стоит всего фармацевтического арсенала. «Самая радость, удовольствие повидать его уже имеет целительное действие, и это не так мало»[41].
В особенности такое воздействие важно при нервных болезнях, рассматривавшихся в древности как результат вселения дьявола в организм больного. Нервное потрясение от соприкосновения с человеком, пользовавшимся славой целителя, могло в самом деле исцелить бесноватого. А такие случаи должны были укреплять в Иисусе его веру в экстраординарное значение собственной личности и побуждать его к продолжению чудотворной практики.
По своему личному характеру Ренанов Иисус — тоже человек своего времени и своего народа. Как истый галилеянин, он, не в пример собственно иудеям, никогда не стремился демонстрировать показное благочестие и нравственный ригоризм. «Он не бегал от веселья, охотно ходил на свадебные пиры»[42]. Это был простой, веселый и добрый человек из народа, чуждый саддукейской надменности и фарисейского лицемерия. Ему были в какой-то мере свойственны беззаботность и беспечность, присущие уроженцам и обитателям плодородных местностей с мягким, благодатным климатом, а именно такой была Галилея — родина Иисуса.
Ренан склонен даже один из основных элементов учения Христа, выражавшийся в призыве к отказу от труда на том основании, что полевые лилии одеты лучше самого богатого человека, а они ничего не делают, объяснять влиянием климата на мироощущение Христа: «Труд в этого рода климатах является бесполезным; результаты его не стоят того, во что он обходится… Это презрение к труду, которое чрезвычайно возвышает душу, когда в основе его не лежит леность, подсказывало Иисусу прелестные поучения: «Не собирайте себе сокровища на Земле…»[43].
Будучи простым человеком из народа, Иисус не обладал особенной образованностью. Греческого языка, который был в ходу у эллинизированной саддукейской верхушки, он совершенно не знал, не был знаком и с греческой литературой. Больше того, Ренан считает, что Иисус не был особенно умудрен и в иудейском «Законе» и стоял далеко от раввинистических школ, уже в его время начавших развертывать ту запутанную схоластическую казуистику, из которой произошел в дальнейшем Талмуд. В этом, по Ренану, заключалась одна из сильных сторон личности Иисуса: ум его сохранил ту свежую наивность, которую всегда ослабляет обширное и разнообразное образование. Недостаток образованности и отсутствие теологической выучки все же сильно мешали Иисусу в его проповеднической деятельности.
От природы он был остроумным и находчивым человеком, прекрасным собеседником. Но когда он вышел на широкую арену публичной проповеди, этого оказалось мало: ему пришлось сделаться толкователем, юристом, экзегетом, теологом. Приходилось втягиваться в «трескучие» диспуты, в бесконечные «схоластические» битвы. Ренана огорчает то положение, в котором оказывался в таких случаях его герой; когда он переходил от обороны к наступлению, он тоже далеко не всегда оказывался на высоте: «мы предпочли бы не видеть его иной раз в роли нападающей стороны»[44].
Правда, природная находчивость давала ему возможность иногда победоносно выходить из тяжелых положений. Но Ренан отнюдь не в восторге от логической силы Иисусовой аргументации в таких случаях, она была весьма слаба. И все же иногда Иисус находил блестящие, искрометные ходы, дававшие ему возможность одерживать победу. Ренан вспоминает в связи с этим, как вышел Иисус из положения, когда у него спросили, как поступить с женщиной, уличенной в прелюбодеянии. Всем известен ответ Иисуса. Напомним, что он заключался в лукаво-доброжелательном совете: «Кто из вас без греха, первый бросит на нее камень».
Проповедник новой религии был человеком мягким и благожелательным. «Проповедь его была приятная и нежная, дышала естественностью и благоуханием полей. Он любил цветы и пользовался ими для прелестных и поучительных сравнений. Птицы небесные, море, горы, детские игры постоянно фигурируют в его поучениях»[45]. Своим мягким обаянием и, как полагает Ренан, приятной внешностью Иисус очаровывал людей, особенно женщин. И в то же время в критические моменты он становился грозным и властным. Спокойный и мягкий в обычном обращении, он преображался в случае малейшей оппозиции. Тогда его покидала природная кротость, и его резкость внушала страх даже апостолам.
Ренан восхищается силой того оргазма, который Иисус обрушивает на своих врагов. «Письмена этого образцового по мастерству высшего посмеяния огненными чертами выжжены на теле лицемера и лженабожного. Несравненные письмена, достойные сына божия письмена! Только бог в состоянии убивать таким способом. Сократ и Мольер едва ли царапают кожу. А у этого огонь и бешенство прожигают до самых костей»[46]. Вряд ли могут быть сомнения в том, что Ренан довольно сильно сгустил здесь краски: в евангелиях можно найти немного мест, которые бы хоть в какой-то степени оправдывали этот дифирамб саркастической силе Иисусовых высказываний.
На какие же цели были обращены все эти свойства ума и характера того героя, которого Ренан видел в Иисусе Христе?
Иисус явился основателем новой религии, базировавшейся, правда, на старом основании — иудаизме. Он был иудеем и в то же время уже не иудеем. Иудаизм был обращен «к сынам Авраама». Но Иисус провозгласил, что каждый добрый человек, независимо от национальной принадлежности, пошедший за ним, Иисусом, тем самым делается сыном Авраамовым. «Он провозглашает права человека, а не права иудея; религию человека, а не религию иудея; освобождение человека, а не освобождение иудея»[47].. Много было в иудаизме и в общественной жизни Иудеи попыток поднять на ноги массы во имя новых религиозных и политических стремлений, но никакого сравнения по своей радикальности с идеями Иисуса они не выдерживали. Все эти попытки предпринимались под знаменем иудейского «Закона». Иисус впервые выступил против него.
Новой идеологией явилась «религия необыкновенной чистоты, без обрядов, без храма, без жрецов»[48]. В содержании этой религии Ренан усмотрел два элемента, вызывавших с его стороны различное отношение.
С одной стороны, апокалиптика, предсказание скорого конца света, призыв к покаянию в предвидении страшного суда, это — «ложная, холодная, невозможная идея»[49]. С другой стороны, «нагорная проповедь, апофеоз слабого, любовь к народу, любовь к бедности, возвеличение всего, что унижено, правдиво и наивно»[50]. Эта сторона учения Христа вызывает у Ренана самую горячую симпатию. Особый восторг он выражает по поводу тех методов, при помощи которых Христос поведал миру свое нравственное учение «с искусством несравненного артиста». И Ренан призывает «простить ему его веру в несбыточный апокалипсис, в торжественное пришествие на облаках»[51]. Ибо главное, по его мнению, в учении Христа — не это, а живое, жизненное и нравственное учение, связанное с определенными общественными взглядами.
Интересно, однако, что когда дело доходит до изложения этого учения, обычно многословный и словоохотливый Ренан становится лаконичным. Что проповедовал Иисус в социальном плане? «Чистый евионизм, т. е. учение, по которому спасутся одни бедные (евионим), по которому наступает царство бедных…»[52]. В каком смысле спасутся, от чего, от адских ли мук или от земных бедствий, обусловленных неустройством? Очевидно, надо избрать второе решение. Итак, Иисус ставил своей целью привести бедных и обездоленных к коренному улучшению их участи и жизни. Но уж очень скудно выглядит у Ренана, при всем его умении раздувать малейший намек в целую концепцию, социальная программа Христа.
Идеологу и вождю бедняков, конечно, не нравится общественное неравенство, экономическое и политическое господство богатых. Он стремится уничтожить богатство и власть. Он против какой бы то ни было власти и в этом смысле является прямым анархистом. Всякое должностное лицо, продолжает Ренан, представляется ему естественным врагом людей божиих, гражданское правительство он считает просто-напросто злоупотреблением. В какой-то мере такое отрицательное отношение Христа к мирским властям Ренан объясняет его неосведомленностью, ибо он «человек, вышедший из народа и не имеющий понятия о политике»[53]. Но так или иначе, остается фактом, что Иисус был против всяких властей.
Такое его отношение к ним не вело, однако, к стремлению свергнуть их. Он предсказывал ученикам, что они подвергнутся преследованиям и мучениям, но ни разу у него не появляется мысли о вооруженном сопротивлении, замечает Ренан. Столь же пассивно-отрицательным является его отношение к существующему социальному строю. «У него никогда не замечается ни малейшего стремления занять место властей и богатых»[54], он не зовет идущих за ним бедняков к овладению богатствами. Почему? У Ренана это остается непонятным, ибо он пытается игнорировать ту сторону учения Иисуса, которую он просит читателя простить основателю христианства: ту самую пресловутую апокалиптику. Именно потому Иисус пренебрегал благами мира сего и земными властями, что считал все это несущественным и суетным перед лицом неотвратимо приближавшегося конца света.
Впрочем и само это пренебрежение не было у него, по евангелиям, достаточно последовательным. Как-никак, а он призывал своих современников воздавать кесарю кесарево. Что же касается богатства рабовладельцев, то в евангелиях можно найти не одну притчу и не одно рассуждение, в которых это богатство признается вполне правомерным явлением. Ренан и здесь оказывается односторонним и необъективным.
Стараясь, правда без особого успеха, свести воедино евангельское изображение учения Христа, Ренан (надо отдать ему должное) не упрощает психологическую картину переживаний и чувств Иисуса на протяжении короткой истории его деятельности.
По мере того как проповедь Иисуса имеет все больший успех и вербует ему все большее число приверженцев, он оказывается во все более затруднительном положении. По существу, он не знает, что ему делать с теми людскими массами, которые готовы пойти за ним. Скоро он вообще перестает быть хозяином положения. «Увлекаемый… ужасающим нарастанием энтузиазма и находясь под влиянием требований своей все более и более возбуждающей проповеди, Иисус более уже не был свободен в своих действиях; теперь он принадлежал своей роли и в некотором смысле человечеству»[55]. Он поплыл по увлекавшему его течению.
Борьба в его сознании и поведении двух начал — апокалиптического и земного — завершилась победой первого. Оно требовало не сопротивления и земной борьбы, а мученической гибели. Перед лицом этой перспективы Иисус переживал страшный душевный кризис. «Порой можно было сказать, что разум его мутится…, следует напомнить, что минутами его близкие говорили о нем, что он вышел из себя, а враги объявили, что он одержим бесом». Приступы смертельной тоски сменяются моментами бурной экзальтации, когда «голова у него идет кругом под влиянием величественных видений царства божия, которые постоянно огнем горят перед его глазами»[56]. И, наконец, он принимает решение — идти на смерть.
Такое решение производит переворот и в его поведении. С этого момента кончается всякая двойственность, всякое тактическое маневрирование. «Мы видим его снова цельным и без малейшего пятнышка. Все уловки полемиста, легковерие чудотворца и заклинателя бесов теперь забыты. Остается лишь несравненный герой страстей…»[57]. И здесь Ренан опять-таки схематизирует евангельские повествования. Ведь в них «несравненный герой страстей» впадает в полное малодушие. Правда, Ренан отмечает, что в какой-то момент страх, сомнение овладели им и повергли его в состояние слабости, которое хуже всякой смерти, но этот момент он относит к периоду, предшествовавшему героическому решению Христа «испить чашу до дна», после чего Христос якобы уже больше ни в чем не колеблется.
В общем, Ренан создал яркий и контрастный психологический образ человека трагической судьбы, притом человека весьма недюжинного. Ренановский Иисус — личность великого масштаба, но такого же масштаба и присущие ей чисто человеческие страсти, противоречия и слабости. Фигура Иисуса в изображении Ренана выглядит психологически правдоподобной. В какой-то мере она правдоподобна и исторически, хотя критики почти единодушно упрекали автора в том, что он изобразил Иисуса по своему образу и подобию как парижанина эпохи Второй империи — бурно темпераментного и сентиментального, изящного, остроумного и не очень последовательного в своих словах и действиях. При всем этом нельзя не видеть в конструкции Ренана настойчивое стремление рассматривать фигуру Иисуса в свете исторических и географических условий древнего Востока.
И самое важное — эта конструкция в значительно большей мере базируется на художественной фантазии выдающегося писателя Эрнеста Ренана, чем на объективных свидетельствах исторических документов.
Душевнобольной? (по Ж. Мелье, А. Бинэ-Сангле и Я. Минцу)
Трудно сказать, кто первый в литературе высказал такой дерзкий взгляд. В отчетливой форме мы впервые находим его сформулированным в «Завещании» Жана Мелье, французского католического священника конца XVII — начала XVIII века, о котором лишь после его смерти стало известно, что всю жизнь он был законченным и последовательным атеистом.
Его отношение ко всякой религии, в том числе к христианству, было непримиримо отрицательным и враждебным. Тон, в котором он говорил о религии, христианстве, о Христе, может показаться чересчур резким, а применяемые им выражения даже бранными. Его можно, однако, понять. Это было время полного и безраздельного господства церкви если не над умами людей, то над их жизнью и судьбами. Малейшее открытое выступление против догматов христианства могло привести человека на костер инквизиции. Самому Мелье пришлось всю жизнь держать свои убеждения при себе и при этом выполнять обязанности сельского священника. Не удивительно, что у него накапливалась с трудом сдерживаемая ярость, выход для которой он давал, лишь оставаясь наедине с самим собой и со своими рукописями. А в общественной атмосфере того времени все более обострялись противоречия между феодальной аристократией, опиравшейся на церковь, и подымавшими голову народными массами. Одним словом, это была предгрозовая атмосфера кануна Французской буржуазной революции.
Не только для Мелье, но и для других идеологов французского Просвещения христианство представлялось остро и непримиримо враждебной идеологией, о которой они говорили с ничем не сдерживаемой ненавистью. Вольтер, Гольбах, Дидро и их соратники обрушивали на христианство и на Христа потоки сарказмов, яростных издевательских насмешек, беспощадных разоблачений. В таком духе говорил о Христе и Жан Мелье.
Он не ограничивался тем, что именовал Иисуса Христа «ничтожным человеком, который не имел ни таланта, ни ума, ни знаний, ни ловкости и был совершенно презираем в мире»[58]. К таким эпитетам, как «жалкий фанатик и злополучный висельник», он присоединял еще и его характеристику как «сумасшедшего безумца». Можно было бы подумать, что Мелье имеет здесь в виду лишь ругательный смысл этого выражения, а не обозначение человека с расстроенной психикой. Однако дальнейшее изложение свидетельствует о том, что он имел в виду именно душевную болезнь, сумасшествие в клиническом смысле этого слова. При этом он нередко в качестве синонима к слову «сумасшедший» применяет термин «фанатик». В частности, Мелье берется «доказать и показать, что он (Христос. — И. К.) воистину был сумасшедшим безумцем, фанатиком»[59].
Для доказательства этого Мелье приводит три группы аргументов. «Во-первых, мнение, которое составилось о нем в народе; во-вторых, его собственные мысли и речи; в-третьих, его поступки и его образ действий»[60].
В евангелиях Мелье обнаруживает много мест, из которых следует, что окружавшие Иисуса люди в ряде случаев признавали его умственно ненормальным. Каждый раз, когда он говорил им «грубости, глупости и вздор», фарисеи и книжники начинали подозревать, что он одержим бесами. Даже некоторые из учеников Христа, когда он «сказал иудеям, что даст им есть свою плоть и пить свою кровь», отделились от него и покинули его, правильно заключив по этой речи, что он «не более, как безумец!»[61]. Правда, иногда среди слушавших Иисуса обнаруживались разногласия по поводу оценки его личности: «Одни говорили, что он добр, другие говорили: нет, он обольщает народ, а большинство считало его сумасшедшим и безумцем и говорило: он одержим бесом и безумствует…»[62]. Родные и близкие тоже подозревали Иисуса в том, что он лишен рассудка. Однажды, рассказывается в евангелии, они пошли за ним, чтобы увести его домой, «ибо говорили, что он впал в безумие».
В этом свете толкует Мелье и свидание Иисуса с Иродом Антипой. Четвертовластник («тетрарх» — наместник одной из четырех палестино-сирийских областей) полагал, что к нему ведут чудотворца, который покажет ему много занятного, и с нетерпением дожидался его прихода. Но, поговорив с ним, он понял, с кем имеет дело, и отослал его обратно. А сопровождавшие Иисуса иудеи издевались над ним, как над сумасшедшим, вообразившим себя царем: дали ему в руки вместо скипетра трость, оказывали другие шутовские почести. «Из всех этих свидетельств видно воочию, что в народе действительно смотрели на него, как на сумасшедшего, безумца и фанатика»[63]. Приведенные в евангелиях мысли и изречения Иисуса дают Мелье основание утверждать справедливость такого заключения.
Он приводит заявление Христа, свидетельствующее о том, что тот рассматривал себя как существо, призванное совершить небывалые и неслыханные доселе дела: он должен стать царем иудеев и вечно над ними царствовать, а заодно и спасти весь мир; он должен создать новые небеса и новую землю, где будет царствовать со своими апостолами, которые, сидя на двенадцати престолах, будут судить все человечество; он собирался спуститься с неба во главе сонма своих ангелов; он считал себя в силах воскресить всех мертвых и предохранить от смерти тех людей, которые уверуют в него. Короче говоря, «он мнил себя всемогущим и вечным сыном всемогущего вечного бога». Мелье сравнивает эти фантазии с тем, что могло прийти в голову Дон-Кихоту, и утверждает, что «фантазии и мысли» последнего, «при всей их неуравновешенности и ложности, никогда не были нелепы в такой крайней мере»[64]. Тот способ, которым Христос толковал ветхозаветные пророчества, в частности тексты пророка Исаии, опять-таки, по Мелье, обнаруживают лишь болезненное направление ума.
Еще одно доказательство безумия Иисуса Мелье усматривал в противоречивости его проповедей и поучений. «Нужно, — говорит он, — быть сумасбродом и сумасшедшим, чтобы вести такие речи и произносить такие проповеди, противоречащие одна другой и совершенно уничтожающие одна другую»[65]. Миссия Христа заключалась, по его словам, в том, чтобы научить людей мудрости, просветить их светом истины, но он предпочитал говорить не прямо, а притчами и иносказаниями и объяснял это стремлением не дать народу понять его. Он проповедовал любовь к людям и в то же время требовал, чтобы его приверженцы возненавидили своих родителей, братьев и сестер и вообще всех близких своих.
Доводы, приводившиеся Иисусом в спорах с его противниками, по Мелье, настолько нелогичны и бездоказательны, что сами по себе могут свидетельствовать о нарушении логической структуры мышления. В ответ, например, на возражение о том, что его собственное свидетельство о себе не беспристрастно и потому не имеет силы, Иисус сказал, что его свидетельство истинно, потому что он знает, откуда пришел и куда идет, а его противники этого не знают, и так далее в том же роде. Разве здравомыслящий человек может счесть такой аргумент доказательным?
Само поведение Иисуса настолько непоследовательно и в элементарном смысле этого слова нецелесообразно, что тоже наводит на мысль о его умственной ненормальности. Многие его поступки и переживания могут быть объяснены только как продукт галлюцинации и «визионерства». С горы, на которую привел Иисуса Сатана, он увидел «все царства мира». Но «на Земле нет такой горы, откуда он мог бы видеть хотя бы одно царство сразу», значит он видел все это лишь в воображении, а «такие галлюцинации и обман воображения свойственны лишь ненормальному, визионеру и фанатику»[66].
Нельзя не признать аргументацию Мелье в общем неубедительной. Главный его аргумент состоит фактически в том, что если бы в настоящее время появился на Земле субъект, который стал бы говорить и действовать так, как евангелия приписывают Христу, то его, несомненно, все признали бы сумасшедшим. Много раз Мелье повторяет эту формулу, но не отдает себе отчета в том, что его время — это совсем не то, в которое жил или мог жить Христос. Французским просветителям не хватало именно исторического подхода к рассматриваемым ими явлениям, они ко всему прилагали мерки своего времени и известных им общественных нравов. Между тем то, что накануне Французской революции выглядело как проявление сумасшествия, за восемнадцать столетий до этого могло полностью соответствовать принятым тогда стандартам поведения и сознания.
Тем не менее уже в наше время мнение, что Иисус Христос был душевнобольным, нашло своих приверженцев — теперь уже не среди философов и историков, а среди специалистов-психиатров и психологов. Наиболее обстоятельно попытался обосновать эту концепцию крупный французский врач-психиатр А. Бинэ-Сангле, написавший двухтомный труд под заглавием «Безумие Иисуса»[67]. По его стопам и в значительной мере использовав его материал, а иногда и текст, советский врач Я. Минц опубликовал в 1927 году статью под заглавием «Иисус Христос как тип душевнобольного».
Оба автора исходят в своем «диагнозе» из тех данных об Иисусе— о его поведении, происхождении, телесной организации и состоянии здоровья, которые сообщают евангелия. Бинэ-Сангле, помимо того, ссылается на сведения, которые можно почерпнуть по этим вопросам из сочинений раннехристианских писателей. Общее заключение, к которому он приходит и к которому присоединяется также Я. Минц, состоит в том, что Иисус Христос страдал душевной болезнью, которая в психиатрии известна под названием паранойи.
Минц приводит определение этой болезни, заимствованное у знаменитого немецкого психиатра Крепелина: «Заболевание, которое характеризуется тем, что на почве своеобразного психопатического предрасположения, при сохранении осмысленности и правильного мышления, у человека развивается стойкая система бреда»[68]. Особенность паранойи по сравнению с другими психическими заболеваниями заключается в том, что больной сохраняет в течение длительного времени после начала заболевания последовательность и силу умственной деятельности; во всех остальных ее областях, кроме той, на которую не распространяется болезнь, он мыслит и действует логично и в общем разумно. Поэтому в отличие от страдающих другими психическими заболеваниями, параноик может долгое время, а в некоторых случаях и до конца жизни, оставаться нераспознанным как психически больной. Бред же его может сложиться «в стройную, последовательную и яркую систему, носящую черты творчества»[69].
Бредовые представления параноиков обычно сосредоточены вокруг какой-нибудь навязчивой идеи и, как правило, связаны с собственной личностью больного. Она представляется параноику центром всего происходящего в мире и в зависимости от содержания бреда — либо объектом всевозможных преследований, интриг и козней чуть ли не со стороны всего человечества, либо носителем величайшей и высочайшей миссии, имеющей решающее значение для всей мировой истории. У параноика, по Крепелину, может быть бред преследования, ревности, величия, эротический бред, бред изобретательства, высокого происхождения и т. д. В отношении Иисуса Христа упомянутые авторы считают почти доказанным и во всяком случае весьма вероятным, что он был одержим параноидальным синдромом, содержанием которого была мания величия, связанная с самообожествлением и с представлением о том, что он, как мессия, призван спасти все человечество, притом ценой собственного страдания.
В чем они находят основания для такого заключения?
Иисус, по евангелиям, считал себя сыном божиим и мессией, призванным спасти мир. Он непрестанно говорит о своей высокой миссии. Вся предшествовавшая история представляется ему чем-то вроде прелюдии к появлению его собственной личности. Все, что пророки когда-то предсказывали, относится именно к нему. Это полностью соответствует обычной для параноиков установке — весь мир полон символов, имеющих отношение исключительно к ним. С эгоцентрическим бредом величия соединяется у Иисуса и бред преследования, обреченности; он постоянно возвращается к вопросу о неизбежном, предстоящем ему мученичестве. В соответствии с этим его настроения и нервно-психологический тонус обнаруживают характерную неустойчивость между мажорным полюсом душевного подъема, с одной стороны, и полюсом отчаяния, безысходной тоски, полного эмоционального упадка — с другой. Вспоминается, в частности, приступ тоски, овладевший Иисусом в Гефсиманском саду; такие периоды меланхолии нередко сменяют у параноиков настроение возбуждения и подъема.
Чудеса, якобы творящиеся вокруг Иисуса и им самим, объясняются Бинэ и Минцем как галлюцинации. Его крещение в Иордане сопровождалось, по евангелиям, «разверзанием небес» и появлением «духа господня» в виде голубя, а также возгласом с неба; все это — продукт зрительных и слуховых галлюцинаций. Его сложные взаимоотношения с Сатаной в пустыне во время сорокадневного пребывания там (искушения и т. д.) также являлись продуктом галлюцинации; ее интенсивности должно было способствовать то состояние истощения, в котором находился тогда Иисус в результате длительного голодания.
Событий и явлений, которые можно объяснить предположением о галлюцинациях, в евангелиях много, и цитируемые нами авторы охотно привлекают их для обоснования своей гипотезы. Следует, однако, отметить, что, по данным психиатрической науки, для паранойи такой симптом, как галлюцинации, нехарактерен. Некоторые определения этой болезни, содержащиеся в специальной литературе, особо подчеркивают, что эта болезнь связана с «бредом без галлюцинаций», или говорят, что она протекает «обычно без галлюцинаций». Таким образом, в самой клинической картине Иисусовой «болезни» обнаруживается слабое звено.
Описываемое в евангелиях поведение Иисуса представляется Бинэ и Минцу в точности соответствующим классическим симптомам паранойи. Так точно, говорит Минц, изображена картина этой болезни, что только современные психиатры и невропатологи могли бы умозрительно нарисовать подобную.
Отсюда заодно делается вывод, что жизнь Иисуса и его самого евангелисты описывали с натуры; не могли же они, в самом деле, быть такими квалифицированными психиатрами, чтобы измыслить столь правдоподобную по своим симптомам картину болезни!
Подкрепление своей гипотезы о психической неполноценности Иисуса психиатры ищут в представлениях о его физической немощности. Судя по многочисленным изображениям на иконах и распятиях, физическая конституция Иисуса была астенической, что свидетельствует о болезненности: по евангелиям, он не был в состоянии донести свой крест до Голгофы. Переживая волнение и беспокойство, он обильно потел, притом даже кровавым потом. Наследственность его была тоже нездоровой. Он родился и прожил почти всю жизнь в Галилее, жители которой занимались преимущественно виноградарством; вероятно, галилеяне и, в частности, родители Иисуса, пили вино в большом количестве. Значит, есть основания приписать Иисусу тяжелую алкоголическую наследственность.
Нельзя не заметить, что оба эти рассуждения лишены серьезных оснований. Все изображения Иисуса имеют весьма позднее происхождение, и ни одно из них не может претендовать на малейшую портретную достоверность. В одной из последующих глав мы приведем материал, свидетельствующий о том, что в христианской традиции ряда столетий с представлением о физически немощном и хилом Иисусе боролся образ сильного, атлетически сложенного богочеловека. Что же касается подозрения в алкоголизме, то с тем же правом, т. е. без всякого права, можно распространить это подозрение на всех жителей тех стран, в которых развито виноградарство и виноделие.
Аргументом в пользу физической и, стало быть, психической неполноценности Иисуса служит у Бинэ и Минца также соображение о вероятной его половой импотентности. Доказательство этого Минц, например, видит не только в том, что евангелия молчат о каких бы то ни было проявлениях сексуальности у Иисуса, но и в его холостом состоянии — до самой смерти. Он жил в доме своих родителей по меньшей мере до тридцатилетнего возраста, но те, видимо, и не пытались женить его. А ведь это должно было считаться, по законам иудаизма, тяжелым грехом!
Идя по стопам Мелье, Бинэ и Минц ссылаются на то, что и современники Иисуса подозревали в нем помешанного. Приводится текст из Евангелия от Марка: «И услышавши ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя» (III, 21). Эпиграфом к своей статье Я. Минц избрал текст Евангелия от Иоанна: «Многие из них говорили — он одержим бесом и безумствует» (X, 20). Авторы считают, таким образом, что подозрения современников Иисуса были вполне обоснованы. И если бы в наше время появился на Земле человек, который вел бы себя аналогично Иисусу, он «был бы передан… в руки психиатра для помещения в психиатрическую лечебницу…»[70].
Гипотеза Бинэ-Минца относится не только к Иисусу Христу. Они считают, что чуть ли не все основатели религий, пророки, вожди религиозных движений были параноиками. В этот разряд попадают и Будда, Заратуштра, Мохаммед, Кришна и т. д. История религии является с этой точки зрения историей совращения миллионов здоровых людей одиночками-сумасшедшими, психического заражения широких народных масс параноиками. Нет необходимости здесь опровергать эту «сумасшедшую» историю религий в ее общем плане. Что же касается личности Иисуса, то легковесность и беспочвенность тех соображений, на которых строится относящаяся к ней «психиатрическая» теория, совершенно очевидны.
Один из пророков иудаизма? (по Л. Беку, Э. Мейеру, И. Кармайклу)
Давно уже стало привычным и в силу этого кажется бесспорно истинным прямое противопоставление христианства иудаизму и самого Иисуса — всей массе ветхозаветных иудейских пророков, которые хотя и предсказывали якобы появление Христа, но лишь в качестве совершенно нового, из ряда вон выходящего явления. Между тем в литературе представлена и такая концепция, по которой Иисус— лишь одно из звеньев иудейской цепи пророков.
Немецкий журнал «Шпигель» опубликовал в 1966 году подборку высказываний ряда современных еврейских религиозных и литературных деятелей, утверждающих принадлежность Иисуса иудаизму[71]. Знаменитый теоретик неохасидизма М. Бубер заявляет, что он Иисуса еще с юности рассматривал, как своего великого брата. Все остальные цитируемые авторы утверждают, что они и теперь так воспринимают образ человека, считающегося основателем христианства.
Вот что, например, пишет раввин А. Бек: «Иисус в каждой черте своего характера — еврей; такой человек, как он, мог вырасти только на еврейской почве, только там, и нигде в другом месте. Иисус — истинно еврейская личность, все его стремления и действия, помыслы и чувства, речи и молчание — все несет на себе печать еврейства, еврейского идеализма, всего лучшего, что в еврействе было и есть, а тогда было только в еврействе. Он был еврей среди евреев. Ни из какого другого народа не мог произойти такой человек, ни в каком другом народе он не мог бы действовать, ни в каком другом народе он не нашел бы апостолов»[72]. Если отвлечься от того густо националистического духа, которым проникнута приведенная цитата, то ее содержание в основном сводится к тому, что Иисус не только был, но и остался евреем и иудаистом.
Он не был с этой точки зрения даже последним по времени пророком иудаизма. Писатель Ш. Бен-Хорин считает Иисуса предшественником основателей и идеологов хасидизма — религиозного движения среди евреев, возникшего в XVIII веке в Галиции. «Место Иисуса, — говорит он, — …среди тех, кто вызвал революцию в сердце, на стороне рабби Израиля Бал-Шема и других великих руководителей хасидизма». Он только оказался в положении блудного сына, изображенного им в знаменитой притче. «Он сам блудный сын, который после двухтысячелетнего блуждания на чужбине вернулся в отчий дом к своему еврейскому народу, и старый Израиль зовет его»[73]. В качестве кого же он вернулся или должен вернуться «к своему еврейскому народу»? Конечно, не в качестве бога или даже мессии, а просто как «великий брат».
Современные идеологи иудаизма требуют отделения «еврейского Христа» от христианства. «Наш Христос, — пишет некто К. Бруннер, — имеет с Христом официального христианства так же мало общего, как созвездие Большой Медведицы с животным того же наименования. Отсюда — требование: «Отдайте нам нашего Иисуса!»[74].
Практически, конечно, речь идет не о том, чтобы «отобрать» Иисуса у христианства, а о максимально возможном сближении двух религий. Еще в прошлом веке еврейский публицист К. Монтефьоре требовал сближения иудаизма с христианством, его «примирения с евангелием», причем основание для этого он усматривал в том, что Новый завет, по крайней мере евангелия, следует рассматривать как часть иудаизма, а Христа — как пророка в Израиле. В настоящее время в Америке существует специальный институт, ставящий своей целью сближение иудаизма и христианства. В 1947 году в швейцарском городе Зелисберге было учреждено «Общество иудеохристианской дружбы», основатель которого Жюль Изаак известен активной пропагандой идеи единства иудаизма и христианства. Исторической основой этой концепции служит положение о том, что Иисус был не кем иным, как одним из пророков иудаизма.
Развернутое изложение этой концепции мы находим в трехтомном труде немецкого историка Э. Мейера «Происхождение христианства». Приведем основные его идеи, относящиеся к данному вопросу[75].
Религиозное мировоззрение Иисуса, считает Мейер, не выходило за рамки взглядов современных ему фарисеев. Основным элементом этого мировоззрения было дуалистическое представление о царстве божием с его легионами ангелов и о противостоящем ему царстве Сатаны с его сонмом бесов; последние неустанно строят свои козни людям — вселяются в них, насылают болезни, обнаруживают свое присутствие в «одержимых», громогласно разговаривая их устами. И фарисеи, и Иисус верили в загробную жизнь и в посмертное воздаяние людям райскими блаженствами или адскими мучениями. И те и другие признавали неизбежность воскресения мертвых и страшного суда. Иисус обычно аргументировал проповедуемые им положения ссылками на ветхозаветные пророчества. Например, учение о воскресении мертвых он доказывал ссылкой на книгу Исхода. Он настаивал на том, что должен исполниться «весь закон». В общем, по Мейеру, Иисус стоит всецело на почве иудейства, и его кругозор не выходит за его пределы. Это подтверждается и тем, как евангелия описывают его поведение, его взаимоотношения с окружающими, а также характер тех наставлений, которые он дает апостолам.
Как и у ветхозаветных пророков, говорит Мейер, у Иисуса язычники являются только привеском к иудейскому миру. Они смогут получить свою долю блаженства только в том случае, если уверуют, т. е. по существу перейдут в иудаизм. Сам Иисус избегает входить в соприкосновение не только с язычниками, но и с самаритянами. Когда женщина-сирофиникиянка обращается к нему с просьбой исцелить ее дочь, он отвечает ей, что «нехорошо отнять хлеб у детей и бросить его псам». Заявление — совершенно недвусмысленное: иудеи — дети божии, а остальные народы — псы. Рассматривая свою миссию как всемирную, Иисус не сомневается в том, что в конце концов вокруг него соберутся не только иудеи, но и все остальные народы. Правда, евангелия не содержат никаких сведений, что Иисус вел или собирался вести свою проповедь среди язычников. Больше того, он прямо наставлял своих апостолов: «На путь к язычникам не ходите и в город самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома израилева». Апостолы грубо нарушили это прямое запрещение и, видя безуспешность своей пропаганды среди иудеев, сосредоточили всю энергию на миссионерской деятельности среди других народов. Но из проповеди Иисуса это никак не вытекало.
Совпадение взглядов Иисуса с верованиями и мировоззрением фарисеев Мейер распространяет лишь на самые догматы вероучения. Что касается понимания «внутренней сущности закона и основанного на этом понимании отношения человека к богу», то он находит прямую противоположность во взглядах Иисуса, с одной стороны, и фарисеев — с другой. Это, однако, относится не к признанию или отрицанию «закона», а к большей или меньшей глубине его толкования.
Развитие и во многом новое обоснование приведенных взглядов Мейера содержатся в книге американского автора И. Кармайкла «Смерть Иисуса Христа», вышедшей в 1963 году и вскоре переведенной на ряд языков[76].
Кармайкл обращает внимание на то, что во всех новозаветных книгах приверженцы Иисуса Христа упорно называют себя иудеями. Он цитирует ряд текстов этого рода и в особенности уделяет внимание в этом отношении Деяниям апостолов. Поучительна, например, сцена столкновения апостола Павла с иерусалимскими христианами. Они говорят ему: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они «ревнители закона». Тут же, однако, они начинают упрекать его в том, что он учит евреев, живущих среди язычников, «чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям». Борьба по этому вопросу развертывается довольно ожесточенная, но в интересующей нас здесь плоскости важно, что христиане упрекают апостола Павла в пренебрежении законами иудаизма, а тому приходится искать для себя оправдания. А поколение, учившееся непосредственно у Иисуса, тем более считало себя связанным с иудаизмом и его предписаниями.
Борьба между двумя направлениями в первоначальном христианстве— тем из них, которое стремилось не порывать своей связи с иудаизмом («петринизм»), и тем, которое смело рвало с ним («паулинизм»), — общеизвестный факт. Но Кармайкл вполне резонно обращает внимание на то, что это свидетельствует о совершенно иудейском характере самого первоначального этапа христианства, а стало быть, и о соответствующем характере проповеди самого Христа.
Близкий к этому вывод делает Кармайкл и в вопросе о соблюдении обрядов иудаизма. Он ссылается на то место Деяний, где апостол Петр с гордостью заявляет, что в его уста никогда не входило ничего скверного и нечистого, явно имея в виду ту еду, которая запрещена иудеям предписаниями Ветхого завета. Дальше рассказывается о видениях, довольно гуманно намекавших Петру на несущественность этих запретов. Но это уже связано с каким-то другим этапом в развитии христианства, а на самой ранней ступени этого развития о таком либерализме речи не было.
Впрочем, Кармайкл считает, что Иисус был против педантизма пресловутых 613 предписаний иудаизма в отношении поведения человека в быту. Точнее сказать, по его мнению, Иисус не считал соблюдение этих предписаний необходимой и достаточной гарантией входа в царство небесное. В этой связи можно вспомнить евангельские изречения, что не человек для субботы, а суббота для человека; не то оскверняет, что в уста входит, а то, что из уст выходит; и т. д. С фарисеями Иисуса разделяло прежде всего именно это либеральное отношение к нормам скрупулезно разработанной ритуальной набожности.
Свое утверждение о чисто иудейском характере проповеди Иисуса Кармайкл основывает и на той реакции, которую вызвала эта проповедь со стороны римлян. Известно, что римские власти были в общем весьма терпимы к инаковерующим и, как правило, не подвергали преследованиям последователей других религий. Их интересовали не столько религиозные, сколько политические дела и движения. Почему бы они сочли нужным расправиться с Иисусом, если он был «только» основателем новой религии? Очевидно, рассуждает Кармайкл, они это сделали потому, что он представлял для них не религиозную, а социальную опасность.
Он мог быть для них опасным в этом отношении, только оставаясь на почве иудаизма, сохраняя связь с иудейским народом, возглавляя его целиком или в какой-то части в качестве религиозно-политического вождя. Автору Иисус представляется в образе пророка в старом смысле, инспирированного богом и призывающего народ идти путем божиим, чтобы быть готовым к царствию небесному. При этом внутри иудаизма Христос в какой-то мере отделял себя от господствующих и правящих кругов еврейского населения. Он пытался опереться на тех, кто именовался «амгаарец», — на людей необразованных, невежественных, не знающих грамоты. Иначе говоря, Христос был вождем демократического движения широких масс еврейства и призывал их следовать за ним как за пророком, стоящим в одном ряду с известными народу, по меньшей мере, по имени пророками Ветхого завета.
Если это так, то, значит, делает вывод Кармайкл, Иисус пришел только ради Израиля; в его время не могло быть иначе. И только после его смерти, в ходе дальнейшего развития христианства, движение потеряло свой прежний характер, а его совершенно иудейские истоки были ретушированы в благочестивых целях.
В аргументации Кармайкла не обходится без натяжек и одностороннего подбора материалов. Действительно, в тексте евангелий господствует в общем иудейская тенденция. Свой огонь Иисус направляет не против иудаизма, а против фарисеев и книжников, поскольку им, как можно понять из евангелий, приписывается грех извращения Моисеева закона. Верно, что многие поучения Иисуса направлены к лучшему выполнению этого закона. И в то же время евангелия содержат и следы противопоставления Иисусом своего учения ветхозаветному. «Вы слышали, — говорит он апостолам, — что сказано древним…»; тут же он ссылается на ту или иную из десяти «моисеевых» заповедей, но противопоставляет им свое: «А я говорю вам…» Сказано — не убивай! — а Иисус запрещает даже гневаться на другого человека. Сказано — не прелюбодействуй! — Иисус запрещает даже смотреть на женщину с вожделением. Ветхий завет разрешает разводиться, а Иисус, сославшись на это разрешение, тут же, по существу, осуждает его. Отвергает он и такое существенное наставление Ветхого завета, как «Око за око, зуб за зуб»; вместо исполнения этого жестокого и вполне недвусмысленного предписания Иисус учит не противиться злу, подставлять другую щеку, если ударили по одной. Не может быть сомнения в том, что здесь налицо противопоставление Иисусом своего учения ветхозаветному иудаизму. Кармайкл отвлекается от этой второй стороны медали.
Можно, конечно, сказать, что те места евангелий, которые не соответствуют той или иной схеме, а в данном случае схеме Кармайкла, имеют более позднее происхождение и вставлены уже после того, как христианство отделилось от иудаизма. Но такое утверждение нуждалось бы в доказательствах, которые сами были бы независимы от этой схемы. Их Кармайкл не приводит, в то же время умалчивая о материалах, противоречащих его концепции, что говорит не в ее пользу.
Неубедительно выглядит и рассуждение относительно того, что римляне могли подвергнуть Христа преследованиям только по социальным, а не по религиозным мотивам. По евангелиям, Пилат, как известно, даже противился требованию казнить Иисуса и согласился с ним только под давлением толпы, настроенной иудейскими старейшинами; они-то как раз придавали важнейшее значение религиозному аспекту вопроса. С другой стороны, социально-политическая опасность Иисуса для интересов Римской империи не ослаблялась бы, а усиливалась в случае, если политические требования получили бы идеологическое обоснование в новой религии или, по меньшей мере, в реформаторском течении в старой религии.
Без достаточных оснований отрицает Кармайкл претензию евангельского Иисуса на мессианское достоинство. Евангелия приводят много заявлений Иисуса, в которых он эту претензию достаточно явственно выражает. Мессианские черты образа Иисуса сами по себе не выводят его за пределы иудейской религии, так что признание их Кармайклом не противоречило бы его общей концепции.
Представляется все же очевидным, что традиционно-евангельский образ Иисуса Христа не укладывается в рамки портрета иудейского раввина-пророка, явившегося в мир во исполнение предсказаний ветхозаветных пророков и пытавшегося лишь укрепить пошатнувшиеся к его времени вероисповедные основы иудаизма.
Олицетворенное небесное светило? (по А. Немоевскому, А. Древсу и др.)
По христианской традиции, Иисус родился 25 декабря. В других религиях древности боги-спасители Таммуз-Адонис, Митра рождались тоже 25 декабря. Случайна ли эта дата? Случайно ли ее совпадение в разных религиях? Может быть, на это число в природе или в обществе приходилось какое-нибудь важное событие?
Да, такое событие происходило, продолжает происходить ежегодно и теперь. С 25 декабря начинает увеличиваться долгота дня. Это так называемый солнцеворот — поворот солнца на лето. Иначе говоря, в эту ночь Солнце, проходя под горизонтом нижний меридиан в созвездии Козерога, «рождается». А Солнце — благодетель человечества, его спаситель от зимних холодов и всех невзгод, с ними связанных, податель не только тепла, но и произрастающей зелени, хлеба, винограда, фруктов, покровитель и опекун всего живого. Это — спаситель. Не могли ли древние народы рассматривать Солнце как бога-спасителя, а богов-спасителей, представлявшихся ими в человеческом образе, — как Солнце? И может быть, такой взгляд следует распространить и на спасителя Иисуса?
Такое предположение подкрепляется тем обстоятельством, что изображенная в евангелиях обстановка рождения Иисуса поддается истолкованию в свете того, как выглядело звездное небо в ночь на 25 декабря 754 года со дня основания города Рима, т. е. в ту ночь, когда, по христианской традиции, родился Иисус Христос.
В восточной части горизонта в это время красуется созвездие, именуемое Девой. Может быть, эта-то «дева» и родила божественного младенца? Неподалеку на верхнем меридиане в созвездии Рака блещут звездные Ясли — не в эти ли «ясли» был положен родившийся младенец? А вот и он сам — на западном горизонте сверкает созвездие Овна, или Агнца, ягненка; Иисус, как известно, неоднократно именуется в Новом завете агнцем. Тут же неподалеку находится и Млечный Путь — это Пастухи. Не те ли самые это «пастухи», которые, узнав о рождении божественного младенца, совершили паломничество для поклонения ему? Тут же, кажется, присутствуют и злые силы, которые строят козни против родившегося божества: под горизонтом, прямо у ног звездной Девы, притаилось созвездие Змееносца— это, надо полагать, не кто иной, как царь Ирод. Может быть, вся история рождества Христова представляет собой символическое истолкование картины звездного неба в одну из зимних палестинских ночей?
Но если это так, то вряд ли история рождения Иисуса представляет собой исключение из всех остальных моментов его биографии. Надо, следовательно, искать небесно-звездный эквивалент всей евангельской эпопеи. И оказывается, что его не так трудно найти.
Начнем с «благовещения». Архангел Гавриил, как известно из евангелий, явился к деве Марии и сообщил ей, что она родит спасителя. По смыслу евангельского текста, «непорочное зачатие» богочеловека тут же и произошло. Если он родился 25 декабря, то, очевидно, датой зачатия должно считаться 25 марта. Хотя зачатие было непорочным, но беременность занимала обычный человеческий девятимесячный срок. Так что же происходило на небе 25 марта?
В эту ночь Солнце в ходе своего годичного видимого движения по созвездиям Зодиака входит в созвездие Девы. Если отождествить Солнце со святым духом или, на худой конец, с самим архангелом Гавриилом, то его вхождение в Деву и будет как раз небесной основой земной истории с зарождением во чреве девы Марии младенца Иисуса.
Если следовать Евангелию от Луки, то параллель здесь окажется еще более близкой и прямо навязчивой. Там сказано, что «в шестой же месяц послан был ангел Гавриил… к Деве». Глядя на небо, можно даже объяснить, почему здесь понадобились шесть месяцев. По мнению некоторых ученых, «дом» Гавриила, с точки зрения древних астрологов, находился в созвездии Рыб. Для того, чтобы попасть в созвездие Девы, архангел должен был пройти половину зодиакального круга — шесть созвездий, а в каждом созвездии Солнце, как известно, пребывает по месяцу. Оно (или символизирующий его Гавриил) должно было поэтому потратить на свое путешествие именно шесть месяцев.
Куда же, однако, делся злосчастный Иосиф — супруг богоматери? И он находит свое место на звездном небе. Рядом с Девой находится созвездие Волопаса. Оно постоянно сопровождает Деву, но имеет все же к ней несколько косвенное отношение; Волопас не входит в зодиакальный круг, он находится вне его и присутствует при всех перипетиях небесно-земного действа лишь в качестве постороннего, хотя и благожелательного наблюдателя. Это в точности соответствует той роли, которую евангелия отводят «мужу Марии», не бывшему фактическим отцом божественного младенца.
Все сказанное соответствует истории благовещения и рождества, описанной в Евангелии от Луки. По-иному получается, если пытаться астрономически истолковать эти события по описанию Евангелия от Матфея. Но тоже «получается»! Надо только признать символом Солнца не дух святой и не архангела Гавриила, а самого рождающегося Иисуса, что даже еще лучше, ибо ближе подходит к общему характеру происшествия — рождается ведь Солнце. При таком объяснении Гавриил истолковывается как Луна.
И уж особенно ясно выглядит небесный характер истории рождества Христова в том свете, в котором эту историю излагает Апокалипсис: «И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения. И другое знамение явилось на небе: вот большой красный дракон… дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежало пасти все народы жезлом железным… и низвержен был великий дракон… и даны были жене два крыла большого орла…» (Откр., XII, 1–9). В Апокалипсисе, как известно, нет членораздельно изложенной биографии Иисуса Христа, так что и младенец, рождение которого здесь описано, не назван по имени; но, конечно, надо иметь в виду не кого иного, как Иисуса. А приведенная выше цитата легко расшифровывается с помощью картины звездного неба: жена, облеченная в солнце, — это, конечно, созвездие Девы; она ожидает рождения младенца. Созвездие Змея или Дракона и даже два крыла, которыми снабжается богородица, тоже находят свое объяснение: на древних рисунках созвездие Девы нередко изображалось именно в виде крылатой женщины.
К любому из записанных в евангелиях фактов биографии Иисуса можно найти небесные параллели. Вот, например, эпизод «сретенья»— принесения младенца Иисуса в храм, где его встречает старец Симеон вместе с пророчицей Анной. Отправная точка всех поисков здесь — именно эта пара. Кто бы на небе мог взять на себя ее роль? Созвездие Близнецов, которое нередко изображалось в виде пожилой четы — мужчины и женщины. В некоторый момент своего годичного движения Луна вступает в созвездие Близнецов и «принимается» ими. Авторы, стоящие на позициях астрального объяснения евангелий, прослеживают легенду до мельчайших подробностей и находят «небесное» объяснение всем этим деталям: почему Симеон берет Иисуса на руки, каково происхождение имени «богоприимца», почему евангелие так точно указывает происхождение и некоторые элементы биографии Анны — «дочь Фануилова, от колена Ассирова», «вдова лет восьмидесяти четырех, прожившая с мужем от девства своего семь лет…» (Лука, И, 36). Всему этому находятся астральные объяснения.
По Евангелию от Иоанна, Иисус встретился и разговаривал с некоей самарянкой. Когда он предложил ей привести ее мужа, а она ответила, что у нее нет мужа, он ей сказал: «У тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе» (Иоанн, IV, 18). Ситуация — житейски вполне возможная. Но астралисты находят для нее весьма сложное астрономическое объяснение. Самарянка, конечно, — созвездие Девы. Через нее последовательно проходят пять планет-мужей: Меркурий, Марс, Венера, Юпитер, Сатурн. Потом наступает очередь Луны, последняя и играет роль «немужа».
В Евангелии от Матфея Иисус говорит: когда сын «попросит рыбы, подали бы ему змею?» (Матфей, VII, 10). Надо иметь в виду здесь, говорят астралисты, не реальную рыбу и не столь же реальную змею, а соответствующие созвездия Рыб и Змееносца. Непонятно, правда, зачем вместо прямого и не вызывающего особых недоумений смысла выискивать некий таинственный смысл, связанный с небесными светилами. В Евангелии от Луки Иисус дает апостолам «власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью» (Лука, X, 19). Рекомендуется понимать это место по-астральному: над созвездиями Змееносца и Скорпиона находится созвездие Геркулеса, и легко представить себе, что богатырь одной ногой попирает первое, другой — второе.
Почему у Иисуса 12 апостолов? Потому же, почему у праотца Иакова было 12 сыновей, ставших основателями 12 колен Израилевых. И в том, и в другом случае имеются в виду одиннадцать созвездий Зодиака, из которых одно двойное — Близнецы. Солнце в своем годичном видимом движении проходит последовательно через все эти созвездия. Таким образом, Солнце-Иисус вращается в кругу созвездий-апостолов.
К каким причудливым и искусственным астральным объяснениям прибегают поклонники разбираемого нами метода, могут показать хотя бы два примера, которые мы приведем ниже.
Иисус, сказано в евангелиях, накормил толпу в пять тысяч мужчин двумя рыбами и пятью хлебами; перед этим апостолы выражают намерение купить для этой цели хлеба на двести динариев. Небесное же объяснение сего чуда с продовольственным снабжением таково: когда созвездие Девы, изображавшейся с хлебными колосьями в руках, находится в восточном горизонте, то на западе, напротив него, стоит созвездие двух Рыб; между этими созвездиями—195–196 (около 200) дней солнечного пути, откуда и 200 динариев. А пять мужских созвездий, находящихся на этом пути — Орион, Волопас, Возничий, Персей, Цефей, — означают пять тысяч мужчин…
Еще причудливей астральное объяснение того места из Евангелия от Иоанна, где Иисус заявляет, что он может воздвигнуть храм за три дня, а собеседники возражают ему, что строился этот храм 46 лет. Астралисты опираются здесь на то, что фактически последняя цифра не соответствует действительности, и дают ей свое объяснение. Если, мол, круг небосвода разделить на четыре части, то они получат соответствующие греческие названия: Север — Арктос, Запад — Дюсис, Восток — Анатоле, Юг — Месембриа. Начальные буквы каждого из этих названий имеют следующие числовые значения: А=1, Д=4, А=1, М=40; всего получается 46…
Такими же методами объясняется и предательство, учиненное Иудой в отношении Христа. Имя Иуды было у древних евреев символом Льва; ясно, стало быть, что речь идет о созвездии Льва. Солнце-Иисус входит в созвездие Льва-Иуды, потом направляется к созвездию Весов; Весы же были всегда символом суда. Из «дома суда» он отправляется в созвездие Скорпиона, или в «дом смерти». Исходным пунктом смертного пути Иисуса является, таким образом, Иуда, он же — созвездие Льва. Легко обнаруживается здесь и источник пресловутых тридцати сребреников: это те тридцать дней, которые нужны Иисусу-Солнцу для того, чтобы пройти от созвездия Льва к созвездию Девы, находящемуся на пути к созвездию Скорпиона. Вероятно, читатель уже заблудился в этой путанице символов и их объяснений. Могу его утешить только тем, что и автору не легче. Но вот напоследок одно довольно простое объяснение. Почему Иисус воскрес на третий день после распятия? Только потому, что при новолунии Луна исчезает именно на три дня, после чего появляется «воскресшей»…
Сложность и искусственность астральных объяснений можно понять, если войти в положение тех авторов, которые ставят своей задачей во что бы то ни стало найти небесную основу чуть ли не для каждого библейского эпизода. Польский историк и писатель А. Немоевский построил астральное объяснение для ста библейских текстов. Немецкий автор Э. Штукен написал астральный комментарий почти ко всему Ветхому завету. Существует большое количество книг, посвященных доказательству, что евангелия написаны по схеме, в основе которой лежит движение Солнца или Луны (Матфей — по Солнцу, Лука — по Луне) через созвездия зодиакального круга.
Начало этой теории положили французские ученые конца XVIII века Дюпюи и Вольней, потом к ней примкнуло большое количество западных и русских исследователей, в том числе такие крупные ученые, как Г. Винклер, А. Иеремиас, А. Древс, А. Немоевский. В русской научной литературе крайние астралистические позиции занял известный революционер-народоволец и разносторонний ученый Н. Морозов. Кое в чем он расходится с основными теоретиками астралистической гипотезы. Те считают Христа чистым мифом — это просто, с их точки зрения, олицетворенное светило. Морозов же признает наличие исторического прототипа за этой фигурой, он только перемещает его на три столетия вперед и отождествляет с христианским богословом Василием Великим. Это, однако, оказывается несущественным, ибо в биографии Христа, канонизированной христианской традицией, Морозов находит ту же астральную символистику, что и основные приверженцы этой концепции.
Несмотря на некоторые здравые мысли, содержащиеся в сочинениях приверженцев астралистического направления в христологии, в целом оно не может быть признано правильно решающим проблему происхождения образа Христа. Многочисленные натяжки, произвольные сближения явлений, совершенно не связанных между собой, логическая казуистика, принимающая иногда прямо акробатические формы, — все это лишает астралистику серьезного научного значения. Главное же, выглядит совершенно неправдоподобной исходная точка всех построений астралистов, по которой в религиозных легендах и мифах отражались обстоятельства и события, происходившие не в реальной жизни людей на Земле, а в таинственных, сравнительно далеких от человека глубинах мироздания, среди звезд и планет, изучением путей которых занимались «звездочеты», одиночки-ученые и жрецы.
Какой же из «ликов» считать истинным?
Перед нами прошла целая галерея вариантов образа Христа, связанных с различным и нередко противоположным пониманием его личности и учения, его роли в истории. Вероятно, наше изложение не исчерпало всех существующих вариантов, но их исчерпать, пожалуй, и невозможно. Но если ограничиться показанной нами галереей и поставить вопрос, сформулированный в заголовке этого параграфа, — как мы на него ответим?
Ответить очень трудно. Автор старался, по возможности, не давать категорической оценки ни одной из перечисленных и описанных теорий, ограничиваясь отдельными замечаниями о внутренних противоречиях, которыми страдает та или иная из них, или о каких-нибудь фактах, с которыми она не согласуется. В остальном же хотелось предложить читателю самому разобраться в сути дела, пользуясь информацией автора и некоторыми «наводящими» соображениями, от высказывания которых он не счел возможным воздержаться. Как же быть, однако, с ответом на поставленный вопрос, если не уклоняться от него?
В описанных теориях невозможно найти ни одной, которая не содержала бы каких-нибудь коренных изъянов, серьезных внутренних пороков, исключающих согласие с ней. Наиболее типичный из этих пороков — односторонность, трактовка вопроса в свете одних данных и игнорирование других, противоречащих первым. Напрашивается сравнение с нарисованным в профиль портретным изображением человека, лицо которого асимметрично или у которого нет одного глаза: если рисовать его в профиль, то независимо от того, с какой стороны смотреть на него, портрет будет неправильным. Единственный правильный прием в этом случае — рисовать анфас. Но тогда будет видно, что оригинал — кривой или что лицо его несимметрично! Да, но это будет правильное изображение. Беда всех описанных здесь вариантов образа Христа заключается как раз в том, что их авторы подходят к нему с одной стороны, они используют одни черты его образа, данные в Новом завете, и отмалчиваются о других или объявляют их несущественными.
Для Л. Толстого несущественны и неприемлемы те черты характера Иисуса, в которых он выступает как гневный и нетерпимый человек, не только применяющий иногда бранные слова, но и действующий бичом, угрозами, сулящий применение меча. Для А. Введенского важно, наоборот, затушевать призывы Иисуса к непротивлению, его восхваление «нищенства духом», его апологию пассивности. К. Каутский оставляет в стороне те высказывания Иисуса, в которых он призывает безропотно воздавать кесарю кесарево, а митрополит А. Храповицкий закрывает глаза на осуждение Христом богатства и богатых. Такой «профильный» подход обнаруживается, пожалуй, у всех авторов, взгляды которых на личность Христа мы выше приводили. Для объективного научного решения вопроса он, конечно, не подходит.
Нужно трактовать личность Христа во всей ее противоречивости, независимо от того, считать ли ее порождением религиозной фантазии или реальным историческим персонажем.
II. Жил ли он в действительности?
Длительное время вопрос, существовал ли когда-либо в действительности человек, вошедший в историю под именем Иисуса Христа, был предметом ожесточенных и яростных споров. В последние десятилетия острота этих споров как будто несколько смягчилась. Тем не менее и теперь вопрос об историчности или мифичности Христа вызывает дискуссии в научной и популярной литературе. Конечно, в этой публикации мы не можем обойти его — он тесно связан с ее темой.
Нужно подойти к его решению совершенно объективно, без всякой предвзятости, без натяжек и передержек, вытекающих обычно из стремления во что бы то ни стало внушить читателю заранее предуказанный вывод.
Подходы и решения неприемлемые
Связано ли атеистическое мировоззрение с обязательным отрицанием историчности Христа? Нет, ни в коем случае.
Одно время в литературе, изданной в СССР, этому вопросу придавалось преувеличенное значение. В ряде книг и брошюр, относящихся к 20-м и 30-м годам, в остро полемическом тоне утверждалось, что исторического Иисуса никогда не было и не могло быть и что кто признаёт его, тот идет на поводу у поповщины. Можно понять, каким образом логика атеистической борьбы в то время заводила ее участников несколько дальше, чем позволяют требования научной объективности. Но теперь, через несколько десятилетий, мы имеем полную возможность ввести обсуждение вопроса в рамки этих требований.
В самом деле, почему Иисуса как исторической личности не могло быть? В разное время существовали разные люди под многими именами, одним из них мог быть человек, носивший имя Иисус или Иошуа. Как известно, это было имя, широко распространенное среди древних евреев. Каждое религиозное или любое другое общественное движение основывается людьми, и христианство в этом отношении не могло быть исключением. Какие-то люди были основателями этой религии. Почему одним из них, может быть, даже главным среди них, не мог быть человек по имени Иисус?
Другое дело, что в дальнейшем, после его смерти, нормальный человеческий образ мог в представлениях верующих приобрести мифологически искаженные, «обожествленные» черты. Но из этого не следует, что самого человека, вокруг которого после его смерти нагромоздилось много легенд и мифов, не могло быть.
Что же касается отношения этого вопроса к атеизму и материализму, то и здесь прямое противопоставление по принципу «либо атеизм, либо признание историчности Христа» является продуктом недоразумения. Материализму и атеизму противоречило бы признание Христа-бога — в этом не может быть сомнения. Но нет абсолютно ни малейших оснований ставить вопрос таким же образом относительно существования Иисуса-человека. Не считаем же мы утверждение историчности Мохаммеда или, например, святого Франциска Ассизского направленным против атеизма! То, что человек Иисус мог существовать в исторической действительности, не подлежит сомнению. Для исторической науки важно другое: есть ли основания считать, что он существовал?
Этот вопрос лежит именно в сфере исторической науки. Подчеркивая это, мы хотим сказать, что он не имеет философского, мировоззренческого значения и что интерес, вызываемый им, конкретно-исторический. Но будь то в философских, будь то в исторических проблемах, мы ни в коей мере не заинтересованы в том, чтобы искажать истину, подгонять ее под заранее установленные теоретические положения. Стало быть, и здесь наша задача заключается в том, чтобы объективно взвесить все известные науке факты, установив, помимо того, какие есть основания ждать открытия новых фактов, могущих изменить сложившиеся у нас представления.
В данном случае мы должны установить, к каким выводам можно прийти в вопросе об историчности или мифичности Иисуса Христа, основываясь на современном состоянии исторической науки и на тех источниках, которыми она оперирует. При этом отнюдь не исключается возможность того, что в будущем какие-нибудь новые открытия изменят вырисовывающуюся сейчас картину и заставят сделать другие выводы, чем те, которые мы делаем сейчас.
И ничем не лучше огульного отрицания — такое же бездумное и бездоказательное утверждение.
Огульное утверждение по церковно-богословским соображениям
В свое время мне пришлось присутствовать на диспуте между А. Луначарским и митрополитом Введенским по вопросу о личности Христа. Поводом к диспуту было появление двух книг Барбюса, посвященных Христу[77].
Осенним вечером 1927 года зал Московского экспериментального театра был переполнен. Аудитория была пестрой, а в одном отношении— двуликой. С одной стороны, на диспут пришла интеллигенция, в большинстве своем неверующая и, во всяком случае, стремившаяся добросовестно разобраться в споре, который выглядел научным и поучительным в мировоззренческом отношении. С другой стороны, было немало не только верующих, но и представителей духовенства, православного и неправославного. Хотя в основных слоях русского православного духовенства Введенский как отступник от тихоновской ортодоксии не пользовался популярностью, все же здесь он выступал в качестве противника атеистических посягательств на церковное учение о личности Христа, поэтому ему была обеспечена поддержка всех присутствовавших верующих и служителей веры.
Митрополит выступил не как безоговорочный сторонник позиции, занятой Барбюсом. С самого начала он подчеркнул, что для него Христос «абсолютный бог, рожденный в плоти»; другие же могут рассматривать его как мечтателя, как удачливого или неудачливого социального деятеля, как моралиста и т. д. Под одну из этих категорий, видимо, подпадал у него и Барбюс, для которого Иисус, конечно, не «абсолютный бог». Тем не менее Введенский выражал свою благосклонность к коммунисту и атеисту Барбюсу за то, что он признает историческое существование Иисуса и, правильно или неправильно рассматривая его личность, объявляет о своей любви к нему. Что же, можно понять мысль Введенского — в наш, мол, атеистический век и это хорошо. И выразив свое несогласие с Барбюсом в его общефилософских установках, Введенский ставит своей задачей подкрепить положение об историческом существовании Иисуса Христа.
Оратор не занимается анализом исторических источников, не опровергает возражения своих возможных оппонентов и, больше того, не пытается даже вступать в спор с аргументацией, изложенной докладчиком. Основным методом внушения слушателям своих взглядов Введенский избирает ссылки на авторитеты. Одно за другим сыплются из его уст имена Гарнака, Содена, Готлиба Клейна, Сореля, Эдуарда Мейера и многих других историков, философов, богословов, признававших историческое существование Христа. Логика этой «аргументации» выглядит примерно так: вот ведь какие знаменитые люди признавали, как же вы можете отрицать?!
Это выглядит неубедительным даже для сторонников Введенского. Они немного смущены и ободряются только в наиболее эффектных местах речи оратора, когда он отпускает остроумную шутку, делает смелое и яркое сравнение, умело пускает в ход оружие тонкой иронии; здесь они разражаются аплодисментами. Но ведь надо что-то доказывать и что-то логически опровергать! Неизвестно, стороннику какого из двух лагерей принадлежит вызов, брошенный с галереи Введенскому в тот момент, когда он декларирует свое твердое убеждение в неправоте Луначарского:
— Докажите!
Здесь оратор делает маневр, который выглядит как прием, парирующий выпад противника, но по существу долженствующий лишь прикрыть прямую капитуляцию. Введенский отвечает голосу с галереи, потребовавшему у него доказательства:
— Для того, чтобы доказать всесторонне, нужно быть вооруженным всеми филологическими и богословскими знаниями не только лектору, но и слушающим. Но наша аудитория — не семинарий историко-филологического факультета…
В филологических знаниях он не может отказать своему оппоненту, но делает прозрачный намек на то, что-де многоуважаемый Луначарский не является богословом. Что же касается аудитории, то он, митрополит, подозревает, что она не разбирается не только в теологии, но и в филологии. Поэтому нечего ему здесь заниматься доказательством своих взглядов, достаточно будет, если он снизойдет до простого их изложения. А в подкрепление того, что он не должен метать бисер перед животными известного рода, Введенский ссылается еще на один авторитет: это О. Хвольсон, написавший небезызвестную книгу под интригующим заглавием: «Гегель, Геккель, Коссут и двенадцатая заповедь». Здесь не так существенны перечисляемые в этом заголовке имена, как ссылка на некую «двенадцатую заповедь», обязывающую не писать и не говорить о том, чего полностью не знаешь. В применении к данному случаю это должно было, по Введенскому, означать, что рассуждать о личности Христа могут только богословы.
Прежде всего это было неверно по существу. Если даже речь идет о Христе-боге, то и здесь предоставить богословам монополию мышления могут только фанатически верующие люди. Кто имеет моральное или какое-либо иное право лишать любого человека возможности размышлять над тем, во что он должен верить и должен ли он вообще верить?! Но в диспуте, о котором мы здесь рассказываем, речь шла не о Христе-боге, а об Иисусе-человеке: существовал ли он в исторической действительности, и если существовал, то каков он был. Уж в этом решающее слово должно принадлежать, конечно, не богословам, а историкам. И многие авторы христологических трудов, будучи по профессии богословами, применяли методы исторического анализа, становясь для данного случая историками, и только тогда они добивались результатов, имеющих научную ценность. А поскольку это так, то претензия Введенского на монополию богословов в обсуждаемом вопросе оказывается совершенно беспредметной.
Сторонники церковной точки зрения проводили митрополита аплодисментами. Это не могло, однако, скрыть того обстоятельства, что богослов фактически уклонился от спора по существу вопроса.
Не в порядке критики или «разоблачения», а для констатации несомненного факта следует сказать, что люди, стоящие на позициях христианской религии, должны стремиться, если они не хотят сойти с этих позиций, отстаивать историчность Иисуса, независимо от того, как дело выглядит в свете объективных исторических данных. Земное бытие человека, в которого воплотилось на несколько десятилетий второе лицо божественной Троицы, его смерть и воскресение — признание этих фактов составляет основу догматической системы христианства. Без исторического Иисуса нет христианской религии.
Понятно, что идеологи этой религии стараются во что бы то ни стало отстаивать историческое бытие ее основателя. А так как реальных аргументов для доказательства этого тезиса не хватает, приходится становиться в позицию отрицания самой необходимости этих доказательств. Конечно, голословное утверждение историчности Христа столь же неприемлемо, как и огульное его отрицание.
Мог ли он не быть?
Нередко утверждение об историческом существовании Иисуса Христа выражается именно в такой форме: не могло быть так, чтобы его не было, так как в этом случае некоторые несомненные факты было бы невозможно объяснить. Какие же это факты?
Один из них заключается в том впечатлении, которое производит на нас сама личность Иисуса Христа. Вот как писал об этом один из либеральных протестантских богословов А. Юлихер: «Нет, обаяние только что минувшей жизни, которое еще веет от образа Иисуса, изображенного грубыми штрихами синоптиков, насмехается над всякой гипотезой, которая хочет представить его не более, как продуктом религиозно-исторических факторов или даже героем псевдоисторического романа. Впечатление исключительной личности все-таки сильнее в сравнении с бесчисленными затруднениями, с которыми приходится нам иметь дело при изучении истории традиции об Иисусе. Не идея, не мечта, но таинственно великий человек стоит здесь, как и везде, на поворотном пункте истории»[78]. В основе взглядов Юлихера лежит, таким образом, представление о том, что любой «поворотный пункт истории» обязательно связан с деятельностью великой личности.
Если даже понять эту точку зрения не в том идеалистическом смысле, что именно деятельность великой личности является причиной любого исторического поворота, а в более близком к нашим взглядам смысле, по которому назревшая объективно-историческая необходимость находит свое выражение в выдающихся личностях и их деятельности, то все равно признание этого утверждения Юлихера не обязывает к согласию с тезисом об историчности Христа. Возникновение христианства не обошлось без выдающихся личностей, но, может быть, надо иметь здесь в виду не Иисуса Христа, а апостола Павла или Иоанна Крестителя, или апологетов II века?
Другая сторона приведенного нами аргумента Юлихера заключается в исключительной якобы цельности и жизненности самого образа Христа. Выдумать такой образ невозможно. «Иудейская фантазия, которая якобы создала нашего Иисуса во всей полноте его необыкновенной индивидуальности, была бы величайшей загадкой, которую дала нам история Израиля, или скорее загадкой, которую мы ставим сами себе исключительно из упрямства»[79]. Ссылкой на упрямство здесь можно, конечно, пренебречь или, пожалуй, ее надо переадресовать самому Юлихеру и его единомышленникам. Что же касается вопроса о яркости и цельности образа Христа в отношении к рассматриваемому нами вопросу, то на этом следует остановиться.
Мы выше уже приводили относящееся сюда соображение, что средства искусства достаточны для художественно правдоподобного вымысла, при помощи которого могут быть созданы самые яркие и жизненные образы. Коллективное творчество народных масс в этом отношении не только не уступает литературе профессионалов-писателей, но, может быть, превосходит ее по своим потенциям. Показательны по своему величию, яркости и жизненной правдивости многие образы монументальных эпических произведений народного творчества чуть ли не всех изученных по этой линии народов. Почему же следует считать художественную фантазию целой группы народов Средиземноморья первых веков нашей эры столь немощной, чтобы отказать ей в способности создать образ Христа?
К тому же еще никак нельзя признать бесспорными ссылки на цельность этого образа. Еще в середине прошлого века немецкий автор Лютцельбергер писал: «Абсолютно неосновательно мнение, будто евангелиям ни в каком случае не удалось бы изобразить личность Христа, если бы она перед тем не существовала в действительности, и будто черты характера евангельского Иисуса столь своеобразны и рельефны, что легенда не была бы в состоянии их выдумать и зафиксировать. Ибо ту личность, которую изображают евангелия, отнюдь нельзя признать резко очерченным, самодовлеющим образом; напротив, мы имеем здесь дело с человеком, который, исходя из совершенно различных мировоззрений, говорит то одно, то другое и который, как известно, в первом евангелии изображен в совсем ином свете, чем в четвертом. Лишь с огромным трудом можно из отдельных характеристик евангелий сколотить более или менее стройное целое, и поэтому мы не имеем решительно никакого права говорить об исторической реальности личности Христа на основании оригинальности евангельского образа»[80].
Вот ведь каким субъективным может быть восприятие и как опасно полагаться на эту субъективность при решении научных проблем! Справедливости ради надо признать, что в данном случае более объективен Лютцельбергер. Как можно усматривать в личности евангельского Христа какую-то цельность, когда она буквально соткана из сплошных противоречий?!
Рискуя наскучить читателю длинными цитатами, мы все же приведем пространную выдержку из книги А. Немоевского, дающую яркую и в общем правильную характеристику той противоречивости, которой отличается евангельский образ Христа. Он говорит, что устами евангельского Иисуса высказываются представители самых различных политических, религиозных и этических лагерей и школ. «Израиль, последователь принципа «око за око», провозглашает, что нужно мерить такою же мерой, какою было отмерено, что не следует идти путями язычников, а нужно собирать погибших овец дома Израиля. Нищий восклицает, что Лазарь, будучи в небе, не должен даже конца пальца помочить в воде для охлаждения языка пылающего в аду богача… Дипломат полагает, что нужно соединить хитрость змеи с кротостью голубя. Господа заявляют, что нельзя садить за стол слуг раньше, чем сами не поели. Сословие ученых объявляет, что ученик не выше учителя. Страстный агитатор кричит, что ради идеи нужно отречься от отца, матери, жены, братьев, сестер и даже от своей личности. Политик заявляет, что в излишних внутренних междоусобиях лежит причина гибели семейств, городов, государств. Анахорет-самоистязатель проповедует, что нужно освободиться от всяких искушений посредством самооскопления. Если вложить все эти требования в одни уста, то для этого нужно найти такого казуиста, как коллективная личность, говорящая одними пословицами»[81]. Где уж тут говорить о Христе как цельном образе?!
Соображение об особой, из ряда вон выходящей обаятельности этого образа, якобы обязывающей к признанию того, что в его основе должен был лежать реальный прототип, также относится к категории чисто субъективных построений. Далеко не на всех евангельский Христос производит именно такое впечатление. В литературе можно найти немало острых критических замечаний по поводу лицемерия Христа, его раздражительности и нетерпимости, его слабодушия и т. д. Не будем выносить здесь решения о степени обаятельности этой личности. Дело не только в том, что этот вопрос не представляет интереса ни для науки вообще, ни для освещения нашей проблемы в частности.
Есть еще один аргумент, при помощи которого обосновывается тезис— «он не мог не быть»: если бы Христа не было, было бы невозможно объяснить происхождение христианства. Любое общественное движение, в том числе и религиозное, основывается людьми. У колыбели христианства тоже стояли какие-то люди. А так как движение это было с самого начала грандиозным по своему идейному содержанию, то основателем его мог быть только такой же великий и оригинальный человек. Христос, как мы его знаем по евангелиям, именно таков. Он мог основать христианство, а личность меньшего масштаба нельзя и представить себе в этой роли.
Конечно, любое движение и любая идеология не могут возникнуть без людей, сознание, воля и деятельность которых воплотили в себе данные общественные явления. У колыбели христианства, безусловно, стояли люди, притом крупные, незаурядные, талантливые. Но обязательно ли, чтобы главным из них был именно человек под таким именем, которое мы знаем из Нового завета, — тот самый, с которым происходили описанные в евангелиях события, даты жизни и смерти которого совпадали бы с датами жизни и смерти евангельского Иисуса Христа? Это могло быть, могло и не быть. А если так, то принудительное решение вопроса об историчности Христа на основании факта существования христианства лишается оснований. Он мог существовать, мог и не существовать.
Нет, надо отказаться заранее от всяких априорно (до рассмотрения конкретного материала) принятых точек зрения. Только тщательное взвешивание того, что дают нам исторические факты, может привести к правильному решению вопроса.
Когда фактического материала, из которого можно было бы построить достоверную картину, очень мало, обычно возникает большое количество вариантов, малодостоверных или вовсе недостоверных, а то и просто невозможных. Их анализ тоже довольно поучителен.
Невозможное и возможное
Существует целое направление в христологической литературе, рассматривающее Христа как… индийца. Книга одного из представителей этого направления Т. Планге так и называется «Христос — индиец?» Хотя вопросительный знак, которым снабжено содержащееся в заглавии утверждение, ставит его под некоторое сомнение, но основная идея книги именно в нем и заключается.
Т. Планге базируется на материале нескольких исторических исследований известного французского писателя Л. Жаколио, проливших якобы совершенно новый свет на проблему происхождения образа Христа и христианства в целом. Он присоединяется к выводу Жаколио о том, что первоначальное христианство было не чем иным, как буддизмом, занесенным буддистскими миссионерами в Рим.
В основе такого утверждения лежит сравнение евангельского жизнеописания Христа с буддистскими и индуистскими легендами, относящимися к личностям Будды и Кришны. Проводятся многочисленные параллели, создающие впечатление если не полного тождества, то, во всяком случае, близкого сходства.
По учению брахманов, второе лицо божественной Троицы (Брахма, Вишну, Шива) воплотилось в человеческом образе Кришны, в дальнейшем получившего от своих учеников наименование Иезеуса (или Иисну, Джисну). В христианском учении тоже воплотилось в человеческом образе именно второе лицо Троицы — бог-сын, получив имя и прозвище, близкое к брахманистским: Кришна может звучать как Хрисна, а Христос — как Кристос.
И тот и другой явились в мир для его спасения. Оба рождены девой, рождение того и другого ознаменовалось чудесами, в обоих случаях первыми пришли поклониться пастухи. Повторяются: преследование злым царем (Канса и Ирод), избиение младенцев, спасение божественных новорожденных ангелом, основные элементы деятельности спасителей. Оба собирают вокруг себя группу учеников, творят чудеса исцеления больных и воскрешения мертвых, изгоняют бесов из одержимых, умирают в результате козней и злобы жрецов, причем их смерть сопровождается траурными знамениями природы, оба возносятся после исполнения своей миссии на небеса.
Сравнение с жизнеописанием Будды выглядит не менее, если не более впечатляющим.
Зачатие — тоже непорочное. Рождение происходит тоже в пещере, оно возвещается звездой, приводящей к божественному новорожденному трех волхвов или царей для поклонения. Есть и пастухи, голос с неба, небесное воинство. Правда, рождение Будды обставлено более шикарными и пышными легендами, чем рождение Христа: ликует вся природа, сам новорожденный разражается целой речью, в которой обещает уничтожить дьявола и его воинство, осчастливить все народы и т. д., цари и князья предлагают свои великолепные дворцы для проживания божественного младенца. В роли Симеона-богоприимца, фигурирующего в евангелиях, выступает старец Асита. В отличие, правда, от евангельского и брахманистского рассказов, царь Бимбисара, которому сообщают о рождении Будды, не соглашается подвергнуть его преследованиям, а, наоборот, становится его последователем. В дальнейшем у Будды все идет, как по евангелиям: приношение младенца в храм, история о том, как мальчик в двенадцатилетнем возрасте задержался в храме и был потерян родителями, пост и искушения в пустыне, крещение, весь образ жизни (безбрачие, бездомность). Сходство доходит и до деталей: например, любимый ученик у Будды именовался Анандой, у Иисуса — Иоанном, перекликаются и имена предателей — Иуда и Девада.
Все эти совпадения, утверждает Планге, присоединяясь к многим другим авторам, стоявшим на той же позиции, не могут быть случайными. Кто-то у кого-то позаимствовал. Но брахманистские легенды существовали за три тысячи лет до возникновения христианства, буддистская возникла за пятьсот лет до христианства, так что предположение о заимствовании их содержания из евангелий, безусловно, отпадает. Да и сами евангелия в качестве исторического источника автор оценивает очень невысоко, он придает в этом отношении большее значение священным книгам индуизма и буддизма. В общем, для него нет сомнений в том, что евангельские сообщения позаимствованы из брахманистских и буддистских источников, причем синоптиков он считает зависящими от первых, а Иоанна — от вторых.
Из всего этого у Планге не вытекает обязательное отрицание исторического существования Иисуса в Палестине. Может быть, говорит он, действительно некий Иисус выступал там в роли народного вождя, но его жизнеописание, данное в евангелиях, не может соответствовать действительным фактам, ибо оно списано с индийских легенд. Основные черты его жизни обнаруживаются полностью в биографии Кришны, возвышенная мораль — у Будды, нужные добавления— в писаниях евреев, в Ветхом завете, многократно говорящем о некоем мессии. Оригинальными оказываются, таким образом, лишь какие-то «добавления», а основа происходит из Индии. Евангельский Иисус — не еврей, а индиец.
Чтобы допустить возможность заимствования евреями первых веков нашей эры индийских религиозных и фольклорных сюжетов, надо объяснить, каким образом мог осуществляться тогда контакт между Палестиной и Индией. Основываясь на некоторых сообщениях Плиния Старшего и Иосифа Флавия, автор указывает, что между Римом и Индией происходили в древности оживленные торговые сношения, что ежегодно в Индию отправлялись целые флотилии торговых кораблей, привозившие оттуда не меньше, чем на 50 миллионов сестерций жемчуга и других драгоценных камней, а также шелка, слоновой кости, красильных материалов и т. д. Из Индии в Египет ходили корабли, вмещавшие по 500 пассажиров с их товарами, а в Александрии всегда было много индийских купцов. Особенно оживленными были торговые сношения Запада с Цейлоном, который как раз являлся цитаделью буддизма. При таком положении нетрудно представить себе и возможность активного идеологического обмена между Индией и странами Римской империи. Значит, и заимствование брахманистских и буддистских легенд для построения образа Иисуса Христа и для формирования христианского учения вполне реально.
Есть ли серьезные основания считать эту концепцию заслуживающей доверия и признать, таким образом, «индийское» происхождение образа Иисуса?
Полагаю, что нет. Невозможно допустить, чтобы следы этого происхождения, если бы оно действительно было таким, начисто стерлись в раннехристианской литературе: в ней нет ни малейшего намека на Индию и ее историю, на деятелей этой истории, на богов и других персонажей ее мифологии, на ее культы и обряды. Это могло бы, впрочем, произойти лишь в том случае, если бы вся раннехристианская литература сочинялась в специально организованном порядке и столь же организованно выполнялась бы данная кем-нибудь директива о планомерном уничтожении каких бы то ни было намеков на индийский материал. Но о такой организованности вообще не может быть речи, возникновение евангелий и других книг Нового завета было стихийным процессом так же, как и появление писаний мужей апостольских и других раннехристианских авторов.
Неоднократное совпадение сюжетов тоже не дает оснований к тому, чтобы искать здесь обязательно заимствование. Известно явление бродячих сюжетов в мировом фольклоре, известно, как повторяются мифологические мотивы. Д. Фрэзер в своей книге «Фольклор в Ветхом завете» привел огромное количество примеров того, как ветхозаветные повествования перекликаются с фольклорными и мифологическими сказаниями, распространенными у народов различных районов земного шара. Одних только легенд о потопе он насчитывал около полутораста. Если следовать методологии Планге, то придется считать библейский миф о потопе позаимствованным и из Австралии, и из Южной Америки, и из Центральной Африки. То же можно сказать и о представлении, по которому человек сотворен божеством из земли или глины.
Есть теория, ведущая образ Иисуса Христа не из Южной, а из Центральной Азии. Ее автором был русский путешественник и этнограф Г. Потанин, а ревностным пропагандистом и популяризатором— якутский этнограф Г. Ксенофонтов.
Потанин выступил в 1912 году с докладом в обществе изучения Сибири в Петербурге на тему «Происхождение Христа». Высказав убеждение, что Христос в реальной действительности никогда не существовал, докладчик заявил, что он обнаружил большое количество параллелей к евангельским легендам в тюрко-монгольском фольклоре народов Центральной Азии. Тут же он привел ряд таких легенд и сказок, в которых неизменно участвует двенадцать персонажей и которые своим содержанием близко напоминают евангельские сказания. Заодно он обнаруживает аналогичные сюжеты в скандинавских сагах, в алтайских сказках. В частности, по его мнению, казнь через распятие фигурирует в фольклоре всех народов Северной Азии.
Легенда о Христе, таким образом, имеет самое широкое распространение чуть ли не во всем мире. Каково ее происхождение? Потанин уверенно отвечает: «Я пришел к выводу, что основной мотив всех этих легенд и сказок центральноазиатского и даже ордосского происхождения». (Ордос — местность в Западном Китае. — И. K.). Не утруждая себя более или менее обстоятельной мотивировкой, автор делает заключение: «Таким образом, мы видим (?), что в основе евангельской легенды о Христе лежит центральноазиатская шаманийская легенда; что образ самого Христа создан по образу, за много веков существовавшему в глубине Азии»[82].
В какой-то мере он считает себя обязанным лишь объяснить, как могла шаманийская легенда попасть в христианскую территорию. Общее решение этого вопроса выглядит для него очень просто: легенды, составленные на Востоке, могли быть принесены в Южную Россию хазарами и через них дальше на Запад и Юг. Были два типа таких легенд. В одних из них главный персонаж изображался в хорошем и благодетельном свете, в других — наоборот, в карикатурно-злом. Первые перешли в новозаветные книги, вторые — в талмудические сообщения о Христе, в частности в Толдот Иешу. «Считаю, — заявляет Потанин категорически, но без аргументации, — эту еврейскую легенду (изложенную в средневековой книге «Толдот Иешу». — И. К.) дохристианской»[83]. В особом опровержении эта фантастическая гипотеза, кажется, не нуждается хотя бы потому, что она фактически ничем и не обосновывается.
Последователь Потанина Ксенофонтов попытался дать ей нечто вроде обоснования. Он рассматривает христианский культ и легенду о Христе как разновидность шаманизма и устанавливает ряд параллельных признаков, присущих как любому шаману, так и образу Иисуса Христа. Шаман облечен спасительной миссией, Иисус — тоже спаситель. В шамана вселяются добрые духи, Иисус представляет собой человеческое воплощение святого духа. Главная общественная функция шаманов состоит в лечении людей магическими методами, Иисус, по евангелиям, больше всего занимается исцелениями. «Некоторые ученые-историки… причисляют его к древнееврейской секте так называемых терапевтов»[84]. Шаманы наделены даром предвидения и прорицания, Христос — тоже пророк. Мессианизм Христа имеет аналогией «мессианские ожидания степных народов, которые в лице современных монголов и теперь ожидают второго рождения своего великого Чингис-хана, единородного сына голубых небес и посланника свыше»[85].
Обоснование, которое дается Ксенофонтовым североазиатской гипотезе происхождения евангельской легенды, конечно, представляет собой образец легковесности и произвольности. Такие параллели можно проводить со многими десятками верований и мифов, распространенных во всех концах Земли у самых разных народов. Как и по поводу потанинской «аргументации», и здесь можно сказать, что, применяя такой метод, пришлось бы признать образ Иисуса заимствованным одновременно у всех народов земного шара. Непонятно было бы при таком решении вопроса только то, почему в виде исключения следует отказывать в способности самостоятельного мифологического творчества только тем народам, среди которых христианство имело своих первых последователей.
Евангельская «биография» Христа
С биографическими данными, относящимися к Иисусу, дело обстоит очень сложно. Во всех книгах Нового завета, кроме евангелий, их вообще нет, все ограничивается намеками и отдельными замечаниями, ссылками на некоторые события и обстоятельства, о которых ничего конкретно не говорится. Биографии Иисуса, притом во многом ущербные и противоречивые, содержатся лишь в евангелиях. Евангелия Матфея и Луки начинают жизнеописание Иисуса с момента его рождения, другие два — с вполне зрелого возраста, когда он приходит к Иоанну для крещения.
Но и в первых двух евангелиях после повествования о непорочном зачатии и рождении Иисуса рассказывается о младенчестве и детстве его скупо, почти мельком, притом противоречиво. По Матфею, родители спасают младенца от козней царя Ирода тем, что убегают с ним в Египет и возвращаются только после смерти Ирода, а по Луке, они почти сразу отправляются в Назарет, где и проводит Иисус детство, отрочество и молодость до тридцати лет. Лишь один эпизод, относящийся к этому периоду жизни Иисуса, описывается у Луки: двенадцати лет от роду мальчик появляется в Иерусалимском храме, где поражает всех своей мудростью и ученостью.
Более подробные и последовательные биографические сведения евангелия дают уже только за тот последний кратковременный период жизни Иисуса, когда он «учит», творит чудеса, потом подвергается преследованиям, погибает, воскресает и возносится на небо. Извлечь из этих сообщений заслуживающие доверия исторические данные о жизни Иисуса оказывается нелегким делом. Сама внутренняя логика евангельского повествования во многих существенных пунктах сбивчива и путана. Со странной непоследовательностью ведет себя его основной герой — Иисус Христос. Его жизненное поведение, как оно изображено в евангелиях, далеко не во всем поддается разумному истолкованию.
Иисус считает себя проповедником, учителем людей, которых он должен просветить божественной истиной и повести за собой. Кого, каких людей? По логике вещей — евреев. Он — обещанный богом мессия из рода царя Давида. Однако то же Евангелие от Матфея завершается повелением, данным Иисусом апостолам: «Идите научите все народы, крестя их во имя отца и сына и святого духа» (Матфей, XXVIII, 19). Выходит, ко всем народам обращена его миссия, а не к одному лишь Израилю.
Что явился Иисус проповедовать людям — старый израильский «закон», предписанный богом Яхве и воплощенный в Ветхом завете, или какую-то новую веру, им самим принесенную? Опять два противоречащих решения. Старый закон нерушим: «Скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет» (Лука, XVI, 17); «не думайте, — предупреждает Иисус учеников своих, — что я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел я, но исполнить» (Матфей, V, 17). И еще: «Ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» (18). Но тут же следует нечто прямо противоположное.
В той же главе Евангелия от Матфея содержится вложенное в уста Иисуса систематическое противопоставление его этического учения ветхозаветному «закону». Принцип таков: «Вы слышали, что сказано…, а я говорю вам…» Так говорится об убийстве, прелюбодеянии, разводе, клятве, о воздаянии «ока за око» и т. д. Предписывается не исполнение закона, а, наоборот, поведение, не соответствующее ему. Некоторые другие эпизоды, о которых рассказывается в евангелиях, тоже раскрывают отрицательное отношение Иисуса к ветхозаветным установлениям. Когда апостолы в субботний день позволяют себе рвать колосья на поле и тем нарушают запрет работать в субботу (страшный грех по Ветхому завету, караемый смертью) и когда окружающие обращают на это внимание Иисуса, он отвечает им, сославшись, правда, на прецедент царя Давида, что «суббота для человека, а не человек для субботы» (Марк, II, 27). Себе самому он позволяет в субботу заниматься целительством, что тоже по старым понятиям — безусловный грех.
В сопровождении апостолов Иисус ходит по стране, проповедуя свое учение и демонстрируя чудеса. В некоторых случаях он даже объясняет, что чудеса творятся им, чтобы «явить славу божию». Все это происходит, как правило, при большом стечении народа. Но почему-то Иисус неоднократно предупреждает свидетелей его деяний, чтобы они держали виденное и слышанное в тайне. Исцеленному им прокаженному он приказал: «Смотри, никому ничего не говори».
(Марк, I, 44). Дальше начинается какая-то игра. Исцеленный нарушил данное ему приказание и, «выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем». В результате «Иисус не мог уже явно войти в город, он находился вне, в местах пустынных». Видимо, однако, места эти были не столь уж пустынны, ибо туда «приходили к нему отовсюду» (45). Не к чему было и удаляться, тем более, что «через несколько дней опять пришел он в Капернаум», где при большом стечении народа проповедовал и творил чудеса (Марк, II, 1). О том, что он Христос, т. е. мессия, Иисус запрещает своим апостолам рассказывать народу (Марк, VIII, 30; Лука, IX, 18). В других же случаях он открыто называет себя этим именем.
В ответственные моменты своей жизни Иисус принимает какие-то путаные решения. Накануне своего ареста и в предвидении его он говорит апостолам: «Кто имеет мешок, тот возьми его, а также и суму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч… Они сказали: господи! вот, здесь два меча. Он сказал им: довольно» (Лука, XXII, 36,37). Казалось бы, вопрос ясен — надо приготовиться к сопротивлению. Но события разыгрываются по-другому. Когда собрались те, кому предстояло арестовать Иисуса, апостолы, «видя, к чему идет дело, сказали ему: господи! не ударить ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно. И коснувшись уха его, исцелил его» (Лука, XXII, 49–51). Покупать мечи, оказывается, вовсе не надо было, не понадобились даже те, которые были в наличии.
Э. Ренан правильно говорит по этому и аналогичным поводам: «Тут нечего требовать ни логики, ни последовательности»[86]. Действительно, личность и поведение Иисуса выглядят в евангелиях противоречащими логике. Является ли это аргументом против его историчности? Вряд ли.
Во все времена человек в своем жизненном поведении очень часто нарушал, как продолжает делать это и теперь, правила логики. Под влиянием овладевшего им настроения он может сделать и то, что не согласуется с его взглядами и убеждениями. Да и сами убеждения могут быть непоследовательными и противоречивыми. Бывает, что человек позволяет себе делать то, что запрещает другим и, наоборот, не делает того, что обязывает делать других. Такое поведение вряд ли можно признать достойным и честным, но, к сожалению, в жизни оно бывает, и не так уж редко. Нетрудно представить себе, что реальный исторический Иисус именно так и поступал.
Другое дело — та обстановка, та среда природная и общественно-историческая, которая изображена в евангелиях как арена деятельности Иисуса. Для оценки самих евангелий как исторического источника очень важно установить, в какой мере точно или хотя бы правдоподобно они изображают эту обстановку. И здесь мы прежде всего наталкиваемся на то, что в разных евангелиях ход и последовательность событий, связанных с жизнью Иисуса, изображены не совсем согласованно и во многих случаях фактически неточно или ошибочно.
Иисус родился, по евангельским преданиям, в Вифлееме, городке, расположенном к югу от Иерусалима. И чтобы объяснить, как могли его родители, жившие далеко на севере, в Назарете, оказаться к моменту его рождения в Вифлееме, рассказывается, что они к этому моменту прибыли в Вифлеем специально для того, чтобы пройти перепись населения. Об этом у Луки сообщается: «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей Земле. Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи (юридический отец Иисуса. — И. К.), из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из рода и дома Давидова…» (Лука, 11,1–5).
Вопрос об этой переписи породил целую литературу. Известный немецкий историк Э. Шюрер перечисляет библиографию научных работ, специально посвященных приведенному тексту Луки, их уже к началу нашего века было 55. Он обобщает их содержание в большой главе своей трехтомной монографии. Каковы же его выводы? «О всеобщей (по всей Земле. — И. К.) государственной переписи во времена Августа история ничего не знает»[87]. «Для прохождения римской переписи Иосиф не был обязан отправляться в Вифлеем вместе с Марией»[88], «Римская перепись вообще не могла быть предпринята в Палестине в царствование Ирода»[89]. «Иосиф Флавий ничего не знает о римской переписи в Палестине в царствование Ирода. Больше того, он говорит о переписи 7 года н. э. (через одиннадцать лет после смерти Ирода. — И. К.) как о чем-то новом и неслыханном»[90]. «Перепись при Квиринии не могла происходить в царствование Ирода, ибо Квириний никогда при жизни Ирода не был легатом Сирии»[91]. Падает, таким образом, полностью вся версия рождения Иисуса в Вифлееме. А ее значение — отнюдь не частное.
Некоторые описанные в евангелиях события не могли не быть замечены современниками. Мы имеем в виду не такие «события», как землетрясения и затмение солнца по всей Земле в момент распятия Христа — это, конечно, мифология. Речь может идти лишь о сообщениях, которые в принципе могли бы быть достоверными, например о массовом избиении вифлеемских младенцев царем Иродом в расчете на то, что среди них окажется и новорожденный Иисус. О злодеяниях этого кровожадного царя многое известно из литературы того времени. Но о таком его деянии нигде нет ни звука!
Рождение Иисуса в Вифлееме понадобилось евангелистам для того, чтобы опереться на известное пророчество Ветхого завета: «И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение из начала, от дней вечных» (Книга Михея, V, 2). И уж если он будет из рода Давидова, то, конечно, важно, чтобы он родился именно в Вифлееме, ибо в данном городе, по ветхозаветным свидетельствам, и была колыбель этого рода. Но версия с переписью оказывается, как мы видели, неисторичной.
С другим местом, связанным с биографией Иисуса, с Назаретом, где он якобы провел свое детство и юность, дело обстоит еще более неблагополучно: города этого тогда просто не было. Сколько ни раскапывали западные археологи то место, где должен был в те времена находиться Назарет, они ничего не могли найти, кроме совершенно незначительных следов человеческой деятельности — черепков и мусора.
Некоторые итоги археологических поисков Назарета мы находим в книге И. Томпсона «Библия и археология», изданной в США. Автор не сомневается в том, что этот город во времена Иисуса существовал. В подкрепление этого он публикует две фотографии, изображающие… современный Назарет. И под одной из них пишет: «На этой прелестной картине изображено, может быть, много мест, где ходил Иисус»[92]. Автор выражает восторги по поводу того, что «волнующие открытия современной археологии» подтверждают библейские сообщения и что в результате получается «счастливая комбинация» всего, что требуется доказать. А как же с Назаретом? Он был, и его «географическое положение может быть сегодня совсем легко определено»[93]. За этим, однако, следует сконфуженная оговорка: «хотя наши археологические знания о них (имеются в виду еще два города — И. К.) ограничены». И дальше: «Несомненным фактом является то, что сегодня Назарет может нам предъявить мало надежных материалов о себе». Некоторые авторы даже «предполагают, что новозаветный Назарет мог находиться на некотором расстоянии от современного города»[94]. Короче говоря, в вопросе о Назарете археология ничем не может помочь приверженцам теории историчности Христа.
Само название города Назарет впервые стало известно только из Нового завета. Среди фигурирующих в Ветхом завете городов, в частности десятков завоеванных Иисусом Навином, Назарет не упоминается. Среди фигурирующих в сочинениях Иосифа Флавия 45 городов Назарета тоже нет. Вряд ли могут быть сомнения в том, что в те времена, к которым легенда относит существование Иисуса, Назарета не было, он возник несколько позже и включен евангелистами в биографию Иисуса лишь задним числом.
Географических несуразностей в евангелиях вообще много. Рассказывается, например, как «в земле Гадаринской» на берегу Генисаретского озера паслось стадо свиней (Марк, V, 1; 11). Но Гадара находится далеко от этого озера! Впоследствии Ориген (ок. 185–253/254 гг. н. э.) вносил здесь поправку в евангельское повествование. Он предложил считать, что дело происходило «в земле Гергесинской», которая действительно лежала у берега озера. Но у Марка-то речь идет не о Гергесине, а о Гадаре! Производят также странное впечатление маршруты путешествий Иисуса по Палестине, например из Тира в Сидон через Десятиградье, отстоящее далеко в стороне от дороги между этими пунктами. Резиденция Понтия Пилата находилась вовсе не в Иерусалиме, а в Цезарее Приморской.
Видимо, евангелисты знали о географических и природных условиях Палестины только понаслышке. Они не знают эту страну. В описываемых ими маршрутах Иисуса они ограничиваются лишь самыми неопределенными указаниями «к морю», «на гору», «в путь». В Палестине бывает зимой холодная погода, особенно в горах, но никто из евангелистов ни разу не говорит о том, что Иисус озяб или оделся теплей в каком-нибудь случае. Из растительного и животного мира в евангелиях фигурируют, как правило, не те виды, которые водились тогда в этой стране, а те, которые были характерны для других областей Средиземноморья. В некоторых случаях, когда речь идет о видах, которые существовали в Палестине, евангелист, характеризуя их, делает грубые ошибки. Так, например, о горчице, травянистом растении говорится как о развесистом и тенистом дереве (Лука, XIII, 19).
Плохо знают евангелисты общественные нравы древней Палестины. Некоторые эпизоды, описываемые ими, были невозможны в ней или, по меньшей мере, маловероятны. Неправдоподобно, чтобы дочь царицы публично плясала на пиру, как рассказывается у Матфея (XIV, 6) и Марка (VI, 22), — этим занимались «блудницы» низкого происхождения. К тому же известно, что Саломея, дочь царицы, о которой идет речь, в это время была не молодой девушкой, как изображено в евангелиях, а успевшей уже овдоветь женщиной.
Немыслим эпизод с изгнанием Иисусом «торговцев и менял» из храма. В храме вообще никакой торговли не было, да и операций с разменом денег не было; торговля жертвенными животными происходила на прилегавших к храму улицах. Она была необходима для обеспечения нормального хода богослужения, неотъемлемым элементом которого были жертвоприношения. В этих условиях никто бы не разрешил Иисусу приписываемое ему самоуправство и буйство, скорее всего его бы тут же избили до полусмерти или убили.
В евангелиях часто упоминаются римские солдаты-легионеры. Между тем их в Палестине того времени не было, там были лишь auxilia, вспомогательные войска, набиравшиеся из местного населения, легионеры же появились лишь во время Иудейской войны 66–73 гг. К тому же римские легионеры описываются довольно странно: они, оказывается, знакомы с Ветхим заветом, который иногда цитируют (Иоанн, XIX, 24).
Неправдоподобна в общем и в деталях картина суда над Иисусом. Ни в ночь под иудейский праздник пасхи, ни в самую пасху судить Иисуса не могли: вообще ночью не полагалось судить, а в праздники или накануне праздника просто запрещалось. Синедрион в период, о котором идет речь, не имел права судить, оно принадлежало римским властям. А в те времена, когда синедрион еще обладал этим правом, суд происходил не в доме первосвященника, а при храме. Первосвященник всегда был один, а не два или больше («первосвященники» — Матфей, XXVI–XXVII; Марк, XV; Лука, XXII). Обычая отпускать преступника в праздник пасхи у евреев никогда не было. Орудием казни служил не крест, а столб с перекладиной в форме буквы Т.
Странным выглядит в изображении евангелий поведение Пилата. Ему сообщают, что Иисус именует себя царем Иудейским, тот и сам этого не отрицает. Казалось бы, римский наместник должен был придать такому обстоятельству большое значение — перед ним бунтовщик, стремящийся ликвидировать господство Рима над Палестиной и установить свою власть. Между тем он не находит в Иисусе и его намерениях никакой вины и всячески стремится спасти его, пока иудеи не припугнули прокуратора доносом в адрес центральной римской администрации. Вообще известно, что Пилат был жестокий и бессердечный человек, так что непонятны его колебания в отношении Иисуса и попытки спасти его.
В сообщениях о жизни Иисуса между разными евангелиями существует большое количество разногласий и противоречий. Они начинаются еще с родословной.
Если оставаться на мифологических позициях непорочного зачатия, то родословная в данном случае вообще не имеет никакого смысла: бог — отец через духа святого, и больше никаких предков искать не приходится. Но в евангелиях все же родословные приводятся, ибо надо же как-то обосновать происхождение Иисуса от царя Давида; родословные являются, таким образом, с христианской точки зрения фиктивными, тем не менее они нужны. В евангелиях их имеется две, притом совершенно различные. У Матфея родословная начинается с Авраама и насчитывает до Христа 42 поколения. Ближайшие последние звенья до Иисуса выглядят так: Зоровавель, Авиуд, Елиаким, Азор, Садок, Ахим, Елиуд, Елеазар, Матфан, Иаков, Иосиф, Иисус (Матфей, I, 13–16). У Луки родословная ведется от Адама, а количество поколений от Авраама до Иисуса составляет цифру 56, а не 42, как у Матфея. Если же взять те 12 звеньев родословной, какие мы выше привели по Матфею, то у Луки они будут выглядеть совсем по-иному: Еслим, Наум, Амос, Маттафий, Иосиф, Ианнай, Мелхий, Левий, Матфат, Илий, Иосиф, Иисус (Лука, III, 23–25). Остальные прародители Иисуса вплоть до Авраама указываются в двух евангелиях тоже разные. Противоречие налицо.
Чуть ли не с момента рождения Иисуса его родителям приходится спасать сына от козней царя Ирода: вместе с младенцем они бегут в Египет, где живут до смерти Ирода. Так рассказывается у Матфея (II, 14, 15). У Луки же нет ни звука о бегстве в Египет. Иисус вместе с родителями проживает в Палестине всю свою жизнь. А кстати сказать, и по этому вопросу евангелия взаимно противоречат: по первым трем, до своего выхода на проповедническую арену, т. е. лет до тридцати, он жил в Галилее, по Евангелию же Иоанна можно понять, что вся его жизнь прошла в Иерусалиме.
Крещение Иисуса было, по Матфею и Марку, осуществлено Иоанном (Матфей, III, 13–16; Марк I, 9). Лука же утверждает, что Иисус крестился сам, а Иоанн находился в это время в тюрьме (III, 20–21). В описываемых евангелистами деталях биографии Иисуса таких противоречий буквально не счесть. Как звали двенадцатого апостола? «Леввей, прозванный Фаддеем» (Матфей, X, 3); нет, «Иуда Иаковлев» (Лука, VI, 16). По Матфею, Иисус вошел в Иерусалим за четыре дня до пасхи, по Иоанну — за пять дней. Оба разбойника, распятые вместе с Иисусом, ругали и поносили его (Матфей, XXVII, 44). Один «злословил» его, а другой, наоборот, молился ему (Лука, XXVIII, 39–42).
Такой важный факт, как явление Христа людям после воскресения, тоже излагается по-разному: Иоанн утверждает, что прежде всего Иисус явился Марии Магдалине, а потом апостолам (XX, 14–24). Лука изображает дело по-другому: явился Иисус сначала двум неизвестным (один из них именовался Клеопой), а потом сразу всем апостолам, кроме Иуды, который уже, видимо, успел удавиться (XXIV, 13–36). Марк устанавливает три ступени этого события: сначала явился Марии Магдалине, потом двум апостолам и, наконец, остальным. У Матфея, в свою очередь, фигурирует еще одна версия: первым делом Иисус явился двум женщинам: Марии Магдалине и «другой Марии» — неизвестно какой (XXVIII, 1–9). Ограничимся этими примерами, полагая, что они дают достаточное представление о противоречивости конкретно-фактических евангельских сообщений, относящихся к личности и биографии Иисуса Христа.
Сотни ученых — историков, филологов, а также богословов — из года в год, из десятилетия в десятилетие искали в Новом завете, и прежде всего в евангелиях, материал для построения биографии Иисуса. В конце концов они пришли к выводу, который зафиксирован даже в гимназическом лютеранском учебнике по курсу «Введение в Новый завет»: «Евангелия не суть исторические сообщения ни в современном, ни в античном смысле этого слова; они представляют собой литературный жанр особого рода. Современный историк должен в отношении каждого эпизода, связанного с Иисусом, и в отношении каждого слова Иисуса исследовать, восходят ли они к времени его жизни; и только в немногих случаях эти исследования ведут к определенному результату»[95]. И все же, основываясь именно на евангелиях, десятки, если не сотни, авторов создали и опубликовали книги под заглавием «Жизнь Иисуса».
Чего на самом деле стоят эти построения, показал в своей капитальной монографии, вышедшей первоначально в 1906 году и впоследствии многократно переиздававшейся, Альберт Швейцер. Вплоть до издания 1966 года, вышедшего в год смерти автора, в книге содержится следующее многозначительное заключение: «Иисус из Назарета, который выступил как мессия, проповедовал нравственность царства божьего, основал царство небесное на Земле и умер, чтобы освятить свою деятельность, никогда не существовал. Это образ, отброшенный рационализмом, воскрешенный либерализмом и одетый современной теологией в исторические одежды»[96]. Он теперь полностью разрушен. Чем — кознями злоумышленных отрицателей, критикой со стороны рационалистов?
Нет, — отвечает Швейцер, — «он сам в себе развален, расшатан и расколот фактическими историческими проблемами, одна за другой всплывавшими перед Иисусом теологии в последние 150 лет вопреки всем примененным здесь хитростям, искусству, искусственности и насилию, — проблемами, которые неоднократно решались, и только что погребенные возникали в новой форме»[97]. Теолог считает, что «исторический Иисус не может больше служить современной теологии»[98].
Правда, понять позицию Швейцера в вопросе об историчности или мифичности Христа невозможно. С одной стороны, он нападает на сторонников мифологической школы и отвергает их построения, а с другой — пишет так: «Иисус представляет нечто для иного мира, поскольку из него исходит гигантский духовный поток, омывающий наше время. Этот факт не может быть ни расшатан, ни укреплен историческим познанием. Существует мнение, что Иисус может для нашего времени быть чем-то большим, если он как человек вошел в человечество. Но это невозможно. Во-первых, потому, что этот Иисус никогда не существовал. А затем еще потому, что историческое исследование может внести ясность в вопрос о духовной жизни Иисуса, но не пробудить его к жизни»[99].
Во всяком случае на вопрос, что можно извлечь из Нового завета, и прежде всего из евангелий, для установления историчности Иисуса, Швейцер во всеоружии своих колоссальных знаний, в результате анализа всей литературы вопроса «от Реймаруса до Вреде» отвечает: ничего. Рамки истории Иисуса в синоптических евангелиях обнаруживаются как вторичные. Помимо того, падают почти все жизненные детали, которые необходимы для биографии[100].
Этот вывод Швейцера подтверждается и многими современными авторами из богословского лагеря. Интересны, например, высказывания немецкого протестантского богослова, специалиста по Новому завету В. Кюммеля.
До начала нашего века в литературе прочно держалось мнение о Евангелии от Марка как более надежном с точки зрения исторической достоверности, чем остальные. Тщательное изучение Логий («Речения» Иисуса — документ, дошедший до нас только в отрывках), считавшихся ранее основным источником Евангелия от Марка, а также исследование проблемы об устной традиции, которая могла лежать в основе этого евангелия, показало, говорит Кюммель, что «возможность на основе Евангелия Марка построить исторически надежную картину жизни и учения Иисуса поставлена под вопрос или ограниченна»[101]. Кюммель при этом ссылается и на мнение протестантских теологов М. Келера и Р. Бультмана.
Еще в конце прошлого века М. Келер выступил с книгой под выразительным заглавием «О так называемом историческом Иисусе и историческом библейском Христе»[102]. Основная ее идея заключалась в невозможности для теологии базировать учение Христа на его биографии, рассказываемой в евангелиях. Бесполезно, писал Келер, оперировать ненадежными и колеблющимися результатами научного исследования евангельских текстов, ибо в этих текстах для такого исследования просто нет материала.
Высказывания такого рода принадлежат в основном протестантским авторам. Но если раньше католические богословы обвиняли их в рационализме, нигилизме и прочих подобных смертных грехах, то теперь и они вынуждены в отношении новозаветной биографии Иисуса становиться на тот же путь. Польский религиовед 3. Понятовский говорит об этом: «В последнее время католические библеисты также подчеркивают, что евангелия не дают биографии Иисуса sensu stricto (в строгом смысле. — И. К.)»[103]. Он указывает в этой связи на книгу В. Триллинга, которая содержит главу под знаменательным названием «Почему не существует «Жизни Иисуса?».
Как же, однако, быть теологам религии, в вероучении которой центральной фигурой является именно богочеловек Иисус? На помощь приходит пресловутое разделение Heilsgeschichte и действительной истории. Надо-де ориентироваться на «действительный» (!) образ Христа, а он есть не исторический Иисус современного исследования, а Христос, проповедовавшийся апостольскими свидетельствами. Это уже замаскированное признание факта краха исторических свидетельств о человеке Иисусе.
Через несколько десятков лет с той же концепцией выступил в ряде книг идеолог «демифологизации» Р. Бультман. Спасительное понятие Heilsgeschichte он подкрепил понятием «керигмы» (что в переводе с греческого означает «проповедь»). Не надо идти, писал Бультман, дальше керигмы, чтобы реконструировать исторического Иисуса. Господь есть не исторический Иисус, но проповедуемый Иисус Христос[104].
Приводя такие материалы, В. Кюммель — специалист по «новозаветной теологии» — пугается: не опасно ли для этой теологии и для христианства в целом открытое признание того, что «исторический Иисус» представляет собой мнимую величину?
Конечно, признает он, здесь есть неудобство. Просто снять этот вопрос невозможно. В частности, историк не может уйти от него, ибо, если он хочет вообще понять происхождение христианства, он должен что-то (!) знать об Иисусе, да и просто верующий христианин тоже не так-то легко согласится с тем, чтобы снять вопрос о Христе. Поскольку он «воспринимает учение о воскресшем Иисусе Христе через свидетельство апостола и дарует этому учению свою веру, он встречает в нем утверждение, что воскресший господь есть тот самый человек Иисус из Назарета, с которым часть свидетелей воскресения находилась вместе во время его земной деятельности»[105]. А отсюда вытекает, что «вера, если она отдает себе отчет в своем содержании, т. е. пытается теологически осмыслить себя, жгуче заинтересована в решении вопроса, в какой мере какой-нибудь образ Иисуса Христа, основанный на апостольской проповеди, согласуется с исторической подлинностью этого Иисуса»[106].
Остается незыблемым печальный вывод: «Сегодня общепризнано, что никакую биографию Иисуса и никакого изложения истории развития Иисусовой проповеди мы не можем дать»[107]. Каков же выход из этого положения? Следует длинное перечисление различных сторон самой проблемы. Здесь фигурируют и литературное сравнение параллельных сообщений евангелий, и аналитическое разграничение отдельных элементов традиции, формально-историческое различение разных форм рассказа и речи и многое другое. И все это должно означать необходимые методические вспомогательные средства. Но и они могут дать, однако, как сообщает автор, не исторически достоверный, а лишь «понятный единый образ Иисуса и его проповедей»[108].
Таким образом, евангельские сообщения об Иисусе признаются даже рядом богословов недостоверными и неисторичными.
Внеевангельские данные
Евангельский Иисус — человек или богочеловек, жизнь и деятельность которого вызвали, по евангелиям, мощное народное движение, потрясшее в начале 30-х годов I века н. э. всю Палестину. Но такого движения в эти годы не было, как не было и широких откликов на него в литературе того времени, в общественном мнении и в памяти народов Палестины.
В своем историческом романе «Сыновья» Л. Фейхтвангер описывает, как в 80-х годах I века Иосиф Флавий, путешествуя по Палестине, собирал сведения о человеке, почитаемом минеями (христианами. — И. К.) за мессию. Само собой разумеется, что мы имеем здесь дело с продуктом художественной фантазии писателя. Но в данном случае перед нами не просто вымысел, а исторически правдоподобное построение, основанное на добросовестном изучении источников. Текст Фейхтвангера мы используем здесь не как доказательство в пользу какого бы то ни было тезиса, а лишь как иллюстрацию. Так вот, Иосиф «полагал, что осведомлен обо всех, кто за последнее десятилетие был привлечен к суду как лжепророк: но об Иисусе минеев он ничего не знал»[109].
По слухам, которые были известны Иосифу, «этот Иисус был распят при губернаторе Понтии Пилате»[110], что само по себе вызывало у еврейского историка серьезные сомнения, ибо «распятие являлось наказанием, к которому могли присуждать только римляне»[111], евреи применили бы другой способ казни. Иосиф стал искать следы Иисуса при помощи расспросов у местных жителей, которые еще могли либо сами помнить связанные с ним события, либо знать о них от недавно ушедшего поколения. «Он расспрашивал то тут, то там. Он расспрашивал в Назарете, где, по слухам, этот человек родился, расспрашивал на берегах Генисаретского озера. Но в Назарете и на берегах Генисаретского озера люди говорили: «Здесь ничего неизвестно», и в Магдале они говорили: «Здесь ничего неизвестно». «Здесь ничего неизвестно», — говорили они и в Тивериаде, и в Капернауме»[112]. Наконец, нашелся человек, кое-что рассказавший Иосифу. Капернаумский христианин Тахлифа сообщил ему, что Христос «являл знамения и совершал чудеса. А богословы не хотели этого видеть, они жадничали и не хотели допустить, чтобы насчет их Яхве было возвещено всему миру. Они хотели упрятать Яхве, как ростовщик прячет свои динарии за векселя…» В наказание за это был разрушен Иерусалим, который «убил пророка божия и не узнал помазанника»[113]. Довольно скудная информация! И всего лишь через пятьдесят лет после таких грандиозных событий…
Кажется, так оно и было: в конце I века н. э. ни население Палестины, ни ее писатели и историки почти ничего не знали об Иисусе Христе. Об этом свидетельствуют и результаты исследования кумранских материалов.
Насколько позволяет судить содержание тех документов, которые до сих пор расшифрованы и опубликованы, среди них не найдено ни малейшего следа новозаветных книг и ни одного упоминания ни о Христе, ни о христианах.
Кумран находился в непосредственной близости от тех мест, где должны были происходить главные евангельские события. Его обитатели принадлежали к иудейской секте ессеев, вероучение и идеология которых были довольно близки по своему содержанию к христианству. Кумраниты придавали весьма большое значение «писаниям» — рукописям, в которых изложены их воззрения, принципы их жизни, богословского и этического учения. Как известно, на месте их поселения найдены не только большая библиотека таких рукописей, но и остатки своеобразных «типографий» того времени — места, где происходила переписка их книг. И вот оказывается, что в массе найденной литературы не обнаруживается ни малейшего намека на те великие события, которые, если верить евангелиям, всего 30–35 лет назад происходили на расстоянии двух десятков километров от самой кумранской колонии…
Трудно представить себе, чтобы Иисус во время своих странствий по Палестине не забрел ни разу в район ессейских поселений. Можно подумать, что он намеренно избегал этих мест. Но какие у него могли быть к этому основания? Это тем более неправдоподобно в свете той близости, которая существовала между его учением и всем духом учения и образа жизни ессеев. А между тем ни в евангелиях нет ничего об ессеях, ни в ессейской литературе о Христе. О чем это может свидетельствовать?
В научной литературе существует много догадок относительно тех причин, по которым в новозаветных книгах упоминаются лишь три существовавшие в Иудее религиозно-политические партии — фарисеи, саддукеи и зелоты, а о четвертой — ессеях — даже не упоминается. Некоторые авторы объясняют это тем, что в Новом завете и, в частности, в евангелиях говорится лишь о тех течениях, к которым Иисус относился отрицательно: ессеи же были ему близки, и именно их он имел в виду, когда говорил о праведных, нищих духом и т. д. Ничем, однако, доказать это предположение невозможно, оно совершенно голословно. Скорей можно объяснить факт молчания евангелий об ессеях лишь тем, что они о них ничего не знали. Это было возможно в том случае, если, как мы и предполагаем, евангелисты не были ни уроженцами, ни жителями Палестины, и до них просто не доходили достаточно исчерпывающие сведения о ее религиозно-общественной жизни. И так как они, помимо того, еще жили и писали в середине II века, когда ессейское движение вообще уже фактически сошло со сцены, им было неоткуда почерпнуть свои сведения о нем, кроме как из сочинений Иосифа Флавия, Филона и Плиния Старшего. А эти сочинения или некоторые части их могли оказаться вне поля их зрения.
В данной связи нас интересует не столько то, что евангелисты не знали о ессеях, сколько обратная сторона этого отношения — кумраниты в самом сердце Палестины в 60-х годах I века н. э., видимо, ничего не знали ни об Иисусе Христе, ни о вызванном его деятельностью религиозно-общественном движении. Фейхтвангер, значит, имел основания считать, что в Иудее второй половины I века мало кто слышал о Христе, его деяниях и трагической судьбе. Это еще одно доказательство того, что о знаменитых событиях и мощных народных движениях, которые были бы связаны с Иисусом Христом, не приходится и говорить. А ведь евангелия повествуют именно о таких событиях и таком движении!
Представим себе здесь человека, который захочет выступить по данному вопросу в роли моего оппонента. Предоставим ему слово.
Оппонент. Давайте подойдем к вопросу с новой стороны и рассмотрим некоторые факты, вами до сих пор не упоминавшиеся.
Известно, что наименование «христиане» появилось поздно, не ранее середины II века, к тому же оно не было самоназванием, а было дано приверженцам новой веры со стороны. В первые десятилетия существования христианства его последователи называли себя «нищими»— по-древнееврейски «эбионим» — или, если употребить руссифицированное окончание этого слова, эбионитами. Кумраниты тоже называли себя этим словом. Когда христианство уже получило известное распространение, среди его многочисленных ответвлений и сект еще несколько столетий фигурировало иудео-христианское направление под тем же названием эбионитства. Почему бы не провести здесь прямую линию происхождения христианства в целом? Первые христиане с этой точки зрения — кумранские эбиониты. Это, конечно, было христианство, еще не отошедшее от иудаизма; впрочем, первоначальное христианство и являлось иудеохристианством. В дальнейшем, по мере распространения новой религии среди неевреев и отделения христианства от иудаизма эбионитство превратилось из основного ствола этой религии в побочное ответвление, в секту, впоследствии исчезнувшую. Если мы примем такую схему происхождения христианства, то многие ваши соображения отпадут.
Тогда окажется, что христианство в кумранских документах фигурирует под названием эбионитства. Потеряет свое значение и тот аргумент в пользу мифичности Христа, что его образ эволюционировал от бога к человеку, а не наоборот, из чего будет следовать, что первоначально Христос представлялся богом. Дело в том, что эбиониты рассматривали Христа не как бога, а именно как человека; они отрицали, в частности, его непорочное рождение и считали, что он нормальным порядком произошел на свет от своих земных родителей. Что вы могли бы противопоставить такому решению вопроса?
Автор. Оно подкупает своей стройностью. Посмотрим, однако, можно ли подкрепить его доказательными фактами.
Кумраниты, действительно, довольно часто именуют себя в своих документах нищими, «эбионим»; имущественная бедность являлась у них одним из требований благочестивой жизни.
Можно допустить, что само название «эбиониты» хотя и было у них не единственным, все же определяло принадлежность к кумранской общине. Перешло ли оно к первым христианам? Это очень сомнительно.
В Новом завете слово «нищие» встречается много раз, но вовсе не в значении вероисповедной принадлежности. Когда говорится «раздай имение нищим», «блаженны нищие», «зови на пир нищих и увечных», «нищий Лазарь» и т. д., то во всех этих случаях речь идет, видимо, о нищих в буквальном смысле этого слова, о бедняках. Ни малейших доказательств того, что здесь имеется в виду не столько имущественный, сколько вероисповедный признак, представить невозможно. А никаких других аргументов в пользу того, что христиане вначале называли себя эбионитами, не существует. Трехчленная цепочка эбионитства — кумраниты — первохристиане — секта эбионитов — рвется в ее среднем звене, хотя она не очень надежна и в первом. А если это так, то эбионитское представление о Христе-человеке может характеризовать не первый этап истории легенды, а один из последующих.
Оппонент. Позвольте, здесь есть еще над чем подумать. В писаниях отцов церкви, откуда мы берем наши сведения об эбионитстве, говорится еще о ересях назареев и элксаитов, причем резкого разграничения этих трех ответвлений иудео-христианства не делается. Назореем и Назарянином несколько раз именуется в евангелиях сам Иисус. Конечно, это наименование идет не от названия города Назарет (города этого тогда еще не было), и грамматически такое словопроизводство неправдоподобно. Другое дело — если предположить, что с самого начала христиане называли себя назарянами, а это означало, может быть, то же, что эбионитство. В этом случае среднее звено цепочки тоже выдерживает…
Автор. Опять вы предлагаете весьма гадательное построение. В евангелиях только Христос называется Назореем и Назарянином, к его последователям, даже к апостолам, это наименование не применяется. А откуда оно взято для Христа? Из Ветхого завета. В книге Числ есть такое место: «Если мужчина или женщина решится дать обет назорейства, чтобы посвятить себя в назореи господу…» (Числа, VI, 2). Дальше идет перечисление его обязанностей, в совокупности составляющих идеал аскетической жизни. В двух других библейских книгах (Судей и пророка Амоса) опять упоминается назорейство как понятие, означающее избранность данного человека богом и его особую праведность. Очевидно, и в дальнейшем этим словом обозначался у древних евреев избранник божий, праведник, аскет. Можно понять, что первохристиане называли этим именем действительного или мнимого основателя своей религии.
В последующей иудейской традиции Иисус нередко именуется не «назир», что значило бы именно «назорей» в указанном выше смысле, а «ноцри», что можно произвести от «нецер», означающего ответвление. Понятно, что раввины отказывались связывать личность Иисуса Христа с почтенным ветхозаветным институтом назорейства; они применяли для его обозначения слово, связанное с понятием ответвления, отпочкования, даже отпадения.
Продолжим теперь рассуждение, прерванное двумя репликами оппонента.
Известно, что письменных свидетельств о событиях, которые описаны в евангелиях, — таких свидетельств, которые могли бы быть современны самим этим событиям, — не существует. Правда, необходимо учитывать то обстоятельство, что огромное количество древних документов было уничтожено церковью и ее служителями как в первые столетия существования христианства, так и в раннее средневековье. Таким же образом, исходя из своих вероисповедных соображений, действовали и иудейские раввины. Колоссальное количество рукописей погибло во время нескольких пожаров знаменитой Александрийской библиотеки, насчитывавшей около восьмисот тысяч книг. Кажется, это было в то время самое крупное в мире книгохранилище. И кто знает, не погибли ли в нем уникальные материалы, которые будь они в нашем распоряжении, сняли бы наши сомнения?
О том, что содержалось в не дошедших до нас документах, мы не знаем. Нельзя категорически исключить предположение о том, что там были свидетельства об историческом Христе. Но гаданиями наука оперировать не может. Приходится выразить сожаление по поводу гибели, вероятно, ценнейших документов и сосредоточить свое внимание на анализе того, что уцелело и дошло до нас. А если так, то приобретает особый интерес тот факт, что внехристианских свидетельств об Иисусе все-таки существует до странности мало. И этих свидетельств нет как раз в тех документах, где они, казалось бы, обязательно должны были быть. Почему-то об Иисусе и связанных с ним евангельских событиях молчит большинство исторических источников, относящихся к его времени.
В I веке н. э., т. е. в то время, к которому можно отнести жизнь Иисуса, на территории Римской империи существовала уже богатая литература на греческом и латинском, а в Иудее — на древнееврейском и арамейском языках. Это были и собственно исторические труды, и философские работы, и произведения художественной литературы. К тому времени, которое нас в данном случае интересует, относятся жизнь и творчество еврейских авторов: философа Филона Александрийского (умер в 54 г. н. э.), историков Юста из Тивериады (II половина I в. н. э.) и Иосифа Флавия (37 — после 100 г.). Жил и работал в это время разносторонний греческий писатель Плутарх (40—120 гг.). Из римских авторов необходимо прежде всего отметить историков Тацита (54—119 гг.), Плиния Младшего (61—113 гг.), Светония (родился 75 г.). Были и философы, например Сенека (умер 65 г.)г и поэты Лукан (39–65 гт.), Персий (34–62 гг.), Ювенал (45—130 гг.), разносторонний писатель и ученый Плиний Старший (23–79 гг.), и довольно большое количество других деятелей литературы. Есть основания рассмотреть сочинения перечисленных авторов с точки зрения того, что у них сказано об их современнике Иисусе и сказано ли вообще что-нибудь.
От кого из перечисленных выше писателей мы были бы вправе ждать наиболее убедительных исторических свидетельств о Христе? Прежде всего, конечно, от его современников — от тех людей, которые жили и творили в первой половине I века н. э. Если они жили в Иудее, то могли быть непосредственными очевидцами деяний Иисуса и событий, связанных с его мученической смертью. Их свидетельство было бы, конечно, наиболее убедительным. А в самом деле, уж чего лучше: я видел собственными глазами и сообщаю о том, что видел!
Но ни одного такого сообщения нет. Обратимся к следующему поколению — людям, которые могли слышать о Христе от очевидцев и свидетелей. И они молчат. Молчит весь первый век.
Возьмем такого автора того времени, как Юст из Тивериады. Он написал ряд исторических сочинений, одно из которых было посвящено истории иудейских царей вплоть до Агриппы Второго, т. е. примерно до середины I века н. э. Конечно, там должно было содержаться описание и царствования Ирода «Великого, и правления Ирода Антипы, к каковому времени христианская традиция относит жизнь и деятельность Иисуса Христа. Юст тем более не мог не знать об Иисусе и его деяниях, что Тивериада, уроженцем которой он был, находилась всего в нескольких километрах от Капернаума, а в последнем, по евангелиям, разыгрались некоторые важные события жизни Иисуса. К сожалению, до нас не дошла ни одна строчка из сочинений Юста. Но, может быть, именно здесь-то и похоронено навеки решающее показание очевидца?
Нет, мы знаем, что в сочинениях Юста не было ни малейшего упоминания о Христе и его деятельности. В IX веке н. э. жил византийский патриарх Фотий, у которого была великолепная по тому времени библиотека. Он оставил нам не только ее каталог, но и большое количество выписок из 279 прочитанных им сочинений, а некоторые из этих выписок он сопроводил своими замечаниями. В библиотеке Фотия был экземпляр «Истории иудейских царей» Юста из Тивериады. И в этом сочинении автор, оказывается, хранил полное молчание об Иисусе, чем вызвал критическое замечание патриарха.
Берет слово оппонент:
— Вашу претензию к Юсту можно отвести. В 1964 году была опубликована надпись с острова Хиос в честь этого историка. Там помимо прочих его почетных званий указывается еще и на то, что он был гражданином города Эфеса (в Малой Азии). Это может означать, что хотя Юст или его родители были уроженцами Тивериады, но жизнь свою он провел не в Палестине, а в Малой Азии. В этом случае отпадает ваше заявление о том, что «свидетель» не подтверждает историчность Христа: он просто не мог быть свидетелем.
Автор. К сожалению, должен отвести ваше возражение. Почетное звание гражданина Эфеса вовсе не свидетельствует о том, что его носитель должен был обязательно всю жизнь прожить в этом городе. По Новому завету, апостол Павел был гражданином Рима, но это не дает оснований отрицать малоазийский и палестинский периоды его биографии. Юст же мог удостоиться почестей от горожан Эфеса и за свои литературные заслуги: известно, что у этого города были богатые литературно-философские традиции.
Можно было бы рассчитывать на то, что какие-нибудь показания по интересующему нас вопросу даст знаменитый древнееврейский философ, богослов и политический деятель Филон. Правда, это не были бы показания очевидца или даже свидетеля, так как Филон прожил всю свою жизнь в египетской Александрии, а не в Палестине. Но, конечно, до евреев, живших в диаспоре, доходили слухи о всех мало-мальски важных событиях, происходивших на их родине. И Филон не был оторван от своих соотечественников, он принимал живейшее участие в их жизни. Так, например, он возглавлял делегацию, которая ездила в Рим к императору Калигуле с ходатайством по делам александрийских евреев. Он интересовался жизнью и палестинских евреев и был хорошо осведомлен о ней. В его сочинениях неоднократно упоминается имя Понтия Пилата, сыгравшего, по евангелиям, роковую роль в судьбе Иисуса. Филон довольно подробно рассказывает о палестинской секте ессеев, о распространенной тогда в Египте иудейской секте терапевтов — и по вероучению, и по культу обе они были близки к первоначальному христианству. У него есть сведения и о некоторых других еврейских сектах, например о каинитах. Но ни о христианах, ни о Христе в сочинениях Филона нет ни малейшего упоминания.
Это тем более существенно, что сам Филон по своим духовным интересам был весьма близок к религиозно-философским учениям и движениям своего времени, а его собственное философско-богословское учение дало много материала для формирования догматики христианства. Энгельс даже называет Филона отцом христианства. И вот отец ничего, оказывается, не знает о своем детище и о таком немаловажном деятеле новой религии, как Иисус Христос.
То же или почти то же можно сказать и о римском философе Сенеке. Его идейное родство с первоначальным христианством неоспоримо, для Энгельса он «дядя христианства»[114]. Христианская традиция, зафиксированная и в Деяниях апостолов, настаивает на том, что в начале второй половины I века н. э. в городе Риме было уже много христиан, что в шестидесятых годах именно там претерпели мученическую смерть апостолы Петр и Павел, что Нерон подверг там в это время христиан массовым гонениям. Эти события не могли пройти мимо внимания Сенеки, принимавшего живейшее участие в общественной и литературной жизни своего времени. Он, несомненно, должен был бы много слышать о Христе и от христиан, конечно, при том непременном условии, чтобы все происходило соответственно христианской традиции. Но Сенека не говорит ни слова ни о Христе, ни о христианах.
Существует, правда, целая серия документов, в которых философ довольно пространно изъясняется о Христе. Это — его переписка с апостолом Павлом. Но даже в богословской литературе никто не выражает сомнения в том, что перед нами здесь фальшивка, созданная в средние века.
Существуют и другие связанные с данной темой документы, недостоверность которых не вызывает сомнений. Можно упомянуть в этой связи «Донесение Понтия Пилата императору Клавдию», переписку эдесского царя Абгара с Христом и императором Тиберием, так называемое Тибетское евангелие и ряд других.
Особого разбора в этой связи заслуживают относящиеся к вопросу о Христе фрагменты из сочинений римских историков Светония и Тацита и иудейского писателя Иосифа Флавия.
У первого из указанных историков упоминание о Христе содержится в его «Жизнеописании двенадцати цезарей», у второго — в книге, которая носит название «Анналы», т. е. летописи. Обе эти книги написаны во втором десятилетии II века. Содержащиеся в них упоминания о Христе вызвали к жизни колоссальную аналитическую и критическую литературу.
Светоний пишет, что император Клавдий «изгнал из Рима иудеев, которые, подстрекаемые Хрестом (именно так — impulsore Chresto — И. К.), вызвали в Риме длительную смуту»[115]. Чтобы разобраться в действительном смысле этого сообщения, нужно учесть ряд обстоятельств, превращающих его в нечто очень туманное и противоречивое.
Клавдий занимал императорский престол с 41 по 54 год. Это значит, что он стал императором через 8 лет после предполагаемой даты смерти Иисуса. Хотя бы по одному этому нельзя считать, что речь идет здесь о последнем. К тому же, если полагать, что Иисус жил какое-то время в Риме, то надо поставить под сомнение евангельское повествование, по которому вся его жизнь прошла в Палестине. Правда, слова «подстрекаемые Хрестом» можно трактовать и как указание на влияние его идей в развитии событий. Тогда получится, что через десятилетие, прошедшее после смерти Иисуса в Иерусалиме, в Риме уже существовала община его последователей, устраивавшая волнения и наказанная за это изгнанием. То, что при этом упоминаются иудеи, а не христиане, не снижает правдоподобия этого варианта, ибо тогда римляне могли не выделять христиан из общей массы иудеев.
Следует ли придавать большое значение тому обстоятельству, что у Светония говорится не о Христе, а о Хресте? С одной стороны, это как будто не имеет значения, ибо в греческих именах того времени гласные «е» и «и» нередко заменяли друг друга. Но, с другой стороны, известно, что имя Хрестос было в те времена широко распространено, особенно среди римских вольноотпущенников, так что в тексте Светония может идти речь и о каком-нибудь другом Хресте, который мутил своих соотечественников в городе Риме.
Еще больше сомнений вызвало свидетельство о Христе, содержащееся в «Анналах» Тацита. Этот историк рассказывает об огромном пожаре, который уничтожил в 64 году н. э. чуть ли не весь Рим. Среди населения распространился слух, что виновником пожара был император Нерон, поджегший свою столицу для того, чтобы любоваться грандиозной картиной великого бедствия. Император решил взвалить вину за пожар на христиан. «Чтобы уничтожить этот слух, Нерон подставил виновных и применил самые изощренные наказания к ненавистным за их мерзости людям, которых чернь называла христианами. Виновник этого имени Христос был в правление Тиберия казнен прокуратором Понтием Пилатом, и подавленное на время пагубное суеверие вырвалось снова наружу и распространилось не только по Иудее, где это зло получило начало, но и по Риму, куда стекаются со всех сторон и где широко прилагаются к делу все гнусности и бесстыдства». Дальше говорится об огромном множестве привлеченных к ответственности и уличенных «не столько в преступлении, касающемся пожара, сколько в ненависти к человеческому роду». Были применены разнообразные, но одинаково бесчеловечные способы казни, в том числе превращение людей в живые факелы, сжигавшиеся для освещения Неронова парка в ночные часы. Тацит признает, что христиане заслужили крайних наказаний, но выражает сожаление по поводу их истребления «не для общественной пользы, а ради жестокости одного человека»[116].
До сих пор в исторической литературе не утихают споры, следует ли считать процитированный отрывок у Тацита подлинным или позднейшей вставкой. Приводятся всевозможные аргументы в пользу каждого из этих решений. Мы не будем здесь о них говорить, ибо для нашей темы не имеет существенного значения вопрос, принадлежит ли рассматриваемый текст Тациту или он вставлен в его книгу кем-то другим. Вовсе не исключено, кстати сказать, что этот текст написан самим Тацитом, хотя в литературе и высказано немало веских сомнений на этот счет.
Решающую роль здесь играет соображение, которое в одинаковой мере касается и Светония. Оба римских историка писали свои труды через восемь с лишним десятилетий после предполагаемого момента смерти Христа. К этому времени не могли оставаться в живых современники Иисуса — свидетели его деятельности. Историки принадлежали уже к третьему поколению, если считать современников Христа первым. Черпать свои сведения из личного общения с современниками описываемых ими событий для Светония и Тацита было уже невозможно.
В начале II века н. э. было уже много христиан, которые хранили и передавали из уст в уста предания и легенды о смерти Иисуса. И Светоний, и Тацит могли добывать информацию только из устной традиции — другого источника у них не было. Фактически они в этом отношении находились в положении, которое немногим лучше, чем наше.
Может быть, однако, оба автора пользовались документами римских архивов? Некоторые исследователи это предположение высказывали в отношении Тацита, стремясь во что бы то ни стало обосновать достоверность сообщаемых им данных. Ссылались на то, что историк пользовался покровительством видного римского чиновника Клювия Руфа, который при императоре Калигуле занимал пост консула и имел беспрепятственный доступ к сенатским протоколам. Но большинство историков, в том числе и те, кто признает историчность Христа, решительно отвергают возможность того, что первоисточниками Тацитова сообщения были документы архивов.
Маловероятно, чтобы в римский сенат из далекой и незначительной провинции Иудеи было прислано донесение о казни какого-то мастерового из Галилеи. «Эта казнь, — приводит Древе цитату из И. Вейсса, — совершенно тонула в той массе казней, которые совершались тогда римскими провинциальными властями и была бы самым удивительным случаем, если бы она была отмечена в каком-нибудь официальном документе»[117].
По этому поводу Бруно Бауэр еще свыше ста лет назад саркастически ссылался на свидетельство Тертуллиана, который отсылал всех сомневающихся в истинности евангельской истории к римским государственным архивам; отец церкви уверял, что там можно найти даже донесения о том затмении солнца, которое разразилось на всей Земле в момент смерти Иисуса…
Специалисты по античной историографии утверждают, что архивные изыскания вообще не были в ходу у древних историков. Нет ни одного свидетельства в пользу того мнения, что Тацит когда бы то ни было использовал тот или иной документ из архива. Невозможно представить себе, чтобы для эпизодического сообщения о преследовании христиан Нероном Тацит сделал бы то, чем он никогда не занимался даже по несравненно более важным для него поводам.
Особую сложность представляет вопрос о том связанном с Христом отрывке, который содержится в книге Иосифа Флавия «Иудейские древности». Приведем его текст: «В это время жил Иисус, мудрый человек, если только можно назвать его человеком. Ибо он творил чудеса и был учителем людей, которые с радостью воспринимали возвещавшуюся им истину. Много иудеев и греков были привлечены им на свою сторону. Это был Христос. Когда по доносу первенствовавших у нас людей Пилат распял его на кресте, те, кто первыми возлюбили его, не отпали от него. Ибо на третий день он снова явился к ним живой, как об этом и тысяче других его чудесных дел предсказали еще посланные богом пророки. И до нынешнего дня еще существует род христиан, получивших от него свое имя»[118]. Казалось бы, мы имеем здесь дело с недвусмысленным и ясным историческим свидетельством. Оно написано, правда, не по свежим следам событий, а лишь через шестьдесят лет и, следовательно, принадлежит не очевидцу. Но все же и такое свидетельство имело бы немалую историческую ценность. Если бы… Если не возникали бы при анализе данного фрагмента весьма существенные сомнения.
Исследователи давно уже обратили внимание на то, что в приведенном отрывке Иосиф Флавий, оставшийся, как известно, до конца своих дней безусловным приверженцем иудаизма, выглядит как христианин. Если бы благочестивый фарисей Иосиф написал что-нибудь об Иисусе, он честил бы его как богохульника, самозванца, заслужившего то жестокое обращение, которому он подвергся. А здесь налицо нечто прямо противоположное! Сомнения были вызваны и тем, какое место занимает в порядке изложения у Иосифа приведенный отрывок. Автор подробно рассказывает о неважных и не имевших никаких серьезных последствий событиях, происходивших в Иерусалиме, и между делом, как бы мимоходом, причем без всякой связи с предыдущим и последующим ходом изложения, в нескольких строчках сообщает об истории Иисуса, вызвавшей, как считается, общественное движение огромного размаха. Все это не похоже на стиль изложения Иосифа Флавия, отличающийся строгой последовательностью и логичностью.
Отрывок, о котором здесь идет речь, содержится во всех дошедших до нас рукописях «Иудейских древностей». В большинстве рукописей другого сочинения Иосифа — «Иудейская война» — никакого упоминания об Иисусе нет. Но в пяти из них имеется тот самый отрывок, который мы здесь разбираем, притом в различных местах: в двух рукописях XI века — в конце книги: в рукописи XIV — начала XV в. — посредине. В последней дело не ограничивается тем текстом, который имеется во всех остальных рукописях; здесь еще прибавлено полтора десятка строк, содержащих предсказание нового пришествия Иисуса, когда «все праведные и неправедные будут подвергнуты суду по слову божию, ибо ему (Иисусу) отец дал суд»[119]. Однако то, что отрывок фигурирует в разных местах рукописи, является достаточным доказательством: он вставлен переписчиками, и место, куда именно его вставить, они выбирали сами.
Некоторые из исследователей предлагали другое решение вопроса о подлинности рассматриваемого отрывка. Оно заключалось в том, что текст «Иудейских древностей» в данном месте содержал фрагмент, действительно принадлежавший Иосифу, но первоначально не заключал в себе тех возвеличений Иисуса, которые имеются в дошедшем до нас варианте; они были добавлены позднее христианскими переписчиками. Эта версия получила в наше время некоторое подтверждение. Так, в 1911 году в одной арабской христианской рукописи XI века была найдена рассматриваемая выдержка из «Иудейских древностей». Текст ее значительно отличается от того, который был ранее известен. Тогда это почему-то прошло мимо внимания ученых и только в 70-х годах она стала рассматриваться как важное свидетельство того, что Иосиф Флавий знал и писал о Христе. Здесь текст Флавия выглядит так: «В это время жил мудрый человек, именовавшийся Иисусом. Образ жизни его был безупречным, он был известен своей добродетельностью. Многие евреи и люди других народов стали его учениками. Когда Пилат осудил его на распятие и смерть, его последователи не отказались от его учения. Они рассказывали, что он явился к ним живым через три дня после своего распятия. Таким образом, он, может быть, и был мессией, о чудесных делах которого возвещали пророки»[120]. Из этого текста не вытекает, что Иосиф определенно считал Иисуса мессией. Неправдоподобно, что он допускал самую возможность этого. Но нельзя исключить того, что все же здесь перед нами какой-то «скелет» первоначального варианта текста, принадлежавший самому Иосифу и препарированный христианскими переписчиками в угодном им духе. Если это даже так, то какие можно извлечь отсюда выводы для решения вопроса об историчности Христа?
В какой-то мере такое предположение укрепляет позиции сторонников исторической школы. Но в очень небольшой мере. «Иудейские древности» написаны Иосифом около 94 года, а к этому времени уже сложилась определенная христианская традиция, из которой он и мог позаимствовать свое сообщение.
Не приходится искать подтверждений историчности Христа и в тех описываемых в евангелиях событиях, которые якобы связаны с его жизнью. Многие из них не могли остаться незамеченными жителями не только Палестины, но и других стран. Например, трехчасовое затмение солнца в момент распятия Христа, происходившее якобы по всей Земле, должно было бы поразить воображение всего человечества и не могло не отразиться в воспоминаниях его современников. Надо полагать, что не только естествоиспытатель Плиний Старший, оставивший описание всех выдающихся явлений природы, происходивших у него на глазах, но и многие другие литераторы того времени написали бы о таком из ряда вон выходящем событии. То же относится и к великому землетрясению, ознаменовавшему гибель богочеловека. И даже некоторые события, куда меньшего масштаба, не могли остаться незамеченными их современниками.
На этом, однако, нельзя строить доказательство того, что вообще никаких событий, связанных с Иисусом, не было. При всех условиях рассказы о чудесах в евангелиях, конечно, вымышлены: ни всемирного землетрясения, ни солнечного затмения по всей Земле в момент смерти Иисуса вообще не могло быть, и мы сошли бы с научно-исторической почвы, если требовали бы свидетельств об этих событиях в литературе того времени. То же относится и к сообщениям о естественных, но маловероятных событиях, в частности об избиении младенцев Иродом.
О злодеяниях царя Ирода «Великого» известно очень много — это был, действительно, изверг и кровопийца. Но такое деяние, как истребление всех младенцев мужского пола в целом городе, даже для Ирода выглядит невероятным; правда, все историки как будто сговорились ничего не писать о нем.
Но уж то, что составляет, костяк евангельских повествований, будучи притом естественным, возможным и даже вероятным, могло бы и должно было бы отразиться в исторических источниках. Деятельность Иисуса в Палестине и Галилее, вызванное этой деятельностью народное движение, реакция на нее в правящих кругах иудейского общества и римской администрации, арест, судебный процесс и смерть Христа, движение, которое развернулось сразу после его смерти и привело к возникновению новой религии, — все это должно было найти отражение в литературе I века н. э. А если не нашло, то ведь скорей всего ничего этого и не было!
На скалистом северо-западном побережье Мертвого моря, в 20 километрах от Иерусалима, существовала в последние века до н. э. и в I веке н. э. община иудеев-сектантов, известная под названием кумранской; это было одно из ответвлений ессейства. В 68 году н. э. под напором наступавших римских войск обитатели кумранского поселения покинули его, старательно запрятав в окрестных пещерах много рукописей, очевидно, составлявших для них большую ценность. Среди них были и ветхозаветные произведения, и комментарии к ним (мидраши), и тексты молитвенных песнопений, и административно-организационные документы и др. Все это пролежало в земле до нашего времени, пока в 1947 году пастушонок-араб не обнаружил одну из пещер и запрятанные в ней документы. После этого начались интенсивные поиски, давшие богатейшие результаты: десятки тысяч исписанных на древнееврейском и арамейском языках отдельных клочков пергамента и папируса, ряд цельных рукописей. Перед учеными возникли сложнейшие задачи монтажа и расшифровки найденных текстов, их перевода и публикации.
До сих пор опубликована лишь сравнительно незначительная часть обнаруженных материалов. Сказываются трудности, вытекающие не только из сложности самой работы, но и из того, что большинство ученых, причастных к ней, принадлежат к духовенству той или иной из религий или, по меньшей мере, к тем людям, для которых небезразличны интересы религии. Религиозные предубеждения участников работы над документами сильнейшим образом тормозят их публикации. Во всяком случае вплоть до настоящего времени многие из документов еще скрыты от научной общественности, так что теперь мы можем судить о содержании кумранских текстов только по той их части, которая опубликована.
Некоторые из документов содержат короткие и загадочные по своему смыслу упоминания о некоем учителе праведности. В комментарии на ветхозаветную книгу пророка Аввакума о нем говорится семь раз; в так называемом Дамасском документе — тоже семь раз; помимо того, по одному упоминанию имеется в комментарии на псалмы и в обрывке комментария — на пророка Михея. Чтобы дать представление о характере этих упоминаний, приведем некоторые из них. В комментарии к Хабаккуку (Аввакуму), к ветхозаветному тексту о человеке, который «бегло прочитает» пророчество, дается такое примечание: «Имеется в виду учитель праведности, которому бог поведал все тайны слов его пророков-рабов»[121]. Остальные упоминания об «учителе» не менее лаконичны и туманны.
Если суммировать все упоминания об учителе праведности, содержащиеся в опубликованных кумранских документах, то получится образ вождя, а может быть, и основателя кумранской общины, пророка, облеченного особым доверием бога и получившего из уст самого бога раскрытие сокровенных тайн, относящихся к смыслу всех ветхозаветных пророчеств, в частности к срокам светопреставления. Неясно, рассматривали ли его кумраниты как мессию или как провозвестника мессии; во всяком случае, он считался посредником между богом и людьми. Учитель подвергался жестоким преследованиям со стороны некоего «нечестивого жреца» и «человека лжи», причем какая-то группа людей, именуемая «домом Авессалома», обвиняется в том, что она не пришла ему на помощь «в час страдания»[122]. В Дамасском документе дважды говорится о смерти учителя, но неизвестно, была ли то смерть насильственная или мирная; поскольку в других случаях говорится о преследованиях, которым он подвергался, можно предполагать, что и смерть его была насильственная. Вызывает споры между учеными вопрос о том, ожидали ли кумраниты второго пришествия учителя. Не исключено, что они считали его вообще не умершим, а находящимся в изгнании (указания на его смерть несколько неопределенны) и дожидались его возвращения.
Первые публикации текстов с упоминаниями учителя праведности вызвали сенсацию. Появились заявления о том, что, наконец, открыты новые внеевангельские документы, сообщающие исторические сведения о Христе. Вскоре, однако, обнаружилось, что отождествление учителя праведности с Иисусом Христом — дело в высшей степени сомнительное.
Идеология и вероучение кумранской общины во многом совпадают с первоначальным христианством. В обоих случаях мы имеем дело с зародившейся в иудаизме сектой, вносившей в иудейскую религию радикальные изменения. Много общего и в характере этих изменений. И здесь, и там главную роль играет проповедь близости пришествия мессии и связанного с этим событием светопреставления, в результате которого праведность, благочестие, свет одержат окончательную победу над беззаконием, злом и тьмой. В обоих случаях фигурирует некий подвижник, ниспосланный богом, но подвергшийся преследованиям со стороны адептов тьмы и нечестия. И кумраниты, и первохристиане проповедовали бедность, общность имущества, и те и другие рассматривали богатство и богатых как явления, неугодные богу. Есть общее и в культовой стороне обоих вероучений: отказ от жертвоприношений, ритуальные омовения (у христиан «крещение»), совместные трапезы. Исходя из всех этих параллелей, можно было бы считать кумранитов первыми христианами. При таком предположении отождествление учителя праведности с Иисусом Христом очень стройно укладывалось бы в общую схему. Но стройность эта нарушается явно выступающими существенными различиями между кумранским ессейством и христианством.
Христианство было первой религией, претендовавшей на универсальное космополитическое распространение. Кумранская же секта была замкнутой организацией, строго соблюдавшей тайну своего учения и рассчитывавшей на распространение только в еврейской среде. Христианство проповедовало идеологию непротивления, кумраниты же были проникнуты стремлением сокрушить «сынов тьмы» и лишь ждали сигнала, чтобы вступить в войну с ними. Христианство весьма либерально относилось к ветхозаветным ритуальным предписаниям и запрещениям, кумраниты же придерживались их даже строже, чем ортодоксальные иудеи, в частности, требовали строжайшего соблюдения субботы, которое в евангелиях признается необязательным. Христианство не предписывало полового воздержания, а у кумранитов это требование, видимо, было обязательным. Наконец, кумранская община имела иерархическую организацию, а в первых христианских общинах господствовало равенство.
Вмешивается оппонент:
— Указываемые вами черты различия относятся к христианству на том этапе, когда оно уже сформировалось в качестве вероучения. К ранней стадии его развития, отразившейся, например, в Апокалипсисе, многое из сказанного вами не относится. Апокалипсис насыщен ненавистью к врагам не в меньшей мере, чем кумранские документы. Так же, как и они, он ориентируется исключительно на иудеев. Может быть, на начальном этапе христианство было таким, каков дух кумранских текстов, и лишь потом, с конца I века н. э., оно стало принимать ту форму, в которой мы находим в нем существенные расхождения с кумранским ессейством?
Автор. Это вполне возможно. Но тогда историю христианства надо вести не с I века н. э., а с более ранних времен — по крайней мере, со II века до н. э. Здесь, конечно, много условного: при желании можно этот период считать предысторией христианства, а можно считать его началом истории. Давайте, однако, посмотрим, что при вашем допущении получается с фигурой Иисуса Христа.
По мнению большинства исследователей, соответствующие документы кумранской общины не моложе середины I века до н. з. Следовательно, все указания об учителе праведности относятся ко времени, отстоящем, по меньшей мере, на сто лет от тех хронологических рамок, которые фигурируют в Новом завете и в христианской традиции. А если так, то об отождествлении учителя с Иисусом Христом не может быть и речи.
Оппонент. Не может быть речи в том случае, если жестко привязать фигуру Христа к новозаветным ориентирам — и по хронологии, и по всем другим показателям. Но если этого не делать, то можно допустить, что в основе евангельских легенд лежит реальная личность, существовавшая за сто или даже за двести лет до возникновения новозаветной традиции, и что в евангелиях эта личность изображена уже с теми наслоениями, которые породила фантазия в течение времени, прошедшего после того, как реальный прототип новозаветных легенд покинул жизненную арену. Разве так не могло быть?
Автор. Могло. У нас, однако, идет речь не вообще о какой-то личности, а о конкретной фигуре, нашедшей свое отражение в определенных литературных произведениях и в традиции, — об Иисусе Христе. Если мы найдем реальную личность, которую звали Иисусом и которая жила и действовала в хронологических рамках и в конкретной обстановке, соответствующих новозаветным повествованиям, мы будем вправе сказать, что это и есть искомый нами исторический персонаж. Но если в основе указанных повествований лежит персонаж, живший в другое время и в другой исторической обстановке, носивший даже другое имя, то ясно, что искомой личности не обнаруживается. Можно представить себе, что одним из источников легенды о Христе явились в свое время воспоминания об учителе праведности, но отсюда никак не вытекает тождественность этих персонажей. Кстати сказать, некоторыми учеными высказывались предположения о мифичности и самого учителя праведности.
С 1965 года появился повод к отождествлению Иисуса Христа еще с одной фигурой, промелькнувшей в кумранских текстах; мы имеем в виду «царя Мелхиседека». Был опубликован новый кумранский документ, которому можно дать условное наименование «Мидраш Мелхиседек». Найден он в очень плохом состоянии—13 клочков, с большим трудом соединяемых учеными в некоторое подобие связного текста, причем остается ряд провалов. Датируется документ началом I века н. э. Его содержание составляют пророчества о приближающемся конце света и о той роли, которую предстоит сыграть в надвигающейся драме некоему Мелхиседеку, изображаемому в самых величественных и возвышенных чертах: он — верховный судья, мститель всем злым, провозвестник грядущего спасения праведных и главный деятель самого акта спасения, мессия, искупитель, вождь «сынов света» в их будущей последней борьбе с «сынами тьмы».
Нельзя сказать, что имя Мелхиседека было совсем неизвестно. Оно встречается дважды в Ветхом завете. В книге Бытия Мелхиседек фигурирует как царь Салима (вероятно, позднейший Иерусалим), он же жрец «бога всевышнего» (XIV, 18). В одном из псалмов (CIX, 4) бог говорит некоему «владыке моему»: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». В Новом завете Мелхиседек фигурирует только в Послании к евреям, автор которого несколько раз ссылается на «чин Мелхиседека». имея в виду того самого царя Салима и обнаруживая высокое почтение к этой фигуре, но не раскрывая с какой-нибудь степенью ясности ее отношения к личности Иисуса Христа или какого-либо другого персонажа. Мелхиседек остается таинственной фигурой, что дает возможность христианским богословам либо прямо отождествлять его с Иисусом Христом, либо делать намеки и предложения относительно правомерности такого отождествления.
В польском издании Библии 1965 года текст о Мелхиседеке сопровождается таким примечанием: «Этот таинственный языческий царь Салима, он же — священник истинного бога, есть образ Христа в мессианском псалме CIX, 4 и в Послании к евреям»[123]. Если отождествлять Иисуса Христа с Мелхиседеком, то текст кумранского мидраша, о котором выше шла речь, может рассматриваться как самое раннее свидетельство об основателе христианства, притом свидетельство из совершенно нового источника. Но есть ли какие-нибудь основания для такого отождествления?
Если отбросить установленные богословами трафареты в толковании библейского текста и разобраться в вопросе по существу его, то обнаружится картина, в достаточной мере неожиданная.
В древнееврейском подлиннике книги Бытия Мелхиседек аттестуется вовсе не как «священник бога всевышнего», а как священник и жрец «Эль-Элиона». Слово «элион» переводчики Библии рассматривают как прилагательное, означающее «верховный, всевышний». Такой перевод сам по себе должен вызвать недоумение, так как он противоречит всей ветхозаветной концепции. Считается с точки зрения этой концепции, что в те времена только Авраам с его родичами знал богооткровенную религию. И вдруг какой-то «языческий» царь не только исповедует ее, а даже состоит у всевышнего в священниках! Выйти из этого затруднения богословы могут только при помощи ссылки на таинственность данной ситуации. На самом же деле все обстоит много проще и совсем не таинственно.
Элион — не прилагательное, а часть собственного имени языческого бога Эль-Элиона; это имя хорошо известно в истории религий. Раскопанные в 30-х годах тексты из Рас-Шамры и ряда других мест содержат неоднократные упоминания этого имени одного из многочисленных богов древнеханаанского пантеона. В книге Бытия говорится о Мелхиседеке, жреце Эль-Элиона, а не иудейского или какого-нибудь другого всевышнего. Христос, следовательно, не должен был бы иметь к нему никакого отношения. Правда, кумраниты, конечно, могли рассматривать Мелхиседека как служителя «всевышнего» и отождествлять его со своим пророком и учителем.
Само имя Мелхиседека, означающее «царь праведности» или справедливости, перекликается с наименованием учителя праведности (more hassedeq). Может быть, были какие-то нити, связывавшие в сознании кумранитов образ Мелхиседека с фигурой учителя праведности. Но на решение вопроса об историчности или мифичности Христа это обстоятельство не может оказать влияния, ибо, кроме богословских спекуляций, нет никаких аргументов в пользу сближения, а тем более отождествления Мелхиседека с Христом.
Перейдем теперь к концепциям, имеющим под собой более серьезные основания.
Возможный вариант— «кто-то прошел…»
Начнем освещение этого варианта с возможной реплики оппонента, выразившего свое несогласие с аргументацией «от молчания века».
— Считаться, — мог бы он сказать, — с этой аргументацией всерьез просто невозможно. Она исходит из того, что события, происходившие в отдаленной и малозначительной римской провинции Иудее, должны были чуть ли не немедленно стать известными по всей Римской империи, в частности в ее центре. Думать так — значит мерить древность на наш современный аршин, когда любое мало-мальское существенное событие в Азии или Африке на следующий же день при помощи радио и других современных средств связи делается известным по всему миру. Вполне правдоподобно, что происходившие в 30-х годах I века н. э. в Иерусалиме события остались незамеченными вне Иудеи и, больше того, они могли не запечатлеться особенно сильно даже в памяти их свидетелей и участников. Об этом говорит довольно убедительно О. Хвольсон.
Автор. Ну-ка, интересно, что говорит по этому поводу сей эрудированный и ярый защитник историчности Христа?
Оппонент. Он говорит, что при Ироде, Архелае и римских префектах в Иерусалиме были казнены тысячи людей из еврейского народа и что при этих условиях любому историку трудно, если не невозможно, вспомнить, что между тысячами людей находился один, которого звали Иисусом. По его мнению, лишь через двадцать лет после смерти Иисуса Христа началось народное брожение, которое привело к Иудейской войне. Поражение в этой войне и упадок духа, за ним последовавший, могли оживить воспоминания о казненном учителе, а за этим должно было последовать литературное оформление этих воспоминаний[124].
Автор. Если я вас правильно понял, вы хотите сказать, что не настаиваете на евангельском варианте жизнеописания Иисуса и допускаете возможность другого варианта, по которому его деятельность и гибель прошли несравненно менее «громко» и заметно, чем это изображено в Новом завете? Ну что же, разберем и эту точку зрения, которая нашла довольно большое распространение не только в научной но и в художественной литературе. Известный рассказ Анатоля Франса «Прокуратор Иудеи» дает блестящую художественную и историко-психологическую иллюстрацию этой концепции[125].
На старости лет, мучимый болезнями Понтий Пилат приехал лечиться на морское побережье. Там он случайно встретился со своим старым знакомым римским аристократом Элием Ламией, который в молодости жил изгнанником в Палестине. Греясь на жарком южном солнце, старики вспоминали былые времена и те события в Палестине, которые происходили у них на глазах. Ламия спросил о восстании против римского владычества, которое подняли в свое время самаритяне у горы Гаризим:
— …Я не видел тебя с того времени. Увенчался ли успехом усмирительный поход?
Пилат подробнейшим образом рассказал ему о ходе и исходе этого восстания. Потом припомнились многие другие события, происходившие в Иудее, когда Понтий был там прокуратором. Совместных воспоминаний оказалось так много, что они не могли быть исчерпаны беседой на морском берегу. Решили встретиться на следующий день за столом у Пилата. И опять друзья предались воспоминаниям о том времени, когда они еще молодыми людьми жили в этой варварской Иудее. Больше говорил хозяин стола Пилат — собеседник все интересовался подробностями его административной и судебной деятельности в те бурные годы, и надо было удовлетворять его любознательность. Пилат рассказывал, в частности, о том, как ему приходилось утверждать смертные приговоры, выносившиеся еврейским судилищем:
— Сто раз толпы иудеев, богатых и бедных, со священниками во главе, обступали мое кресло из слоновой кости и, цепляясь за полы моей тоги и за ремни сандалий, с пеной у рта взывали ко мне, требуя казни какого-нибудь несчастного, за которым я не находил никакой вины и который был в моих глазах таким же безумцем, как и его обвинители. Что я говорю, сто раз! Так бывало ежедневно, ежечасно… Вначале я пробовал воздействовать на них; я пытался вырвать несчастную жертву из их рук. Но мое человеколюбие еще больше раздражало их[126].
Это очень похоже на евангельские сообщения о суде над Иисусом. И читая у Франса этот монолог Пилата, ждешь того, что вот-вот он вспомнит об одном из таких несчастных, которых вынужден был отдать на расправу фанатичным «фарисеям и книжникам». Но как раз об этом, самом выдающемся, имевшем наиболее важные последствия, случае Понтий не вспоминает…
Разговор переходит на другие объекты. Ламия рассказывает об одной еврейке-танцовщице исключительной красоты и обаяния — он был в нее влюблен. Роман их кончился неожиданным образом:
— Однажды она исчезла и больше не возвращалась… Несколько месяцев спустя я случайно узнал, что она примкнула к кучке мужчин и женщин, которые следовали за молодым чудотворцем из Галилеи…[127]. Речь идет, судя по всему, о Марии Магдалине. А «молодой чудотворец из Галилеи», конечно, Иисус Христос? Так и есть:
— …Он называл себя Иисусом Назореем и впоследствии был распят за какое-то преступление. Понтий, ты не помнишь этого человека?
«Понтий Пилат нахмурил брови и потер рукою лоб, пробегая мыслью минувшее. Немного помолчав, он прошептал:
— Иисус? Назорей? Не помню»[128].
Оппонент. Вы не находите, что, может быть, Анатоль Франс дал здесь то правильное решение проблемы, которого никак до сих пор не могут найти специалисты-историки?
Автор. Это не исключено. Заметьте, однако, что при таком решении наносится серьезный удар по исторической репутации евангелий. Если события, связанные с деятельностью и гибелью Иисуса Христа, были такими незначительными по масштабу и малосущественными по своим непосредственным последствиям, то евангельское их описание, мягко выражаясь, неточно: отпадают вызванное якобы деятельностью Иисуса массовое движение в Галилее и Иудее; торжественная многолюдная встреча Иисуса «всем народом» при входе его в Иерусалим; экстраординарный по своему размаху и по своим методам ночной судебный процесс; участие многочисленных толп в расправе над Иисусом и т. д. Я уже не говорю о тех чудесах, которыми, по евангелиям, ознаменовались «страсти господни» — если бы хоть одно из них имело место в действительности, то, конечно, вся эта история запечатлелась бы в народной памяти неизгладимым образом.
Оппонент. О чудесах давайте не будем говорить. Условимся оставаться на чисто исторической почве. Будем исходить из того, что евангелия дали не только преувеличенное изображение событий, но и разукрашенное религиозной фантазией. Однако в основе этих описаний должно лежать какое-то историческое зерно. Вы же знаете, что именно такой точки зрения придерживались крупный советский историк Н. Никольский, знаменитый французский писатель-коммунист Анри Барбюс и английский ученый-коммунист Арчибальд Робертсон. Почему бы вам не рассказать об их взглядах по рассматриваемому вопросу?
Автор. Именно это я и собирался сделать.
Академик Н. Никольский признает скудость и противоречивость имеющихся у нас исторических сведений о Христе. По существу такие сведения содержатся только в первых трех синоптических евангелиях. Их анализ дает, однако, почти обескураживающие результаты: «Выводы для историка получаются малоутешительные, в особенности по вопросу о жизни и проповеди Иисуса». Если отбросить то, что имеется в евангелиях противоречивого, сомнительного и просто неправдоподобного, то «что остается от рассказа синоптиков? Был назаретский плотник Иисус, который совершал будто бы чудеса, проповедовал, что именно, мы, наверное, не знаем, затем был арестован иудейскими властями и казнен. Вот и все»[129]. На этом «остатке» Н. Никольский настаивает, как на том историческом зерне, из которого в дальнейшем произросло пышное и ветвистое дерево христианской легенды.
Нужно, считал ученый, отбросить те евангельские свидетельства, которые противоречат друг другу, и заодно, конечно, те, которые вообще не внушают доверия. Но сообщения, совпадающие по своему смыслу, не должны быть отбрасываемы. «Когда все, и канонические, и апокрифические евангелия, в один голос говорят, что Иисус — из Назарета, плотник, или сын плотника, отец его — Иосиф, мать — Мария, — то тут мы имеем дело, очевидно, с общеизвестным фактом, о котором никаких споров не было». Развивая ту же мысль, автор говорит: «Если Иисуса выдумали, то почему назвали его плотником из Назарета, почему все согласно называют его отца и мать, города и селения, где он действовал? Чтобы это объяснить, надо предположить, что был какой-то один вымышленный рассказ об Иисусе более краткий, чем наши синоптики, и этому рассказу почему-то все верили, как истинной правде…»[130].
Изображенную в евангелиях историческую обстановку, в которой действовал Иисус, Н. Никольский считает в общем правдоподобной. Понтий Пилат был в самом деле тогда правителем Иудеи, человек он был действительно плохой и жестокий; нравы и обычаи, местность — все это вполне соответствует тогдашней действительности. Не считает убедительным Н. Никольский и аргумент «от молчания века».
Деятельность Иисуса, говорит он, была весьма кратковременна, она длилась, может быть, не более одного года. За это время он не успел приобрести широкой популярности. «До прихода в Иерусалим Иисус, по-видимому, не был даже известен и римским властям»; евреям он, конечно, был более известен, но «для иудейского правящего общества Иисус был одним из рядовых врагов, не из главных»[131]. Поэтому «если римские писатели не упоминают об Иисусе, то это объясняется молчанием иудейских источников — все свои сведения об Иудее и событиях в этой стране римские писатели почерпнули почти исключительно из иудейских источников».
Ко всем этим соображениям Н. Никольский добавляет еще и довод о цельности Иисусовой евангельской проповеди: «Несмотря на некоторые противоречия, проповедь Иисуса, как почувствует всякий, внимательно читавший синоптиков, проникнута одним духом, одним тоном, одним содержанием… Можно сочинить отдельные изречения и притчи, но нельзя, расположив их в беспорядке, как у синоптиков, все-таки достичь того, что за ними будет чувствоваться живой проповедник»[132]. Все это приводит автора к выводу, что Иисус существовал в исторической деятельности.
Аргументация Н. Никольского во многом фигурирует и у А. Барбюса, также стоявшего на позициях историчности Христа. Но у французского писателя она выглядит богаче и ярче; она у него связана с оригинальной концепцией, относящейся к самой истории возникновения христианства.
Как и Никольский, как и другие авторы, даже те, кто признают историчность Христа, Барбюс не может отрицать того, что исторические источники дают нам об Иисусе чрезвычайно мало. «Станем, — говорит он, — лицом к лицу с очевидностью… и скажем: имеющаяся у нас и религиозная, и светская документация о происхождении христианства до того момента, когда церковный устав утвердил «невариету» (не подлежащий изменению текст Писания. — И. К.), т. е. в начале V века, почти вся без исключения подлежит сомнению и в принципе не заслуживает доверия. В ней нет ни одной строчки, в которой можно быть уверенным, ничего, что можно утверждать, даже ни одного имени, ни одной даты»[133]. Книги Нового завета не сообщают об Иисусе Христе ничего членораздельного. С особой силой подчеркивает Барбюс то обстоятельство, что о нем не говорят авторы Посланий и Деяний, которые по самому своему положению апостолов больше кого бы то ни было должны были знать о Христе.
А если они знали, то в высокой степени неправдоподобно, чтобы они не считали себя обязанными рассказать о том, что знали. «Будем говорить, — требует Барбюс, — суровым языком здравого смысла. Если бы мы с вами могли находиться в сношении с богом, если бы жили с ним и долго, в течение ряда лет и месяцев слышали его голос, если даже слово его было передано нам его современниками несколько лет спустя после исчезновения бога, мы считали бы своим долгом распространять его учение, неужели могли бы мы произнести хоть слово или взяться за перо, не сославшись прямо на какую-нибудь черту этой грандиозной конкретной реальности?»[134]. А между тем апостолы, говоря о Христе, пользуются любыми другими источниками, кроме собственных воспоминаний и впечатлений. Обильно применяется терминология и фразеология ветхозаветных пророков, в частности: много говорится о приносимом в жертву агнце, о рабе или отроке божием и фактически ничего о реальном человеческом или богочеловеческом существе. «Кажется невероятным, что, опираясь на пророков, эти пастыри (авторы Деяний и Посланий. — И. К.) никогда не ссылаются на человеческую реальность того бога, с которым они якобы соприкасаются. Особенно надо подчеркнуть: невероятно, что они не ссылаются на эту реальность в каждой строчке»[135]. Сказано достаточно выразительно: невероятно! Иначе говоря, было бы невероятно, если бы при таком положении оказалось, что авторы Деяний и Посланий знали живого Христа.
Тем не менее Барбюс все же находит некоторые отправные пункты для построения концепции, одним из элементов которой является признание исторического Иисуса. Ими являются евангелия.
Признавая наличие в них большого количества позднейших вставок и изменений, не отрицая содержащихся в них многочисленных противоречий, Барбюс все же находит в евангелиях ядро исторической истины. Именно наличие «слишком явных противоречий, встречающихся в евангелиях и сорвавшихся с пера неумелых писателей»[136], свидетельствует, по его мнению, о том, что эти неумелые писатели не выдумали всего того, о чем они рассказывают, а редакторы в дальнейшем не сумели выправить эту невыдуманную истину: искусное редактирование постаралось бы избежать разноголосицы в евангелиях.
Черты исторической реальности Барбюс усматривает и в той непоследовательности, с которой каждый евангелист неоднократно противоречит самому себе. Так, бог Иисус постоянно обнаруживает признаки чисто человеческой слабости. Когда его обвиняют в попытке приписать себе божественное достоинство, он ссылается на ветхозаветные тексты, в которых богами именуются обычные люди, слушающие слово божие; таким образом, он фактически отказывается от звания божества. Он признает свое незнание дня и часа грядущего светопреставления, сославшись на то, что это может знать один лишь бог. Много раз он прячется, чтобы избегнуть расправы. Своей молитвой — «да минует меня чаша сия» — он «прекрасно доказывает свою бедную и незащищенную человечность»[137]. Совершенно по-человечески ведет он себя на кресте. Его предсмертное восклицание — «Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?» — звучит прямо, как крик человеческого сожаления и поражения… Выдумывать это евангелистам было незачем.
Жизненными и исторически правдоподобными признает Барбюс многочисленные, описанные в евангелиях эпизоды. «Такие сенсационные события, как изгнание торгующих из храма и процесс Иисуса, нельзя считать чистейшим романом. Печатью правдоподобия отмечены, главным образом, точные и родственные черты характера, особенности живописных рельефов, анекдотических эпизодов, которые, так сказать, сами себя доказывают и вносят во все некоторую долю достоверности. Подробности, относящиеся, например, к несговорчивому характеру казначея общины, к неучтивому поведению братьев пророков, к неповоротливости ума учеников, к личности Марфы и Марии Магдалины, имеют значение достоверности. Кто и для чего стал бы их выдумывать? Во всем этом есть нечто, чего нельзя выдумать»[138]. Непохожей на выдуманную Барбюс считает и речевую манеру Иисуса — проповедника, собеседника и спорщика.
Он приводит ряд его изречений, например «грандиозное по своей находчивости гениально-современное изречение» о женщине, уличенной в прелюбодеянии, и многие другие, восхищаясь их остроумием и меткостью. «Эти превосходные словесные кристаллизации… родились в свободных устах и в свободном сердце, а не сошли с тростниковой палочки, которою писал запряженный в работу церковник»[139]. В пользу достоверности соответствующих евангельских свидетельств говорит, по Барбюсу, и содержание Иисусовой проповеди.
Изложенное в евангелиях учение Христа нельзя, по Барбюсу, отождествлять с позднейшим учением апостола Павла, ставшим основой христианской догматики. Если бы личность Иисуса была вымышлена, да еще в тот период, когда уже существовали Павловы послания, то в уста учителя были бы вложены изречения и поучения, вытекающие из духа учения Павла. Поскольку же сохранена специфичность Иисусовой индивидуальности в изложении его проповеди, значит эта индивидуальность представляет собой не порождение мифологического творчества, а отражение действительной исторической личности.
Евангельские сообщения, считает Барбюс, заслуживают известного доверия. Он пишет, что было бы нерационально предположить, что основная нить евангельского повествования от начала до конца — только фикция. Такой большой обман, по его мнению, принципиально невозможен, а тем более такое богатство воображения. Какие же выводы из этой установки можно сделать в отношении историчности или мифичности Христа?
Вывод Барбюса оказывается очень осторожным. Он формулируется буквально двумя словами: «Кто-то прошел…». И самое большее, что можно сказать об этом «ком-то», сводится еще к двум скудным формулам: «Прошел бедный человек, в котором впоследствии встретилась надобность»; «Прошел малоизвестный еврейский пророк, который проповедовал и был распят»[140].
В нем впоследствии встретилась надобность… Эти слова Барбюса заключают в себе основное содержание его концепции происхождения христианства, связанной с признанием историчности Иисуса.
Около двух десятилетий, гласит эта концепция, малоизвестный бродячий проповедник, распятый в числе многих безвестных таких же страдальцев, пребывал в полном забвении. Потом возникли общественно-исторические условия, вызвавшие к жизни тусклое и путаное воспоминание о нем. Шел процесс эллинистической реформации иудаизма. Этой религии были привиты обряды и доктрины, происходившие от греческих и восточных религий и теорий. Для того, чтобы пустить эту новую религию в народные массы, нужно было обосновать ее не столько абстрактно-богословскими рассуждениями, сколько конкретно-образным девизом, доступным пониманию массы и способным воздействовать на эмоциональную сферу общественного сознания. Таким девизом стала благая весть («евангелие»): «Мессия явился!». Оказалось удобным по своей популярности и доходчивости увидеть в этом явившемся мессии воскресшего Христа. А отсюда шел уже прямой путь к тому, чтобы расцветить образ действительно существовавшего человека блестками мифологической фантазии. Это было настолько исторически неизбежно, что если бы Иисус не существовал, его бы выдумали в этот момент. Но выдумывать не нужно было, потому что уже существовал некто, галилеянин, который никогда и не знал о той роли, какую заставят его играть.
Исторический Иисус явился, таким образом, реальным подставным лицом идеального начала, на котором была построена первая версия христианства. Сам он и не думал считать себя Христом, не считали его таковым и его современники. Лишь позднее он воскрес в памяти людей как Христос, мессия, спаситель. «Когда появился Иисус, еще не существовал Христос, когда появился Христос, уже давно не было на свете Иисуса. Иисус Христос никогда не существовал»[141].
В этой концепции содержится неясность, ставящая ее под сомнение. Если Иисус был казнен не за то, что он признавал себя мессией и, следовательно, иудейским царем, то в качестве кого же его возвели на крест? Если на тех же основаниях, что и тысячи других, подобных ему безвестных бродяг, то почему именно его имя приобрело такое значение, что оказалось пригодным стать символом нового религиозного движения? Ведь для этой цели годилось любое имя, в том числе и вымышленное! Символ есть символ, и не так уж важно, кроется ли за ним когда-то живший человек или такого человека никогда не было.
То же возражение напрашивается и по вопросу, почему евангелисты не устранили или, по меньшей мере, не сгладили противоречивость изложения. Они могли это сделать независимо от того, идет ли в евангелиях речь о вымышленном или историческом персонаже. И в том, и в другом случае противоречия должны в одинаковой мере обращать на себя внимание и компрометировать само изложение. Были, значит, какие-то другие причины, мешавшие согласованию противоречивых мест, а вовсе не то, что во всех местах сообщалась истинная историческая правда. В предыдущей главе об этих причинах говорилось. Евангелия приписывают Иисусу чисто человеческие черты, и это было бы странно, если бы его не было как человека… Вовсе нет! Задача авторов евангелий заключалась именно в том, чтобы дать образ человека, ставшего воплощением божества, а не образ бога. Творческая фантазия евангелистов должна была при такой задаче работать именно в направлении максимального очеловечивания Иисуса. Точней сказать, речь должна здесь идти не столько о фантазии евангелистов, сколько о фантазии верующей массы, которая творила образ своего героя в том направлении, в котором ход истории определял ее идеологические потребности. Авторы евангелий фиксировали в литературной форме и, вероятно, обрабатывали этот религиозно-фольклорный материал, внося в него, надо полагать, немало изменений. И вся эта работа могла идти в плане не только стихийной, но и целеустремленной лепки образа человека Иисуса, которому ничто человеческое не чуждо.
Барбюс восхищается тем, как цельно и сильно получился этот образ в евангелиях, как находчив и остроумен Иисус в некоторых своих проповедях и репликах. С этим нельзя не согласиться, причем даже противоречивость поведения главного героя евангелий не нарушает этого впечатления, а наоборот, способна, пожалуй, лишь усилить его: в реальной жизни поведение людей очень часто бывает противоречивым — и в зависимости от обстоятельств, и в силу непоследовательности самого характера человека. Можно ли, однако, отрицать за художественной фантазией способность создать совершенно рельефный и жизненный образ без того, чтобы за этим образом стоял определенный исторический прототип? Разве мало в мировой литературе таких образов? Вспомним Гамлета, Пьера Безухова, Егора Булычова…
Можно объяснить евангельские противоречия, относящиеся к личности Иисуса и содержанию его проповедей, так, как это делает Барбюс: последовательным напластованием разных слоев в тексте Нового завета. Здесь, правда, есть серьезная опасность — можно поддаться соблазну подгонять датировку этих слоев под заранее установленную схему. Нужно, например, доказывать, что Иисус был революционер, тогда можно свидетельствующие в пользу этого тезиса места евангелий объявить исконным, а противоречащие — позднейшими наслоениями. Можно и наоборот: «отдавайте кесарю кесарево»— признать самым древним слоем традиции, тогда получает подкрепление противоположная концепция. При всех, однако, случаях здесь нет принудительной логической необходимости считать, что в основе традиции — ранней или поздней — лежит факт существования реального исторического лица.
Как единомышленник Барбюса, выступил уже в 50-х годах А. Робертсон. Приведем то новое в аргументации Робертсона, чего не содержится в произведениях Барбюса.
Он тоже исходит из собственной концепции происхождения христианства. В начале процесса возникновения этой религии было, по его мнению, «революционное движение, руководимое сначала Иоанном Крестителем, а затем Иисусом Назарянином»[142]. На первом этапе этого движения погиб Иоанн Креститель, казненный Иродом Антипой. «Попытка назореев захватить Иерусалим привела к распятию Иисуса Пилатом»[143]. В дальнейшем движение распалось на два потока. С именем Иисуса Назарянина было связано народное мессианское движение, долго сохранявшее свой революционный дух. Противостояло ему движение, возглавлявшееся Павлом и именем Христа прикрывавшее прямо противоположное социально-политическое содержание. Потом оба эти движения слились в одно на базе паулинистского примирения с существующим порядком вещей.
Так получилась новая религия, установленная официально в IV веке н. э. Она «была не культом погибшего еврейского мессии, а культом бога-искупителя, отличавшегося от других только тем, что местом обитания его была Палестина I столетия и что он носил еврейское имя, вызывавшее мессианские ассоциации»[144]. Носителем этого имени был, однако, реальный человек. Его образ на протяжении трех столетий оброс массой мифологических наслоений: здесь и чудесное рождение в результате непорочного зачатия; и многочисленные исцеления и воскрешения; и собственное воскресение после мученической смерти. «Каким-то образом некогда исторически существовавший человек, о котором нам известно крайне мало, но о реальности существования которого мы можем заключить на основании свидетельств Тацита и Талмуда и анализа синоптических документов, сделался объектом явно мифических рассказов…»[145]. О свидетельствах Тацита и Талмуда выше уже было много сказано. Посмотрим теперь, как решает Робертсон те трудности, которые возникают для утверждения историчности Христа из факта «молчания века».
Почему ничего не говорят ни о Христе, ни о христианстве современники первохристиан — Сенека, Плиний Старший, Ювенал, Марциал, Дион Хрисостом, Филон и Юст из Тивериады? Ответ на этот вопрос не вызывает у Робертсона никаких затруднений: «Потому, что они не являются историками»[146]. Одни из них были философами, другие — поэтами, третьи — риторами или естествоиспытателями. Это объяснение Робертсона не выглядит особенно убедительным.
Дифференциация идеологической деятельности в античные времена вовсе не была такой определенной и не зашла так далеко, как в наше время. Между философией и историографией, между публицистикой и наукой не было таких резких граней, какие существуют теперь. Сказать поэтому, что тот или иной автор был философом и потому не мог писать о явлениях, вошедших в историю общественных и религиозных движений, значит совершать явную и весьма насильственную натяжку. К тому же фигура Иисуса Христа и связанное с ним движение не укладываются в рамки политической истории — здесь и религия, и философия, во всяком случае идеология. Филон в своих сочинениях очень много занимался именно идеологическими явлениями, его, в частности, особенно интересовали религиозные движения. Мог же он обстоятельно сообщать о секте ессеев. Почему бы ему не рассказать, пусть даже много короче, о христианах и их учителе. Робертсон считает, что ожидать сведений о христианстве от этих авторов нелогично. Мне же представляется нечто прямо противоположное: именно от этих авторов было бы вполне логично ждать таких сведений.
Трудней Робертсону с Юстом из Тивериады и с Иосифом Флавием — они-то уж во всяком случае были коренными историками! Но и здесь наш автор находит выход из положения. Первый из этих историков написал «Хронику еврейских царей» от Моисея до Агриппы Второго. Он писал, следовательно, о царях, а на эпоху Иисуса падает как раз перерыв в чередовании царей на иудейском престоле: отсюда делается вывод, что Юсту нечего было писать об этом периоде. Это, конечно, слабый аргумент, ибо правители, формально называвшиеся этнархами или тетрархами («начальники народа», «четвертовластники»), в еврейской литературе и общественно-политической мысли все равно слыли царями. Да и трудно себе представить, чтобы в своем последовательном изложении истории от глубокой древности до 92 года н. э. (Агриппа Второй умер именно в этом году) Юст сделал пропуск на то время, когда по желанию римского императора иудейские цари именовались по-другому. Заметим кстати, что в евангелиях они все равно именуются царями…
Молчание Флавия Робертсон объясняет тем, что он вообще систематически избегал касаться таких щекотливых в его время явлений, как мессианские движения в Иудее. «Для того чтобы сохранить благоволение своих римских патронов, ему надо было доказывать политическую безвредность еврейской ортодоксии. Вот почему он (по мере возможности) избегает каких-либо упоминаний по мессианскому движению»[147]. По меньшей мере дважды рассказывает Иосиф Флавий о мессианских движениях в Палестине: одно из них связано с именем Февды, другое — с тем неизвестным, который собирался найти на горе Гаризим спрятанные Моисеем священные сосуды. Флавий рассказывает и о движении Иуды Гавлонита, и о некоторых других массовых движениях в Иудее, по своему духу, несомненно, родственных мессианизму. Почему бы он постеснялся рассказать и о движении, связанном с Иисусом Христом?!
Одно из оснований к признанию историчности Христа Робертсон усматривает в том, что «ни один из античных авторов, высказывания которых нам известны, не сомневается в историческом существовании Иисуса»[148]. Это несколько странное возражение хотя бы потому, что эти авторы, о которых идет речь, вообще не пишут о Христе. Если они о нем ничего не знали, то и выражать сомнение в его существовании они никак не могли. Что же касается писателей II века н. э., то в некоторых из их произведений такие сомнения выражались, хотя и в отраженном виде. Мы знаем, правда, лишь один такой случай. В апологетическом сочинении Юстина «Диалог с иудеем Трифоном» его собеседник говорит: «Вы следуете пустой молве, вы сами себе выдумываете Христа… Если он и родился и существовал где-нибудь, он во всяком случае совершенно никому не известен»[149]. Но независимо от этого можно представить себе, что во II веке христианская легенда уже достаточно прочно укоренилась, чтобы затруднить критическое отношение к представлению о лежащей в ее основе исторической фигуре.
В качестве своеобразного курьеза можно привести соображение Робертсона, относящееся к Папию Гиерапольскому. Он приводит заявление Папия о том, что тот обычно старается расспрашивать «старцев» об Иисусе и его учениках. Нам нет необходимости, — многозначительно говорит по этому поводу Робертсон, — здесь подробно анализировать этот отрывок из сочинения Папия. Но мы можем хотя бы поставить вопрос, расспрашивал ли он о мифических личностях. И дальше автор заявляет, что исторический Иисус нужен науке хотя бы для объяснения таких отрывков, как этот[150]. А по существу, здесь и объяснять нечего. Папий-то ведь считал Иисуса и его учеников историческими личностями, он о них и расспрашивал. Но для нас это мнение Папия совсем, не обязательно, как, с другой стороны, необязательно и опровергать его.
Таким образом, доводы А. Робертсона в пользу исторического существования Христа оказываются весьма шаткими. Советский историк С. Ковалев в своем предисловии к русскому изданию книги Робертсона дал убедительное опровержение всей его аргументации. Впрочем в некоторых случаях сам английский автор довольно неуверенно высказывает свое убеждение в историчности Христа. «Нет, — говорит он, — ничего невероятного в утверждении, что Понтий Пилат, прокуратор Иудеи при Тиберии с 26 по 36 год н. э., приказал распять Иисуса Назорея…»[151]. Конечно, ничего невероятного в этом нет, но вряд ли кто-нибудь настаивает на «невероятности» такого события. А в заключении книги Робертсона мы находим такое неожиданное заявление: «Вокруг распятого вождя этого (христианского. — И. К.) движения или, что более вероятно, вокруг слившихся легенд о нескольких вождях был создан первоначальный евангельский рассказ»[152]. Одним словом, «кто-то прошел», и даже не один «кто-то», а несколько. Против такой концепции спорить не приходится: конечно, в христианстве, как и в любом другом общественном движении, участвовали люди — многие «кто-то», и среди них были некоторые, игравшие более значительную роль, чем остальные, но из этого совершенно очевидного положения вовсе не следует, что главным среди них был не кто иной, как евангельский Иисус Христос.
При всем этом мы все же не отвергаем совершенно категорически вариант «кто-то прошел». Он не невозможен. Все дело — в степени вероятности. Более вероятным, чем этот вариант, при современном состоянии источников нам представляется другой, к изложению которого мы и приступим.
Наиболее правдоподобный вариант
С тех пор как история древних евреев поставила их перед тяжелыми и страшными переживаниями, их религиозная фантазия получила сложную нагрузку: она должна была объяснить то странное положение, при котором избранный богом народ подвергается таким ужасающим неприятностям. Ведь это тот народ, которому бог Яхве раз навсегда обещал свое полное покровительство во всей его жизни — он размножит его до численности песка морского, он обеспечит его экономическое процветание и господствующее положение в мире; все остальные народы должны будут преклоняться перед величием Израиля и безропотно служить ему. И ничего из этой блестящей перспективы не осуществилось.
Можно было еще оставить в тени вопрос о морском песке как единице исчисления роста израильского населения. Но настоятельно требовали своего объяснения вопиющие факты внешних и внутренних несчастий и бедствий, обрушившихся на «народ святых». Внутри этого народа наряду с кучкой богатых землевладельцев, ростовщиков и жрецов была масса вечно голодной бедноты, малоземельных или вовсе обезземеленных крестьян, полунищих и нищих ремесленников, лишенных всякого имущества рабов. Как и всюду в классовом обществе, богачи грабили бедняков, и не было на них управы…
Тяжелые удары один за другим обрушивались на израильский народ и его государство со стороны мощных соседей. В конце VIII века до н. э. одно из еврейских государств (северное, собственно Израиль) пало под ударами завоевателей-ассириян. Его население было угнано в плен, а на его место пришли чужеземные поселенцы, осевшие на этой части «земли обетованной». Через сто с лишним лет такой же участи подверглось и другое еврейское государство (южное, Иудея). Его завоевал могущественный Вавилон. Главная святыня избранного народа — храм Соломона — был разрушен завоевателями дотла. Верхушка населения была угнана в вавилонский плен. И хотя через полстолетия сам Вавилон оказался, в свою очередь, жертвой нового завоевателя — Персидского царства — и изгнанники получили возможность вернуться на родину, Иудея все же оставалась порабощенной. После этого на протяжении столетий лишь менялся тот завоеватель, который в данный момент господствовал над еврейским народом: Персия. Македонская держава, египетские Птолемеи, сирийские Селевкиды и, наконец, к тому времени, к которому относят жизнь и гибель Иисуса Христа, рабовладельческая Римская империя. Правда, был и почти столетний просвет в этом чередовании иноземных поработителей: с середины II века до н. э. до 63 года до н. э. еврейское государство было самостоятельным, в нем царствовала династия Хасмонеев. Ничего хорошего, однако, «свое» государство народной массе не принесло, ее положение оставалось таким же бедственным. И оно еще более ухудшилось, когда Иудея подпала под владычество Рима, который, как мощный насос, выкачивал из страны ее жизненные силы.
Все попытки сопротивления внешним и внутренним поработителям ни к чему не приводили. Многократные восстания жестоко подавлялись, и их участники подвергались беспощадному истреблению.
Как же можно было объяснить такое невыполнение богом Яхве взятых им на себя обязательств? Во всяком случае, не его неверностью или, тем более, коварством. Виноваты сами люди, которые нарушают свои обязательства в отношении бога и тем вызывают его праведный гнев. Народ Израиля перестал быть святым, он постоянно нарушает условия договора с Яхве — служит иным богам, не выполняет преподанные ему через Моисея заповеди, позволяет себе всякие бесчинства и непотребства. Те несчастья, которые из года в год и из столетия в столетие обрушиваются на его голову, ниспосылаются на него самим богом, так что вавилоняне, персы и все прочие, вплоть до римлян, являются только инструментами в руках господа.
Где же выход? Или навеки погиб народ Израиля? С таким решением вопроса религиозная фантазия мириться не может, она конструирует несравненно более утешительное решение. Божий гнев не вечен, он должен уступить свое место милости и прощению. Раньше или позже будет приведен в действие механизм этого прощения, он будет осуществлен через мессию.
Слово «мессия» (древнееврейское «машиах») означает в переводе на русский язык «помазанный» или, как принято говорить, помазанник. Имеется в виду обряд помазания головы благовонными маслами, который выполнялся у древних евреев над вступавшим на престол царем. Речь идет, таким образом, о человеке, который должен стать иудейским царем и, возглавив обретшее независимость еврейское государство, привести избранный народ к благоденствию и процветанию. Все остальные государства, в том числе те, которые до сих пор господствовали над евреями, будут посрамлены и покорно склонят свои головы перед народом святых. В ряде ветхозаветных книг ярко выражена надежда на наступление этого счастливого времени.
В книге Исаии содержится знаменитое пророчество: «И будет в последние дни, гора дома господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы, и скажут: прийдите, и взойдем на гору господню, в дом бога Иаковлева, и научит он нас своим путям; и будем ходить по стезям его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово господне из Иерусалима. И будет он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» (II, 2–4). Всеобщий мир и благоденствие будут достигнуты лишь ценой того, что помазанник (в переводе на греческий — христос) подчинит весь мир избранному народу.
Первоначально имеется в виду при этом не сверхъестественное существо, а реальный человек, государственный и военный деятель, который будет действовать реальными же средствами. Конечно, ему будет обеспечено полное содействие со стороны потусторонних сил. И помимо того, сам момент его появления и время его деятельности, да и выбор богом именно данного человека для выполнения столь высокой миссии — все это относится к области небесного соизволения. Но этим и ограничивается сверхъестественный характер миссии и деятельности помазанника.
Даже в сравнительно позднем ветхозаветном документе — в книге Даниила, появившейся около 165 года до н. э., — перспектива воцарения мессии связывается с реальной военной победой над сирийскими властителями Иудеи.
И все же с течением времени фигура мессии в религиозной фантазии евреев приобретает все менее земные и все более сверхъестественные черты. Его образ все более приближается к характеру ниспосланного богом на Землю небожителя, по своему рангу не то подобного ангелу, не то приближающегося к самому богу. Еще у Исаии мы находим место, где само рождение мессии облекается в форму туманной и абстрактной тайны: «Младенец родился нам, сын дан нам; владычество на раменах его, и нарекут имя ему: чудный, советник, бог крепкий, отец вечности, князь мира» (IX, 6). Здесь мессия чуть ли не отождествляется с самим богом. Впрочем, несколько дальше сказано, что «ревность господа Саваофа соделает это» (IX, 7). Не исключено, что место, возводящее мессию в высочайшую степень, является позднейшей вставкой в текст Исаии, датируемый концом VIII века до н. э. В апокрифической книге Еноха, относящейся к самому началу н. э., мессия выглядит уже как существовавший «от века».
Вместе с тем образ мессии претерпевает и другое важнейшее изменение: наряду с победоносным воителем, который объединит свой народ и поведет его к решительной победе над всеми врагами, появляется в религиозной фантазии образ мученика, который ценой своих страданий искупит грехи народа божьего и таким путем приведет его к благоденствию.
Общий облик мессии-страдальца начертан уже в книге Исаии. Там говорится о существе, в котором нет «ни вида, ни величия»; это «муж скорбей и изведавший болезни», презираемый людьми и ни во что не ставящийся ими. «Но он взял на себя наши немощи, и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен богом». До сих пор речь идет о каких-то болезнях, которым подвергался страдалец со стороны самого бога. Но дальше дело его истязания берут на себя уже люди. «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих; как овца веден был он на заклание и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». В конце концов он «претерпел казнь», причем, хотя «ему назначали гроб с злодеями, но он погребен у богатого». Все это было сделано во исполнение воли бога, которому «угодно было поразить его» (LIII, 3—10). За свое мученичество таинственный «Он» должен получить великую награду — «он узрит потомство долговечное, и воля господня благоуспешно будет исполняться рукою его»; «он получит часть между великими и с сильными будет делить добычу…» (LIII, 12).
Почему так эволюционировал образ мессии? Здесь действовали два ряда закономерностей: социально-исторические и собственно идеологические.
В ходе исторического развития, по мере того как реальные претенденты на роль мессии регулярно терпели поражения и погибали, по мере того как на протяжении столетий мечта о восстановлении израильского царства обнаруживала свою явную неосуществимость, содержание мессианского учения неминуемо должно было меняться. Реальные земные факторы должны были в сознании верующих уступать свое место сверхъестественным силам, которые могут совершить то, на что неспособны обыкновенные люди, — даже с помощью бога. Особенно ярко сказывался процесс описанной выше эволюции образа мессии в периоды социальных и военно-политических кризисов, связанных с поражениями народных масс в классовой борьбе и всего народа — в национально-освободительных восстаниях. Некоторые исследователи считают, что представления о земном характере грядущего мессии дольше держались среди евреев Палестины, притом преимущественно среди привилегированных слоев, а в диаспоре и особенно среди наименее обеспеченных классовых группировок еврейского населения быстрей и легче распространялся образ мессии как небесного избавителя.
Те же причины исторического порядка обусловливали и формирование образа мессии-страдальца. В реальной действительности победоносный спаситель никак не появлялся, а соотношение сил в существовавшей тогда обстановке делало даже неправдоподобным его появление. Идея спасителя-победоносца явно не выдерживала испытания практикой. В этом отношении сильней ее оказывалась идея мессии-страдальца.
Мессианские чаяния выражались не только в устной традиции, они жили не только в мечтах людей и в поучениях жрецов, они нашли и литературное выражение в ряде документов и сочинений, многие из которых дошли до нашего времени.
В библейских книгах Пророков непрестанно звучит мотив — ждите, сыны Израиля, придет посланец Яхве и осуществятся все обеты божьи, данные избранному народу. Получает большое распространение апокалиптическая литература, произведения которой не вошли потом ни в иудейский, ни в христианский канон. Пророчества о близком приходе мессии составляют основное содержание этих книг.
Одной из них является апокрифическая книга Юбилеев. Точная датировка ее неизвестна; возможно, что она была написана в середине I века н. э. В ней подробно описывается то царство благодати, которое наступит после прихода мессии: исчезнет Сатана с его воинством, некому будет поэтому вводить людей в грехи и в связанные с ними страдания; праведники (собственно — народ Израиля) будут без конца наслаждаться всеми мыслимыми благами, удовольствие от которых будет постоянно усиливаться зрелищем казней, переживаемых врагами божиими. Такого же рода и апокриф «Вознесение Моисея», появившийся, вероятно, в первом десятилетии нашей эры.
Особенно интересным памятником иудейской мессианской апокалиптики является апокрифическая книга Еноха. Ее авторство было приписано не кому иному, как тому ветхозаветному патриарху Еноху, отцу Мафусала, который после 365 лет жизни был взят живым на небо. Находясь там, он, конечно, имел возможность быть в курсе важнейших событий небесного и земного царства, а также и намерений Всевышнего. Написана книга была, по всем данным, в первой половине I века н. э., а некоторые главы, может быть, вписаны в нее еще позже. В книге Еноха много такого, что непосредственно перекликается с содержанием и даже формой новозаветных книг.
Не менее интересное произведение мессианской литературы — «Сивиллины книги».
Среди греков и римлян последних столетий до нашей эры была распространена вера в некую мифическую пророчицу Сивиллу, предсказания которой, зафиксированные в ряде книг, пользовались большой популярностью. До нашего времени дошло 14 книг Сивиллиных оракулов, время составления которых охватывает около 400 лет — два века до н. э. и два — н. э. Часть этих книг имеет грекоязыческое происхождение, часть — иудейское, часть — христианское. Для нашей темы представляет особый интерес иудейско-сивиллина апокалиптика.
Иудейские разделы Сивиллиных книг появились в Александрии около 140 года до н. э. По своему духу и стилю они представляют собой сочетание греческих и иудейских мотивов. Мессианская идея выражена в них с большой яркостью и силой. Автор обращается к Греции и грекам с бурными обличениями в нечестии и беззаконии. Погрязшему в грехах миру он противопоставляет благочестивых, которые чтят храм всемогущего бога возлияниями, жертвенным мясом, священными гекатомбами, жертвоприношениями упитанных тельцов. Им-то бог и пошлет предводителя, явление которого ознаменует решительный поворот во всей всемирной истории.
Нельзя сказать, чтобы предсказания пришествия мессии, содержавшиеся и в библейских, и в библейско-апокрифических, и в Сивиллиных книгах, отличались конкретностью и определенностью. Больше того, для них характерна именно чрезвычайная расплывчатость и неопределенность. Огромное число вариаций разыгрывалось фантазией вокруг нескольких основных мотивов, касавшихся представлений и о самой личности грядущего Спасителя, и о характере его деятельности, и о сроках его прихода. Можно указать лишь на некоторые основные общие положения, вырисовывающиеся в этом тумане.
Пришествие мессии, как правило, связывалось с таким радикальным переворотом в судьбах мира и человечества, который равносилен «концу света», фактически — старого света, старого порядка вещей. Отсюда — представление о неизбежности страшных катастроф космического масштаба, завершением которых явится суд над всеми живыми и мертвыми.
Это будет праведный суд. Он приведет к беспощадной расправе над грешниками и беззаконниками, он доставит вечное блаженство праведникам и вообще хорошим людям. И здесь-то сказывается демократический характер мессианской идеологии. Грешники — это прежде всего богатые и сильные, обижающие и угнетающие простых людей. Угнетенные мечтают не только о космическом, но и о социальном перевороте; приход мессии сулит им и изменения общественного порядка, характер которых довольно темен, но о которых можно во всяком случае думать, что в результате их будут сведены извечные счеты бедных с богатыми.
Когда же это наступит? Когда, наконец, придет небесный спаситель и осуществит то, чего не под силу добиться людям собственными средствами? Сроки указываются самые различные — от очень близких до сравнительно дальних. Книга пророка Даниила при помощи сложных вычислений устанавливает срок в 42 месяца. Так как она была написана в середине 60-х годов II века до н. э., то уже в середине этого столетия людям нужно было либо признать исполнение пророчества несостоявшимся, либо при помощи сложной казуистики перетолковать датировку таким образом, чтобы светопреставление откладывалось на значительно более поздние сроки. Книга Еноха указала достаточно точную дату грядущего конца света— 10000 лет со дня сотворения мира. В «Вознесении Моисея» сообщается, что от смерти Моисея до пришествия мессии должно пройти «250 времен»; если «времена» рассматривать по традиции как семилетия, то нетрудно установить точную дату (1750 лет), но и эта дата прошла уже в первые столетия нашей эры. Более удобной оказалась неопределенная датировка, выдержанная в загадочных и многозначительных выражениях: «в конце времен», «в назначенное время», «в час решения»… И чем напряженней был исторический момент, чем более бурными были переживаемые людьми потрясения, тем ближе представлялась перспектива неминуемых страшных, но спасительных событий, в предвидении которых надо каяться в грехах и готовиться к окончательному расчету с богом.
В книгах Пророков содержалось указание на еще один ориентир, который должен был сигнализировать о близости прихода мессии: этому всемирно-историческому событию должно предшествовать возвращение на Землю пророка Илии, в свое время вознесенного богом живьем на небо. «Вот, сказано в книге Малахии, я пошлю к вам Илию-пророка пред наступлением дня господня, великого и страшного» (IV, 5). Из этого вытекало, что только с появлением на Земле пророка Илии следовало ждать развертывания решительных событий, связанных со светопреставлением. Практически это, однако, не ограничивало действия проповедников, предсказывавших пришествие мессии в самом ближайшем будущем или даже утверждавших этот приход как свершившийся факт, ибо недостатка в личностях, претендовавших на ранг Илии-пророка, во все времена не было. Это были либо реальные люди — фанатики, полусумасшедшие или просто обманщики, — либо просто имена несуществующих и никогда не существовавших людей. Для того чтобы в народе пошла молва о грядущем в самые ближайшие дни или уже свершившемся приходе мессии, вовсе не надо было появления реального Илии: достаточно было такой же, с трепетом передавшейся из уст в уста молвы о том, что предтеча мессии Илия уже действует на Земле, проповедует и призывает людей достойно, во всеоружии, т. е. покаявшись во всех грехах своих, встретить мессию.
Так сложилась обстановка, довольно ярко охарактеризованная французским историком христианства А. Ревилем. Он писал, что несчастья, унижения, угнетение, которые пришлось испытать иудейскому народу в последний век до рождества Христова и в первые годы после него, естественно, должны были придавать особенную ценность вере в мессию. Эта надежда возбуждала в высшей степени, но в то же время и успокаивала, в зависимости от настроения тех, кто ею питался[153].
Первые две трети I века н. э. Иудея буквально клокочет в волнениях и народных возмущениях, пока в 66 году н. э. эти волнения не сливаются в мощную и грозную бурю первой Иудейской войны. Что же касается атмосферы пассивного ожидания прихода мессии, то она представляла, конечно, наилучшие условия для возникновения и распространения любых мессианских легенд, в частности и легенды об Иисусе, считать ли его действительно существовавшей или мифической личностью. Но и атмосфера нетерпеливого, активного, напряженного ожидания мессии тоже была весьма благоприятна для широчайшего распространения «евангелий» (буквально — «благих вестей») о нем в кругах еврейского населения Римской империи.
Страшные поражения, которые потерпели евреи в двух последовательных антиримских восстаниях — в 66–73 и 132–135 годах, — не могли не усугубить атмосферу горестного разочарования в земных реальных средствах борьбы и не усилить ожидания сверхъестественного спасения. Мессия-человек, по меньшей мере, на время окончательно потерял кредит у евреев как в Палестине, так и в диаспоре. И соответственно возрастали надежды на мессию-бога, соответственно делалось все напряженнее ожидание его появления и начала выполнения им его великой миссии.
Важна, однако, не только та атмосфера, которая царила среди евреев. Через очень короткое время после того, как христианство зародилось среди них, сферой наименьшего сопротивления его распространению оказались другие народы греко-римского мира. Иудаизм не превратился в христианство, наоборот, он оказал ему сопротивление, со временем все более возраставшее. Скоро немногочисленные контингенты иудео-христиан и христиан из иудеев уже буквально тонули в массе новообращенных из среды язычников. Были ли те так же подготовлены исторически и психологически к восприятию идей мессианизма? На этот вопрос можно уверенно дать утвердительный ответ. Эти идеи были не менее популярны в их идеологии и в их религиях, чем в иудаизме.
В самом основании религии заложена надежда на ту помощь, которую слабый и беспомощный человек может получить от потусторонних сил, от небесного или, во всяком случае, сверхъестественного спасителя. Но в повседневной действительности роль этого спасителя не проявляется: живется плохо, правды и справедливости бедному человеку добиться невозможно, на головы людей непрестанно обрушиваются всевозможные бедствия природного и социального характера. Отсюда вывод — по причинам, которые известны только высшим силам, небесный спаситель до поры до времени не обнаруживает своего существования и не вмешивается в реальный поток жизни. А может быть, он еще не родился на Земле или, в большем соответствии с наиболее распространенными религиозными воззрениями, не сошел со своего непостижимо таинственного «высока» на нашу многострадальную Землю, не воплотился в человеческом образе? Тогда надо ждать в будущем этого вожделенного события. Или, может быть, спаситель уже здесь, и дело только за тем, чтобы благоденственные последствия его явления сказались во всей своей силе…
Ярко выразилась идея грядущего спасения людей в результате неизбежной победы сверхъестественного доброго начала над таким же злым — в религии древних персов. Решающую роль должен был сыграть в этом, по их представлениям, небесный спаситель Саошиант — «сын девы». Когда наступит время, заранее назначенное добрым богом Агурамаздой, явится на Землю Саошиант, — возможно, что он отождествлялся с богом Митрой, — и наступит конец старого мира, в котором такую большую роль играет зло. В ужасающем сражении Саошиант разгромит злого бога Ангрумайнью и ввергнет его вместе со всем его воинством в преисподнюю. При этом воскреснут все ранее жившие на свете люди и предстанут перед божественным судом. Грешники вместе с воинством Ангрумайньи во главе с ним самим будут в течение тысячи лет отбывать наказание в аду, после чего они будут прощены, даже сам «отец зла» примирится с добрым богом Агурамаздой, и настанет, наконец, то царство добра и благоденствия, о котором всегда с тоской мечтало изнемогавшее в страданиях человечество.
Чаще всего в религиозных верованиях древности личность бога-спасителя связывалась с представлением о царе.
Еще в Египте фараоны рассматривались, как живые боги. В некоторых мифах утверждалась божественность даже самого происхождения фараона. К молодой царице являлся в образе ее мужа величайший бог местности. Она просыпалась от окружающего его благовония и улыбалась ему. Тогда он приближался к ней в своем настоящем виде и «делал с ней все, что ему угодно было», а затем покидал ее с обещанием, что она родит сына, который будет царем Египта. Рождался, таким образом, царь-бог, хотя и не вполне непорочно, но все же непосредственно от бога, а мать его получала заранее «благовещение» о предстоящем ей величайшем событии — рождении бога.
Богом с полного его согласия был объявлен и Александр Македонский. По его стопам пошли и «диадохи» — преемники Александра на тронах возникших после его смерти эллинистических государств.
В культе эллинистических богов-царей довольно ясно выражены уже идеи, которые в некоторых отношениях ставят его ближе к христианству, чем даже иудейский культ мессии.
Здесь впервые формулируется идея спасения в смысле спасения души. Над человеком начинает тяготеть озабоченность не только по поводу условий его земного существования, но и по поводу его загробного будущего: удастся ли ему после смерти избежать страданий, связанных либо с грядущими перевоплощениями его души, либо с адскими наказаниями за неблагочестивую земную жизнь? Надежда на это спасение черпалась верующими из одного сознания того, что их царь-спаситель в загробном мире будет управлять ими так же, как он это делал в земном бытии. Не всегда, вероятно, подданные были довольны управлением своих царей, но при всех условиях это было чем-то знакомым и, значит, не таким уж страшным.
Сформировался в этих представлениях также образ бога-сына. Каждый из царей-спасителей признавался порождением того или другого «настоящего» бога, и его миссия заключалась преимущественно в посредничестве между богом-отцом и людьми. Одновременно выкристаллизовывалась и идея земной женщины, сподобившейся величайшей миссии богоматери, причем способ рождения ею божественного младенца с течением времени все более спиритуализировался, пройдя путь от картины обычного полового акта, — правда, с необычным партнером, — до совершенно бесплотного непорочного зачатия.
Важный материал для формирования в дальнейшем христианского образа мессии могла дать и возникшая в эллинистических религиях идея воплощения божества в человеческом образе: оно должно было в этом образе пройти земное человеческое поприще и лишь после смерти могло воссоединиться с другими обитателями Пантеона. Следует подчеркнуть, что чести быть вместилищем божественной сущности удостаивались в религиозной фантазии того времени лишь представители царствующих родов.
Культ богов-царей нашел свое распространение и в императорском Риме. Уже начиная с Юлия Цезаря императоры требовали, чтобы их рассматривали как божественные существа. Впрочем считалось, что еще задолго до установления империи римлянами управляли если не стопроцентные боги, то герои-полубоги. Некоторые из них совершали подвиги под стать тем, которые впоследствии евангелиями были приписаны Христу. Так, например, один из основателей Рима Ромул на глазах у одного сенатора сначала внезапно исчез, а потом тут же поднялся на небо, где вполне зримо занял свое место среди богов. Тем не менее известное постоянство институт богов-царей приобрел лишь в императорскую эпоху. Богами оказывались не только такие личности, как Цезарь и Август, но и полусумасшедшие Калигула и Клавдий, кровопийца Тиберий, не менее кровавый Нерон и подобные им выродки. Для анализа нашей темы здесь, однако, более важен сам принцип, чем реальные формы его воплощения. Человек оказывался богом, его миссия была связана с задачей «спасения» людей. Само его появление на свет означало «благую весть» (евангелие) для всех.
Вырабатывалась и та терминология, которая в дальнейшем была канонизирована христианством. В надписи, запечатлевшей предписание властей об установлении праздника дня рождения императора Августа (9 г. до н. э.), мы читаем: «День этот придал всему миру новый вид; мир был бы обречен на гибель, если бы в лице родившегося ныне не воссияло общее счастье для всех людей… Провидение, царящее над миром… послало его нам и грядущим поколениям как спасителя… День рождения этого бога был для всего мира началом евангелий, исходивших от него, с его рождения должно начинать новое времяисчисление»[154]. Если даже отбросить шелуху славословия, порожденную придворным и чиновным пресмыкательством, то все же остается факт употребления в отношении к человеку таких словесно-молитвенных форм, которые в скором будущем стали применяться христианством в отношении к Иисусу Христу. Напомним, что в евангелиях последний именуется царем иудейским, речь идет, таким образом, о царе-боге.
Приведенные нами примеры из истории культа царей-спасителей относятся к реальным историческим личностям, лишь возведенным религиозной фантазией в сан богов.
В еще большем числе случаев в роли царя-бога и мессии выступали не живые люди, а мифологические персонажи, пустые имена. В Египте спасителем людей был Серапис, он же Озирис; была здесь и богоматерь — Изида, которая, впрочем, одновременно считалась и супругой бога. В Малой Азии роль спасителя играл Аттис, богородицы — Кибела. У вавилонян такими богами считались Таммуз и Мардук. Оба они, как гласили мифы о них, умирали весной, а затем воскресали. По случаю их смерти происходили массовые траурные церемонии, сопровождавшиеся громким плачем толп богомольцев. У финикиян аналогичную роль играл Адонис, в Тире — Мелькарт. Близкие по содержанию мифы и культы зафиксированы в ряде малоазийских городов-государств.
Особенно большое распространение имел культ фригийского бога Аттиса. Любопытно, что еще в 54 году н. э. он был императором Клавдием зачислен в число официальных религий Римской империи, что нашло свое отражение в государственном календаре праздников. Аттис погибал в результате происков ревнивой богини Кибелы и воскресал на третий день после смерти. Неистовые траурные церемонии, начинавшиеся 22 марта, через три дня сменялись столь же необузданными торжествами по случаю воскресения бога. Обряды, связанные с этим культом, кстати сказать, весьма близко напоминают пасхальные обряды христианской церкви. Изображение Аттиса хоронили, потом в момент, соответствующий воскресению бога, в храме вдруг зажигался яркий свет, и гроб, в котором было похоронено изображение божества, в знак воскресения последнего открывался, после чего начиналось общее веселье. В Греции с мифами об Аттисе и соответствующими культами перекликался мифологический и культовый комплекс Диониса, в Египте — Озириса. В сознании людей эти, несомненно, мифологические персонажи обретали черты когда-то живших на Земле реальных существ.
Оппонент. Вот где еще одно слабое место в вашей концепции! Обожествление действительно жившего на Земле человека было в самом деле широко распространено в греко-римском мире, а с очеловечением божества дело, оказывается, значительно сложней. Поскольку это так, то факт превращения бога Христа в человека Иисуса выглядит единственным в своем роде и, следовательно, маловероятным.
Автор. Именно — поскольку. Но это совсем не так.
Известно религиозно-философское течение, связанное с именем Эвгемера, греческого философа IV–III веков до н. э. Учение, получившее свое название от его имени («эвгемеризм»), не было им основано, оно существовало задолго до него, а он, как пишет французский историк Г. Буасье, «просто изложил его в одном сочинении, которое легко читалось и пользовалось большой популярностью»[155]. Идея этого сочинения заключалась в том, что все боги Олимпа и римского Пантеона были когда-то людьми. Юпитер, Сатурн, Кадм, Венера, и другие — все имели земные биографии. В частности, Кадм был поваром у сидонского царя, а Венера, разумеется, обычной развратной женщиной; чтобы не быть исключением среди других женщин острова Кипра, на котором она жила, Венера совратила с пути целомудрия и все остальное женское население этого острова.
Может быть, эвгемеризм остался в греко-римском мире единичным и изолированным явлением? Буасье сообщает, что Энний перевел роман Эвгемера; с тех пор эта система сделалась вполне известной римлянам и была, кажется, принята ими беспрекословно. Римляне принялись наперебой очеловечивать своих богов. Не будем приводить имеющийся по этому вопросу обильный фактический материал, ограничимся лишь общей характеристикой римской религии этого периода, сделанной французским исследователем: «Все приняло в ней до невероятности точный вид. Казалось, самые невероятные выдумки не отличались здесь от самых достоверных рассказов…»[156]. Порожденные фантазией земные биографии богов не только передавались изустно, но и запечатлевались в литературных произведениях во всей своей конкретности, с массой деталей и жизненных реалистических штрихов. Обилие и точность биографических деталей, относящихся к земной жизни эвгемеристических богов, никак не уступает описанным в евангелиях элементам биографии Иисуса.
Отдельные явления истории идеологии, и в частности истории литературы, показывают удивительное сходство с христианством и с образом Христа, обнаруживаемое в дохристианской культуре. Дело в некоторых случаях доходит до того, что христианские богословы вынуждены признавать своими явления, безусловно, предшествовавшие христианству и имеющие совсем иное происхождение. Это относится, в частности, к одному произведению римского поэта I века до н. э. Вергилия.
Знаменитый автор «Энеиды» сделал содержанием IV эклоги своего сборника «Буколики» поэтическое возвещение предстоящего рождения некоего божественного младенца, несущего людям смену железного века золотым. Раннехристианская церковь считала IV эклогу почти или даже прямо христианским произведением. Блаженный Августин, цитируя некоторые места ее, утверждал, что они могли относиться только к Христу: к кому иному мог обратиться человек с такими словами?! На Никейском соборе император Константин в своей речи даже привел большие цитаты из Вергилия — ими он аргументировал тезис о божественности Христа. А может быть Вергилий действительно имел в виду самого основателя христианства?
Если не исходить из возможности чуда, то следует безоговорочно признать, что христианство здесь ни при чем. К тому же Вергилий предсказывал рождение чудесного ребенка на самый год написания эклоги, а Христос, если верить евангелиям, родился лишь через 40 лет. «Такая ошибка, — иронически отмечает Буасье, — была бы не извинительна для пророка…»[157].
Вергилий признан христианской церковью если не пророком, то, по меньшей мере, прозорливцем. В средние века он даже ставился в ряд с Моисеем, Исаией, Давидом и другими ветхозаветными персонажами, якобы предсказавшими рождение Христа. А на самом деле Вергилий лишь выразил широко распространенные идеи и чаяния своего времени. И конечно, такие литературные произведения, как его IV эклога, сыграли известную и, может быть, немалую роль в подготовке идеологических условий для распространения учения о новом мессии.
Если случай с IV эклогой доставил немало хлопот отцам церкви, то еще более трудным оказалось объяснить многочисленные другие случаи совпадения евангельских сказаний с мифами более древнего происхождения. Они видели необходимость как-нибудь объяснить такой конфузный факт, по существу дискредитирующий идею не только уникальности, но даже просто независимого оригинального происхождения христианства И вот. например. Фирмик Матерн утверждал, что язычники пытаются подражать христианству в своих культах и подменять богооткровенные истины этой религии своими нечестивыми россказнями. При этом он, конечно, отвлекался от факта, который и тогда уже был всем известен, что «язычество» куда древнее христианства, так что если здесь и имеет место подражание, то совсем противоположного порядка. Тертуллиан объяснял компрометирующее единоспасающую христианскую веру положение кознями дьявола: он, враг рода человеческого, распространял среди своих приверженцев воззрения предвосхищающие христианство, специально в целях дискредитации последнего. Этого уж, конечно, ничем не опровергнешь… Но для научного рассмотрения вопроса вряд ли кто-нибудь примет всерьез такое объяснение.
Надо указать на один элемент древних культов, который мог в еще большей мере облегчить тогда восприятие легенды о Христе, — в этих культах было обычным делом приношение отцом своего сына в жертву божеству Общеизвестен культ финикийского бога Молоха, медная статуя которого питалась сжигаемыми в ее раскаленном чреве детьми. В Ветхом завете сохранились многочисленные указания на приношение в жертву детей, особенно первенцев, практиковавшееся не только у соседей Иудеи и Израиля, но и у самих древних евреев. То, что современному человеку может показаться до несуразности удивительным в воззрениях людей древности, для них в силу привычности таких взглядов было вполне нормальным и приемлемым. Нам, например, кажется более, чем странным представление, что бог приносит в жертву своего сына, тем более, что непонятно, кому он его приносит. А тогда это должно было восприниматься, как нечто довольно обыденное, ибо так уж повелось, что глава семьи в нужных случаях прибегает к этому культовому приему.
Посвятивший этому вопросу специальное исследование под названием «Страдающий бог в религиях древнего мира» М. Брикнер проводит ряд аналогий между древневосточными религиями и христианской легендой об Иисусе, из которых отметим следующие: 1) и там и здесь «в центре поклонения и культа стояла вера в смерть и воскресение бога спасителя, подчиненного высшему богу», а в некоторых из этих религий спаситель считался сыном высшего бога; 2) и здесь и там «смерть и воскресение бога имеют для верующих спасительное значение» — верующие рассчитывают получить в результате этой деятельности спасителя возможность собственного воскресения для вечной жизни; 3) даты смерти и воскресения богов-спасителей во многих случаях приходятся, как и в евангельской мифологии, на весну, а воскресение божества происходит на третий или четвертый день после его смерти[158].
Эти аналогии приобретают тем большее значение, что соответствующие культы были распространены особенно в тех местностях, где зафиксированы наиболее ранние христианские общины. Такой факт означает, что население этих местностей было исторически подготовлено не только к восприятию легенд, связанных с Христом, но и, может быть, к самостоятельному мифотворчеству в том же направлении.
Что же касается иудеев, то и для них восточные культы умирающего и воскресающего спасителя отнюдь не были чем-то новым и неслыханным. В Ветхом завете имеется много следов знакомства евреев с этими культами и с лежавшими в их основе мифами. У пророка Иезекииля упоминаются «женщины, плачущие по Фаммузе», т. е. по Таммузу. И занимаются они этим делом в самом неподходящем месте — у ворот Соломонова храма. Языческий культ проник, таким образом, в самую цитадель иудаизма. В Ветхом завете, помимо того, имеется еще много указаний на «идолопоклонство», с которым пророки, разумеется, ведут неустанную борьбу. Даже царь Соломон поддался искушению и через своих чужеземных жен приобщился к языческим культам. И другие цари иудейские и израильские, как свидетельствует Ветхий завет, неоднократно совращались в грех поклонения языческим богам. Следовательно, и для иудеев мифы об этих богах, в частности те, которые были связаны с погибающими и воскресающими спасителями, к началу нашей эры не могли быть неизвестны.
Из сказанного не вытекает, что христианское учение об Иисусе просто позаимствовано в одной из более древних религий. Это был бы неправильный вывод. Сказания и легенды, в которых нам предстает образ Иисуса Христа, возникли как комплекс представлений новой религии, вызванной жизнью, социально-историческими и прочими условиями. Важно лишь иметь в виду, что, во-первых, строительным материалом для этого нового идеологического комплекса могли служить давно ставшие привычными для народных масс представления и что, во-вторых, порождения религиозной фантазии раннего христианства, работавшей в том же направлении, ложились в привычную колею старинных, давно вошедших в обиход народных верований. Человеку второй половины I века н. э. не казались странными и удивительными идеи мессианизма, как и образы богов-царей, спасающих человечество. И когда общественно-историческая обстановка обусловила соответствующее идеологическое состояние, мессианские чаяния обездоленных и исстрадавшихся в реальной жизни людей находили уже готовые формы, отправляясь от которых, их фантазия могла строить дальше. Здесь сыграли свою роль ветхозаветные мессианские учения и многие верования и представления народов Древнего Востока и греко-римского мира.
Для создания синкретического образа мессии большого международного размаха и огромной впечатляющей силы религиозная фантазия народов Средиземноморья к первым векам нашей эры имела вполне достаточно строительного материала в дохристианских верованиях древности, и прежде всего в иудаизме. Нужны были только соответствующие социально-исторические условия, которые толкали бы ее к работе в этом направлении. А в них недостатка не было.
У всех народов Римской империи, порабощенных могучей рабовладельческой державой, условия общественно-исторического бытия складывались таким образом, что мессианские представления и легенды имели для своего развития чрезвычайно благоприятную почву.
Железное ярмо римского господства сковало многочисленные народы так, что у них не оставалось никакой надежды на освобождение реальными земными средствами. Поражения национально-освободительных движений и рабских восстаний создавали ощущение полной безнадежности вооруженного сопротивления. Оставалось надеяться только на помощь сверхъестественных сил. И пышным цветом расцветают в этот период мессианские культы на всей территории Римской империи. Ряд исторических обстоятельств привел к тому, что из всех этих культов наиболее приспособленным к укоренению и распространению среди широких масс населения Римской империи оказался иудейский мессианизм.
Легенда о Христе и связанный с ней культ были первоначально одним из вариантов иудейского мессианизма. Он не имел успеха среди евреев, ибо слишком силен был среди них дух ожидания обещанного пророками реального мессии-воителя, деятельного и храброго божьего посланца, под водительством которого рано или поздно избранный народ добьется своих целей. Но перебросившись в среду «иноплеменных», Иисусов вариант иудейского мессианизма очень быстро захватил широкие массы. Для этого он должен был претерпеть такие существенные изменения, что по существу перестал быть иудейским. И прежде всего он должен был фактически расстаться с концепцией избранности Израиля, превратившись в космополитическое религиозное учение. Должна была измениться и самая мотивировка мессианского спасения человечества.
Если в основе специфически иудейского мессианизма лежало положение, что мессия придет спасать избранный народ от последствий тех грехов, которые он совершил против избравшего его бога Яхве, то в нееврейской среде мессианская идея должна была найти другое выражение. И оно было найдено в учении, что все люди страдают из-за лежащего на них проклятия первородного греха и что мессия явится не в порядке примирения иудеев с Яхве, а в порядке искупления последствий греха Адама и Евы, с целью примирения всего человечества с универсальным вселенским богом. Одновременно с этим произошли такие изменения в культе, которые облегчили неевреям возможность присоединения к новой религии: были упразднены многочисленные пищевые и прочие запреты иудаизма, отменено обрезание. В итоге новая религия полностью порвала свою связь с иудаизмом.
Распространение христианства среди многочисленных народов Римской империи вызвало и ассимиляцию многих бытовавших у этих народов мифологических сюжетов, многих религиозных представлений, многих обрядово-культовых форм. И прежде всего это сказалось на иудейском по своему первоначальному происхождению образе мессии — Иисуса. На него стали наслаиваться, с ним стали переплетаться элементы образов и культов местных богов-спасителей, страдающих, умирающих и воскресающих богов. В итоге получился сплав большого количества элементов, составивших в целом образ Иисуса Христа.
Основой этого сплава являлся все же иудейский мессия, учение о котором было в общем виде достаточно противоречиво и туманно сформулировано в Ветхом завете. Об этом говорит то обстоятельство, что евангельское жизнеописание Иисуса самым активным образом опирается на ветхозаветные пророчества о грядущем приходе мессии.
Помимо общей идеи, из Ветхого завета прямо взяты многие отдельные штрихи и детали евангельских повествований. Иисус вступает в Иерусалим на ослице и молодом осле (Матф., XXI, 5). Как мы уже говорили, само по себе немного непонятно, как можно сидеть верхом сразу на двух животных. Но источник этой странной картины обнаруживается в книге пророка Захарии: «Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной» (IX, 9). В тех возгласах, которыми народ встречает «сына Давидова», — «благословен грядущий во имя господне», — повторяется один текст из псалма, гласящий буквально то же самое (Пс., CXVII, 26). Знаменитые тридцать сребреников, за которые Иуда предал Иисуса, предвосхищены у пророка Захарии: «И они отвесят в уплату мне тридцать сребреников» (Зах. XI, 12). Даже то употребление, которое нашел Иуда для этих денег — «бросил в храме», — мы находим у того же Захария, где сказано, что по совету бога «взял я тридцать сребреников и бросил их в дом господень…» (13). Слова Иисуса на тайной вечере — «один из вас, ядущий со мной, предаст меня» — перекликаются с псалмом, гласящим: «Даже человек… который ел хлеб мой, поднял на меня пяту» (Пс., XL, 10). В сцене распятия Иисуса тоже много такого, чему имеются прецеденты в Ветхом завете. Иисусу на кресте дают пить «уксус, смешанный с желчью», а в псалме сказано: «Дали мне в пищу желчь и в жажде моей напоили меня уксусом». (Пс., LXVIII, 22.) Предсмертные слова Иисуса на кресте прямо взяты из псалмов: «Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?» (Пс., XXI, 2). Фантастические картины Апокалипсиса тоже в некоторых случаях оказываются заимствованными из Ветхого завета и прежде всего из книги пророка Даниила. Так, например, зверь с семью головами, десятью рогами, десятью диадемами и богохульными именами, а также барс с медвежьими ногами и львиной пастью прямо взяты оттуда.
Эти совпадения можно толковать и по-иному. Для церковников и консервативных богословов здесь есть повод к тому, чтобы восславить мудрость ветхозаветных пророков, которые предвидели и предсказали имеющее произойти через несколько столетий. Но при научном подходе к вопросу такое его решение не может считаться приемлемым. Здравый человеческий рассудок требует сделать довольно элементарное, но очевидное умозаключение: одни документы написаны раньше, другие — значительно позже, первые были хорошо известны авторам вторых, и если в тексте есть совпадения, то значит, одни просто позаимствовали у других. Поэтому не так уж далеки от истины те историки и оперирующие научными методами богословы, которые считают, что при создании евангельской биографии Иисуса Христа были во многом использованы тексты Ветхого завета. Современный протестантский богослов Мартин Дибелиус сказал по этому поводу, что тексты Ветхого завета «творили историю», т. е. история самого Иисуса прямо построена на ветхозаветном тексте. Это надо признать в какой-то мере преувеличением, ибо помимо Ветхого завета было немало и других источников, которыми, видимо, питалась фантазия авторов новозаветных повествований.
Да и сама ветхозаветная идеологическая и вероисповедная система воспринималась к началу нашей эры не только в ее традиционном и буквальном смысле, но и в том аллегорическом значении, которое ей стали придавать со времен Аристобула и которое получило особое развитие в сочинениях Филона Александрийского.
Энгельс в согласии с Бруно Бауэром называл именно Филона отцом христианства. Каков мог быть вклад, который сделал Филон в формирование образа Иисуса Христа?
Основная религиозно-философская установка произведений Филона была гностическая. Одна из главных же идей гностицизма заключалась в том, что так как бог в силу своей безмерной возвышенности не имеет непосредственного отношения к низменному и презренно-грубому материальному миру, то связь между ним и миром осуществляется через некие посредствующие силы, одновременно плотские и духовные, таинственным образом исходящие от бога. В этих «гипостазиях», «зонах», «идеях» (по платоновской терминологии) воплощалась та или иная сторона или свойство бесконечного и непостижимого божества, принимая телесную, доступную для восприятия людей оболочку.
Наиболее популярными в разных течениях гностицизма были зоны или гипостазии, известные под греческими названиями София (мудрость) и Логос (слово). Понятие Логоса играло особенно большую роль в гностическом философствовании Филона. Именно Логос являлся у Филона посредником между богом и людьми, он характеризовался им как истолкователь божьих предначертаний, наместник бога, посланник его, первородный сын божий, а иногда и бог или второй бог. Эта концепция достаточно ярко отразилась в Евангелии от Иоанна, которое и начинается ссылкой на Логос — слово, которое «было у бога» и которое «было бог».
Логос — не человек, а некая мистическая сущность, сама по себе бестелесная. Но она может по велению бога воплощаться, облекаться в плоть, в человеческое тело. В этой его особенности открывалась возможность влияния гностических идей на мессианское учение. Мессия под этим влиянием легко превращался из человека, хотя и облеченного высшими полномочиями, но все же человека, в сверхъестественную сущность, лишь принявшую телесные формы. Соответственно изменялся самый характер ожидания людьми прихода мессии.
В тот сплав разнородных элементов, который составил образ Христа, иудейский гностицизм вложил свою лепту. Но его представление о мессии как Логосе, в своем чистом виде не могло составить основу этого образа. Для религиозно-мифологического представления оно было слишком философски утонченным и туманно бесплотным. Религиозное сознание масс требует образной конкретности, а не метафизических абстракций. Поэтому гностический Логос мог проникнуть в христианство только в переработанном и огрубленном виде. Энгельс указал на это существенное обстоятельство, говоря, что «христианство произошло именно из популяризированных филоновских представлений, а не непосредственно из произведений самого Филона»[159]. Он несколько раз подчеркивал «опошленную, вульгаризированную форму», которую приняли в христианстве гностические воззрения эллинистической философии, и настаивал вместе с тем на том, что при исследовании проблемы происхождения христианства их необходимо учитывать.
Для ортодоксального иудаизма обожествление человека было невозможно, ибо с точки зрения Ветхого завета это являлось бы неслыханным кощунством. В форме модернизированного для той эпохи филоновского иудаизма это выглядело как обожествление не конкретного существа, а абстрактного Нечто, исходящего из бога и заключенного в самом боге. При помощи таких построений «облагораживались» и могли делаться в какой-то мере приемлемыми для иудеев языческие представления о богочеловеках, призванных спасти род людской. Но только в какой-то мере, притом, как показала история, в небольшой мере, ибо христианство у евреев так и не привилось. Ему пришлось искать среду для своего распространения среди других народов Римской империи. Известно, что ему в полной мере удалось найти ее там.
Так «сплавлялись» в более или менее единый образ Иисуса Христа разнообразные черты религиозно-мифологических представлений разных народов о мессии-спасителе. Мы сказали о более или менее едином образе Христа, имея в виду, что по-настоящему единым он не стал. Зияющие в нем внутренние противоречия ярко демонстрируют многообразие источников его происхождения. Но все же в общем итоге получилось нечто новое — зафиксированный и канонизированный впоследствии в священных книгах и в догматике христианской религии евангельский Иисус Христос.
Его облик, как мы видели, не вырос на пустом месте, он был подготовлен всем предшествовавшим развитием. Таким же образом было подготовлено и его учение. Приписываемое ему евангелиями предсказание близкого конца света и связанные с ним призывы к покаянию, проповедь пренебрежения земными благами во имя заботы о спасении души в будущем царстве, враждебное отношение к богатству и богатым, любовь к ближнему и непротивление злу насилием в качестве основы морального кодекса — все это было уже в предшествовавших христианству религиозно-общественных движениях и учениях.
В романе португальского писателя Эса де Кейроша «Реликвия» раввин Гамалиил говорит о христианстве:
— Ну что во всем этом нового, что особенного? Или ты воображаешь, что назаретский равви извлек эти догмы из глубин своего сердца? Но ими полно наше вероучение!.. Хочешь услышать о любви, милосердии, равенстве? Прочти книгу Иисуса, сына Сираха… Все это проповедовал твой друг Иоканаан, который кончил столь печально в застенках Махерона (имеется в виду Иоанн Креститель. — И. К.)[160].
Действительно, раввин Гиллель, например, живший как раз в I веке н. э., проповедовал мораль, чрезвычайно близкую к духу нагорной проповеди. Известно, что, когда у него спросили, в чем суть того вероучения, которого он придерживается, Гиллель ответил:
— Не делай другому того, чего ты не хочешь, чтобы было сделано тебе. В этом весь закон, все остальное — лишь комментарий.
Но Гамалиил не напрасно упомянул о язычниках, хотя и сопроводил это упоминание презрительной оговоркой. И у них основы евангельской морали были до евангелий сформулированы достаточно четко. Вспомним в этой связи о римском философе-стоике Сенеке, которого Энгельс именно поэтому называл дядей христианства. Этот царедворец Нерона проповедовал мораль притчи о богатом и Лазаре, хотя сам был скорее богачом из этой притчи. Независимо, однако, от личных побуждений Сенеки, который был, несомненно, выдающимся образцом лицемера, его этическое учение мало чем отличается от евангельского. А кстати сказать, вряд ли не только современные, но и многие древние проповедники последнего в отношении лицемерия и расхождения слова с делом во многом уступали Сенеке…
В общем итоге мы видим, что строительного материала для создания образа Иисуса накопилось к началу нашей эры в общественной мысли разных народов вполне достаточно. Этот материал мог быть использован религиозной фантазией для обогащения облика действительно существовавшего человека, из него мог быть создан и мифологический образ. Первую из этих возможностей мы выше разбирали достаточно обстоятельно. Более правдоподобной мне представляется вторая.
Наиболее вероятным местом возникновения христианской легенды надо считать не Палестину, а одну из стран иудейской диаспоры — скорей всего Египет или Малую Азию. Первая по времени появления книга Нового завета — Апокалипсис — обращена к семи христианским общинам, находившимся в Малой Азии. Самые древние обрывки евангельских рукописей, имеющиеся в распоряжении ученых, обнаружены в Египте. Нет никаких доказательств того, что книги Нового завета были первоначально написаны на древнееврейском или арамейском языках, известен только их греческий текст, причем язык, которым они написаны, изобилует арамеизмами и гебраизмами. Это может свидетельствовать лишь о том, что их авторы были евреями, жившими вне Палестины, в пределах распространения эллинистической культуры, что они овладели языком этой культуры, но не настолько совершенно, чтобы их еврейское происхождение не давало себя чувствовать. Возражение, исходящее из того, что в Иудее греческий язык мог быть тогда в достаточной мере известен, так что книги Нового завета могли быть и там написаны по-гречески, не имеет силы: в Иудее того времени писали именно на арамейском, а не на греческом языке, тем более если соответствующие произведения предназначались для распространения в народных массах, которые, конечно, по-гречески читать не умели.
Представим себе идеологическую обстановку в городах еврейской диаспоры начала нашей эры. Главным мотивом, определявшим самый дух этой обстановки, было напряженное ожидание прихода мессии, связанное с надеждами на радикальное изменение всего существующего порядка, на восстановление иудейского царства в наибольшей его мощи и славе. Сердца и души изгнанников и эмигрантов были обращены к Иудее и Иерусалиму, ибо именно там должен был появиться из рода царя Давида мессия-Христос. Время от времени оттуда проникают смутные и волнующие слухи о том, что он уже пришел или вот-вот собирается прийти. Каждый раз эти слухи оказывались не подтвердившимися или не осуществившимися. Они обманывали надежды заждавшихся людей, но все же не убивали эти надежды, ибо слишком сильно было стремление людей к мечте о благоденствии и свободе, об избавлении от национального и социального гнета. На смену одним слухам и легендам приходили другие. Одни из них оказывались нежизнеспособными и скоро дискредитировали себя своим неправдоподобием или своим несоответствием идеологическим запросам времени и места; они забывались и бесследно исчезали. Другие укоренялись, находили все большее количество приверженцев, а фантазия вновь примыкавших оснащала и обогащала первичную легенду новыми элементами и деталями. В порядке своего рода «естественного отбора» выжила и одержала в дальнейшем триумфальную победу легенда, связанная с именем Иисуса Христа.
В чем была та ее сила, которая дала ей возможность пустить такие мощные корни?
Христианская легенда обладала той притягательностью, которая заключалась и во всех других мессианских легендах: она давала надежду на выход из, казалось бы, безвыходного положения. Но у нее была еще одна особенность, которая обеспечивала ей важнейшее преимущество: она не поддавалась проверке жизненной практикой. Любой персонаж, претендовавший на мессианское достоинство, должен был доказывать правомерность своей претензии реальными делами, военными или какими-нибудь другими победами, теми или иными достижениями, которые могли бы свидетельствовать о том, что, наконец, осуществляется воля Яхве, решившего помиловать, спасти и возвеличить свой избранный народ. И когда из далекой Иудеи приходили сведения, что очередной мессия потерпел поражение и дело его пропало, наступал конец и его легенде. Если в основе этой легенды лежал вымышленный персонаж, то практика почти столь же неотвратимо приводила к его развенчанию: шли годы и десятилетия, все глуше становились слухи о нем, ничем реальным его мнимая деятельность не обнаруживалась, и легенда умирала естественной смертью. По-иному сложилась судьба легенды о Христе.
Главным элементом ее содержания было положение о том, что мессия должен в реальном видимом мире не победить, а погибнуть. «Окончательный расчет» с лежащим во зле миром должен наступить лишь в будущем. К ожиданию этого будущего людям было не привыкать — на таком ожидании построена вся мессианская идеология. Но здесь было уже не только ожидание. Легенда давала и видимость какого-то осуществления, чего-то уже свершившегося, но в то же время оставляла место для надежды, которая была тем более живуча, что проверить достоверность того свершившегося, на чем она покоилась, не было возможности.
Если бы христианская легенда возникла в Палестине, то в случае ее мифичности она могла быть легко разоблачена: обязательно требовались бы свидетели и очевидцы, участники и «болельщики» событий, а люди, находившиеся в соответствующие моменты в Иерусалиме и других пунктах, где, как гласит легенда, разыгрывались события, могли легко ее опровергнуть, — ничего, мол, такого не было в это время в этом месте. Но если рассказывается о том, что происходило в отдаленной Палестине ряд десятилетий тому назад, то нет возможности проверить достоверность этих рассказов. Родился (чудесным способом!), проповедовал, творил неслыханные чудеса, подвергся преследованиям, был распят, воскрес, вознесся на небо — как это все можно проверить, если оно происходило за тридевять земель и в довольно неопределенное время? А то, что в этой легенде может быть проверено, должно состояться лишь в будущем. Остается верить и ждать.
Здесь, правда, легенда имела свою ахиллесову пяту. Второе пришествие Христа «во всей славе своей» было обещано в качестве чрезвычайно эффектного события, долженствующего произойти в самом близком будущем, при жизни этого самого поколения. То, что оно никак не наступало, могло в сильнейшей степени подорвать новую веру. С момента возникновения самых основ христианской легенды до ее оформления в законченной догматической системе прошло несколько поколений, а второе пришествие так и не наступало. Вероятно, немало последователей нового учения под влиянием этого факта отступилось от него. Но многие, может быть, их было большинство, а не исключено, что и меньшинство, лишь укрепились в своей вере и в ожидании. На помощь приходили соображения и аргументы, которые нередко и сейчас спасают скандально провалившиеся пророчества: не так истолковали сказанное, ошиблись в расчетах сроков и т. д. Как известно, адвентисты до сих пор не теряют веры в скорое светопреставление, несмотря на все конфузы с его точно исчисленными датами. Уязвимое место христианской легенды оказалось в общем не таким уж опасным.
Легенда о мессии, родившемся и погибшем в далекой Иудее, могла возникнуть и распространиться среди иудеев диаспоры «из ничего» в том смысле, что ее основой не был реальный исторический человек. А появившись у евреев диаспоры, она могла очень быстро перекинуться в среду тех народов, с которыми они находились в постоянном экономическом и культурно-идеологическом общении.
А. Робертсон правильно отмечает, что «евреи и не евреи не находились в изоляции друг от друга и ежедневно общались в средиземноморских городах, где еврейские бедняки рассказывали видение о грядущем мессии, приноравливая его к мечтаниям бедняков не евреев о боге-искупителе, восторжествовавшем над смертью»[161]. В непрестанной миграции идей среди народов эллинистического культурного круга легенда о Христе с каждым десятилетием завоевывала все большие массы приверженцев, заодно непрерывно обогащаясь всем тем, что новые последователи привносили в нее из собственного жизненно-исторического и религиозного опыта.
Почему я из двух возможных вариантов предпочитаю тот, по которому в основе евангельской легенды не лежит некое реальное историческое зерно в виде действительно жившего исторического человека?
В другом варианте слишком много слабых мест. Если принять его, окажется, что слишком многое невозможно объяснить. Дело не только в «молчании века», хотя оно, конечно, имеет серьезное значение. Не менее существенно то обстоятельство, что сама история образа Иисуса обнаруживает довольно выразительную картину эволюции не от человека к богу, а от бога к человеку.
Чем более ранним представляется дата появления того или иного новозаветного текста или документа, тем определенней там выглядит Иисус Христос как бог, как закланный за наши грехи от века и прежде всех веков жертвенный агнец, как логос, как сверхъестественное абстрактное начало, а не как человек во плоти с конкретно-исторической биографией. И наоборот, чем к более позднему времени относится данный документ, тем больше в нем содержится элементов земной биографии Иисуса-человека. Невозможно предположить, что последующие поколения постепенно припоминали то, чего не знали предыдущие. Из каких складов памяти они могли бы черпать эти сведения? Единственным источником таких данных могла быть только религиозная фантазия, подстегиваемая исторической обстановкой и условиями общественного бытия тех социальных и национальных коллективов, в среде которых формировались верования и мифы первоначального христианства.
Один из виднейших теоретиков мифологической школы А. Древс писал: «Неисторичность Иисуса так же твердо научно установлена, как неисторичность Ликурга (Спартанского. — И. К), Ромула и Рема, семи римских царей, Горация Коклеса или Вильгельма Телля»[162]. С этим можно согласиться при одной оговорке: следует исходить из современного состояния источников, тем более, что относительно мифичности некоторых из перечисленных Древсом персонажей сейчас в исторической науке имеются серьезные сомнения. Нельзя зарекаться от возможности того, что в близком или далеком будущем найдутся неведомые до сих пор материалы и документы, которые заставят пересмотреть и вопрос о Христе. Правда, это не очень вероятная перспектива, ибо картина все же достаточно ясна.
Мифологическое направление в христологии
Придерживаясь того взгляда, что Иисус Христос как историческая личность не существовал, мы опираемся на действующую в литературе вопроса богатую и устойчивую традицию. Начало ее можно отнести к первым векам христианства, когда автор «Диалога с иудеем Трифоном» Юстин вкладывал в уста указанного Трифона заявление о «пустой молве», связанной с Христом[163]. В дальнейшем отдельные замечания и соображения, высказывавшие сомнения в историческом существовании Христа, выражались у многих авторов начала Нового времени, но в определенной форме мифологическая трактовка образа Христа стала обнаруживаться в литературе с конца XVIII в.
Современники и деятели Французской буржуазной революции К. Ф. Вольней и особенно Ш. Ф. Дюпюи в своих работах по истории религии высказали и обосновали на современном им уровне исторической науки убеждение в мифичности Христа[164]. И тот, и другой рассматривали этот образ как воплощение солнечного божества, представление о котором было заимствовано христианством из существовавших до него греко-римских и древневосточных религий.
Следующий важнейший шаг в своем развитии сделала мифологическая школа в трудах крупнейшего немецкого исследователя Нового завета Бруно Бауэра (1809–1882). Его взгляды по рассматриваемому вопросу претерпели довольно серьезную эволюцию. В первых своих трудах он не выражал сомнений в историческом существовании Христа. Тем не менее в них была подготовлена почва для отрицательного решения этого вопроса. И уже в третьем томе своего капитального труда «Критика евангельской истории синоптиков и Евангелия от Иоанна» Бауэр сформулировал основы мифологической трактовки образа Христа[165]. На основе тщательного анализа текста евангелий Бауэр установил их полную ненадежность в качестве исторических источников. В последующих своих многочисленных трудах Бауэр подверг такому же скрупулезному анализу остальные книги Нового завета, что только укрепило его убеждение в мифическом характере образа Христа.
Высоко ценил труды Бауэра Ф. Энгельс. В свете их, писал он, «из всего содержания евангелий не осталось почти абсолютно ничего, что могло бы быть доказано как исторически достоверное, так что можно объявить сомнительным даже историческое существование Иисуса Христа»[166]. Как видим, Энгельс не занял в последнем вопросе категорической позиции, для него историческое существование Христа оставалось лишь сомнительным. Он выражал надежду на то, что дальнейшие открытия и исследования внесут большую ясность в этот вопрос.
Конец XIX и начало XX в. раскрыли перед мифологической трактовкой личности Христа новые горизонты. В Германии, Нидерландах, Франции, Англии и в других странах появилось большое количество работ различных авторов, занявших определенно выраженные мифологические позиции и весьма существенно пополнивших обосновывавшую их аргументацию.
С 70-х годов прошлого века один за другим в Голландии стали выступать исследователи, занимавшие позицию безоговорочного отрицания историчности Христа. Первым из них был А. Хукстра, опубликовавший в 1871 году сочинение «Христология канонического Евангелия Марка»[167]. Он обосновал в нем мысль о том, что евангелия представляют собой не исторический документ, а произведения символической поэзии и что, следовательно, все их персонажи можно рассматривать лишь как продукт художественной фантазии. Этот взгляд разработал и довел до завершения другой представитель голландской школы А. Пирсон в сочинении под названием «Нагорная проповедь и другие синоптические фрагменты»[168], вышедшем в 1878 году. Любопытна по замыслу и форме выражения работа представителя той же школы С. А. Набера под названием «Орешки»[169]. Автор предлагает богословам-ортодоксам 40 вопросов, связанных с толкованием посланий Павла и других новозаветных сочинений; это, с его точки зрения (и по существу, правильно), такие твердые «орешки», разгрызть которые они не в состоянии.
В дальнейшем голландские исследователи обогатили литературу рядом новых произведений, в которых на основе тщательного анализа новозаветных текстов убедительно обосновали тезис о мифичности фигуры Иисуса Христа (А. Д. Ломан, В. К. Ван-Манен, Г. И. Боланд). В 1912 году Г. А. Ван ден Берг ван Эйсинга опубликовал на немецком языке работу, подытожившую взгляды и достижения представителей голландской мифологической школы, «Голландская радикальная критика Нового завета»[170].
Одновременно одна за другой выходили работы английских и американских приверженцев мифологической школы. С 1900 года выходит ряд работ шотландца Дж. Робертсона, американца В. Б. Смита, англичан Г. Райлендса и Т. Уайттекера. Первый из них в своих многочисленных трудах проследил дохристианскую «историю» образа Иисуса, генетически связав его с древнеиудейским культом Иегошуа и с другими культами, уходящими в глубокую древность. В. Б. Смит сосредоточил свою аргументацию на доказательстве того, что образ Иисуса вначале сформировался как образ бога, а не человека. Одна из его главных работ названа «Се бог»[171] — эта формула противопоставлялась автором евангельскому тексту «се человек».
Наибольшую известность и соответственно наиболее ожесточенную оппозицию со стороны официального христианского богословия встретили немецкие исследователи начала нашего столетия, выступившие с защитой мифологической концепции. Первыми из них были пастор А. Кальтгоф и С. Люблинский, затем выступил снискавший наибольшую известность А. Древс[172]. Не будет преувеличением сказать, что само имя Древса стало своего рода символом мифологической школы. Недаром В. И. Ленин заявил о необходимости для марксистов «союза с Древсами»[173], имея в виду, конечно, не общность мировоззренческих и политических установок, каковой не может быть, а общность подхода к исследованию и решению вопроса об историчности или мифичности Христа.
В большом количестве сочинений, первое из которых «Миф о Христе» вышло в 1909 году, Древс суммировал аргументацию против историчности Христа, выдвинутую всеми его предшественниками, и дополнил ее рядом собственных соображений. В той части, которая касается позитивного решения проблемы о происхождении христианства, Древе выдвинул недостаточно обоснованную гипотезу о решающем влиянии гностицизма в возникновении христианского учения, а также и об астралистических источниках последнего. Но в критике основного «исторического» построения о Христе-человеке Древс дал неопровержимый материал и столь же неопровержимую аргументацию.
Выход работ Древса вызвал резкую реакцию со стороны представителей официального богословия. Когда свободомыслящий «Союз монистов» провел в Берлине две публичные дискуссии об историчности или мифичности Христа, они приняли вызов, решив перенести борьбу со страниц академической печати на арену устного публичного обсуждения — в здания цирка и собора[174]. Надо, однако, отметить, что серьезных аргументов против мифологического решения вопроса о Христе его противники найти не смогли. Чуть ли не главным пунктом в этой аргументации была ссылка на то, что Древс-де не теолог по профессии, а философ и, следовательно, в вопросах, связанных с религией, дилетант. Это, конечно, звучало не очень убедительно.
Начало нашего столетия ознаменовалось развертыванием деятельности сторонников мифологического направления и в ряде других стран. Отметим в этой связи имена поляка А. Немоевского, французов П. Л. Кушу, П. Альфарика, Э. Дюжардена и Э. Мутье-Руссе, датчанина Г. Брандеса[175]. Еще до Октябрьской революции труды представителей этого направления проникли и в Россию, где оно не могло иметь широкого распространения из-за цензуры. Когда в 1910 году знаменитый революционер-народоволец Н. Морозов перевел на русский язык книгу Древса «Миф о Христе», то весь тираж издания был сожжен по ее распоряжению. За издание своих книг на русском языке А. Немоевский был на год посажен в крепость.
В советской литературе мифологическая школа историографии христианства заняла видное место. Правда, в первой после революции публикации по рассматриваемому вопросу ее автор стоит на позициях историчности Христа. Мы имеем в виду книгу Н. Никольского «Иисус и первые христианские общины»[176]. Аргументация в пользу историчности Христа, которую развернул этот крупный и прогрессивно настроенный ученый, была, однако, весьма легковесной и не опровергала основных построений мифологической школы. В том же году выступил с работой «Возникновение христианства» такой крупнейший историк нашего времени, как Р. Виппер[177]. Он подтвердил, пользуясь всей литературой вопроса, что представление о Христе как об исторической личности не имеет под собой серьезных документированных оснований. В дальнейшем советская историческая наука твердо стояла на позиции отрицания историчности Христа.
Была предпринята большая работа по переводу на русский язык и изданию ряда произведений представителей мифологической школы. Уже в 1920 году вышла книга А. Немоевского «Бог Иисус», а через три года — другая работа того же автора «Философия жизни Иисуса»[178]. С 1923 года стали выходить работы А. Древса, начиная с его основополагающего труда «Миф о Христе» (несколько изданий) вплоть до книги, в которой рассматривалась история мифологической школы, — «Отрицание историчности Иисуса в прошлом и настоящем»[179]. Помимо того, были выпущены в русском переводе работы П. А. Кушу, Ш. Виролльо, Э. Мутье-Руссе, Э. Гертлейна, Г. Брандеса, К. Вольнея и др.[180]
Вышли в свет и некоторые работы приверженцев исторической школы. Так, была издана книга знаменитого французского писателя А. Барбюса «Иисус против Христа»[181], послужившая потом предметом оживленной полемики в советской печати. Позднее была опубликована двумя изданиями книга английского религиоведа-коммуниста Арчибальда Робертсона с сопроводительными статьями советского историка религии С. Ковалева[182]. В самой книге отстаивается тезис об историчности Иисуса, в статьях же С. Ковалева ведется полемика против этого тезиса.
В течение нескольких лет, начиная с 1924 года, выходил многотомный труд Н. Морозова под общим названием «Христос»[183]. Это единственное в своем роде произведение, автор которого, по сути дела, отвергал всю историю древности как вымысел писателей позднего Средневековья. Евангельского Иисуса, по концепции Морозова, не было, но существовал в четвертом веке нашей эры персонаж, известный под именем Василия Великого, с ним-то и следует отождествить Иисуса Христа. Построения Морозова были основаны на весьма рискованных и произвольных сопоставлениях исторических сообщений с астрономическими явлениями, якобы символизированными в этих сообщениях, и на столь же произвольных толкованиях значения фигурирующих в исторических источниках имен. Так, например, буквальное значение греческого имени Василий («базилевс») — царь — совпадает-де с неоднократным именованием Христа в евангелиях царем иудейским, что дает якобы основания отождествлять Иисуса с Василием Великим. Астралистика Морозова в известной мере следовала теми же путями, что у Вольнея, Дюпюи, Немоевского, а в значительной мере — что у Древса и у советского историка Н. Румянцева. Впрочем последний отмежевался от крайних взглядов Морозова и полемизировал с ним. В целом эти взгляды не были приняты советской исторической наукой.
В ряде трудов советских историков и религиоведов мифологическая трактовка образа Христа была основана на тщательном изучении источников, а также ставших в известной мере классическими работ иностранных ученых, примыкавших к мифологической школе. Необходимо назвать в этой связи, прежде всего, книги Н. Румянцева, A. Рановича, Р. Виппера, С. Ковалева, Я. Ленцмана[184]. В них мифологическое решение вопроса о личности Христа связано с общей марксистской концепцией происхождения христианства и с вскрытием социально-классовых корней этой религии на первоначальной стадии ее развития. В основе сложившейся в советском религиоведении традиции по рассматриваемому вопросу лежат работы Ф. Энгельса по истории раннего христианства и методологические указания B. И. Ленина.
Нельзя не отметить того, что в последнее время некоторые советские авторы проявили тенденцию к отказу от мифологического решения проблемы Иисуса. Так, например, в книге И. Свенцицкой «От общины к церкви» историческое существование Христа как основателя христианства рассматривается как факт, не вызывающий сомнений и не требующий доказательств[185]. Декларируется, в частности, что «археологические раскопки обнаружили следы поселения» на том месте, где при Иисусе был Назарет. Кто вел эти раскопки, где опубликованы их результаты, об этом не сказано. Выше мы приводили выдержки из книги Томпсона, из которых явственно следует, что эти следы не обнаружены.
Таким образом, основные аргументы мифологической школы и в наше время остались непоколебленными. Мы не будем здесь излагать их, поскольку выше они были освещены, ограничимся кратко сформулированными тезисами: 1) исторические источники, относящиеся к I веку, хранят полное молчание о личности и деятельности Христа, притом даже в тех случаях, когда, казалось бы, фигура Христа и его судьба не могли не обратить на себя внимание авторов соответствующих исторических, философских и публицистических работ, не могли не фигурировать также в некоторых официальных и полуофициальных документах; 2) в раннехристианской литературе образ Христа эволюционирует по схеме «от бога к человеку» в соответствии с хронологической последовательностью появления того или иного произведения— чем оно древнее, тем меньше в нем конкретных черт образа Христа как человека, тем скуднее его земная биография, тем ближе его облик к образу бога.
До тех пор, пока не найдено ни одно свидетельство о Христе, относящееся к первой трети или в крайнем случае к середине I века и принадлежащее либо очевидцу и участнику евангельских событий, либо человеку, непосредственно передающему свидетельство очевидца, все утверждения об историчности Христа остаются голословными и покоящимися только на христианской традиции, сложившейся в конце I — начале II века. Что касается аргумента об эволюции образа Христа, то он не только сохраняет силу, но в последнее время приобрел еще большее значение.
Евангелие от Иоанна считалось наиболее поздним из всех и, пожалуй, единственное нарушало указанную выше схему эволюции, ибо в нем земные и человеческие черты образа Христа проступают менее явственно, чем у синоптиков: здесь нет ни рождения, ни детства Иисуса, акцент всего повествования перенесен на Слово (Логос), которое было у бога и которое было бог (Иоанн, I, 1–5). В настоящее время, исходя из близости Евангелия от Иоанна по своему духу к кумранским документам, а также из находки папируса Д. Райлендса, некоторые авторы вносят изменение в относительную хронологию евангелий, ставя на первое место Евангелие от Иоанна. Если принять эту гипотезу, то нарушение эволюции образа ликвидируется, и картина данной эволюции пополняется еще одним важным штрихом. Евангелие от Иоанна в этом случае «удобно» укладывается в закономерную схему развития христианской легенды между посланиями и евангелиями синоптиков, что может лишь подтверждать эволюцию «от бога к человеку».
Возможно, в будущем какие-нибудь новые открытия опрокинут все логические соображения, определявшие до сих пор решение вопроса в пользу мифологической теории: новые факты могут породить «новую легенду» и, стало быть, иные выводы, чем те, которым мы следовали до сих пор. Но лишь предвзятый и тенденциозный подход к вопросу может побудить исходить из «возможных» будущих открытий, пренебрегая той ясной картиной, которая основана на фактах, не подлежащих сомнению.
В свете современного этапа развития исторической науки проблему происхождения христианства следует решать, абстрагируясь от личности Христа и от его деятельности, которая с традиционно-церковной точки зрения явилась исходным пунктом истории христианства. В этой связи представляет интерес лишь то, как постепенно выявляются контуры образа Христа, как шла его историзация, его превращение из мистически-туманного агнца и Слова в реального человека с определенной биографией.
История образа Иисуса включала в себя оформление двух элементов вероучения: 1) мессия уже один раз приходил на Землю и должен в будущем прийти еще; 2) при всей его святости и божественности это был человек с реальной земной биографией, родившийся на Земле и погибший или, во всяком случае, тем или иным способом прекративший свое существование. Обе стороны этого процесса историзации нашли свое выражение в новозаветных произведениях первой половины II века, т. е. в Павловых посланиях и в евангелиях. И если в посланиях говорится о начале этого процесса, то в евангелиях он выглядит уже завершенным.
Чтобы разобраться в ходе историзации личности Христа, нужно установить социально обусловленные идеологические причины, вызвавшие потребность в этой историзации. Почему Иисус не мог остаться в фантазии своих поклонников мистическим агнцем, богом, которому только еще предстоит снизойти на Землю, притом явиться не в человеческом, а в божественном облике?
Ряд исторических обстоятельств обусловливал непригодность такого варианта для новой религии. Прежде всего играло роль то, что она находилась в непрестанной борьбе с иудаизмом. Нужно было в этой борьбе выдвигать какие-то новые элементы вероучения, идущие дальше ортодоксально-иудейского ожидания прихода мессии. Учение о том, что он уже приходил и в принципе свою миссию выполнил, представляло собой то новое, что привлекало первохристиан. Это имело особое значение в обстановке подавления освободительных движений Римом, когда ставка на приход воинственного и победоносного мессии оказалась битой самым убедительным аргументом — жизнью. Но уж если мессия приходил, то нужно знать, как это было, в чем выражалась его деятельность, каков был он сам, где родился и жил, как умер и т. д.
Враги христианства требовали все новых аргументов, способных подтвердить истинность последнего. Если мессия уже приходил, говорили они, то что же он делал, где жил, чему учил, как и при каких обстоятельствах оказался в сверхъестественном мире? Отражать эти удары фантазия первохристиан могла, только разработав биографию Христа.
Складывался культ — возникали и закреплялись в религиозном быте новые обряды, источником которых часто были «чужие» религии. Их объяснение в сознании христиан должно было, однако, вытекать из новых мифологических обстоятельств. Возникали новые этиологические мифы, которые должны были связываться с личностью Христа и входить составными элементами в его биографию.
Завоевывал все более прочное положение клир — институт пресвитеров, епископат, складывалась христианская церковь. И здесь, помимо фактической реальности, вытекавшей из того, что в руках церкви сосредоточивалось экономическое и организационное господство, нужна была и идеологическая санкция. С ее помощью требовалось обосновать, что Христос имел учеников-апостолов, положивших начало церкви и передавших в порядке преемственности «благодати» свои полномочия последующим поколениями церковных сановников. В Евангелии от Матфея один из приводимых им эпизодов дает для этого обоснование: Иисус поручает апостолу Петру основать церковь и руководить ею (Матф., XVI, 18–19). Отсюда вытекают претензии епископов и пресвитеров считать себя преемниками и уполномоченными Христа. Но чтобы такая санкция была убедительной, она должна быть одним из элементов готовой и цельной биографии Христа.
То же следует отметить и в отношении этической системы новой религии. Нравственные предписания, освящавшиеся ею, могли находить свое наиболее авторитетное основание в ссылке на то, что так учил поступать Христос. А когда и при каких условиях он этому учил, можно было установить лишь из соответствующих эпизодов его биографии, что служило дополнительным стимулом к ее обогащению за счет фантазии приверженцев христианства.
Этим, однако, не решается вопрос о том, почему это должна была быть биография человека, а не бога. Ведь, казалось бы, авторитетнее выглядели бы поучения и предписания, исходящие от некоего божественного существа, а не от человека.
Здесь новая религия оказалась под влиянием того материала, который ее приверженцы принесли из старых верований и культов. И в иудаизме, и в религиях эллинистического мира небесные спасители чаще представлялись как богочеловеки, а не как «чистые» боги. По Ветхому завету, мессия должен явиться из рода царя Давида, он и сам должен быть царем, т. е. человеком. В другом варианте иудейского мессианизма, основанном на 53 главе Книги Исаии и на других ветхозаветных источниках, рассматривающих грядущего мессию как страдальца и жертву за грехи человеческие, опять речь идет о человеке с его слабостями и тяжелыми переживаниями. Как известно, в эллинистических религиях культ умирающих и воскресающих спасителей был широко распространен. Это были, начиная с Прометея, боголюди, герои-полубоги с обстоятельно разработанной земной биографией.
Вера в Иисуса-человека делала христианство особо притягательным в глазах людей. Человеческая ограниченность и слабость Иисуса Христа, его подверженность человеческим переживаниям, в том числе связанным со страданиями, его незащищенность и в ряде случаев беспомощность — все это делало богочеловека несравненно ближе верующему в него, чем недоступного, бесконечно далекого, совершенного и блаженного бога. Особенно близко могли принимать к сердцу страдания распятого представители страждущих и обремененных. Для них богочеловек был «свой брат», который лучше, чем абсолютный бог, может понять их нужды.
В этом заключается одна из парадоксальных сторон религии. Ведь если рассуждать логично, то бог, который не может спасти от страданий себя самого, вряд ли может избавить от них человечество. Но здесь опять-таки сказывается присущая всякой религии противоречивость. Соответствующие фантастические представления складываются исторически, наслаиваются постепенно и, поскольку люди привыкают к ним, не вызывают недоумений по поводу своей очевидной несообразности.
Для оформления земной биографии Иисуса Христа христианство во второй половине I века использовало различные верования иудаизма и мифологию всех эллинистических народов, представители которых входили в христианские общины. Большую роль при этом сыграли культы страдающих, умирающих и воскресающих богов, широко распространенные по всему Средиземноморью. Однако в своих вероисповедных документах, а именно в новозаветных книгах, христианство, излагая земную биографию Христа, ссылается лишь на Ветхий завет и его пророчества.
Из Ветхого завета был заимствован основной материал, послуживший первохристианам для построения биографии Иисуса-человека. Направление этого биографического мифотворчества было дано еще в посланиях Павла (Гал., III, 8; Римл., XIV, 25; I Кор., XV, 4).
В евангелиях данная линия реализуется уже последовательна Иисус — тот самый царь иудейский из рода Давидова, который многократно «обетован» богом Яхве через пророков (Ис., XI, 4; Дан., VII, 13–14). Он должен родиться в Вифлееме (Мих., V, 2), во исполнение чего евангелисты заставляют его родителей совершить странное путешествие для прохождения переписи из Назарета в Вифлеем. А Назарет понадобился для оправдания наименования мессии «Назореем» (Суд., XIII, 5; XVI, 17; Ам., II, 11), причем евангелист не понимает этимологической неправомерности этого эпитета от названия Назарета. Ветхозаветные реминисценции и параллели наличествуют в евангельской биографии Иисуса вплоть до таких, которые звучат даже несколько странно: въезд Иисуса в Иерусалим сразу на двух ослах в подтверждение текста Захарии, ссылка римских легионеров на Ветхий завет при дележе риз Иисуса (Зах., IX, 9; Пс., XXI, 19; Иоанн., XIX, 24) и т. д.
Для оформления христианского вероучения послания Павла имели такое большое значение, что в протестантской историографии утвердилось мнение, согласно которому именно Павел, а не Христос является основателем христианства как религиозно-догматической системы. В этом есть немалая доля истины. Из поучений, афоризмов, притч, проповедей Христа, приводимых в евангелиях, невозможно сконструировать то догматическое учение, которое легло в основу Символа веры и всех последующих богословских построений христианства. Из посланий же Павла такие основоположения извлечь можно.
Одно из них заключается в том, что Христос явился для устроения судьбы не только израильского народа, а всего человечества. Тот космополитический характер, который приобрело христианство уже в первой половине II века, предопределял необходимость решительного изменения в его основной догматической установке — оно означало разрыв с учением об исключительности «избранного народа» и с иудейско-националистическим характером учения о мессии. А если мессия должен был явиться для спасения всего человечества от страданий и бедствий, то должна была получить новое освещение и проблема источника этих страданий. Дело было уже не в прегрешениях евреев против избравшего их бога Яхве, не в том, что они стали «служить чужим богам», а в каких-то факторах общечеловеческого масштаба и значения. Главным из таких факторов явился в догматике паулинизма ветхозаветный миф о грехопадении Адама — для его искупления и должен был сын божий пострадать на кресте (Римл., V, 12–19). Трудно изложить в логически последовательной форме концепцию, связанную с этим основоположением христианства. С точки зрения здравого рассудка здесь все нелогично, начиная с учения о грехопадении Адама и Евы и кончая историей его искупления. Тем не менее послания Павла оформили и закрепили эту концепцию в христианстве II века и на последующие времена.
Колоссальная литература посвящена вопросу о подлинности посланий Павла и его историчности. Наиболее радикальное крыло мифологической школы причисляет Павла, как и Христа со всеми его апостолами, к фигурам мифологического плана. Нам представляется это решение недостаточно обоснованным. Правда, цифра «12», несомненно, носит на себе отпечаток символа, весьма распространенного в древних религиях, и особенно в иудаизме. Вспомним хотя бы о двенадцати сыновьях Иакова и соответственно двенадцати коленах израилевых. Не вызывает, однако, сомнений тот факт, что в распространении первоначального христианства важную роль сыграли бродячие проповедники, разносившие его по всему Средиземноморью, вербовавшие прозелитов и основывавшие общины. Были ли среди них лица, носившие «те самые» имена, или им впоследствии были эти имена присвоены для авторитетности, существенного значения не имеет. В тех случаях, когда нет прямых противопоказаний к признанию аутентичности того или другого имени, нет оснований ее отрицать. Что же касается Павла, то, пожалуй, из всех апостолов он имеет наибольшее право претендовать на историчность.
В отношении остальных сомнения могут быть связаны прежде всего с тем, что им евангелиями отводится роль спутников и сотрудников Христа. Признавая последнего мифической личностью, мы в какой-то мере определяем такой же статус и для его «спутников». С Павлом же дело обстоит несколько иначе: он «видел и слышал» Христа лишь в экстатическом переживании, которое могло явиться продуктом галлюцинации. Личность и деятельность Павла на решающих этапах его биографии выглядят достаточно правдоподобно. Нет оснований ставить под сомнение существование, а также проповедническую деятельность человека, жившего в конце первого и в первые десятилетия II века, фанатичного и талантливого приверженца новой религии, не только основавшего ее общины в большом районе Средиземноморского бассейна, но и систематизировавшего ее вероучение. Его, конечно, могли звать и Павлом, а по-еврейски Савлом или Саулом; это допущение не означает, впрочем, признания исторически достоверными всех эпизодов его биографии, о которых рассказывается в Деяниях и Посланиях. Нет ничего неправдоподобного и в том, что Павел был автором посланий, с которыми он обращался к христианским общинам или к их руководителям.
III. Христологическая проблема в современной богословской и исторической литературе
«Распад образа»
С большей или меньшей готовностью чуть ли не все современные авторы богословских христологических трудов признают тот совершенно очевидный вывод, что по существу все попытки воссоздать исторический образ Христа кончились неудачей. Стало совершенно обычным для богословов, набожность и христианское благочестие которых не могут быть поставлены под сомнение, говорить о распаде образа Христа.
Альберт Швейцер, прославившийся, правда, больше как гуманист и общественный деятель, чем как богослов, но все же достаточно известный и в этом последнем плане, подвел печальные итоги всем попыткам построить образ и биографию Христа: «Нет ничего более негативного, чем итоги исследований о жизни Иисуса»[186]. Оговоримся заранее, что в вопросе об историчности Иисуса Швейцер занимал какую-то неопределенную и малопонятную позицию. Но все же напомним, что именно ему принадлежат довольно категорически звучащие заявления: «Иисус из Назарета, выступивший как Мессия, проповедовавший нравственность царствия божиего, основавший на Земле царствие небесное и умерший, чтобы освятить свою деятельность, никогда не существовал. Это образ, который отброшен рационализмом, воскрешен либерализмом, а современной теологией переделывается при помощи исторической науки». Христианский богослов Швейцер не отступает даже перед констатацией такого печального факта, что «исторического фундамента христианства, как его возводила рационалистическая, либеральная и современная теология, больше не существует»[187]. Он, правда, делает здесь оговорку, что его не следует понимать в том смысле, будто христианство вообще потеряло свои исторические основания. Но он усматривает эти основания не в образе Иисуса Христа, поскольку образ этот, как утверждает богослов, разрушен не извне, он рухнул сам по себе[188]. Произошло это, согласно Швейцеру, во второй половине XVIII века, когда в литературе и общественной мысли действовали французские просветители, немецкие рационалисты и английские деисты. Тогда их критическая деятельность встречала самое острое противодействие со стороны церковных учреждений и на страницах богословских трудов. Теперь положение изменилось в том смысле, что даже активные поборники христианского правоверия вынуждены признавать безнадежность попыток построения исторически достоверного образа Христа.
Приходится согласиться с фактом ненадежности основного источника, на котором здесь можно было что-нибудь построить, — евангелий. Протестантский богослов Эрнст Барниколь приводит сводку таких евангельских текстов, которые большинством исследователей признаются неподлинными и вписанными в более поздние времена. В Евангелии от Иоанна он насчитывает 26 таких текстов и в заключение этого подсчета делает вывод о «неисторичности почти всего несиноптического» в этом евангелии. Но дальше оказывается, что с синоптическими евангелиями дело обстоит не лучше: «неисторических» текстов у синоптиков Барниколь насчитывает около 40[189]. Журнал «Шпигель» дает подборку тех сообщаемых евангелиями высказываний и афоризмов Иисуса, которые признаются неподлинными большинством лютеранских теологов. Их насчитывается, по самому минимальному подсчету, около полутора десятков, и среди них некоторые, имеющие принципиальное значение: «Не давайте святыни псам»; «как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними»; «кто себя возвышает, тот унижен будет». Отвергается и подлинность такого текста, которым католическая церковь обосновывает свои претензии на главенство в христианском мире: «Ты — Петр, и на сем камне я воздвигну церковь свою…» Начисто отвергаются и сообщения евангелий об отдельных этапах жизни Иисуса Христа, особенно истории его гибели. Католический богослов Карл Шелькле, например, пишет, что «сообщения о последних днях Иисуса представляют собой осадок, нерастворимый историческим и теологическим истолкованием, — не оспаривают теперь и консервативные теологи»[190].
Несколько комичное впечатление производят заявления богословской прессы о сделанных в последнее время «открытиях», выдвигающих перед теологией новые острые проблемы. X. Концельман, оказывается, установил, что «евангельские сообщения о суде над Иисусом неаутентичны». Ганс Бартш пришел к тому, что описание его допроса «сильнейшая, новеллистически разработанная сцена», попросту сказать, квалифицированная беллетристика. Иозеф Гайсельман открыл, что весь суд — сплошное недоразумение. Мартин Дибелиус и Ганс Фрайхер даже «установили легендарность непорочного зачатия»[191]. Как достижение теологической мысли сегодняшнего дня преподносится то, что было скрупулезно и великолепно по своему научному уровню разработано еще Штраусом и Бруно Бауэром, что было в конце XIX и начале XX века всесторонне проанализировано и осмыслено теоретиками мифологической школы — Д. Робертсоном, А. Кальтгофом, А. Древсом, А. Немоевским и другими.
Трудно себе представить, чтобы столпы современного христианского богословия не знали об огромной работе, проделанной новозаветной исторической критикой, и о ее результатах. Видимо, им представляется более удобной позиция, в которой они выступают как первооткрыватели, чьи работы лишь теперь ставят нас перед необходимостью какой-то переоценки ценностей. А иначе ведь получается, что до сих пор идеологи христианства просто замалчивали, скрывали от своих пасомых важные, по существу решающие итоги научных исследований… Хоть с большим запозданием, но все же приходится в конце концов признать весьма неприятные и с точки зрения церковного правоверия «соблазнительные» факты.
Можно собрать большую коллекцию заявлений богословов о том, что теперь мы, в сущности, ничего не знаем об Иисусе. Авторы этих заявлений, как правило, стоят на позициях историчности основателя христианства, но откровенно признаются в том, что ничего толком сказать о нем не могут. Еще в 1910 году на Всемирном конгрессе свободного христианства и религиозного прогресса Буссе, отстаивая историчность Христа и называя мифологическую теорию «утопией, опровергнутой данными науки», в то же время говорил: «То, что мы знаем о его жизни в прагматической связности, столь незначительно, что это можно было бы поместить на одном листочке бумаги. Проповедь Иисуса или евангелия подчас представляет собой запутанную ткань общинной традиции и, возможно, подлинных слов учителя»[192].
А. Древс так излагает аналогичные взгляды по этому вопросу немецкого богослова-библеиста В. Брандта, отстаивающего так же, как и Буссе, историчность Христа: «Не существует никаких надежных сведений из жизни Иисуса, кроме факта его смерти и воскресения. Брандт указывал на то, что даже самая история о страданиях Иисуса была сочинена при помощи ветхозаветных и мифологических элементов»[193].
Знаменитый Р. Бультман, общая концепция которого, правда, была в 1952 году осуждена лютеранской церковью, категорически заявляет, что мы почти ничего не знаем о жизни и личности Иисуса Христа и что ни об одном его изречении не можем с какой бы то ни было степенью достоверности знать, что оно действительно исходило из его уст[194]. Можно, конечно, считать такое заявление не характерным для современной теологии в целом — как-никак его автор считается еретически мыслящим. Но если обратиться к почти официальному изданию евангелической церкви — энциклопедии «Религия в истории и современной жизни» («Die Religion in Geschichte und Gegenwart»), то мы найдем там примерно такую же точку зрения.
Этапы биографии Иисуса рассматриваются здесь как порождение «вторичной, литературной редакции» евангелий. Из этого делается вывод, что «больше стало невозможно установить последовательность событий жизни Иисуса, писать его биографию и рисовать его образ». Цитата, которую мы приведем ниже, представляет собой короткое изложение выводов «формально-исторической школы», но автор статьи в общем не отмежевывается от этих выводов: «Таким образом, в отношении большей части традиции отпадает возможность ее использования для точной фиксации отдельных моментов жизни Иисуса. Мы больше не знаем последовательности событий, и прежде всего не можем реконструировать внешнее и внутреннее их развитие. Не только евангелия в целом являются вероисповедным документом, но и отдельные элементы традиции. Поэтому для «портрета» они не представляют никакого интереса. Ничего не известно ни о внешнем виде Иисуса, ни о его человеческом характере, его привычках, о повседневном в его жизни. Установление такого характера традиции обесценивает психолого-биографическое значение большей части материала. Особенно это относится к эпифаниям (эпизоды с «богоявлением» — И К.); они ничего не говорят о внутреннем состоянии Иисуса; они набросаны на основании веры общины, на основании послепасхальной (по христианской традиции, распятие Христа произошло в праздник еврейской пасхи. — И. К.) перспективы. То же с предсказаниями страданий. Они не дают ясного освещения положения; это скорей догматические высказывания о неизбежности страданий, как это представлялось общине после смерти Иисуса»[195].
В приведенной цитате излагаются выводы теологов формальноисторической школы, виднейшими представителями которой являются К. Шмидт, М. Дибелиус и тот же Р. Бультман. Протестантская энциклопедия не отвергает эти выводы, но тут же пытается несколько ослабить их значение. Она выискивает некие «прочные точки опоры». Таковые точки она усматривает в тех евангельских повествованиях, которые не входят ни в иудаистское мышление, ни в воззрения позднейшей общины. Нельзя не признать эти «точки» довольно расплывчатыми, а опору на них — не очень прочной. Состояние источников по христологической проблеме довольно критически оценивает такой адепт историчности Христа, как П. Альтхауз. Он находит в Евангелии от Иоанна лишь «теологические медитации» в гностическом стиле; приводимые Иоанном изречения Христа — суть не «verba ipsissima» («собственнейшие слова» Иисуса. — И. К), но «ответ веры» на некие обстоятельства жизни богочеловека, тоже нам неизвестные. Да и у синоптиков дело обстоит не до конца исторично; их сообщения, говорит он, ссылаясь на бультманиста Борнкамма, «вытекают из вероучения или, по меньшей мере, переплетены с вероучением». А в общем «традиция четырех евангелий ставит перед нами трудные проблемы и даже вопрос о том, жил ли Иисус из Назарета»[196].
Эти трудные проблемы надо богословам как-то решать, причем главная трудность заключается в том, что нельзя их решить за счет прямого и честного признания мифичности Христа — при таком признании рушится догматическая основа христианства.
Консервативный деятель лютеранской церкви В. Кюннет так оценивает положение, складывающееся в связи с тем, что бультмановские и иные модернисты склонны отрицать такие этапы биографии Иисуса, как его гибель и воскресение: «Мы задаем простой вопрос: что же фактически остается от пасхи? (имеется в виду совокупность евангельских событий, связанных с распятием и воскресением Христа в праздник пасхи. — И. К.). С точки зрения этих экзистенцтеологов — совсем ничего. Совсем ничего!» Кюннет настаивает на том, что «воскресение Христа есть фундамент христианства, на котором покоится все, вся действительная реальная действительность»[197]. Он формулирует дилемму: «Или отрицание, тогда — конец христианской теологии, конец христианской церкви, — или признание». Если уж так остро ставится вопрос о воскресении Христовом, то тем более это относится к самому существованию Иисуса Христа. Э. Хайтш говорит по поводу построений христологов-модернистов: «Если это законно с точки зрения христианской теологии, то нет никаких оснований оставаться христианами»[198]. А чтобы оставаться христианами, нужно во что бы то ни стало держаться за исторического Христа, притом со всеми элементами евангельской биографии вплоть до воскресения и вознесения. Э. Барниколь так суммирует точку зрения консервативного протестантизма по этому вопросу: «Без «Жизни Иисуса» (имеется в виду его биография. — И. К.) нет «Иисуса», без «Иисуса» нет «христианства», нет «христианского благочестия» (Christlichkeit)[199]. Вероисповедные проблемы надо решать на почве всеобъемлющего познания источников научной — и негативной, и позитивной критики, но при условии сохранения христианского благочестия, основанного на непоколебимой вере в исторического Христа и в возможность составления его достоверной биографии.
Держаться во что бы то ни стало!
Наиболее консервативные круги богословов и церковников настаивают на сохранении веры не только в исторического Иисуса, но и в творившиеся им чудеса — в исцеления, в воскрешения, в его собственное воскресение и вознесение, в сотворенное святым духом чудо непорочного зачатия богочеловека. Без признания «пустого гроба» (имеется в виду «гроб господень», опустевший после того, как его покинул воскресший Христос) они не согласны считать кого бы то ни было христианином.
Ревнители христианской ортодоксии в ФРГ развернули целое движение, направленное против каких бы то ни было уступок модернизму в вопросе о Христе, — не только его историчности, но и сверхъестественности, связанных с его рождением, жизнью и смертью; оно носит название «Вероисповедное движение — никакого другого Евангелия!». Его деятелями являются не только представители духовенства и богословы, но и миряне. «Движение» собирает массовые митинги, где произносятся громовые речи, направленные против бультманистов и других, как их называют, партизан атеизма. При помощи мобилизации наиболее темных и фанатичных элементов «общины» оказывается давление на руководство церкви с тем, чтобы не дать ему идти на уступки «новым веяниям» в христологии. Руководство же вынуждено маневрировать — оно не может идти на резкое обострение отношений с консервативными кругами своей паствы и самой церкви, но, с другой стороны, не может игнорировать научную критику евангельских сказаний. Положение, конечно, сложное…
Еще более сильны консервативные элементы в католической христологии.
Более ста лет назад Первый ватиканский вселенский собор католической церкви (1869–1870 гг.) в самых решительных выражениях подтвердил неразрывную связь католицизма с признанием историчности не только Иисуса, но и всех его чудес; последние необходимо считать, как сказано в решениях собора, вполне достоверными и соответствующими силе разумения знамениями божественного откровения. Под страхом отлучения от церкви собор запретил трактовку евангельских чудес как «легенд и мифов». В начале нашего столетия Ватикан самым резким образом осудил модернизм как ересь, исповедание которой неминуемо ведет христианина к вечной погибели; основатели и идеологи модернизма во главе с А. Луази были отлучены от церкви. Между тем модернисты отказывались от веры только в чудеса, связанные с именем Иисуса, а не в историческое существование самого основателя христианства. Осуждение модернизма до сих пор остается в силе, и периодически по его адресу опять раздаются благочестивые формулы отрицания и обличения.
На Втором ватиканском вселенском соборе (1962–1965 гг.) атмосфера была уже не столь единодушно консервативной, как это было раньше. Большие и влиятельные группы иерархов католической церкви занимали более гибкие позиции, допуская возможность маневрирования и оставляя поле для такового, но и там действовало консервативное крыло во главе с кардиналом Оттавиани, занимавшее непримиримую позицию в основных вероисповедных вопросах, в частности и в христологической проблеме.
После собора консервативное крыло католической церкви продолжает воинствовать. Ожесточенные нападки вызвал вышедший в Голландии в 1966 г. католический катехизис довольно явно выраженного модернистского направления. Но как раз в отношении евангельских легенд, связанных с личностью Христа, голландские епископы, с благословения которых был издан катехизис, обнаружили известную осторожность. Они выступили с посланием, в котором призывали всех христиан к максимальной осмотрительности в теологических исследованиях и в проповедях. После ряда расплывчатых и обтекаемых заявлений о неизбежности некоторых изменений в решении отдельных вероисповедных проблем идут увещевания, направленные по адресу легкомысленных модернизаторов, не торопиться с уступками научной критике, не расшатывать основы христианской веры. Епископы требуют закрепить церковную веру, прежде всего в существенных вопросах догматики, а ими признаются учения о божественной природе Христа, о его непорочном зачатии и воскресении. Речь идет опять-таки о программе-максимум веры в Христа — не человека, а богочеловека со всеми сверхъестественными деяниями, приписываемыми ему Новым заветом.
Эту максимальную программу особо воинственным образом отстаивает кардинал Оттавиани. В качестве главы ватиканской конгрегации веры он опубликовал в июле 1966 года послание к епископам и другим сановникам католической церкви, в котором сформулировал сводку десяти пунктов, заслуживающих осуждения. Один из пунктов этой сводки направлен против тех мнений, которыми Христос ставится в положение простого человека, лишь постепенно достигающего сознания своего богосыновства; непорочное зачатие, библейские' чудеса, даже воскресение сводятся к чисто естественным событиям. Кардинал никак не может пойти даже на то, чтобы признать Христа просто когда-то существовавшим человеком. А уж что ему до научных исследований в этой области?!
Нужны ли и возможны ли при такой установке научные исследования? Воинствующие «ревнители» понимают, что они не могут запретить их, они в состоянии лишь отвести им рамки, безопасные для веры и набожности.
Вот, например, французский историк Ж. Колен занялся вопросом о судебном процессе Иисуса Христа. При помощи ряда исторических и этнографических параллелей он доказывает, что некоторые оспаривавшиеся до сих пор элементы этого процесса на самом деле могут считаться правдоподобными; сюда относится участие народной толпы в решении участи обвиняемого, а также роль, которую сыграл в осуждении Иисуса четвертовластник Ирод Антипа. Ну что же, такие изыскания не вредят вере, даже наоборот, при должном использовании могут лишь поддержать ее…
И еще более близки интересам церкви «исследования» такого типа, как работа немецкого католического теолога, доцента кафедры религии и методики католического воспитания Высшей педагогической школы в г. Нейссе У. Ранке-Хейнеманн. Она поставила своей целью доказать, что Богородица осталась девственной до конца своей жизни. Как же можно, однако, увязать с этим тот факт, что в Новом завете говорится семь раз о братьях Иисуса и один раз — о сестре? Вопрос этот неоднократно служил предметом острых богословских дискуссий. Пытались найти выход в том, что братья и сестры Иисуса были не единоутробными ему, так как происходили от другого — первого брака Иосифа. Но Ута Ранке смело прокладывает в решении этого каверзного вопроса новые пути.
В Евангелии Марка приводятся имена братьев Иисуса — Иаков, Иосиф, Иуда, Симон. Но в другом месте у того же Марка матерью Иакова и Иосифа названа «другая Мария», то же и в некоторых других евангельских текстах. А отцом Иакова в одном из этих текстов указан не Иосиф, а Алфей. И нигде нет в Новом завете такого места, где говорилось бы о «детях Марии и Иосифа». К тому же известно, что Иисус перед смертью предоставил свою мать попечению Иоанна. Это было бы непонятно, если бы у нее были еще сыновья, кроме самого Иисуса. Но как понять в этом случае текст Евангелия от Луки— «она родила своего первого сына…»[200]. А это неправильный протестантский перевод — эти еретики-лютеране могут что угодно написать. Надо понимать не «первого сына», а «первенца»; так мог называться младенец Иисус, независимо от того, последовали ли за ним у Марии другие дети. Нечего сказать — важная тема для исследований! И особенно хороша она тем, что способна отвлечь мысль от более важных и острых проблем, связанных с личностью Христа.
Как ни сильна тенденция упрямого отрицания каких бы то ни было сомнений, как ни настаивают наиболее консервативные круги церковников и богословов на необходимости слепой и бездумной веры, буквально с каждым днем завоевывает в богословском лагере все большее количество приверженцев стремление хоть каким-нибудь образом примирить веру в Христа с данными исторической критики и соображениями разума. Посмотрим, как выходят из этого трудного положения другие авторы, труды которых находятся в нашем распоряжении.
Некоторые из них пытаются применять более или менее обычные методы исторической аргументации, желая при этом ликвидировать выявившийся тяжелый кризис христологической теории. Они выдвигают в этих целях ряд аргументов в пользу историчности Христа.
Первый из этих аргументов заключается в том, что в евангелиях, какова бы ни была степень исторической достоверности их сообщений, все же воссоздана атмосфера Палестины того времени. Это не такой уж новый довод. В одной из предыдущих глав мы неоднократно приводили такого рода соображения — чувствуется, мол, дыхание живой жизни, так придумать невозможно и т. д. Субъективность таких соображений очевидна.
В евангелиях и в Логиях имеется ряд текстов, по своему смыслу находящихся в противоречии с воззрениями позднейшей, «паулинистской» церкви. Эти тексты, по мнению ряда богословов, следует считать записанными по живым следам Иисуса. Имеются в виду такие места в евангелии, которые бросают тень на облик Христа как человека или бога. В Назарете богочеловек оказался не в состоянии сотворить хоть какое-нибудь чудо. От своих противников он прятался в Вифании и в других местах. На кресте проявлял малодушие. Некоторые из речей основателя христианства тоже выглядят не очень импонирующим образом: там, например, где он велит не давать «святыни псам», разумея под псами всех не евреев (Мтф., VII, 6), отрицает, что он «благ» и признает это свойство только за богом-отцом (там же, XIX, 17). Некоторые богословы считают, что как раз наличие таких мест и показывает, что в древнейших текстах Нового завета есть историческое зерно, которое можно обнаружить, если убрать позднейшие наслоения. Нам и это соображение представляется не особенно веским. Древнейшие тексты свидетельствуют лишь о том, что представления о личности Христа пережили известную эволюцию, но из них не вытекает, что начальная стадия этой эволюции связана с впечатлениями и воспоминаниями о реальном человеке.
Высказывается еще и такое соображение: пусть это будут легенды, но ведь легенды тоже являются источником для исторической науки! Сама по себе эта мысль не вызывает возражений, но от нее нельзя сделать умозаключение о историческом существовании Христа, как нельзя, исходя из нее, рисовать на основании евангелий образ Христа. В некоторых случаях легенда дает материал для суждения только о той эпохе, в которую она возникла, и о той общественной среде, которая ее создала. Как раз с таким случаем мы имеем здесь дело.
И, наконец, привлекается в качестве аргумента в пользу историчности евангельских повествований то, что они дают твердые хронологические рамки для жизни Иисуса. Фактов, привязываемых к определенным временным ориентирам, по меньшей мере, три: крещение Иисуса Иоанном, начало его деятельности в Галилее и смерть в Иерусалиме. Вряд ли этот «аргумент» заслуживает даже опровержения, ибо любая легенда может быть поставлена в хронологические рамки без малейшей гарантии того, что эти рамки истинны.
Следует остановиться в этой связи на вышедшей в 1963 году книге Д. Кармайкла «Смерть Иисуса». Автор исходит из того факта, что многие элементы евангельской легенды противоречат сложившейся впоследствии христианской традиции, и именно эти элементы он считает заслуживающими исторического доверия. Но автор требует осторожности в отношении к ним, ибо после смерти Иисуса прошло целое поколение, пока были написаны евангелия. Не удовлетворяясь при этом общей декларацией о разных по времени слоях евангельской легенды, Кармайкл создает построение из пяти стадий, которые, по его мнению, прошло оформление легенд о Христе. Эти последовательные стадии знаменуют различные ступени постепенного возвышения Иисуса в сознании его последователей.
На первой стадии Иисус самым скромным и естественным образом рождался в бедной галилейской семье. Затем произошло возведение его личности в мессианское достоинство. На третьей стадии к сему было присоединено царское происхождение. Следующая стадия была ознаменована представлением о сверхъестественном характере его рождения, что придавало фигуре Христа уже почти божественный характер. И, наконец, лишь на пятой стадии своей эволюции образ Христа приобретает все черты божества, причем Кармайкл различает два варианта трактовки этого божественного образа — в Евангелии от Иоанна и в Посланиях Павла.
Нельзя отказать этой концепции в стройности и своего рода логической завершенности. Беда только в том, что логика здесь не подкрепляется достаточно убедительным историческим анализом. Можно представить себе, что эволюция образа Христа шла именно таким способом и что в евангелиях постепенно наслаивались тексты в соответствии с указанной выше последовательностью «созревания» отдельных стадий. Но с тем же успехом можно предположить эволюцию и в обратном направлении. Исторический подход требует установления не столько того, что могло бы быть, сколько того, о чем можно сказать, что именно так оно и было.
В какой-то мере с концепцией Кармайкла перекликаются и высказывания известного немецко-протестантского богослова X. Тилике. В своей книге «Я верю», изданной в 1965 году, Тилике исходил из положения, что наличие в новозаветных произведениях большого количества противоречий и расхождений служит доказательством не несостоятельности этих произведений как исторических источников, а, наоборот, достоверности содержащихся в них сообщений об Иисусе. Различные люди по-разному воспринимают одни и те же факты. «Когда кто-нибудь, например, получает удар в лицо, у него шумит в ушах, а глаза видят пестрые кренделя… Один слышит шелест, другой — колокольный звон, один видит пляшущие искры, другой — радугу»[201]. Реальная же причина этих различных впечатлении одна, и она имела место в действительности. Есть, следовательно, реальное историческое ядро и в разнородных, противоречивых евангельских сообщениях об Иисусе. Но как можно надеяться выяснить сущность такого явления, о котором все источники говорят по-разному? Очевидно, лишь в таком плане: что-то было, а что именно, мы не знаем… Отметим здесь про себя, что такой подход присяжного богослова к вопросу об основных источниках христианского вероучения, как бы ни были благи его собственные намерения, режет под корень церковный догмат о богодухновенности священных книг. В самом деле, один из их авторов слышал звон, другой видел пляшущие искры… Прямо — по поговорке относительно человека, слышавшего звон, но не знающего, где он!
Помимо своей кабинетно-научной деятельности, Тилике занимается и широкой публичной пропагандой. Он выступил с циклом лекций в спортивном зале одного из крупнейших западногерманских стадионов, причем, как сообщает католический журнал «Хердер Кореспонденц», сумел изложить свою концепцию так, чтобы она стала понятна для каждого. Следует признать, что добиться этого современному богослову должно стоить немалых трудов; в печати все чаще появляются жалобы на то, что богословские теории стали в наше время чрезвычайно трудными для понимания не только «общины», но и студентов-теологов. И Тилике сумел победоносно справиться с этим препятствием в своей проповеднической деятельности. Что же он сказал собравшимся в спортивном зале?
Он отмежевался от евангельских легенд о чудесах. По его мнению, они были созданы лишь впоследствии как собрание иллюстраций (Bilderbuch) к тексту апостолической проповеди Иисуса, как демонстрация господнего могущества. Но это и не нужно было, так как чудеса не могут обосновать веру, вера живет не чудесами, а словом божиим. Надо, следовательно, представлять себе образ Христа по этому самому слову божию. Делалось это до сих пор, по мнению Тилике, неправильно; каждое новое поколение формировало образ Христа в свете своих собственных взглядов, исходя из современной ему «злобы дня».
Тилике жалуется, «что Иисус Христос на протяжении всей церковной истории постоянно переживает процесс все нового распятия; он все время подвергается ампутации с тем, чтобы быть втискиваемым в прокрустово ложе временных человеческих представлений; он постоянно исчезал в могиле понятий человеческой системы мышления, из которой опять восставал». Сказано красиво, но туманно. Допустим, что действительно образ Христа подвергался до сих пор такому жестокому обращению. Но вот пришел господин Тилике и вознамерился восстановить этот образ во всей его первозданной адекватности. Мы с нетерпением ждем реализации такого великого намерения. Но оно не осуществляется, ибо богослов ограничивается лишь констатацией того, что образ Христа до сих пор искажался, а как его следует представлять себе теперь, после исследований самого господина Тилике, он оставляет в тайне.
Не так отрицательно, как Тилике, относится к тому, что сделала «община» с образом Христа, протестантский богослов Пауль Альтхауз. Известны его довольно пессимистические высказывания о возможности использования евангелий как исторических источников. Но этот автор отличается несколько странной способностью совмещать в своих писаниях взаимно противоречащие установки. Евангелие от Марка он считает идущим опосредованно от очевидцев вплоть до Петра Вместе с Э. Хиршем он признает, что этот источник был впоследствии сильно ретуширован и подкрашен, но так же, как и тот, считает, что это было сделано без всякой надобности, так как в нем весь ход биографии Иисуса лежит перед нашими глазами. Казалось бы, все очень хорошо, никаких затруднений в воссоздании образа Иисуса не существует. Но такие затруднения все же обнаруживаются.
Как быть с тем, что евангельский образ Иисуса был в дальнейшем сильно изменен наслоениями «теологии общины»? В решении этого вопроса Альтхауз не согласен с точкой зрения представителей либеральной теологии. Они утверждают: «То, что сделала теология общины из Иисуса, это чужеродное и имеет мало общего с самим Иисусом». Они призывают «назад от догматической теологии общины к простой проповеди Иисуса о царстве, об отце небесном, о вечной жизни души! Назад, прежде всего от Павла к Иисусу, к подлинному Иисусу, чей образ и миссия могут быть восстановлены в очертаниях раннего христианства! Назад от догмы к вне догматическому человеку из Назарета!»[202]. Этот лозунг Альтхауз отказывается поддержать, хотя он «звучит очень громко уже целых полстолетия и сейчас выступает вновь». Не без оснований богослов заявляет, что «либеральный образ внедогматического пророка Иисуса есть абстракция и конструкция»[203]. Ему больше импонирует как раз тот образ, который пришел от теологии общины. В нем он находит истинную действительность Иисуса Христа не в абстракции некоего недогматического «исторического Иисуса», а в проповеданном Христе первохристианской миссии. Если можно что-нибудь понять в этих неопределенных формулах, то, очевидно, здесь провозглашается призыв к тому, чтобы, не мудрствуя, принимать сложившийся традиционный образ Христа.
С одной стороны, Альтхауз вынужден признать печальную истину: «Состояние источников таково, что ни хронологию жизни Иисуса, ни ее прагматическое изложение мы дать не можем… Мы видим всегда Иисуса только сквозь некую завесу…» С другой стороны, сквозь указанную завесу «мы в состоянии решающие черты облика Иисуса достаточно отчетливо проследить»[204]. Правда, только в «духовном смысле», ибо речь идет дальше только о чертах морального облика богочеловека, а не о его реальном человеческом историческом образе. Говорится и о «чертах образа, самосознания, миссии, обхождения с людьми и т. д.», но и здесь делается ставка не на «определенные высказывания», а на «его общее поведение и деятельность». Эту уклончивую и скользкую словесность сам Альтхауз называет «косвенной христологией»[205].
Когда нет оснований и материала для прямой постановки вопроса и его столь же прямого решения, на которое у богослова не хватает элементарного мужества, приходится прибегать к «косвенным» методам. Особенно богатые возможности открываются в этом отношении субъективистской казуистикой вокруг понятия исторической достоверности. Альтхауз не упускает эти возможности. Он утверждает, что и недостоверное (unecht) может обладать достоверностью (Echtheit). «Мы, — говорит он, — дифференцируем понятие достоверности, и те повествования и изречения, которые в смысле исторического исследования «недостоверны» и не передают того, что происходило в действительности, могут в некоем существенном смысле быть достоверными — в качестве выражения действительного значения происходившего или исторической личности. В этом плане достоверно все то, в чем отражается познанный смысл сущности и значения Иисуса Христа, как бы ни преломлялся он через индивидуальность свидетеля и способы выражения, характерные для его времени»[206].
Автор относит такую установку и к тем евангельским текстам, которые сам же именует неисторическими, беря это слово в кавычки. «Эти места, — говорит он, — должны читаться не исторически, а экспрессионистски: они выражают сущность и значение Иисуса способом поэтической наглядности истории»[207], каковой способ он считает преобладающим в евангельских повествованиях о последних днях жизни Иисуса. Такие неисторические повествования являются достоверными в более глубоком смысле, поскольку они стремятся выразить тайну бытия и пришествия Христа.
В каком-нибудь смысле всякое повествование является историчным — оно свидетельствует, по меньшей мере, о его авторах, о той общественной и идеологической атмосфере, в которой возникло. Но та историчность, которую здесь Альтхауз приписывает евангельским легендам, признавая в то же время их недостоверность, конечно, не заслуживает этого названия; об историческом Иисусе они ничего сказать не могут. А попытки богослова извлечь из них что-нибудь подобное отдают довольно явственной софистикой.
Значительно более сложной и продуманной выглядит эта система в построениях более «левых» кругов богословов-христологов, в особенности примыкающих к школе Р. Бультмана.
Вместо истории — «сверхистория»
В 1959 году немецкий протестантский богослов X. Концельман сделал такое поразительное по своей откровенности заявление:
— Церковь фактически живет лишь тем, что результаты исследований о жизни Иисуса в ней малоизвестны.
Через четыре года О. Кюстер, воспроизведя заявление своего коллеги Концельмана, утешал его и себя:
— Похоже на то, что это (распространение научных сведений о жизни Иисуса. — И. К.) будет происходить постепенно[208].
Смысл ясный — церковь располагает еще достаточным временем для того, чтобы использовать разнообразные методы обороны и маневрирования; во всяком случае, «на наш век хватит» этого времени. Но прошло еще несколько лет, и журнал «Шпигель» констатировал крушение надежд. И в церкви, и в «общине» начались бурные дискуссии, в которых на одной стороне действовали те самые разрушительные «результаты исследований о жизни Иисуса», а на другой — стремление любыми средствами удержать основы христианского вероучения. И так как превосходство — за первым из факторов, то дело складывается плачевно для христианства, которое, впрочем, не является в этом отношении исключением из всех других религий.
Вооружение и амуницию консервативно-традиционного лагеря мы выше описывали. Его позиции настолько неустойчивы, что их постепенно, но достаточно быстро, покидает все большее количество идеологов христианства. Они не собираются расставаться полностью с догматикой своей религии и с центральным ее пунктом — образом Иисуса Христа. Они хотят лишь сделать этот образ хоть в какой-то мере правдоподобным для себя и для той части «общины», которая уже не удовлетворяется традиционно-привычными штампами и ищет каких-то новых решений, могущих казаться в какой-нибудь степени осмысленными. Если не считать наиболее консервативных теологов, то в общем богословы теперь заняты усиленными поисками этих новых решений. Беда только в том, что (как обычно бывает во всех кризисных положениях) направления поисков расходятся по многим сторонам. Создается впечатление хаоса и разброда, царящего в современной богословской литературе по вопросам христологии.
Последователи А. Швейцера настаивают на трактовке образа Христа исключительно в плоскости эсхатологии — учения о конце света. Не существенна-де биография Иисуса, тем более, что ее и воссоздать невозможно, важно лишь, что в какой-то момент истории древнего мира выступил некий человек или богочеловек, объявивший себя мессией и возвестивший неизбежность конца старого мира. Он вошел в историю под именем Иисуса Христа. Его учение и теперь вселяет в нас надежду на счастливое будущее, которое ждет людей после реализации великого эсхатологического обещания. Появилось даже специальное направление в протестантском богословии, ориентирующееся на эту перспективу. Его христологическая и общетеологическая концепция сформулирована в книгах Ю. Мольтмана, пропагандирующих «теологию надежды», в которых автор, опираясь на Швейцера, дает эсхатологическую трактовку образа Иисуса и вполне оптимистически рисует картину грядущего осуществления возвещенного Иисусом конца света.
Искать образ человека-Иисуса можно только с помощью методов исторического исследования. А они-то как раз и дали катастрофические для этого образа результаты! Получается порочный круг: мистический Христос-бог не подходит для нашего научного и секуляризованного века, а Иисуса-человека как реальную историческую личность найти во тьме столетий никак не удается. Выход из затруднений наиболее «утонченное», и философски-изощренное крыло современных богословов ищет в методах запутывания самих понятий исторической истины и реального исторического факта, самой сущности и задач исторической науки.
Один из способов, при помощи которого можно выдать миф за действительность и ложь за истину, заключается в том, чтобы стереть границу между фактом и фантазией, действительностью и галлюцинацией, историей и мифологией. В современной буржуазной философии широко распространены концепции, выражающие презрение к «наивному позитивизму» XIX века, прокламировавшему свое стремление устанавливать лишь действительно происходившие в истории факты. Осмеивается и отвергается сформулированный еще Леопольдом Ранке принцип позитивистской историографии — описывать, «как собственно было дело». Надо стремиться, твердят сторонники субъективно-идеалистической историографии, не к учету «голых фактов», а к чему-то более существенному. Для теологов это «более существенное» заключается в обслуживании интересов веры. И здесь они готовы опереться даже на такие концепции и таких авторов, которые сами по себе далеки от правоверия, но создают какие-то возможности для апологетического лавирования.
Оказывается, существуют две разных истории. В немецкой теологии нашего времени они обозначаются соответственно и разными терминами: одна — Weltgeschichte — мировая, светская история; другая — Heilsgeschichte — священная, спасительная, божественная история. Для богословия якобы важны и та и другая. Обе заслуживают название «история» в отличие от того, что происходит в природе.
Происходит! Самое-то важное и заключается в выяснении того, что происходит и что не происходит, а в отношении истории — что происходило когда-то и что не происходило. Но если выгодно смешать то и другое, то нужно сконструировать понятия, которые создают возможность такого смешения. И названия для них не так трудно придумать. Гибкость немецкого языка, возможность использования в нем помимо германских еще и романских и даже греческих корней позволяет вносить в рассуждения такую гуманность, которая в состоянии обеспечить им и наукообразность, и приличествующую теме мистичность. Р. Бультман использовал в данном вопросе двойственность немецких терминов Geschichte и History. Светскую, мировую историю он обозначил первым из них, а для «священной истории» оставил значение собственно History, настоящей истории в более высоком и глубоком плане.
Это уже не просто история, а некая сверхистория. С этой точки зрения вообще рассуждать не о чем и незачем, так что непонятно, почему после такого заявления еще следуют сотни страниц, на которых документы анализируются с точки зрения их исторической ценности, к чему анализ и сопоставление разных точек зрения. Иисус — выше всего, выше документов, фактов, истории, разума, смысла и чего угодно…
Нельзя, однако, допустить потерю наукоподобной видимости богословских построений, неизбежную при таком решении вопроса. Для сохранения этой видимости обращаются к Канту, Кьеркегору, к теоретикам философии экзистенциализма.
За миром голых и грубых фактов, регистрируемых Geschichte, лежит область вещей в себе, мир, содержание которого никогда не может стать предметом восприятия и науки. Если история так же непознаваема, как природа, то мы не в состоянии принять никакого решения о реальности или нереальности тех или иных событий, о которых говорят и рассказывают предания старины. Характер этих событий тоже невозможно вскрыть в его объективном значении. А поскольку это так, то о Христе достаточно знать то, что говорят о нем вера и церковное предание.
Развернутое выражение эта концепция получила в работах Бультмана. В философском отношении она основывается у него на теории экзистенциализма.
С точки зрения этой теории первичным элементом, подлежащим анализу, является не объективная сущность вещей, которая вообще представляет собой нечто неведомое и сомнительное, а лишь существование или, точней, переживание человеком его существования. Это значит, что фактическая, объективная — в данном случае историческая действительность не имеет значения, существенно лишь восприятие и переживание человеком этой «действительности». Так следует подходить и к религиозным сюжетам. Не нужно трактовать их объективирующим, «опредмечивающим» образом. В христианстве важна лишь вера, не объективирующая и не опредмечивающая себя в мифах.
Бультман ничего не имеет против признания историчности Христа. Наоборот, он даже считает сомнение в историческом существовании Христа настолько неоправданным, что оно не заслуживает опровержения. Столь же несомненным выглядит, по Бультману, факт основания Иисусом того исторического движения, которое породило палестинскую христианскую общину на первой стадии ее существования. Другой вопрос — в какой мере эта община сумела сохранить в дальнейшем образ Христа и его первоначальную проповедь. Но это Бультмана особенно и не интересует. Его интересует не Иисус как реальная и историческая личность, а та вера в него, которая сложилась в христианской общине. Вполне историческим началом в высшем смысле этого слова Бультман считает не связанную с именем Христа мифологию и даже не те естественные события, о которых повествуется в евангельской биографии Христа, а лишь керигму, возвещение, пропаганду. В этой связи, например, говорит он о «пасхе» (имеется в виду совокупность сообщений, связанных с последними днями жизни, со смертью и воскресением Христа. — И. К.): «Пасха — событие, поскольку оно может быть названо историческим, — есть не что иное, как возникновение веры в воскресшего… Как историческое событие, может рассматриваться лишь возникновение веры в пасху у первых учеников»[209].
По существу, Бультман уклоняется от прямого ответа на вопрос о личности Христа, хотя он и признает его историческое существование. В той плоскости, в которой он рассматривает вопрос о Христе, центром становится не личность последнего, а лишь ее отражение в христианской вере. Исходя из возможности самой радикальной переработки религиозной фантазией того первоначального материала, который лег в основу дальнейшего мифотворчества, Бультман отказывается сказать что-нибудь определенное о характере этого исходного материала.
Работы апостола демифологизации вызвали чрезвычайно бурные отклики. У него много последователей среди не только протестантских, но и католических богословов. Его концепция вошла в общий фарватер той тенденции в богословском лагере, которая переносит центр тяжести религиозной веры из узаконенной канонизированной догматики в область индивидуальных переживаний верующего. Древс охарактеризовал эту тенденцию в применении к христологической проблеме следующими словами: «На место теологии жизни Иисуса стала так называемая теология переживания, утверждающая, что поскольку историческое существование Иисуса не может быть доказано доводами разума, его достоверность может быть постигнута интуитивным путем, путем внутреннего переживания»[210].
Взгляды Бультмана не укладываются полностью в рамки «теологии переживания», но они близки к ней. И здесь и там налицо стремление уйти в сторону от фактов исторической действительности и перенести весь вопрос в плоскость керигмы и ее восприятия всей общиной в целом и, в особенности, индивидуальной верующей личностью.
Несоответствие этой тенденции основным догматическим положениям христианства совершенно очевидно. И понятно, что если бы было можно обосновать действительное существование Христа и начертать его образ при помощи внушающих доверие исторических документов и материалов, то «теология переживания» вряд ли нашла бы себе мало-мальски значительное число приверженцев. Но при существующем положении к ней обращаются все большие группы богословов и богословствующих мирян.
Правый и левый фланги богословской христологии
Покамест «левые» группировки в христологии встречают все еще ожесточенное сопротивление. И формы, и интенсивность этого сопротивления различны и располагаются по широкой амплитуде. Наиболее ярким выражением антимодернистского сопротивления является упоминавшееся выше «Вероисповедное движение — никакого другого евангелия!», получившее широкое распространение в ФРГ. Там дело не ограничивается публикацией книг и статей в газетах и журналах; созываются массовые собрания и митинги, где в атмосфере высокого накала страстей подвергаются осуждению проповедники «нового евангелия», рассматривающего «пустой гроб», непорочное зачатие и т. д, лишь как элементы керигмы, а не как факты истории, О характере критики, которой подвергаются Бультман и его единомышленники, можно судить хотя бы по тому, что на массовом митинге в марте 1966 года в Дортмунде их идеи признавались несравненно более опасными для христианской религии, чем взгляды «немецких христиан» 30-х годов. Напомним, что речь идет о направлении в лютеранской церкви, стремившемся поставить христианство на службу гитлеровскому режиму и его идеологии.
Та ожесточенность, с которой консерваторы нападают на бультманистские концепции, имеет свою логику. Не без основания ссылаются они на известное положение Лютера: «Кто отрицает что-нибудь, отрицает все». Отказаться от признания одних элементов евангельской легенды — значит открыть возможность для сомнений по поводу любого другого ее элемента. В опасности такого пути отдают себе полный отчет основные кадры христианских богословов нашего времени.
По адресу модернистской христологии с трибуны всех лютеранских конференций произносятся критические и сдержанно-осуждающие замечания. На IV Генеральном синоде Объединенной лютеранско-евангелической церкви Германии летом 1967 года много говорилось о необходимости «самокритической трезвости» в решении проблем, стоящих перед церковью. Руководители церкви больше всего боятся того, как бы в подобной обстановке вообще не рухнула та вера в Иисуса Христа, которая до сих пор еще держится среди их прихожан.
С этим вообще дело обстоит довольно печально. Но руководители церкви не склонны рассматривать падение религиозности в народных массах как результат деятельности теологов-модернистов. «Что церкви сегодня постоянно пусты, — сказал епископ Хайнце на заседании IV синода, — вряд ли, как правило, имеет своей причиной то, что в них проповедуется «другое евангелие». Епископ усматривает несравненно более важную причину падения религиозности в «многочисленных, внешне правильных, но скучных проповедях и уроках, в которых не хватает силы для освещения действительности…»[211]. А главное то, что «углубленное и все более углубляющееся научное познание мира и овладение им при помощи техники ставит совсем новые вопросы, которые уже не могут быть устранены и ликвидированы традиционными вероисповедными формулами». Приведя эту цитату, католический обозреватель сопровождает ее меланхолическим примечанием: «Знакомая проблема для католического духовенства!»[212].
И протестантские, и католические церковники отдают себе, таким образом, довольно ясный отчет в том, что настаивать в наше время на безоговорочной истинности христианской догматической системы и ее центрального пункта — исторического богочеловека Иисуса Христа — нерасчетливо и нецелесообразно. Поэтому и не подвергаются категорическому осуждению взгляды идеологов «теологии переживания», не столь уже далекие от прямого отрицания историчности основателя христианства. Не исключено, что ход событий поведет в дальнейшем к еще большему «полевению» церкви в этом решающем пункте христианского вероучения.
А пока что она занимает позицию выжидания. Время от времени делаются решительно звучащие заявления о незыблемости основ христианской догматики, но в отношении тех теологических концепций, которыми эти основы самым усиленным образом расшатываются, руководящие инстанции церквей ничего не предпринимают, а от особенно рьяных нападок даже защищают. Чем объясняется эта тактика?
Во-первых, трудным положением, в котором не так легко принять определенное решение. А во-вторых, видимо, надеждой на то, что постепенно можно будет приучить общественное мнение и духовенства, и паствы к решительным изменениям в догматике. Может быть, не так далек момент, когда и в Символ веры, и в определения Халкидонского собора будут внесены такие «разъяснения», в свете которых Иисус Христос окажется не богочеловеком, а только богом или только человеком. Заодно, вероятно, будет сообщено, что это разъяснение отнюдь не означает перехода церкви на позиции монофизитства или арианства, хотя в сущности это будет означать именно такой переход и ничего другого.
Вольнодумствующий патер о Христе
Патер Ганс Кюнг — заметная фигура в мире католического богословия. Еще в тридцатичетырехлетнем возрасте он был привлечен папой Иоанном XXIII для работы на II Ватиканском вселенском соборе в качестве эксперта и личного советника папы по богословским вопросам. После собора Кюнг опубликовал ряд толстых книг. В своих богословских концепциях этот католический священник и профессор знаменитого Тюбингенского университета довольно последователен: он требует радикального обновления как вероисповедной доктрины католицизма, так и самой церковной организации. При папе Иоанне Павле II Кюнг за свое вольнодумство был лишен права преподавания теологии в Тюбингенском университете.
Обозревая историю христианства, Кюнг находит в ней огромное многообразие религиозных, общественно-политических и идеологических явлений: «Столетия мелких общин и больших организаций. Преследуемые становятся господствующими и, наоборот, подполье сменяется государственной церковью, после нероновских мучеников — константиновские придворные епископы. Монахи — ученые и церковные политики… Папские синоды и направленные против папства ре-формационные соборы. Золотой век христианских гуманистов как секуляризованных людей Возрождения и церковной ортодоксии реформаторов. Католическая и протестантская ортодоксия и евангелическое пробуждение. Времена приспособления и сопротивления, инноваций и реставраций, сомнения и надежды…»[213]. На что нужно ориентироваться в этом калейдоскопе явлений двухтысячелетней истории? Что надо признать главным и определяющим?
До сих пор, как явствует из всего хода изложения, правдивого ответа на этот вопрос в церковном учении и теологической литературе не было, во всяком случае его не было отчетливо слышно. Теперь этот ответ дается в разбираемой книге.
Главным и определяющим в христианстве является личность Иисуса Христа и ничто другое. Остается только разъяснить, каково содержание этого образа, и станет ясно, что значит быть христианином. Но это-то и оказывается трудным до невозможности.
Кюнг последовательно рассматривает различные возможные решения вопроса об образе Иисуса. Христос благочестия? Догматики? Мечтателей? Литераторов? Бесчисленны варианты этих образов, многообразен до абсолютной неопределенности даже канонизированный догматический вариант. Куда проще оказывается сказать, чем и кем не был Христос. Здесь Кюнг — в своей стихии; он мастер негативных суждений. Иисус не был священником, теологом, революционером, монахом, членом ордена, аскетом, ревностным исполнителем закона, он не отделялся от мира и не раздваивал мир наподобие кумранитов, не признавал иерархического порядка. Особенно категорически отрицает Кюнг социально-революционную ориентацию Христа. Спаситель, правда, ждал скорого конца существующего света, но ни в коем случае не считал возможным его уничтожение человеческими средствами. Он «проповедовал революцию ненасилия», и «аналогами ему можно считать в этом плане не Че Гевару и не Камило Торреса, а Ганди и Мартина Лютера Кинга» (стр. 181–182). Такое заявление обнадеживает; кажется, что-то позитивное собирается сказать автор… Но нет, он спохватывается и опять за свое: «Не философ и не политик, не священник и не социальный реформатор. Гений, герой, святой или реформатор? Но не был ли он радикальней всех реформаторов?» (стр. 198–199). Он был моральней моралистов, революционней революционеров. В общем «ясно одно: Иисус— другое!.. Ни с чем не сравнимое— тогда и сегодня» (стр. 203).
Из всего этого, однако, нельзя извлечь ничего для решения вопроса, что значит быть христианином. Автору такое положение тоже ясно: «Все, до сих пор сказанное, обрисовывает образ Иисуса больше (по сути дела, целиком. — И. К.) в негативном плане». В следующей за этим заявлением главе и решается такой немаловажный вопрос, как определение сущности Mitte — центра учения Иисуса Христа.
Таковым центром является предречение царства божия в ближайшем будущем. Неясно, имеется ли в виду это царство на небе или на Земле. Во всяком случае, это «не территория или область господства…, а власть Бога» (стр. 205). Опять начинаются негативные определения. Следует ряд пунктов на тему о том, чем царство божие не должно считаться. «Это не временное, от начала творения данное Богом господство иерусалимских иерархов… Не насильственно учреждаемая религиозно-политическая теократия или демократия зелотских революционеров… Не суд мести в пользу элиты совершенных, вроде ессев и кумранских монахов…» и т. д. К каждой из этих формул дан и позитивный контртезис, что фактически все-таки ничего не дает. Речь идет о «грядущем царстве Божием в конце времен», причем опять-таки остается непонятным, предусмотрено это царство на небе или на Земле. Во всяком случае в нем будет «непосредственное, неограниченное мировое господство Бога». Само это положение в состоянии вызвать недоумение, ибо, как известно, господство бога в мире никогда не ограничивалось религией и до сих пор. Остальные «позитивные» пункты столь же пусты: «Радостное благовестие безграничного добра и безусловного милосердия от Бога. Царство, где по молению Иисуса имя Божие действительно освятится, его воля проявится и на Земле, людям будет воздано во всей полноте, все вины простятся и все злое будет преодолено…» (стр. 206).
Но вот, кажется, в этой словесной пустыне проглядывает оазис некоего социального содержания: «Царство, где по Иисусовым обетованиям, наконец, бедные, голодные, плачущие, угнетенные будут удовлетворены, где страдания и смерть исчезнут» (стр. 206). Однако, в чем конкретно будет выражаться это удовлетворение голодных и угнетенных, не говорится, так что оазис оказывается миражом.
Автор сам понимает, что ничего вразумительного из его описания царства божия не получается, и во вступлении к новому потоку отвлеченных понятий («полная справедливость, неограниченная свобода, нерушимая любовь, всеобщее примирение, вечный мир») признается, что «царство может быть не описано, но только представлено в образах». А образы это такие: «Новый союз, взошедший посев, зрелый урожай, великая трапеза, царственный праздник» (стр. 206). Пожалуй, здесь теряется грань между позитивным и негативным, ибо реального смысла не содержит не только последнее, но и первое.
Сильнейшее затруднение представляет для автора и вопрос о том, когда же наступит это вожделенное, хотя и непонятное, царство божие. Сначала идет лаконичный и выдержанный в общем стиле загадочной неопределенности ответ: «В абсолютном будущем». Иначе говоря, до наступления царства божия может пройти сколь угодно много времени. Но Иисус-то ведь предсказывал, что оно наступит при жизни современного ему поколения! И сие пророчество не оправдалось не только тогда, но и на протяжении последующих двух тысячелетий. Выходит, Иисус ошибался? С неожиданной прямотой Кюнг признает это конфузное обстоятельство и переключается на пространные рассуждения, из которых должно вытекать, что ничего страшного для христианского благочестия в этом нет. Человеку свойственно ошибаться, и «если Иисус из Назарета действительно был человеком, он тоже мог ошибиться». После этого следует ряд выпадов против теологов, которые «боятся ошибки больше, чем греха, смерти и дьявола» (стр. 208).
И все-таки надо как-то затушевать тот факт, что основатель христианства мог ошибаться. Следует длинное казуистическое рассуждение о том, полностью ли подходит здесь понятие ошибки. Ведь речь идет, рассуждает Кюнг, только о «космическом знании», а погрешность в этой плоскости не может считаться просто ошибкой. Наша планета и человечество имели начало, что подтверждается и наукой, должны будут иметь и конец, каковой, несомненно, связан с наступлением царства божия. И уж если так, то «понятие ошибки выглядит в этой связи как недифференцированное и даже просто неподходящее» (стр. 209). Вот так можно превратить черное в белое, и наоборот.
Ошибался Христос в сроках или не ошибался, важно, что царство божие обязано наступить. Это должно, видимо, означать, что исчезнет то многообильное зло, которое омрачает жизнь людей. Здесь мы сталкиваемся с вопросом, который всегда был для богословов камнем преткновения, он и теперь мешает Кюнгу воздвигать его теологические построения. Речь идет о несовместимости факта страданий в мире с учением не только о том, что этот мир создан разумным до абсолютного совершенства богом, но и о том, что человеческие грехи искуплены и сами люди спасены пришествием Иисуса Христа. Разве два тысячелетия, прошедших после этого избавления и спасения, в какой-либо мере сделали более светлой жизнь людей? Кюнг знает, что этого не произошло.
«От Иова до наших дней» человек спрашивает: почему я страдаю? Оставаясь без ответа, этот вопрос режет под корень не только учение о боге и его промысле, но и догмат об избавлении, осуществленном богом при помощи страданий Иисуса Христа. Ибо картина страдающего человечества, как сильно и метко характеризует ее Кюнг, «кричит к небу, — нет, против неба!» (стр. 419).
Дошло ведь до того, что люди решили взять свою судьбу в собственные руки. Стали думать, что вместо Бога-Спасителя должен выступить сам себя спасающий и освобождающий человек и что человек вместо Бога должен стать субъектом истории. Это не нравится Кюнгу. Ни технологическая, ни политико-социальная революции не могут спасти человечество. Весьма пространно на большом количестве страниц (28–47), но без особой убедительности доказывается бесполезность борьбы людей за ликвидацию социального и прочего зла.
А кто же должен осуществить это спасительное для человечества дело? По глубочайшему замыслу божию, как гласит христианская догматика, это должен был совершить Христос своим воплощением в человеческом образе и самопожертвованием. Но в том, как это происходило, Кюнг находит сомнительные пункты.
Прежде всего непонятно, для чего все это было нужно. Богослов признает несколько странным тот способ ликвидации последствий первородного греха, каковым явилось жертвоприношение Иисуса. Августин Блаженный и папа Григорий Великий рассматривали смерть Иисуса как выкуп, внесенный богом-отцом дьяволу. Ансельм Кентерберийский придал этому юридически оформленный вид: раз преступление совершено, должно последовать и наказание. Для древних и средневековых юридических представлений это подходило, но при чем тут евангельская любовь, милосердие и т. д.? Перед нами не откровение божественной истины, а отражение исторически ограниченных представлений людей определенной эпохи. Но мы-то ведь живем в другую эпоху! Современному христианину, стало быть, вовсе, по Кюнгу, не обязательно в это верить.
Однако Иисус жил, настаивает Кюнг, и в его личности, в его проповеди содержится центр, сердцевина христианского учения. И как ни относиться к фактической стороне дела (а автор много раз подчеркивает свое пренебрежительное к ней отношение), верующий хочет знать, что все-таки происходило с объектом его веры.
Как быть с биографией Иисуса?
Католический богослов отвергает догмат непорочного зачатия. Не без осторожного хождения вокруг да около он формулирует в конце концов тезис: «Никто не обязан верить в биологический факт непорочного зачатия или рождения» Иисуса (стр. 447). Значит, учение церкви следует признать ошибочным? Нет, можно найти выход в том, что непорочное зачатие надо трактовать «христианско-теологически, а не биолого-онтологически» (стр. 446). И то, что говорится в евангелиях о зачатии и рождении Иисуса, не мешает этому. Да, у Матфея и Луки так сказано, но это не составляет сути (смысла) центральной идеи евангельского учения. У Марка, Иоанна и в Павловых посланиях мифа о непорочном зачатии нет. Не надо, впрочем, в практике проповеди молчать об этом догмате. Следует говорить о нем, но «честно и дифференцированно», причем надо помнить «о необходимости и границах демифологизации» (стр. 447). А где эти границы? Об этом у Кюнга ничего определенного не сказано.
Жизнедеятельность Иисуса, по евангелиям, протекала в двух формах: он проповедовал и творил чудеса. Если содержание Иисусовых проповедей можно при помощи некоторых казуистических приемов освободить от противоречий и привести к некоему единству, то с чудесами дело обстоит сложней. Кюнг много раз указывает на то, что для сознания современного человека вера в чудеса неприемлема и что, если церковь будет продолжать настаивать на достоверности евангельских чудес, она рискует тем, что верующие перестанут принимать всерьез ее проповедь. Надо с этим «неудобным», «неприятным» (выражения самого Кюнга) вопросом что-то придумать.
Богослов начинает его анализ с достаточно откровенных признаний — один из заголовков этого раздела звучит весьма красноречиво: «Маскировка затруднительного положения». Само понятие чуда неопределенно и растяжимо, и это обстоятельство, как иронизирует Кюнг по адресу теологов (значит, и по собственному), представляет большие удобства; используя их, богословы «элегантно маскируют» проблематику новозаветных чудес (стр. 217). Приводятся различные трактовки вопроса о чудесах, и все они не удовлетворяют автора. После того, что сказано им о «маскировке», можно ждать, что сам Кюнг, наконец, возьмет быка за рога и даст определенное решение проблемы. Этого, однако, не происходит.
Начинается анализ с довольно конкретной постановки вопроса. В евангелиях рассказывается об определенных категориях чудес, совершенных Иисусом: исцеления, изгнание бесов, три воскрешения мертвых, семь «натурных» чудес, начиная с прекращения бури и кончая превращением воды в вино. Все разработано обстоятельно и солидно, остается только ответить на вопрос, могли ли когда бы то ни было и кем бы то ни было совершаться такие нарушения законов природы, которые именуются чудесами в собственном смысле этого слова? Ибо все многословие Кюнга или кого бы то ни было другого относительно разных толкований слова «чудо» лишь запутывает проблему вместо того, чтобы способствовать ее решению. Евангельские повествования о чудесах Иисуса Христа не допускают никакой многозначности. Евангелисты имеют в виду не что иное, как действия и события, нарушающие законы природы. Возможно это или невозможно?
На этот вопрос Кюнг ответа не дает.
Часть сообщений об Иисусовых чудесах, говорит он, может отражать то, что действительно было. Например, в случаях исцеления надо иметь в виду возможность психотерапии. Ведь многие болезни психогенны, и в некоторых случаях лечебный эффект мог действительно достигаться. А как быть с другими случаями, когда описываются Иисусовы чудеса, не связанные с болезнями? И там, рассуждает Кюнг, могли быть «поводы» к тому, чтобы соответствующая легенда появилась. А уж если обнаруживается такой повод, то и легенда уж не совсем легендарна. Например, сообщение о том, как Иисус своим словом усмирил бурю на море, может иметь исторические основания в действительном происшествии, когда после обращения к богу с мольбой о спасении случайно последовало облегчение положения терпящих бедствие. Ни одним намеком Кюнг не выражает мнения о чудодейственном значении молитвы, он имеет в виду просто случайное совпадение обстоятельств. Такое же совпадение могло явиться «историческим поводом» к любому другому евангельскому сообщению о чуде, сотворенном Иисусом. Но что тогда остается от религиозного учения о чуде как сверхъестественном событии, нарушающем законы природы?
Фактически отвергается и учение о центральном чуде жизни и смерти Христа: о его воскресении из мертвых. Что оно центральное, что вера в него является пробным камнем для установления того, может ли данное лицо считаться христианином, вытекает из категорического утверждения апостола Павла: «…Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (I Коринф., XV, 14). Как же обходится Кюнг с этим непререкаемым условием «нетщетности» веры?
Он дает здесь классические образцы казуистического теологического суесловия, фактически лишенного всякого смысла, но имеющего видимость не только благочестия, но и глубокомыслия. Воскресение было, но его и не было. И наоборот: вокресения не было, но оно было. Десятки страниц исписываются так, что на каждой из последующих опровергается то, что сказано на каждой из предыдущих.
В немецком теологическом словоупотреблении события, связанные с воскресением и вознесением Христа, обозначаются выражением Ostergeschichte — «пасхальная история», а вера в воскресение связывается с представлением о «пустом гробе», каковой был, по евангелиям, обнаружен учениками Иисуса после того, как тот, воскресши, ушел из него. Кюнг свободно оперирует этими понятиями, но так опустошает их, что можно с полным правом сказать: он их просто исключает из христианской догматики. Делает он это, однако, чрезвычайно «элегантно», если выражаться его же терминологией.
Для начала автор подменяет понятие воскресения понятием воскрешения. Не сам, мол, Христос воскрес, а бог его воскресил. А является ли «воскрешение» действительно историческим фактом? Ответ на это можно усмотреть в следующей тираде: «Если говорить о воскрешении Божией деятельностью, то не может быть речи о строгом историческом смысле этого события и о его установлении исторической наукой и историческими методами. Воскрешение имеет в виду не такое чудо, которое прорывает законы природы и констатируется внутримировыми методами, дислоцируется и датируется как сверхъестественное вторжение в пространство и время» (стр. 338). Затем следует ряд выпадов против наук (исторической, биологической и т. д., включая теологию), которые «видят лишь один аспект многослойной действительности». А если видеть все аспекты, то окажется, что как при воскресении, так и при воскрешении «речь идет о метафорических, образных терминах». В основе образа воскресения лежит представление о вставании, пробуждении от сна с возвратом в предшествующее состояние, в земную смертную жизнь. А здесь воскресший — простите, воскрешенный Иисус переходит в совсем другое состояние. Это не жизнь, а нечто совсем иное; чтобы подчеркнуть это, Кюнг прибегает даже к латыни totaliter aliter — полностью другое. Но что именно?
Опять Кюнг прибегает к своему излюбленному приему: воскресение Христово не есть то или другое, или третье, или десятое, но оно есть и то, и другое, и десятое: «Не призрак и все же не осязаемое, видимое и невидимое, материальное и нематериальное, по сю и по ту сторону времени и пространства».
После этого не так уж трудно сказать, что воскресение Христа было и телесным, и не телесным. Его не было, если трактовать это самое тело как «идентичную личную действительность» (стр. 340).
Если все же попытаться найти здесь какой-то реальный смысл, то он заключается в том, что воскресения Христа в прямом евангельском смысле этих слов не было.
Получается, правда, неблагополучно с «пустым гробом». На десятках страниц описывает Кюнг виражи вокруг создавшейся неприятной ситуации. Оказывается, что учение о «пустом гробе» вообще неважно: «оно не является ни вероисповедным догматом, ни основой, ни предметом «остер-веры» (стр. 356). И хотя в предшествующем изложении было немало упреков по адресу «исторической критики и естествознания», приходится считаться с тем, что эти немощные человеческие науки критически относятся к «пустому гробу». И приходится не связывать себя «необходимостью признавать физиологическое представление о воскресении».
Так же разделывается Кюнг и с другими компонентами «пасхальной истории», в частности с телесным вознесением Христа на небо после сорокадневного странствования по Земле. И здесь обнаруживаются возможности квалифицированного маневрирования. Что, собственно, представляет собой небо? Отнюдь, конечно, не семиэтажную твердь, где Иисус Христос после своего вознесения восседает на троне по правую руку бога-отца. «Небо веры не есть небо астронавтов». Это не только не твердь, но и вообще не пространственное понятие. «Не место, но форма бытия». А если так, то «само собой разумеется, Иисус не совершал никакого мирового путешествия в пространстве». Он просто отправился в «таинственное невидимо-непостигаемое царство Божие», в результате чего оказался «включенным в великолепие Отца» (стр. 342). Если не признавать всей этой таинственной невидимости-непостигаемости, то получится нечто подобное тому, что не раз уже бывало в истории религии и мифологии. По поводу вознесения, в частности, Кюнг вспоминает не только Илию и Еноха из Ветхого завета, но и Геракла, Эмпедокла, Александра Македонского и Аполлония Тианского. Не угодно ли, мол, вам, христиане, верить и в этих богов?
А если оставить от всей новозаветной эпопеи Христа только абстрактный и неуловимый мистический туман, то, что будет питать конкретно-образную веру немудрствующего простого христианина, воображение которого требует «воспринимаемой» духовной пищи? Единственное, что Кюнг оставляет для этих целей, — это то, что Иисус жил и, главное, был распят. Подводя итоги, он пробегает мимо воскресения и прочей невообразимости, делая основной упор на факте распятия.
Таким образом, от новозаветного, церковно-догматического, никео-цареградского Иисуса ничего не остается. И ясно, что не из пафоса правдивости теолог идет на такую болезненную операцию, а лишь потому, что «остер-вера» все больше перестает работать хоть в какой-либо мере убедительно.
Можно было бы отвлечься от чудес и попытаться, размышляет Кюнг, реставрировать человеческую историческую биографию Иисуса. Таких попыток было огромное множество, но все они неудачны, ибо «написать биографию Иисуса из Назарета невозможно» (стр. 142), и прежде всего по причине скудости источников. Ничего нет, кроме евангелий, а это очень бедный источник. С большим почтением говорит Кюнг о евангелистах как «оригинальных теологах»: каждый из них имел свою концепцию и вовсе не собирался составлять нам «стенографические протоколы». Но в этом же и источник ненадежности их сообщений. Евангелисты — «ангажированные» свидетели, которые «с начала до конца стремились изображать Иисуса в свете его воскресения как Мессию, Христа, Господа, Сына Божия» (стр. 145). На основе их данных нельзя построить не только биографию Иисуса, но и «вообще законченный образ его — традиционный, спекулятивный, либеральный или последовательно-эсхатологический» (стр. 151).
Не будучи в состоянии дотянуться до вожделенного винограда достоверности, богослов объявляет его зеленым. «Реставрация, реконструкция (исторической истины. — И. К.) — неправильные слова. Позитивистской историографии нужно установление фактов» (стр. 151), а христианской вере нужна… вера.
VI. Вместо заключения
Возможно, что некоторые читатели выразят свою неудовлетворенность тем, что не получили в этой книге ясных и категорических ответов на многие вопросы, связанные с личностью Христа. Мы хотели, скажут они, выяснить, что же знает история об Иисусе Христе? И оказалось, что, по существу, она о нем ничего или почти ничего не знает. Как же это может быть? Ведь такая необъятная литература на всех языках мира посвящена этой личности!..
Да, но это литература лишь о том, как люди в разные времена представляли себе Иисуса Христа, притом не в те времена, когда он предположительно существовал, а в позднейшие. Что же касается современных эпохе Христа исторических материалов, то уж — чем богаты, тем и рады. Пожалуй, это может прозвучать здесь иронически: какое уж богатство…
Лучше «плохая» правда, чем «хорошая» ложь. Мы применили здесь кавычки, ибо на самом деле как нет ничего плохого в признании научной истины, так нет ничего хорошего в ее отрицании, если она даже кое-кому и не нравится.
Мы надеемся, читатель не может упрекнуть нас в предубежденном подходе к личности Христа и в пристрастном решении связанных с ней проблем.
Примечания
1
Митрополит Макарий. Православное догматическое богословие. СПб, 1906, с. 187.
(обратно)2
Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений, т. VIII. М., 1973, с. 450.
(обратно)3
Там же, т. X, 1973, с. 197.
(обратно)4
Там же, т. XIV, 1976, с. 224 и последующие.
(обратно)5
Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. СПб, 1877, с. 290.
(обратно)6
Там же.
(обратно)7
Там же.
(обратно)8
Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 23, М., 1957, с. 219.
(обратно)9
Там же, т. 23, с. 301.
(обратно)10
Там же т. 24, 1957, с. 809.
(обратно)11
Там же т. 24, с. 804.
(обратно)12
Там же т. 24, с. 810.
(обратно)13
Там же т. 24. с. 873.
(обратно)14
Там же т. 23, с. 173.
(обратно)15
Там же т. 23, с. 197.
(обратно)16
Там же т. 23, с. 400.
(обратно)17
Там же т. 23, с. 392.
(обратно)18
Там же т. 23, с. 395.
(обратно)19
Там же т. 24, с. 187.
(обратно)20
Там же т. 24, с. 821.
(обратно)21
Там же.
(обратно)22
Там же, т. 23, с. 187.
(обратно)23
Там же т. 24, с. 807.
(обратно)24
Там же т. 24, с. 841.
(обратно)25
Там же т. 23, с. 315.
(обратно)26
Там же.
(обратно)27
А. В. Луначарский. Христианство или коммунизм. Диспут. Д., 1926, с. 27.
(обратно)28
Там же, с. 30.
(обратно)29
Е. Cabet. Voyage en Icarie. Paris, 1842, p. 417–418.
(обратно)30
K. Kautsky. Der Urspnmg des Christentums. Berlin — Stuttgart, 1923, S. 433.
(обратно)31
Ibid., S. 403.
(обратно)32
Ibidem.
(обратно)33
См.: А. В. Луначарский об атеизме и религии. М., «Мысль», 1972, с. 257.
(обратно)34
Н. Rolfes. Jesus und das Proletariat. Diisseldorf, 1982.
(обратно)35
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, с. 532.
(обратно)36
Е. Renan. Vie de Jesus. Paris, 1974. Preface de la treisiem edition, p. 38.
(обратно)37
Ibidem.
(обратно)38
Ibid., p. 285.
(обратно)39
Ibid., p. 284.
(обратно)40
Ibid., p. 287.
(обратно)41
Ibid., p. 289–290.
(обратно)42
Ibid., p. 238.
(обратно)43
Ibid., p. 224.
(обратно)44
Ibid., p. 357.
(обратно)45
Ibid., p. 168–169.
(обратно)46
Ibid., p. 340–341.
(обратно)47
Ibid., p. 262.
(обратно)48
Ibid., p. 307.
(обратно)49
Ibid., p. 305.
(обратно)50
Ibid., p. 305–306.
(обратно)51
Ibid., p. 306.
(обратно)52
Ibid., p. 232.
(обратно)53
Ibid., p. 192.
(обратно)54
Ibid., p. 195.
(обратно)55
Ibid., p. 330.
(обратно)56
Ibidem.
(обратно)57
Ibid., p. 371.
(обратно)58
J. Meslier. Le testament. Amsterdam, 1864, v. 2, p. 41.
(обратно)59
Ibid., p. 42.
(обратно)60
Ibidem.
(обратно)61
Ibid., p. 44.
(обратно)62
Ibidem.
(обратно)63
Ibid., p. 46.
(обратно)64
Ibid., p. 48.
(обратно)65
Ibid., p. 55.
(обратно)66
Ibid., p. 63.
(обратно)67
A. Binet-Sangle. La folie de Jesus Crist, Paris, 1910.
(обратно)68
«Клинический архив гениальности и одаренности», т. III, вып. 3. Л., 1927, с. 244.
(обратно)69
Там же.
(обратно)70
Там же.
(обратно)71
«Der Spiegel», 1966, Nr. 9, S. 84.
(обратно)72
Ibidem.
(обратно)73
Ibidem.
(обратно)74
Ibidem.
(обратно)75
Ed. Meyer. Ursprung und Anfange des Christentums. Stuttgart, Bd. 2,1921, S. 420–453.
(обратно)76
Мы излагаем и цитируем здесь книгу И. Кармайкла по серии публикаций из ее текста в немецком переводе в журнале «Der Spiegel» (1966, №№ 6—13). В оригинале книга называется: J. Carmichael. The Death of Jesus. London, 1963.
(обратно)77
Н. Barbusse. Jesus. Paris, 1927; Les Judas de Jesus, Paris. 1927. Стенограмму диспута А. Луначарского с А. Введенским см.: А. В. Луначарский об атеизме и религии М., 1972, с. 218–258.
(обратно)78
Из истории раннего христианства. Сборник статей. М., 1907, с. 68–69.
(обратно)79
Там же.
(обратно)80
Цит. по: Е. Barnikol. Das Leben Jesu der Heilsgeschichte. Halle (Saale). 1953, S. 114.
(обратно)81
А. Немоевский. Бог Иисус. Происхождение и состав евангелий. Петроград, 1920, с. 29.
(обратно)82
«Сибирские огни», 1926, № 4, с. 129.
(обратно)83
Там же, с. 131.
(обратно)84
Г. В. Ксенофонтов. Христос, шаманизм и христианство. Иркутск, 1929, с. 126.
(обратно)85
Там же, с. 130.
(обратно)86
Е. Renan. Vie de Jesus. P., 1974. p. 283.
(обратно)87
E. Schurer. Geschichte des jiidischen Volkes im Zeitalter Jesus Christus. Leipzig, 1901, Bd. 1, S. 519.
(обратно)88
Ibid., S. 524.
(обратно)89
Ibid., S. 525.
(обратно)90
Ibid., S. 530.
(обратно)91
Ibid., S. 534.
(обратно)92
J. A. Thompson. The Bible and Archaeology. Grand Rapids, 1973. p. 362.
(обратно)93
Ibid., p. 442.
(обратно)94
Ibid., p 361.
(обратно)95
G. Schneider. Einfiihrung in das Neue Testament. Neukirchen, 1969, S. 47.
(обратно)96
A. Schweitzer. Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. Munchen und Hamburg, 1966, Bd. 2, S. 620.
(обратно)97
Ibidem.
(обратно)98
Ibid., S. 620. 621.
(обратно)99
Ibid., S. 621.
(обратно)100
Ibidem.
(обратно)101
W. Kummel. Die Theologie des Neuen Testaments nach seinen Hauptzeugen. Gettingen 1969, S. 20–21.
(обратно)102
M. Kahler Der sogenannte historische Jesus und der Geschichtliche biblische Christus Ttibingen. 1892.
(обратно)103
Studia Religioznawcze, 1977, № 12, ft. 77.
(обратно)104
«Der Spiegel», 1966, Nr. 16, S. 84–86.
(обратно)105
W. Kiimmel. Op. cit., S. 22.
(обратно)106
Ibidem.
(обратно)107
Ibidem.
(обратно)108
Ibid., S. 24.
(обратно)109
Л. Фейхтвангер. Сыновья. М., 1938, с. 309.
(обратно)110
Там же.
(обратно)111
Там же.
(обратно)112
Там же, с. 310.
(обратно)113
Там же, с. 312.
(обратно)114
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 19, с. 307.
(обратно)115
Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1964, с. 140.
(обратно)116
Корнелий Тацит. Соч. в 2-х томах. Ленинград, 1969, т. I, с. 298.
(обратно)117
А. Древс. Миф о Христе, с. 75.
(обратно)118
Иосиф Флавий. Иудейские древности. СПб., 1900, т. 2, с. 300.
(обратно)119
Цит. по: Н. В. Румянцев. Иосиф Флавий об Иисусе и Иоанне Крестителе. «Атеист», 1929, № 36, с. 38.
(обратно)120
См. «Вестник древней истории», 1973, № 2, с. 180.
(обратно)121
Тексты Кумрана. Вып. 1, М., 1971, с. 154.
(обратно)122
Там же.
(обратно)123
Pismo swiete Starego у Nowego Testamentu. Posnan, 1965, s. 34.
(обратно)124
О. Д. Хвольсон. Гегель, Геккель, Kocсут и двенадцатая заповедь. СПб… 1911.
(обратно)125
См. A. France. Le procurateur de Yudee. P., 1902.
(обратно)126
Ibidem.
(обратно)127
Ibidem.
(обратно)128
Ibidem.
(обратно)129
H. М. Никольский. Иисус и первые христианские общины. М., 1918, с. 31.
(обратно)130
Там же, с. 36.
(обратно)131
Там же, с. 40.
(обратно)132
Там же, с. 35.
(обратно)133
Н. Barbusse. Les Judas de Jesus. Paris, 1927, p. 82.
(обратно)134
Ibid., p. 56–57.
(обратно)135
Ibid., p. 55.
(обратно)136
Ibid., p. 70.
(обратно)137
Ibid., p. 114–115.
(обратно)138
Ibid., p. 69–70.
(обратно)139
Ibid., p. 71.
(обратно)140
Ibid., p. 80, 68.
(обратно)141
Ibid., p. 92.
(обратно)142
A. Robertson. The Origins of Christianity. London, 1962, p. 93.
(обратно)143
Ibid., p. 95.
(обратно)144
Ibid., p. 96.
(обратно)145
Ibidem.
(обратно)146
А. Робертсон. Происхождение христианства. М., 1959, с. 296.
(обратно)147
A. Robertson. Op. cit., р, 88.
(обратно)148
А. Робертсон. Происхождение христианства, с. 135.
(обратно)149
Цит. по: А. Б. Ранович. О раннем христианстве. М., 1959, с. 241.
(обратно)150
A. Robertson. Op. cit., p. 74.
(обратно)151
Ibidem.
(обратно)152
Ibidem.
(обратно)153
A. Revill. Vie de Jesus. P., 1897, p. 200.
(обратно)154
Цит. по: H. В. Румянцев. Жил ли Христос? М., 1937, с. 9.
(обратно)155
G. Boissier. La religion romaine d'August aux Antonius. P., 1906, t. 2, p. 122–123.
(обратно)156
Ibid., p. 124.
(обратно)157
Ibidem.
(обратно)158
M. Bruckner. Der sterbende und auferstehende Gottheiland in den orientalischen Religionen und ihr Verhaltniss zum Christentum. Tubingen, 1908.
(обратно)159
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 19, с. 309.
(обратно)160
Эса де Кейрош. Реликвия. М., 1963, с. 211.
(обратно)161
A Robertson. Op. cit., p. 76–77.
(обратно)162
A. Drews. Die Leugnung der Geschichtlichkeit Jesu in Vergangenheit und Gegenwart. Karlsruhe, 1926, S. 215–216.
(обратно)163
Сочинения святого Юстина философа и мученика. М., 1892, с. 28.
(обратно)164
С F. Volney. Les mines ou meditations sur les revolutions des empires. P., 1791; Ch. Dupuis. Abr6g6 de I'Origine de tous les cultes ou la religion universelle. P., 1794.
(обратно)165
B. Bauer. Kritik der evangelischen Geschichte der Sinoptiker und des Johannes. Bd. III. Braunschweig, 1842.
(обратно)166
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 19, с. 307.
(обратно)167
A. Hoekstra. De christologie van het canonische Marcusevangelie. Amsterdam, 1871.
(обратно)168
A. Pierson. De Bergrede en andere Fragmented Amsterdam, 1878.
(обратно)169
C. Naber. Nucuiae. Amsterdam, 1888.
(обратно)170
G. A. Berg van Eysinga van den. Die hollandische radicale Kritik des Neuen Testaments. Jena, 1912.
(обратно)171
J. Robertson. Christianity and Mythology. L., 1900; The Jesus problem. L., 1917. W. B. Smith. Esse Deus. Jena, 1911.
(обратно)172
A. Kalthoff. Das Christusproblem. Jena, 1902. S. Lublinski. Die Entsehung des Christentums aus der antiken Kultur. Jena, 1910. A. Drews. Die Christusmythe. Jena, 1909; Die Entstehung des Christentums aus dem Gnostizismus. Jena, 1924; Das Marcusevangelium als Zeugnis gegen die Geschichtlichkeit Jesu. Jena, 1921; Der Sternhimrael in der Dichtung und Religion der alten Volker und des Christentums. Jena, 1923.
(обратно)173
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 45, с. 28.
(обратно)174
См. А. Древс. Отрицание историчности Христа в прошлом и настоящем М., 1930, с. 105.
(обратно)175
A. Niemoyewski. Filosofia zycia Jesuza. Warszawa, 1925; P.-L. Couchoud. Le mystere de Jesus. P., 1924.
(обратно)176
H. М. Никольский. Иисус и первые христианские общины. М., 1918.
(обратно)177
Р. Ю. Виппер. Возникновение христианства. М., 1918. Отметим еще две работы этого ученого, связанные с христологической проблематикой: Возникновение христианской литературы. М. — Д., 1946; Рим и раннее христианство. М., 1954.
(обратно)178
А. Немоевский. Бог Иисус. Л., 1920; Философия жизни Иисуса. М., 1923.
(обратно)179
А. Древс. Миф о Христе. Тт. 1–2, М., 1923; Жил ли Христос? М., 1928 и др.
(обратно)180
Ш. Виролльо. Легенда о Христе. М., 1923. Э. Мутье-Руссе. Существовал ли Иисус Христос? М., 1923. П. Л. Кушу. Закат бога. М., 1929; Загадка Иисуса. Рязань, 1933. Э. Гертлейн. Что мы знаем об Иисусе? М., 1925. Т. Брандес. Легенда о Христе. М., 1920. К. Ф. Вольней. Руины или размышления о революциях империй. М., 1928.
(обратно)181
А. Барбюс. Иисус против Христа. М., 1928.
(обратно)182
А. Робертсон. Происхождение христианства. М., 1956; 2-е изд. М., 1959.
(обратно)183
Н. А. Морозов. Христос. Т. I–VII. М., 1924–1930.
(обратно)184
Н. В. Румянцев. Дохристианский Христос. М., 1926; Смерть и воскресение Спасителя. М., 1925; Жил ли Христос? М., 1931. А. Б. Ранович. О раннем христианстве. М., 1959. С. И. Ковалев. Основные вопросы происхождения христианства. М. — Л., 1964. Я. А. Ленцман. Происхождение христианства. М… 1959.
(обратно)185
И. С. Свенцицкая. От общины к церкви. М., 1985.
(обратно)186
A. Schweitzer. Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. Munchen und Hamburg, 1966, B. 2, S. 620.
(обратно)187
Ibid., S. 621.
(обратно)188
Ibid., S. 620.
(обратно)189
E. Barnikol. Das Leben Jesu der Heilsgeschichte. Hale (Saale), 1953, S. 334–336.
(обратно)190
«Der Spiegel», 1966, Nr. 15, S. 89.
(обратно)191
Ibid., S. 86; «Der Spiegel», 1966, Nr. 14, S. 109.
(обратно)192
Цит. no: A. Drews. Die Leugnung der Geschichtlichkeit Jesu in Vergangenheit und Gegenwart. Karlsruhe, 1926, S. 168.
(обратно)193
Ibid., S. 85.
(обратно)194
См. E. Barnikol. Op. dt., S. 186.
(обратно)195
Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Tubingen, 1959, Bd. 3, S. 623.
(обратно)196
P. Althaus. Der gegenwartige Stand der Frage nach dem historischen Jesus. Munchen, 1960, S. 5–7.
(обратно)197
«Der Spiegel», 1966, Nr. 16, S. 88.
(обратно)198
«Der Spiegel», 1966, Nr. 14, S. 101.
(обратно)199
1414. E. Barnikol. Op. cit., S. 189.
(обратно)200
«Der Spiegel». 1966 Nr. 7, S. 89.
(обратно)201
Цит. пo: «Der Spiegel», Nr. 16, S. 78.
(обратно)202
P. Althaus. Op. cit., S. 12–13.
(обратно)203
Ibid., S. 12.
(обратно)204
Ibid., S. 15.
(обратно)205
Ibid., S. 17.
(обратно)206
Ibid., S. 17–18.
(обратно)207
Ibid., S. 18.
(обратно)208
«Der Spiegel», 1966, Nr. 14, S. 92.
(обратно)209
«Der Spiegel», Nr. 16, S. 84.
(обратно)210
A. Drews. Op. cit., S. 219.
(обратно)211
«Herder Korrespondenz», 1967, Nr. 8, S. 317.
(обратно)212
Ibidem.
(обратно)213
Мы излагаем и цитируем книгу Н. Kung. Christ sein. Munchen, 1974, S. 113. Далее в тексте указаны страницы из нее.
(обратно)


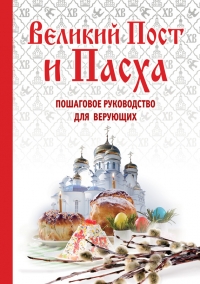




Комментарии к книге «Христос: миф или действительность?», Иосиф Аронович Крывелев
Всего 0 комментариев