Павел Флоренский Вопросы религиозного самопознания
Посвящается А. В. Ельчанинову
ЭМПИРЕЯ И ЭМПИРИЯ. БЕСЕДА
А. – До сих пор все наши разговоры, с чего бы они ни начинались, в конце концов сводились с твоей стороны к вечному припеву: «Не может быть последовательного мировоззрения без религиозного основания, не может быть последовательной жизни – жизни по правде, без религиозного опыта». С моей же стороны было недоумение: я не отрицал, как помнишь, что, действительно, невозможно абсолютное мировоззрение, какого хочешь ты, мировоззрение способное все охватить единою диалектически-скованною цепью суждений; точно так же не отрицал я невозможности вполне последовательной жизни по правде, т. е. жизни, оправдываемой в каждой ее детали с точки зрения абсолютного мировоззрения – не отрицал, однако, не потому, что мы слабы и неустойчивы, а прежде всего потому, что такой правды даже нельзя – нельзя дать полной правды жизни, ее смысла, потому что не могу я, как сказал, признать право существования у абсолютного мировоззрения, а оно только и может, – точнее, могло бы – раскрыть смысл жизни и тем самым оправдать, хотя бы post factum1, поведение.
Ты хочешь, чтобы действительность и наше к ней отношение были бы не просто данными сознанию, но чтобы они были даны в их истине , в их правде; ты требуешь, чтобы был раскрыт разумный смысл и право на существование у того, что нам дано как непосредственно открывающееся. Одним словом, тебе не достаточно сознавать, что действительно есть, ты хочешь знать еще, что она есть, и затем рассмотреть, насколько это что отвечает каким-то вечным нормам, насколько это чтде сть то, что должно быть, и насколько оно может быть этим должным, и вот ты заявлял, что такое мировоззрение нельзя построить без религиозных оснований и без религиозного опыта. Повторяю, я нисколько бы не протестовал против твоего утверждения о невозможности, если бы только ты не делал добавления – «без религиозного основания и без религиозного опыта».
В. – Однако это главнейшее.
A. – Так, стало быть, с ними с религиозными основаниями и опытом это возможно?
B. – Ты сказал.
A. – Считаешь ли ты, что это возможно для знания вообще как его предельная цель и никогда не достижимый идеал; или возможно где-нибудь и когда-нибудь, не для тебя, так для другого, через миллионы лет; или, наконец, может быть, ты полагаешь, что такое мировоззрение возможно при данных нам конкретных условиях, то есть теперь, для тебя, например?
B. – Да, теперь, для меня возможно; но также и для всякого, кто захочет: «просите и дастся».
A. – А, если не секрет, ты уже его имеешь? Далось? Или удалось оно тебе?
B. – Нет, не секрет. Многое для меня не вполне разработано; еще больше не уясненного в логических формах, не достаточно воспринятого и усвоенного. Но если не само мировоззрение, то начала, основы его уже имеются. Только напрасно ты меняешь смысл приведенной цитаты: оно не «удалось» и не «далось», а дано.
A. – Понимаю, но… впрочем, не хочу спорить. Пусть – «дано». Только скажи, можно ли твое мировоззрение, начинающееся, готовящееся, – как тебе будет угодно назвать его, – можно ли его подвести под какой-нибудь установившийся тип?
B. – Да, можно.
A. – Под какой же именно?
B. – Это – христианство.
A. – Надеюсь, не церковное.
B. – Напрасно надеешься: именно церковное, кафолическое.
A. – Знаешь ли, я нарочно вел разговор с такими деталями; мне хотелось, чтобы ты заявил именно то, что ты сказал только что.
B. – Что абсолютное мировоззрение есть кафолическое христианство?
А. – Вот именно это самое. Хочу поговорить с тобою, чтобы объясниться. Конечно, в мои намерения нисколько не входит разговаривать об абсолютности такого мировоззрения; эта мнимая абсолютность для меня звучит слишком странно, чтобы стоило терять на обсуждение ее время. Но мне хочется понять, насколько я смогу вместить, ваши взгляды на действительность…
В. – (Вопросительно молчит.)
A. – Ты смотришь, недоумевая? Молчишь? Cum taces clamas?2 Кричи себе молча. Я не могу ставить вопросов об абсолютном мировоззрении, не могу, если хочешь, чисто физиологически. Абсолютности застревают у меня в горле и своею вяжущей терпкостью портят настроение духа; все эти «Истины» заставляют только сердиться. Нет, уж избавьте меня от абсолютностей…
B. – Quid est veritas?3 Так, что ли?
A. – Вот именно. Да и на что вам истина? Недаром Чорт у Достоевского указывает на такую черту: «Если захотел мошенничать, зачем бы еще, кажется, санкция истины? Но уж таков наш русский современный человек: без санкции и смошенничать не решится, до того истину возлюбил».
B. – Это к нам относится?
А. – Кстати – вспомнил; а впрочем, оставим такой щекотливый предмет. Но, говорю я, мне хочется понять тебя. Не признавая абсолютных мировоззрений, я не стану, конечно, и с тебя требовать доказательств абсолютных в пользу твоего мировоззрения. С меня достаточно было бы, – я бы понял тебя, – если бы ты показал мне, что твое мировоззрение законно среди других. Ведь сейчас для меня оно – изгой, пария среди других мировоззрений; хоть и они тоже неважны, а все-таки ими не подавишься, как вашим. Ведь оно для меня с теоретической стороны – детская фантастика, а с практической – вредно-действующий общественный яд: latet anguis in herba4. Но не в этом суть. Такое положение дел я смогу признать и признаю прекратившимся тогда, и только тогда, когда будет показано мне, во-первых, возможность всего того, что вы утверждаете, т. е. чудес, таинств «и прочего», но не порознь, а в виде связной системы, и, во-вторых, когда мне будет показано, что все эти утверждения ваши, буде они окажутся возможными, мыслимыми, среди бесчисленного множества других утверждений, имеют какое-нибудь преимущество в смысле вероятности, то есть, что они не только мыслимы, но и имеют некоторую не слишком малую вероятность. Итак, я пойму тебя, когда ты сможешь показать, что все ваши догматы, таинства и тому подобное мыслимы как таковые, – не содержат в себе нелепостей, – и что ваши решения и ваши взгляды на таинства и тому подобное имеют за собою сколько-нибудь значительное число шансов – не бесконечно маловероятны.
В. – Ты, однако, захотел не малого. То, что, по твоему мнению, должен дать тебе сейчас я, есть задача всей рациональной философии совместно с науками – одним словом, – задача отрицателей философии, если воспользоваться терминологией Шеллинга; ведь именно эта философия занята разделением возможного и невозможного, мыслимого и немыслимого и построяет систему возможного. Но, мало того, ты хочешь еще обоснования вероятности. Это – задача философии вероятного, если можно так выразиться, философии, квалифицирующей вероятности разных возможностей, устанавливающей градации в возможном. Не говоря уже о том, смог ли бы я дать тебе такое построение и, притом двоякое – я, вероятно, недостаточно подготовлен к такой задаче, чтобы вслух сказать все это, – кроме этого о том, что ты желаешь, нельзя говорить и за недостатком времени. Ведь просимое тобою, даже если изложить его в самом конспективно-спрессованном виде, может быть предметом специального курса лекций или специального трактата.
A. – Жаль. Ну, в таком случае пока – заметь только пока, в ожидании твоего de omni re scibili atque quibusdam aliis5 – пока я откажусь от второго своего пожелания, а из первого оставлю следующее: я предложу тебе несколько вопросов, причем всячески сам буду помогать тебе, как бы становясь на твою сторону. Идет?
B. – Идет.
А. – (После некоторого молчания.) Общую схему вашего мировоззрения, насколько я понимаю ее, можно выразить так: некоторое психофизическое действие человека, именуемое вами грехопадением, привело человека в состояние болезненное – болезненное в самом широком смысле, то есть он прежде мог владеть собою и окружающей его действительностью: растениями, животными и т. д., – и был властен над состояниями своего тела и духа и над природой. Но человек вышел из своего психофизического равновесия, нарушил устойчивое свое отношение к среде. Потеря равновесия со средой повлекла за собою страдания всякого рода: болезни в более тесном смысле и, в окончательном итоге, – смерть. По наследственности такая болезнь всего психофизического организма, то есть нарушение должного и бывшего дотоле, по вашему мнению, функционирования всего психофизического организма – потока психических и телесных состояний – передалось всему роду; а так как с законов действительности нечего спрашивать справедливости, то вышло, что и всякий индивидуум страдает тем же недугом, хотя он лично не принимал участия в грехопадении; у каждого организм расстроен от самого его появления на свет – это вроде последствий алкоголизма у потомства алкоголика, – никто поэтому не может достаточно владеть телом и духом, – одержим, по вашей терминологии, похотьми и страстьми, почему терпит всякие болезни, страждет, мучается; а в результате – exitus letalis6, причем все люди как происходящие от одних и тех же прародителей, – все больны. Вот первая, так сказать, картина вашего мировоззрения. Я не буду касаться пока всех тех трудностей, которые она возбуждает во мне, – о них мы поговорим в другой раз, – только упомяну кое-что: ничто не доказывает какого-то особенно высокого состояния человека в древние времена, а напротив; особенно же ничто не доказывает существования в древние времена нравственной воли; ничто не доказывает отсутствия смерти для такого человека; ничто не доказывает его главенства над природой – даже напротив; мы не знаем, какое это психофизическое действие может пертурбировать весь организм; не имеем никаких оснований утверждать единство человеческого рода и делать такое широкое – мало того, всеобъемлющее – применение принципа наследственности приобретенных признаков, тем более что вообще этот принцип не доказан. Пусть, однако, все эти трудности обойдены; пусть все это есть так, как говорите вы. Пойду дальше в изложении вашего учения. Картина вторая: ряд личностей, именуемых, по-вашему, пророками, указывал на средство прекратить эту коллективную болезнь – болезнь рода. Надо было справиться с самим собою хотя бы одному человеку и тем дать пример для других. Пророки не знали во всех подробностях, в чем должна была состоять борьба с болезнью, и не имели достаточно сил и решимости, чтобы воспользоваться своим знанием. Я допускаю, впрочем, что были еще некоторые им неизвестные условия, которые, так сказать, должны были носиться в воздухе, чтобы излечение стало возможным, – ну там какой-нибудь особый состав атмосферы, какие-нибудь гигиенические условия, ассенизация, – и отсутствие этих условий мешало самоисцелению пороков. Они, однако, были убеждены, что рано или поздно исцеление совершится, что будут найдены все данные для исцеления кого-нибудь из людей – будут найдены не то чтобы непременно сознательно, – нет, – инстинктом, вдохновением. Такого самоисцеляющегося человека они называли условно Мессией. Кое-какие соображения, – не знаю, какие именно, но допускаю временно, что они были основательны, – кое-какие соображения, говорю я, позволили пророкам указывать ряд признаков такого Мессии, например, почему-то пророки считали кровь рода Давидова особенно благоприятной для появления в человеке той выдающейся мощи, которая сможет победить болезнь, говорили, что такой человек произойдет от девы, видели в климатических условиях Вифлеема обстановку наиболее выгодную, связывали с некоторыми астрономическими явлениями и так далее. Один указывал на одни признаки, другой – на другие, так что в общем составлялась некоторая картина.
В. – (Молчит.)
А. – Не вхожу в детали – мне все это представляется крайне невероятным, почти немыслимым – почти, потому что нельзя утверждать, что это все абсолютно немыслимо и логически, внутренне противоречиво. Подобное учение противоречит теперешним нашим сведениям и убеждениям, современному нашему опыту. Однако, хотя опыт современный и довольно совершенен, но все-таки мы так мало знаем, столько имеется неясного и нерешенного, что я бы не считал себя вправе решительно сказать: то, что вы утверждаете, – невозможно. Может быть… хотя для меня невероятно и фантастично. Недаром Араго говаривал: «Celui qui en dehors des mathematiques pures, prononce ce mot impossible, manque de prudence» [1] 7. Помнится, где-то Паскаль говорит: «Ничто не может остановить подвижности нашего ума. Нет правила без исключения, нет истины столь всеобщей, чтобы с какой-нибудь стороны она не оказалась неполной. А раз так, то случай чудесный мы всегда имеем право подвести именно под исключение, о котором речь, и тогда чудо делается возможным» [2] .
Оставаясь научно-добросовестным, я не могу сказать, чтобы Паскаль был вполне не прав, защищая таким путем ваши утверждения.
Ты говоришь – «произошло такое-то явление, которое обычно не происходит». Что же? Может быть, и можно подыскать как-нибудь такую комбинацию психических и физико-химических условий, так подобрать предшествующие и сосуществующие явления, что они произведут желаемый тобою эффект – странный, необычный, но все-таки не невозможный принципиально. Может быть…
Нельзя, разумеется, помешать вам воспользоваться таким, паскалевским, обходом научных положений, нельзя помешать так оправдывать многое из ваших утверждений; по-своему вы правы, но… то, к чему вы приходите, в высшей степени невероятно, и, будучи правы формально, вы по существу дела не правы, говорите нелепое…
В. – (Тихо.) Ты кого-то оправдываешь, но при чем тут мы?
A. – (Не слыхав.) Впрочем, временно я буду говорить так, как будто я признал все ваши положения и теперь только передаю, как я их понял; ведь нужно узнать, нет ли недосмотра с моей стороны. Иначе трудно разговаривать. Итак, в конце концов, когда имелось в мире…
B. – В каком?..
А. – Ну, конечно, в мире опыта, в мире цветов, звуков, давлений и разных психических состояний, – когда имелись среди этих пучков явлений все условия такого Мессии, – он родился – как естественное звено в цепи бывания, как связка явлений среди других, как результат весьма сложных комбинаций разных обстоятельств; вследствие того, что от самого рождения своего он, этот Иисус, имел все данные, чтобы выполнить предсказанное пророками, – точнее выражаясь, чтобы выполнить все предписания пророков, – выполнить не в том смысле, чтобы он сознательно действовал по рецепту, а в том, чтобы проделать, быть может, инстинктивно все нужное для исцеления себя от последствий родовой болезни. Главным среди других психофизических действий была решимость подвергнуться казни. Инстинктивно или сознательно, так или иначе, но Иисус, по вашим представлениям, пришел к убеждению, что такою решимостью и мучениями казни он приведет себя в особое состояние, так что после смерти у него, в его психофизическом аппарате, возобновится «должное» функционирование всего организма – он воскреснет «просветленным телом» и тем самым даст пример другим…
В. – Подожди. Это уже фактически неверно. Не пример даст, а изменит все Своею смертью и Своим воскресением, так что природа и человек получат возможность к восстановлению утраченного ранее порядка.
А. – Ну, об этом послушаем тебя, любезнейший, в другое время… (задумывается). Впрочем, пусть так. Временно допущу даже это и именно в такой формулировке: психофизические состояния Иисуса во время казни вызвали – это опять по-вашему – вызвали в мире и человечестве некоторые изменения, вследствие того, что казнимый обладал такими-то и такими-то свойствами и проделал ряд действий, о которых была речь ранее. Другими словами, он, своею смертью, внес в мир реальные условия возможности преобразования; эти условия состояли в каких-то воздействиях – волнами психическими, что ли, какими-нибудь излучениями, истечениями, как хочешь, – на ту обстановку, в которой жил Иисус; вот эти-то изменения, тогда никем не замеченные, быть может, и не могущие быть замеченными тогда по недостатку средств наблюдения, – эти изменения были внесены Иисусом в мир для дальнейшего его преобразования, «очищения». Такое преобразование, по вашим представлениям, не могло совершиться сейчас же, так как оно требует еще каких-то условий для своего осуществления. Они создаются мало-помалу деятельностью человечества, и в конце концов когда выполнится все, что нужно, то есть когда будут внесены в явления мира все потребные условия, то внезапно произойдет мировая катастрофа – не то катаклизм, не то мировой пожар – преобразование природы, – Иисус появится снова, и все воскреснут. Почему будет такой пожар? – Ну, хотя бы от падения Земли на Солнце… Кажется, все сказано. Да, я забыл еще добавить, что этого Иисуса, за его, так сказать, заслуги перед человечеством и миром, вы считаете возможным сделать богом и, в благодарность за его жизнь и за его деятельность, даете ему титул сына божия и богочеловека… Так ли я изложил главнейшее в вашем мировоззрении?
В. – Хотя ты не Фауст, но я все-таки смогу подать тебе реплику Маргариты:
Das ist alles recht schön und gut;
Ungefähr sagt das Pfarrer auch,
Nur mit ein biβchen andern Worten8.
A. – Почему же «mit andern Worten»?9
B. – А потому, что wenn man’s so hört, möcht’s leidlich scheinen, steht abei doch immer schief darum; denn du hast kein Christenthum…10
A. – Почему же?
B. – Вопрос каверзный, но на него уже отвечено Самим Иисусом Христом. «Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог… Хлеб Божий есть Тот, Который сходит с Небес и дает жизнь миру… Я есмь хлеб жизни… Я хлеб живый, сшедший с Небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть плоть Моя, которую Я отдал за жизнь мира…» (Ин. 6, 26, 27, 33, 35, 48, 51).
A. – Не понимаю, какое это отношение имеет к разговору?
B. – Тогда начнем с другой стороны. Дело в том, что ты сделал оттиск с мировоззрения, так что внешняя форма его чрезвычайно похожа на подлинник, но по внутренней сути то и другое диаметрально противоположны.
A. – Как же? Я ведь все главнейшее удержал в своем изложении, а пропускал только мелочи. Например, не говорил о таинствах.
B. – Хотя таинства вовсе не мелочи, но не в том дело. Даже в указываемом тобою всюду пропущено важнейшее, но форма важнейшего оставлена. Получается не христианство, даже не искаженное какое-нибудь христианство, а весьма искусная подделка под христианство, имитация такая ловкая, что может легко обмануть всякого, кто не слушает достаточно внимательно твоей «мимикрии».
A. – Разве я не говорил обо всем том, о чем говорится в катихизисе?11
B. – Обо всем, да не совсем. Заметил ли ты такую странность: излагая христианское учение, ты сумел обойтись совсем без слова Бог.
A. – Как же? Я сказал, что вы делаете Иисуса богом.
B. – В том-то и дело. У тебя нет Бога как такового, а Его делают за заслуги. Бог для тебя – нечто вроде почетного звания, своего рода «действительный статский советник», но в иной области, а вовсе не определение Существа.
A. – В таком случае, может быть, можно сформулировать так: Иисус воскрес и этим, своим воскресением, своею победою над смертью, сделался богом вроде того, как герои превращались через свои подвиги в богов?
B. – Конечно, нет. Иисус Христос не сделался богом, а был и есть Бог. У тебя выходит Его Божественность каким-то результатом, чем-то добавочным, вторичным, а не первым, тогда как она – начало, сущность. Ты сказал: «Иисус сделался богом, так как воскрес».
A. – Ведь обещано, что я стану помогать тебе, и потому я хотел выразить ваше учение в наиболее выгодной для него форме.
B. – Да, но Иисус Христос не потому Бог, что воскрес, а потому воскрес, что Бог. Первое не эмпирическое, а Божеское; не Божеское вытекает из эмпирического, а, наоборот, эмпирическое является обнаружением Божеского.
A. – Значит, ты действительно думаешь, что я не изложил вашего миросозерцания?
B. – То мировоззрение, которое излагал ты, есть чистейший позитивизм; наше же по существу – теистично. В изложенном тобою мировоззрении человек нарушает какие-то естественные законы, то есть законы эмпирического бывания, терпит поэтому естественные последствия такого нарушения, потом естественно же, сам своими собственными силами находит выход из такого положения и делается богоподобным существом. Одним словом, тут все пружины событий лежат в чувственном мире, причины и их следствия не выходят из границ опытной действительности. Для такого мировоззрения есть только натуральное, психофизическое человечество, то, что в Писании называется душевным, в отличие от духовного. И вот такое душевное человечество само из себя создает Иисуса Христа – само себя спасает и оббживает. Человек твоего мировоззрения на самом деле является сторонником того, который сказал: «eritis sicut Deus»12. Так ли я тебя понимаю?
A. – Конечно, так. Но как же иначе может быть? Что ж это за человечество, которое не само действует? И так далее.
B. – Ты говоришь все о «пучках» и «связках». Я уж тоже помогу тебе, руководствуясь Джемсом. Представителем их в одной области является «пучок» редиски и «связка» баранок, а в другой – «пучок специфически определенных реакций», называемый «английским джентльменом», и «полезная связка ассоциаций», которая с самого детства, по «закону смежности», слилась с «задерживательными эмоциями» стояния в углу и «вытеснила» поэтому из «поля сознания» связку «импульсивных стремлений и самобытных реакций», называемую «хождением по улице», появившуюся в «волне сознания» «сердцевину» из ощущений скуки с «венчиком» или «кольцом» из «мыслей» об избавлении и «желаний» быть на улице, равно как и «воспоминаний» о прежних счастливых временах – «некоторый ободок» или «полутень» из эмоций страха и ощущения зевоты – вот та связка, «имеющая для обладателя ее некоторое практическое единство», которую мы называем «элементами Эвклида». Нет, кроме шуток, я на самом деле хотел выразить твою мысль, но в подчеркнутом виде.
A. – Это – мы. Ну, а вы?..
B. – Мы признаём, что своим грехопадением человек нарушил не естественные законы, не законы эмпирического бывания, но мистический порядок бытия, что болезни, и смерть, и нравственное разложение явились не непосредственно потому, что нарушены были законы мира чувственного и законы того душевного мира, который изучается в эмпирической психологии, а [явились] лишь внешним обнаружением переворота в мистической области, перемены во внутреннем отношении к Божеству, причем это отношение духа к Божеству первее всякого «состояния сознания», лежит вне «пучка психических явлений». Мы признаём, далее, что человечество не могло из себя создать исцеляющих средств, потому что всё, что делает человечество от себя и из себя, – всё это есть только человеческое, то есть психофизическое, эмпирическое, душевное, а в данном случае нужно было воздействовать в мистической области, – восстановить мистический порядок. Все эмпирические средства были бы паллиативами, и притом негодными – были бы построением вавилонской башни, а собственных мистических сил человек не имеет и не может иметь. Но, с другой стороны, Бог как таковой не мог изменить поврежденного состояния человечества, поскольку человечество, будучи членом мистического поврежденного отношения и будучи самостоятельною сущностью, не могло быть очищенным извне абсолютно ничем и в то же время не могло очиститься изнутри само собою. Единственно возможным было воплощение Бога. Так как нужно было, чтобы действие не было извне направленным, идущим помимо человека, то Бог стал человеком, и тем была дана возможность воздействовать изнутри. С другой стороны, у человека не было сил изнутри действовать; потому стал действовать за него Бог. Восстановление могло быть свершено только таким Существом, Которое, имея в Себе две природы, Божескую и человеческую, в то же время могло бы действовать и как Бог, и как человек, имело бы две воли, дающие единое нравственное решение. Богочеловек уничтожил дилемму, оба рога которой в отдельности были невыполнимыми, и, примирив разделенные рога дилеммы, – поставив вместо разделяющих «или – или» соединяющие «и – и», совершил восстановление человечества. Но вся сила в том, что Иисус Христос не сделался богом, а был Истинным Богом, оставаясь в то же время и человеком. Миссия его была мистическая, а не общественная или какая-нибудь в этом роде.
А. – Не понимаю. Ты провозглашаешь все это «ничтоже сумняшеся», а между тем… Для опытного исследования Иисус был тем же, что и всякий человек; были, конечно, те или другие вариации, но не было никаких существенных отличий. Ведь говорит же Апостол: «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, и что осязали руки наши…» (1 Ин. 1,1). Согласен ли ты, что для всякого опыта Иисус оказался приблизительно таким же, как и всякий другой человек, конечно, в пределах индивидуальных различий?
В. – Согласен.
A. – Далее, согласен ли ты, что мир…
B. – Какой?
A. – Все тот же опытный мир, мир «связок» с «ободками», над которыми ты подсмеивался, – что он до и после смерти Иисуса не обнаружил никакой принципиальной разницы, так что для всякого наблюдателя изменение произошло такое же, как и вообще историческое изменение; может быть, то было гораздо более, чем поле деятельности какого-нибудь великого человека, но по общему характеру это было такое же историческое изменение?
B. – Согласен.
A. – В таком случае, то индивидуальное различие, которое усматривается в Иисусе, сравнительно со всяким другим человеком, – эта вариация и была всем тем за что Иисуса вы считали богом; эта вариация произвела то, что вы зовете искуплением; а искупление только и состояло в том историческом плюсе, который был создан деятельностью Иисуса. Не так ли? Ведь это всё такие азбучные рассуждения, что как-то неловко о них говорить. Я готов поверить – для разговора – в какие угодно особенности Иисуса, но ведь Апостол же сам говорит, что для его личного опыта он являлся, как и всякий из нас – ну, значит, если была какая разница, то она исчерпывалась тем, чем один человек отличается от другого. Не ясно?
B. – Как день, но неверно.
A. – Как!
B. – Нисколько не отрицая той индивидуальной вариации в Иисусе Христе, о которой говоришь ты, и того исторического изменения, которое было внесено Его деятельностью в эмпирическое бывание, я прямо утверждаю, что совсем не в них было дело. Иисус Христос был проповедником нравственности – да; был филантроп – да; был духовный наставник – да; был общественный деятель – да. Но… всё это теоретически мы можем мыслить всё менее и менее заметным, так что оно, наконец, перестанет быть обнаруживаемым каким бы то ни было опытом, мы можем – мысленно вообразить себе, что все эти деятельности, уменьшаясь, стремятся к пределу и исчезают, и все-таки Христос остается Христом, и искупление – искуплением. Поясню еще раз это грубым примером. Как ни важна деятельность Иисуса Христа, на которую я только что указывал, но она не имеет принципиального значения, и потому ее можно сопоставить с тем, хитон какого покроя и цвета носил Иисус Христос, каким голосом говорил и так далее. И это все очень важно, но оно не относится непосредственно к миссии Спасителя.
A. – Следовательно, ты говоришь – сделаем фикцию, – что если бы Иисуса не было, а был бы какой-нибудь Иоанн, который бы до мельчайших подробностей воспроизводил облик и жизнь Иисуса, если бы такой человек был точно двойником Иисуса, если бы он умер и воскрес, то это не был бы Христос и Сын Божий?
B. – В том-то и дело, что я не могу допустить, что твой фиктивный человек воскрес, – думаю, что это не может быть свершено эмпирическими путями. Но если уж хочешь сделать такую совершенно немыслимую фикцию, то я на нее скажу: да, это не был бы Христос и Сын Божий, он не искупил бы мира.
A. – Значит, если бы мы могли проделать историю дважды, и один раз дали бы мир после «искупления», а другой раз имитировали точь-в-точь такую же наблюдаемую в опыте картину эмпирического бывания, заменяя Иисуса фиктивным человеком, который был бы ему подобен во всем, в опыте наблюдаемом, то эти два состояния мира разнились бы между собою?
B. – Да, потому что во втором случае мир не был бы искуплен, он оставался бы прежним миром в грехе. Но, однако, заметим, что твою фикцию я допускаю только ради удобства рассуждения, а по существу не признаю возможности имитировать Христа.
А. – Вот теперь я начинаю понимать, чего ты собственно хочешь, но решительно настроен против таких воззрений. Если позволишь, я поставлю вопрос на почву более общую. Даны два объекта, α и β. Между ними существует известная разница, наблюдаемая в опыте; но она такова, что может быть сделана как угодно малой, так что для различения α от β нужен будет опыт все более и более тонкий; наконец, в пределе мы можем мыслить объекты α и β неразличимыми ни для какого опыта, как бы чувствителен он ни был. Тогда опытная разница между α и β равна 0, а никаким опытным способом не отличимо от β. Может ли α быть отлично от β? То есть может ли между α и β все-таки иметься принципиальное различие? Будучи убежден, что вся сущность и все бытие объекта исчерпываются тем, что можно о нем узнать из совокупности всех мыслимых опытов над ним, я думаю, что объекты не могут быть различными, если они неразличимы ни для какого опыта, как бы тонок он ни был. Для тебя, по-видимому, может существовать принципиальное различие и в этом последнем случае – в случае полной неразличимости объектов опытом.
В. – Да, это так. Вот конкретный пример для пояснения такой постановки вопроса. Имеются два одинаковых сосуда, и в них – по кусочку одинакового веса и объема. Куски эти пористы, пропитаны красною жидкостью, пахнут вином, одинакового вкуса. Таким образом, элементарный опыт – непосредственно органами чувств – не обнаруживает между двумя кусочками разницы. Если бы, далее, мы стали производить более тщательные исследования, определяли бы удельный вес, твердость, теплоемкость, электропроводность, микроскопическую структуру и тому подобное, то и тогда бы мы не обнаружили ни малейшей разницы. Производя, наконец, химический анализ, – самый точный, мы найдем, что состав кусков одинаков. После такого опыта ты заявляешь, что эти куски не могут быть различны; я же говорю, что они могут быть различны – принципиально различны: один кусок может быть куском хлеба, пропитанного вином, а другой – Телом и Кровью Христовыми.
A. – Символически?
B. – Нет, вино и хлеб реально и субстанциально пресуществились, то есть переменили свою сущность и стали истинным Телом и истинною Кровию Иисуса Христа.
А. – Конечно, это решающий пример. Можно добавить к нему вопрос о миропомазании?
В. – Да. Сюда же относится, например, крещение. Можно – хотя бы на театральной сцене – воспроизвести крещение со всею достижимою точностью, и это, однако, будет простой ряд чисто эмпирических действий. А в ином случае тот же самый ряд действий является таинством, принципиально разнящимся от представляемого на сцене и производящим в крещаемом мистическое изменение – возрождение. Человек до крещения тождествен для чувственного опыта с человеком после крещения, а все-таки они внутренне различны: в человека окрещенного внесено нечто, что не может быть обнаружено глазами или руками, не может быть усмотрено никаким опытом, и что, однако, является существенно новым.
A. – Да, действительно, по-вашему выходит это так, но неужели это можно принять? Мне представляется, что это некоторое reductio ad absurdum13, так дико звучит для меня подобная казуистика.
B. – Звучит дико и кажется странным единственно вследствие излишней привычки к исключительно чувственному опыту без достаточно критического отношения к нему.
A. – Но к чему же еще я могу быть привычным? Никакого другого опыта я не знаю. Разницу объектов я могу усматривать только одним методом, а не двадцатью.
B. – Это неправда, и я покажу, что у тебя есть иные методы усматривать разницу. Поставим даже вопрос шире: методы можно расположить лестницей, и чем далее стоит на ней данный метод, тем более глубокие разницы вскрывает он между объектами. Но чтобы заранее уяснить, в чем лежат или могут лежать различия объектов, которые не захватываются данным методом, я приведу простенькое сравнение. Представь себе, что у тебя имеется кусок стекла и кусок льда, отшлифованные одинаковым образом. На глаз эти куски, – если лед чистый, – почти неразличимы, и тебе может показаться, что кусок льда нисколько не интереснее, и не прекраснее куска стекла. Но, с точки зрения молекулярного строения, лед имеет над стеклом преимущество, подобно тому, как игра оркестра над базарным шумом. Во льду – музыка, в стекле – шум; во льду – стройность и упорядоченность, в стекле – хаос и беспорядок; во льду – организация, в стекле – анархия. Каждая частица стекла только для себя и, самое большее, толкается о соседние; целого нет. Во льду наоборот: тут каждая частица занимает в правильной ткани целого, в организации чудесного строения определенное, ей присущее место.
Но это различие внутренней структуры, являющееся как бы символом различия человека душевного от человека духовного, на глаз совершенно незаметно.
A. – Ты хотел от этого примера перейти к общему разговору о методах.
B. – Да.
Каждая наука отграничивает область своих исследований, создавая схемы своих объектов и пользуясь при этом известным комплексом признаков; последними и определяется объект данной науки как таковой. Если два каких-нибудь объекта разнятся между собою по одному или нескольким из тех признаков, которыми построяется объект данной науки, то мы можем методами и средствами, присущими этой науке, различить объекты. Если же окажется, что объекты разнятся между собою по признакам, не входящим в состав схемы объекта – схемы, построенной для данной, определенной науки, то методами и средствами данной науки объекты окажутся вполне неразличимыми. Допустим же, что в силу каких-нибудь условий, в которые мы поставлены, мы не можем применять никаких методов и средств исследования, кроме тех, которые присущи данной науке, то есть, предположим, что вследствие каких-то условий мы можем изучать данные объекты только с точки зрения нашей науки. Тогда объекты, заведомо различные, окажутся для нашего исследования абсолютно-неразличимыми. Так, например, те два куска – кусок льда и кусок стекла, – о которых была речь ранее, абсолютно неразличимы для геометрического исследования, так как оно не может войти в рассмотрение внутренней структуры тела. Пусть, далее, мы стоим на точке зрения механики и имеем возможность изучать только механические характеристики, определяющие некоторый объект. Тогда мы сможем определить форму тела, массу, момент инерции и так далее, но температура тела, электрическое его состояние, психические явления и прочее останутся для нас абсолютно незамеченными как таковые. Мы хорошо знаем, что два тела, имеющие все механические характеристики одинаковые, но температуры различные, разнятся между собою и, однако, методами механики уловить этой разницы никак не можем. Если же мы станем рассматривать наши тела с точки зрения физики, станем исследовать их методами и средствами, которые имеются у физики для изучения ее объектов, то разница двух тел, именно, разница их в отношении температуры, сейчас же усматривается и улавливается.
Точно так же методами физики мы не сможем отличить живого вещества от неживого. Если даже признать, что в живом веществе происходят какие-то, особые, сравнительно с неживым, физико-химические процессы, то даже и тогда мы не сможем различить живое от неживого, так как всегда можно мысленно подстроить такую систему механизмов – постулировать такого рода приспособления живого тела, что его, с точки зрения физики, можно будет рассматривать в этом отношении впредь как неживое. Только новые методы – не физические – позволят открыть разницу живого от неживого. Вот примеры случаев, где два объекта, неразличимые в чувственном опыте одной ступени, делаются различимыми для опыта в другой ступени. Это – случаи первого типа. К случаям второго типа мы можем отнести те, где два объекта, абсолютно неразличимые в чувственном опыте, каков бы он ни был, имеют, однако, различие для опыта внутреннего. В виде примера рассмотрим область нравственности. Вот, я дважды сряду совершаю один и тот же для внешнего наблюдения поступок, при одних и тех же обстоятельствах. Пусть оба мои действия как угодно приближаются друг к другу по своему внешнему выражению и по внешним условиям; в пределе они могут быть мыслимы абсолютно неразличимыми для стороннего наблюдателя. Всякий внешний опыт – опыт физики, биологии и так далее, – какими бы методами и средствами он ни пользовался, как бы ни был тщателен и точен, – он откажется усмотреть разницу между двумя действиями. Со своей точки зрения такой опыт не может не признать их тождественными. И, однако, эти два поступка по существу разнятся между собою. Один – нравственный, другой – безнравственный. «Посему не судите никак прежде времени, – говорит Апостол, – пока не приидет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения…» (1 Кор. 4, 5). «Каждого дело обнаружится; ибо день покажет; потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть» (1 Кор. 3, 13).
«Кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?» (1 Кор. 2, 11).
A. – Последнее мне не совсем ясно. Быть может, ты объяснишься?
B. – Если хочешь… почти каждый человек с самого детства подчиняется нравственным и гражданским законам, по крайней мере не делает очень заметных уклонений от них. Всякий старается слыть искренним, всякий ищет славы справедливого. Да и кто захотел бы предстать в обществе in naturalis14, сняв с себя все покровы, если бы это повлекло за собой неприятности? И, действительно, почти все кажутся искренними и справедливыми, как будто они были такими в глубине сердца. Злой и добрый, душевный и духовный – каждый человек, если он не желает прослыть человеком ненормальным или преступным, живет, в общих чертах, так же как и другой. Разница главным образом не в способах действования, а в интимных пружинах действий – мотивах. Человек душевный не выходит из нормы, потому что у него есть опасения заслужить наказание или приобрести дурную славу, есть те или иные почести, которых он может лишиться, ради которых он лицемерит; если бы душевные люди не боялись законов и наказаний, если бы не дрожали за потерю своей репутации, своих почестей, своего состояния, одним словом, если бы внешние связи перестали вынуждать их к исполнению дела Божия, то эти люди, не имея внутреннего сознания своего мирогражданства, своего назначения в историческом процессе, своей связанности с единым организмом Церкви, не зная любви к Богу и становящемуся телу Христову, не желая переносить центр своего бытия в Абсолютное и утверждая ось мира в себе и в своих прихотях, – эти люди сорвались бы со сдерживающей их цепи, обманывали бы и грабили других, обижали и убивали, потому что делать все это для человека, безумеющего при внутреннем, волевом отрицании Абсолютного, не только выгодно, но и само по себе приятно, привлекательно. Попробуй тогда очеловечить и обобразить такого. Но, покуда пшеница и плевелы растут вместе и связаны эмпирическою действительностью, они не могут развернуться вовсю и для эмпирического наблюдения делают приблизительно одно и то же. Только духовный человек, внутренне утверждая Бога и открываясь для Его воздействий, тем самым делается уже сознательным проводником Божественных сил, живым органом тела Христова, исполняющим с радостью свою функцию. Такой не живет для себя и не умирает для себя; живет ли, умирает ли, – для Господа умирает (ср. Рим. 14, 7–8). Вот почему такой может сказать: «Мы имеем ум Христов» (1 Кор. 2, 16). Вот почему такой человек имеет право заявить: «И уже не я живу, но живет во мне Христос» (Тал. 2, 20).
Общие основания для законов нравственности и общественности выражены в десяти заповедях. Нетрудно проверить, что так называемый порядочный человек, то есть не слишком уклоняющийся от среднего душевный человек, своею внешнею жизнью живет более или менее согласно с этими предписаниями, равно как и духовный. Он оказывает знаки почтения Богу – ходит в церкви, произносит молитвы, слушает проповеди, крестится, делает благочестиво-торжественную физиономию, постится – все, как у человека духовного; далее, он не делает преступлений, то есть не крадет, не дает ложных свидетельств, не убивает, не отнимает силою или хитростью имущества других людей и так далее. Однако все это делается из мотивов, не имеющих с любовью к Богу ничего общего, из мотивов внешних, чтобы казаться в людях праведным, чтобы пользоваться влиянием, чтобы иметь власть. Он не убивает; но тысячу раз умер бы каждый, мешающий ему в его намерениях, если бы желание отправить к черту убивало; если бы этот человек не был связан страхом законов, боязнью общественного мнения, если бы он не предвидел неудачи, то, наверно, враг, становящийся поперек дороги, был бы давно истыкан и исполосован ударами ножа, зарублен топором, прострелен или отравлен.
О, если бы можно было сжечь ненавистью, с каким медлительным сладострастием поджаривал бы он своего противника на злобно-пылающем пламени жестокости! С каким ликованием отравил бы он его ядами язвительных слов, оледенил бы ему кровь ехидной изысканностью холодных сарказмов! Этот человек никого не убил, но он – постоянный убийца.
Да, он не совершает прелюбодеяний; но он досадует на свою «чистоту». Если бы не эта проклятая гласность! Он не ворует, никогда не воровал. Однако он зеленеет и трясется от зависти, глядя на чужое добро, двадцать раз в день негодует на общественные порядки, которые помешают ему украсть безнаказанно. Он не крадет, но, однако, в сердце своем совершает кражу за кражей, и потому он – постоянный вор.
А. – Этот «нравственный человек» уже когда-то говорил о себе. Не помнишь ли?
Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла.
Много было разных событий, где он «никому не сделал зла». Вот, для примера, одно из них:
Имел я дочь; в учителя влюбилась
И с ним бежать хотела сгоряча.
Я погрозил проклятьем ей: смирилась
И вышла за седого богача.
Их дом блестящ и полон был, как чаша,
Но стала вдруг бледнеть и гаснуть Маша
И через год в чахотке умерла,
Сразив весь дом глубокою печалью…
Живя согласно с строгою моралью.
Я никому не сделал в жизни зла.
В. – Это – еще не почувствовавший и не сознавший ясно, что даже такая «добродетель» стесняет его. Но знаешь ли ты, как мучают внешние узы человека, сознавшего их! Его «праведность» делается тяжелым бременем и жестоким игом. Помнишь ли ты сьера Клубена у В. Гюго? Помнишь ли ты, как этот «честнейший человек на всех морях», артистически лицемерящий, рассчитывающий свою игру до последней мелочи, все ставящий на карту, чтобы создать себе репутацию честнейшего, ждет не дождется той минутки, когда он нагло насмеется над поверившими ему, когда он сможет сбросить с себя маску, и ликовать, и упиваться преступлением, ради которого он столько времени был «честен». «Тридцать лет носил он маску лицемерия. Он ненавидел добродетель. Он был чудовище в человеческом образе. Он был пленником честности; как мумия в гробу, он заключен был в оболочку невинности, общее уважение подавляло его. Слыть честным человеком ужасно. Часто он улыбкою скрывал скрежет зубов. Добродетель душила его, и всю жизнь порывался он укусить руку, зажимавшую ему рот; между тем он должен был целовать ее… Он всем мил, и потому всех ненавидел. Наконец-то час его пробил. Он мстил. Кому? Всем и за все… Он мстил всем, перед кем должен был притворяться. Всякий, кто думал о нем хорошо, был его враг…» (В. Гюго).
Только вдумавшись в то, что это такое – добродетель без любви к Богу, постоянной заполненности всего существа Абсолютным, можно понять, что слова Апостола, столько раз цитировавшиеся, не есть чрезмерное и жестокое требование, а – выражение основного факта этической жизни, – условие, не откуда-то извне налагаемое на человека, а вытекающее из собственной его природы. Вот это условие всякой жизни по правде.
«Если я говорю языками человеческими или ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (1 Кор. 13, 1–3) [3] .
Но никакие внешние признаки не обнаруживают с достоверностью, имею ли я любовь или нет; никакой чувственный опыт не покажет, в силу чего я поступаю так, как поступаю, в силу чего я работаю над собою всячески, занимаюсь всевозможною помощью другим и общественною деятельностью, делаю, по-видимому, всё и кончаю жизнь мученичеством – на костре. Никакой чувственный опыт не обнаружит, медь ли я звенящая и кимвал глухо бряцающий или же сознательно функционирующий орган тела Христова. Но, между тем, эта эмпирическая неразличимость прикрывает собою существенное различие, а оно может быть усмотрено только самонаблюдением или какими-нибудь иными путями, но не опытным, если брать слово в обычном, чаще всего употребляющемся значении.
A. – Amen15. Однако ты чересчур распространился, увлекшись тоном проповеди; смотри, ты встрепан, будто не чесался два дня…
B. – Мы можем теперь перейти к третьему типу случаев, – к случаю, где два объекта, данные в созерцании, не обнаруживают разницы для такового, кажутся ему неразличимыми и тождественными, тогда как умозрение дает возможность отыскать принципиальную разницу между этими объектами.
Так как с созерцанием мы имеем дело по преимуществу в геометрии, то там особенно много примеров, поясняющих, в чем дело. Придется отметить только простейшие из них, хотя всем таким исследованиям математики принадлежит решающее значение и несомненно доказательная роль при обсуждении наших вопросов. Для начала укажу о существовании несоизмеримостей, то есть таких величин одного рода, которые не имеют общей меры между собою. Когда общая мера существует и отношение величин является соизмеримым, то оно может быть выражено некоторым числом; если же соотношение несоизмеримо, то нет такого числа, которое бы выражало собой это отношение. Таким образом, первая пара величин имеет какое-то принципиальное отличие от другой, но это отличие не может быть замечено и усмотрено никаким опытом.
Чтобы сделать это более наглядным, обратимся к геометрическим величинам. Пусть, например, каким-нибудь построением нам даны два прямолинейных отрезка. Сравнивая их, мы можем обнаружить разницу их длин; один отрезок окажется, например, более другого. Но ничего принципиально-различного таким способом – непосредственным сравнением отрезков – мы не заметим, как бы точно ни было сравнение. Однако, изучая тот путь, которым отрезки были получены, мы сможем умозрительно прийти к заключению о принципиальной разнице их, разнице по существу. Длина одного отрезка, как может оказаться, выражается некоторым числом, а другого – никаким числом не выражается. Чтобы выразить длину второго отрезка арифметически, то есть чтобы охарактеризовать длину отрезка в отвлеченных терминах, надо создать совершенно новый арифметический символ, новую арифметическую схему – так называемое иррациональное число. Таким образом, например, сторона квадрата и его диагональ, будучи несоизмеримы, имеют ка-кое-то внутреннее различие, абсолютно незаметное для простого созерцания этих отрезков. Это свойство сказанных линий было известно уже пифагорейцам, и открытие его относят к основателю союза. Нетрудно догадаться, какое ошеломляющее впечатление должно было произвести открытие этой теоремы на изобретателей. Одним из основных убеждений школы было признание универсальной роли числа, а под числом тогда разумелось именно целое число. И вот оказывается, что имеются объекты, притом объекты в области созерцания, которые никаким числом не выражаются, никаким числом не управляются, как бы лишены сущности, ибо сущность объекта, для пифагорейцев, есть выражающее его число. Получалось, будто люди заглянули незаконно в какую-то мистическую бездонность, подсмотрели или подслушали то, что людям не должно знать, вырвали из бездонности тайну богов и стоят, как сообщники одного страшного дела, не смея смотреть друг другу в глаза, вздрагивая от громкого слова, боясь проговориться и тем окончательно навлечь на себя гибель несущий гнев небожителей.
Завыли таинственные вздохи ветра; закачались в ужасе деревья, замахали руками; понеслись в вихрях почерневшие листья.
Порывы метели суровы и резки,
Ужасная тайна в душе шевелится.
Задерни, мой брат, у окна занавески:
А то будто Вечность в окошко глядится.
Пифагорейцы вовсе не были так несообщительны и замкнуты в своих философских воззрениях, как это было принято думать о них; но такие открытия… такие открытия должны были оставаться тайной, должны были глубоко укутаться молчанием.
Раскрыть случайно-увиденное, обнаружить пережито-найденное – это значит кощунственной рукой сдернуть покровы с того, что закрыли боги, бесстыдно обнажить божественную тайну. Горе нечестивцу, который дерзнет вынести скрытое наружу. Он навлекает тогда самим своим существованием гибель на союз и на самого себя. Единственное, чем можно спастись, это изгнать святотатца, отречься от него, пред богами объявить своим врагом. Да направят вечные боги весь гнев свой на виновника, на него одного!
Так и случилось. Основатель союза, тайновидец Пифагор, был еще жив, он доживал последние свои годы, как вдруг разразилась гроза, и союз, – слушавший мерно-звучащие кифары, занимавшийся благочестивыми упражнениями и увлекающими к миру стройности и небесной гармонии созерцаниями, – глухо заволновался. Нечестивый Гиппас, вероломный волк, обманувший доверие священного союза, пренебрег гневом небожителей и, забывая о подобающем божественным истинам молчании, святотатственно открыл тайну профанам – выдал непосвященным и неочистившимся священное предложение о несоизмеримостях. Гиппас был судим, с позором изгнан из ордена; пусть же бессмертные судят его! И вот не замедлил суд блаженных богов, живущих в высоком эфире. Только что отплыл в открытое море безумный нечестивец, только что утонул в голубом тумане береговой край Великой Греции, как Посейдон вспенил трезубцем почерневшую пучину, раскачал бесплодное море, захлестал гигантами-волнами – чудовищами морскими – на утлое суденышко, и дерзкий Гиппас понес кару за нескромность к богам. Он утонул, и неосторожные уста навеки сомкнула бесстрастная водная пустыня…
A. – (Смеется.) Это, по-твоему, факты?
B. – Фактов я и не хотел излагать; моею задачей было представить, как могли факты отражаться в сознании союза. Но теперь я просто буду указывать другие примеры. За недостатком времени я только упомяну о существовании так называемых трансцендентных чисел и величин, ими измеряемых. Оказывается, что также и среди иррациональных чисел можно установить принципиальные различения, разбивая их на существенно разнородные классы. Таковы, например, числа, степени которых соизмеримы; таковы же числа трансцендентные. Интересно то, что, хотя трансцендентное число существенно отлично от нетрансцендентного или алгебраического, но узнать относительно данного числа, каково оно, весьма нелегко. Так, например, знаменитая задача о квадратуре круга, почти 4000 лет истощавшая силы математиков, в самой своей постановке заключала недоразумение, и последнее основывалось на непризнании существенного различия числа к от алгебраических чисел. Чтобы не останавливаться далее на примерах из того же отдела математики, я укажу несколько примеров из так называемой теории групп. Под группою точек разумеется совокупность точек, данных определенным образом; она рассматривается в силу однородности задания, – как нечто целое, единое.
Как простейший пример возьмем такие группы точек, которые расположены на прямой линии; точки, так сказать, нанизаны на прямую. Тогда, чтобы определить положение точки на прямой по отношению к некоторой неизменной точке – началу, нужно дать число, выражающее расстояние этой точки от неподвижной в каких-нибудь определенных единицах длины, например в миллиметрах. Если мера длины дана и дано число, то этим точка, характеризуемая числом, вполне определена. Выбирая совокупности чисел по тому или другому общему правилу, мы станем последовательно получать группы точек, расположенные по тому или другому закону. Так, например, мы можем потребовать, чтобы были взяты все те точки, соответственные числа которых – координаты – суть все рациональные числа не меньшие нуля и не большие единицы. Это будет группа «рациональных точек» в отрезке 0–1.
В теории групп на каждом шагу встречаются случаи, где две существенно-различные группы, которые приходится трактовать при всевозможных рассуждениях как объекты весьма разнящиеся, не могут быть различаемы в созерцании. Возьмем, например, группу точек, определяемых всевозможными числами между 0 и 1, включая сюда 0 и 1; это будет так называемая замкнутая группа. Возьмем, далее, группу точек, определяемых всевозможными числами между 0 и 1, включая сюда 0, но не включая 1; такая группа носит название незамкнутой. Обе эти группы абсолютно-неразличимы в созерцании, «на глаз»; одна имеет вид, как другая; одна, по-видимому, тождественна с другой. Но, на самом деле, между ними есть очень важная разница, которая радикально различает свойства групп. Первая группа, замкнутая, имеет, так сказать, окончания; точки 0 и 1 являются для нее крайними точками, так что нет ни одной точки группы, которая лежала бы правее, чем точка 1, и нет такой, которая лежала бы левее точки 0. То же самое можно сказать и о левом конце второй группы, незамкнутой; но не так обстоит дело с правым концом этой группы; тут конца в собственном смысле нет ; нет последней точки, крайней. Какую бы далеко стоящую точку мы ни взяли, непременно найдется другая, еще дальше ее стоящая; а последней все-таки нет. Мы можем как угодно близко подходить к точке 1, которая не относится к нашей незамкнутой группе, и все-таки никогда точки 1 достигнуть не сможем, потому что, если мы станем в точку 1, то выйдем из пределов группы, а если не станем еще в нее и будем слева от нее, то всегда имеем возможность подойти ближе. У замкнутой группы, так сказать, обтаял кончик, сточилась последняя точка, и получилась группа незамкнутая. Это изменение, невидимое и неощутимое, однако, произвело существенное изменение в свойствах, в структуре группы, и тот, кто занимался теорией групп, хорошо знает, как серьезны эти изменения структуры и как тщательно надо различать группу замкнутую от незамкнутой. У последней не хватает какого-то «чуть-чуть», с появлением которого она бы перешла в группу замкнутую. Но отсутствие этого «чуть-чуть» имеет для сущности группы, может быть, большее значение, чем в области эстетики то «чуть-чуть», с которого начинается искусство.
Приведу еще один пример. Если мы возьмем совокупность всех точек промежутка 0–1, включая сюда и пределы 0 и 1, то, как известно, она имеет своими соответственными числами совокупность всех иррациональных и рациональных чисел, которые не меньше 0 и не больше 1. Такая группа точек принадлежит к типу так называемых совершенных групп. Каждому мыслимому числу, рациональному или иррациональному – безразлично, соответствует точка группы, и, наоборот, каждой точке группы соответствует рациональное или иррациональное число, которое меньше 0 и не больше
1. Возьмем теперь между теми же пределами О и 1 другую группу точек – группу рациональных точек; каждой точке этой группы непременно соответствует число, заключающееся между 0 и 1; но сказать наоборот никак нельзя: не всякому числу соответствует точка группы и, если мы берем число иррациональное, то соответствующей ему точки не существует. В соответственном месте отрезка – носителя группы – группа имеет изъян, пробел. Так как между каждыми двумя рациональными числами существует бесконечное множество иррациональных, то в каждом отделе группы нашей существует бесконечное множество изъянов; вся группа разъедена, изгрызена. Однако эта источенность группы имеет одно замечательное свойство: дело в том, что между любою парою рациональных чисел, как бы ни разнились они мало, существует не только бесконечное множество иррациональных промежуточных, но и бесконечное множество рациональных же промежуточных. Другими словами, какой бы малый кусочек нашего прямолинейного отрезка мы ни взяли, он непременно окажется начиненным бесконечным множеством точек группы. За это свойство группа наша может быть отнесена к типу групп «всюду-плотных». Итак, с одной стороны, мы имеем сказанную всюду – плотную группу , а с другой – группу совершенную , о которой речь шла ранее. Все точки, которые участвуют в первой группе, участвуют и во второй, но нельзя сказать обратного; во второй группе имеется бесконечное множество точек, не участвующих в первой. Первая группа есть как бы изъеденная бесконечно-тонкими дырочками вторая группа, а вторая – зачиненная первая; та и другая по своим свойствам существенно разнятся между собою; они настолько различны, что немыслимо смешивание их; иначе можно наделать грубейших ошибок. И, однако, та и другая никаким созерцанием, никаким микроскопом не отличимы между собою. Первая есть как бы полоска пыли, насыпанная вдоль прямой линии, вторая – сплошная ниточка; в первой – разрозненные точки, рассыпавшиеся ниточки бисера, а вторая – непрерывная последовательность точек. И все-таки та и другая группы не могут быть представляемы как разнящиеся, хотя, с другой стороны, не могут быть мыслимы как тождественные. Вводимое в теории групп понятие о группе производной делает различие их особенно очевидным.
Я бы мог привести тебе еще множество примеров из теории групп, но за недостатком времени поспешу идти далее.
A. – Далее? Это еще куда?
B. – Нужно обратиться к Последнему, Четвертому виду объектов, не могущих быть различенными никакими методами помимо мистического восприятия. Сейчас я ничего не желаю доказывать тебе – ведь мы и начали разговор в том намерении, что dicitur ad narrandum, non ad probandum16. Поэтому можно излагать наши убеждения вполне догматически. Мы думаем, что таинства и являются именно такими объектами, не отличимыми в чувственном опыте, как бы он ни был тонок и чувствителен, от простых церемоний и обрядов, и имеющими, несмотря на это, глубочайшее субстанциальное отличие от обрядов и церемоний. Об этом различии мы знаем из церковного учения, подобно тому, как из геометрии узнаем о различии стороны квадрата и его диагонали. Насколько справедливо то, что тут, в таинствах, действительно имеется своеобразная сущность, нечто существенно новое – как бы новая тварь, – это другой вопрос; нельзя, однако, отрицать возможности этого.
A. – Но неужто можно довольствоваться этим голым утверждением и не иметь никаких фактических доказательств?
B. – Никто не велит довольствоваться только им. Совершенно своеобразные и первичные восприятия позволяют почти всякому, хотя, быть может, и не всегда, усматривать тот мистический элемент таинства, о котором говорит Церковь. Не только мистики, так сказать, профессиональные, но и самые простые верующие сплошь и рядом имеют такие восприятия, и эти специфические переживания указывают на наличность специфического же момента в таинстве. Конечно, с чисто теоретической точки зрения нужно подвергнуть эти переживания теоретико-познавательному рассмотрению и оправдать их объективную значимость и ценность, как это необходимо сделать со всякого рода переживаниями. Такое рассмотрение не входит в наш план, но я не могу не заметить, что тут задача проще, чем кажется с первого взгляда. A priori17, независимо от теоретико-познавательных убеждений рассматриваемого, можно утверждать, что предмет этих специфических переживаний не может лежать в области предметов переживаний обычных; если это – галлюцинация, то – что бы под галлюцинацией мы ни разумели, – причина, галлюцинацию вызывающая, лежит в области мистической, в области новой сравнительно с той, которую мы узнаем в эмпирии; ведь не может эмпирическое, каково бы оно ни было, само по себе, без привхождения мистического выстроить мистическое, принципиально разнящееся от него.
Можно было бы привести сколько угодно примеров таких переживаний. Вот, например, что пишет в частном письме одна учительница-девушка, воспитанная в традициях шестидесятых годов, потом пришедшая к Церкви: «Христос воскресе, дорогой… Я член Церкви Христовой, мне прощены мои грехи, и я причастилась Святых Таин. Я поражена и уничтожена всепрощением Божиим. Простил, всё простил, потому что нет больше муки в моей душе ; и солнце, и небо, весна и природа – всё для меня, как и для других; любовь родных, близких и детей (моих учениц) – всё вернулось ко мне, хотя, могло казаться, никогда и не отнималось. За что такая милость Божия? И я еще смела не прощать грехи другим, когда сама хуже всех, а Бог мне всё простил… Причастие Святых Таин успокоило меня… Я почувствовала себя в общении с Богом моим Иисусом Христом. Я теперь верю, что Он взял на себя грехи мира, что Он приходил на землю, и был распят за нас всех и за меня, и искупил все прошедшие и будущие грехи людей…»
«Живу не к тому аз, но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20), – то есть Христос стал жить в нем. Это не нравственно только, в том смысле, что вся жизнь, вся деятельность, все помышления, все чувствования – всё для Христа и ради Него. Это значит гораздо более, значит, что Христос существенно вселяется и сотворяет обитель в сердце, Сам реально является , по обещанию Своему.
«Спасительности (слова крестного), – говорит епископ Феофан, – отвергать нельзя, ибо опыты сего у всех пред глазами : слышат слово крестное, веруют, принимают крещение и являются новою тварью; новыми себя ощущают, новыми видят их другие…
Заподлинно (принявшие слово крестное) удостоверялись в сей силе и премудрости , когда в крещении спогребались распятому Господу и вкушали спасительность креста…
…Блага сии уготованы любящим Бога, то есть тем, кои, оставя всё, к Богу прилепляются сердцем, и в сердечное живое общение и единение с Ним входят путем, от Него указанным и предписанным» [4] . Не стану напоминать тебе другие примеры.
А. – Concedo atque distinguo18. Все сказанное тобою заставило меня несколько изменить мнение. Я теперь соглашаюсь, что вы смотрите на Евангельские события иначе, чем я полагал, и, притом, в некоторых отношениях мне стала ясна формальная законность вашей точки зрения.
В. – А твои вопросы?
A. – Кое на что ты уже ответил сам, а другие вопросы я предложу теперь в иной раз: они носят совсем новый характер. Хорошо и то, что выяснилось, как я должен понимать то, о чем мы будем говорить. Однако для большей ясности следовало бы тебе покороче еще раз охарактеризовать два мировоззрения, одно ваше, а другое то, которое излагалось мною. Только покороче.
B. – Это просто; первое – эмпирея, второе – эмпирия.
A. – Уж чересчур кратко. У нас есть еще четверть часа; не изложишь ли ты эту мысль in extenso?19
B. – Изволь. Развитие мировой драмы по тобой изложенному мировоззрению идет всецело в области эмпирической, – в области цветов, звуков, запахов, давлений и всех других сторон чувственно-воспринимаемого мира, которые непосредственно или посредственно могут быть замечены методами физики, химии, биологии и других им подобных наук, равно как и в области хотений, ощущений, замечаемых эмпирической психологией. Все нити действия тянутся в области эмпирической, все пружины, двигающие события, не выходят из границ и пределов этого мира. По своей ли тонкости, или по недостаточности воспринимающих аппаратов многие нити, быть может, нам еще неизвестны; возможно даже, что они никогда не станут нам известны. Но, по существу , между известными нитями и теми, еще неизвестными, нет никакого различия; все они рассматриваются наподобие того, как рассматриваются явления в физике. Разница между ними аналогична разнице света и звука.
За такие черты изложенную тобою концепцию можно назвать натуралистической — натуралистической в смысле, аналогичном тому, в каком мы обозначаем этим именем известную литературную школу, потому что она довольствуется одною плоскостью действительности, протоколами этого мира, а всякую другую хочет сводить на эту единственную. Наше мировоззрение по существу иное. Мы не довольствуемся плоскостностью действительности, требуем признания перспективности, видим «холодную высь, уходящие дали». Эта перспективная глубинность заключается в том, что мы не выравниваем всего многообразия действительности к одной плоскости – плоскости чувственно-воспринимаемого, не гербаризируем действительности, сплющивая и высушивая ее в толстой счетной книге позитивизма. За данною переднею плоскостью эмпирического имеются еще иные плоскости, иные слои. Они не сводимы один к другому, но связаны между собою соответствиями, причем эти соответствия не условное что-нибудь или навязываемое действительности; соответствия устанавливаются тем же самым актом, который производит «действительность» в ее представляемой форме.
В потенции , в возможности, и вам, и нам даны одни и те же первичные данные – элементы. Но вы, – если только вы на самом деле так воспринимаете окружающую действительность, как говорите, а не просто считаете нужным так ее воспринимать, – вы строите из этих элементов мир плоскостный, а мы – глубинный. Я позволю себе продолжить предыдущее сравнение, сопоставляющее образование миропредставления с образованием пространственных представлений.
То, что имеется в чувственности изначала, то не есть еще нечто пространственное. Психологический анализ достаточно выяснил, что эти беспространственные элементы выстраиваются разумом как-то – в данном случае безразлично, как именно – в планомерное пространственное единство, в образ чувственного мира. Но сперва этот образ только плоскостный. Первоначально вся действительность имеет вид как бы картины, нарисованной по всем правилам перспективы на некоторой поверхности; она как бы приложена к глазу. Но в этой картине имеются только цвета яркости и насыщенности, имеются всевозможные переливы и сочетания красок, то блестящих, то матовых и тусклых, то светлых, то темных, игра светотени и контуры, но нет, совершенно отсутствует рельеф, какой-нибудь намек на перспективность или глубину.
Элементы остаются те же самые; но вот к устроению их присоединяются еще новые деятельности разума, совершенно новые способы действования разума – каковы бы они ни были и в чем бы ни состояли, это нам сейчас безразлично, – и тогда только вдруг раскрывается смысл картины в ее перспективности, делается ясным, для чего она нарисована по правилам перспективы. То, что раньше представлялось уродливой перекошенностью , происходящей от неумелости творца картины, оказывается целесообразно-направленным средством для изображения глубины. Тогда, и только тогда картина делается для Создателя тем, что она есть по своему замыслу; до того она была лишь собранием уродливо-искаженных и перекошенных контуров и теневых пятен с некоторыми намеками на целесообразность, потому что целесообразно-нарисованное в плоскости для непонимающего перспективы есть план, а не перспективное изображение, абрис, контур, только не сущность. Целесообразность картины действительности понятна только при понимании перспективы; в противном случае, если дело ограничивается плоскостью, целесообразность была бы иная, и, если потерять понимание перспективы, то естественно повторить за Альфонсом V Кастильским знаменитую фразу: «Если бы Творец спросил моего мнения, то я посоветовал бы Ему сотворить мир получше, а главное попроще!»
Если теперь перейти к предмету, с которого мы начали, к различию эмпирии и эмпиреи, то можно сказать: к тем изначальным данным, которые имеются у нас и у вас одинаково, вы применяете только один род построяющих действительность актов, и потому у вас получается действительность единообразная. Это – эмпирия. Мы же применяем к тем же данным ряд актов и получаем многообразно-расчлененную действительность. Из некоторого материала вы выстроили объект а; далее у вас ничего нет; однако оказывается, что материалы этого объекта допускают и требуют еще дальнейшей обработки новыми методами построения. Таким образом построяются объекты β, γ… и так далее. Эти объекты, однако, не разрозненны между собою; будучи самостоятельными по своей сущности, они, однако, связаны для сознания единством материала, из которого построены, а реально тем, что материал этот дается нашим отношением к единой вещи, и эти объекты α, γ… суть частные аспекты одной вещи, разные стороны ее идеи – сущности. Объекты а, β, γ…. суть, так сказать, части, стороны вещи для сознания. Однако они не равноправны. Объект β как дальнейшая обработка того же материала, который входит в α, заключает в себе α в известном смысле, но сам является чем-то более содержательным, чем α, потому что он – нечто и, кроме того, то, что α, β, именно, играет ту же роль в отношении к а, как страница из Гёте, рассматриваемая с точки зрения человека, понимающего поэму, к той же странице, но с точки зрения человека безграмотного. Для первого она есть эстетическое плюс зрительные образы «черное на белом», а для второго – только «черное на белом».
Таким образом, вследствие того, что разные деятельности разума применяются при построении действительности, вследствие этого наши объекты, заключая в себе все то, что ваши, имеют еще много иного; но это «иное» – самое главное, самое существенное – смысл того, что вы видели и не прочли. Вследствие этого объекты религиозного мировоззрения полнозвучнее, богаче, чем позитивистические. Законно сравнить их с аккордами, если объекты позитивистов назвать отдельными тонами.
Но когда разумом уже проделано все это, тогда и самая передняя плоскость – тот чувственный мир, который построяется «позитивистическою» деятельностью разума, приобретает для нас особую важность, особое значение; он, так сказать, отдается другим, высшим мирам, делается представителем их и, в известном смысле, носителем; отказавшись от самоутверждения, от своего существования как такового, он делается бытием для мира иного. Но тем самым он, «потеряв свою душу», сделавшись носителем иного мира, телом его, несет его в себе, воплощает другой мир в себе, или преобразуется, одухотворяется и превращается тем самым в символ, то есть в органически-живое единство изображающего и изображаемого, символизирующего и символизируемого. Эмпирический мир делается прозрачным, и чрез прозрачность этого мира становятся видимы пламенность и лучезарный блеск других миров. «…Невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы…» (Рим. 1, 20). Вследствие такого лишения самостности, самостоятельного цвета, этот мир, просвечивая огненностью иного мира, делается сам огненным; он как бы смешивается с огнем. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии» (Откр. 15, 2). Стоящие на море – это те, для которых этот мир стал уже вполне прозрачным, и вот они, оставаясь в этом мире, непосредственно касаются огненной стихии, которая смешана с морем, и видят это, и поют хвалу, говоря: «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! праведны и истинны пути Твои, Царь Святых!» (Откр. 15, 3).
Итак, если я назвал ваше плоскостное мировоззрение натуралистическим, в смысле известной литературной школы, то наше, по справедливости, следует назвать символическим за то, что в нем познание мира является в то же время «соприкосновением с миром иным».
В самом деле, что иное должна представлять из себя символическая поэзия, как не органически-слитное соединение того мира, который дан в поэзии реалистической, мира опытного, с новыми, горними слоями эстетической действительности. Каждый слой значителен сам по себе и ведет к другому, еще более значительному.
Вот в общих чертах различие эмпирии от эмпиреи, если взять мировоззрение или миро-настроение в его целом. Однако тут было бы неуместно рассматривать отношение такого общего мировоззрения к ранее рассмотренному вопросу о таинствах.ПРИЛОЖЕНИЕ. ЗАМЕТКА О ВОСПРИЯТИЯХ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТАИНСТВ
I
Наличность особых восприятий при получении благодатной силы таинств составляет данную несомненную. Но, помимо таких восприятий, отмеченных у людей «обыкновенных», в литературе имеются примеры необычайного иерогнозиса или, по терминологии Эмбера-Гурбейра, евхаристического чутья (flair eucharistique), обнаруживающегося иногда у сензитивов, визионеров, провидцев – людей с особой организацией. Ясновидящие такого рода умеют определять святыни всякого рода – реликвии, освященные предметы и, в особенности, Святые Дары.
Особенно много случаев евхаристического чутья зарегистрировано у католиков, может быть, потому, что католические писатели имеют склонность усматривать в этом роде откровения, так называемые revelationes privatae20, и, понятно, отсюда придают ему важное значение. Данных к такому пониманию дела мы не видим и, наоборот, видим данные, служащие помехой. Но, не будучи откровением, евхаристическое чутье не может быть отнесено и к разряду чувственного опыта и, вероятнее всего, оно принадлежит к той группе явлений, которые Майерс (Myers) обозначил именем сублими-нального сознания.
Эмбер-Гурбейр собрал ряд примеров такого чутья (описаны в т. I его сочин. «La Stigmatisation» [5] ). Приведем их. Святой Франциск Борджия, войдя в церковь, всегда узнавал, где хранились Святые Дары (освященные о́стии). Жанна Мария де ла Круа чувствовала благоухание, исходившее от причастившихся утром священников. Екатерина Сиенская отказалась однажды принять причастие, почувствовав, что предложенная ей священником остия не освящена по его нерадению. Лучия Парнианская среди 13-ти остий отличала освященную. Над Луизой Латб неверующие медики производили эксперименты и убедились, что она без ошибки узнавала предметы освященные. Святой Карл Бордомей по благоуханию узнал о нахождении в одной церкви, чего никто не подозревал, мощей Святого Иеронима Эмилианского.
В XIX столетии опыты обнаружили евхаристическое чутье Марии Юлии де л а Фродэ. Но самым интересным субъектом является вестфальская крестьянская девушка Анна-Екатерина Эммерих (Emmerich), жившая в 1774–1824 годах.
Стигматизированная и визионерка, Эммерих обладала также необычайно развитым евхаристическим чутьем. Правда, что к сведениям об Эммерих надо относиться с большой осторожностью. Нельзя забывать, что описание ее переживаний подверглось двойной цензуре и двойному ряду поправок – со стороны секретаря ее, восторженного поэта Климента Брентано, и «чрезвычайного» духовника, правоверного католика Оверберга. «Проверка» видений Эммерих ее секретарем по научным данным и «encouragements» самой Эммерих при пробелах в рассказах о видениях ее духовником, – все это дало записям о видениях «приличный» вид, но зато заставляет быть осторожным при пользовании ими. Впрочем, возможные искажения относятся к догматическим или историческим элементам ее переживаний, и нет причин предполагать их в приводимых ниже фактах.
«Чуткость» Эммерих доходила до того, что она угадывала, совершал ли пришедший к ней священник в этот день евхаристию, или нет. С необычайной силой схватывала она священника за большой и указательный пальцы руки (которыми католические священники касаются Святых Таин) и выпускала руку священника лишь по магическому для нее слову «слушайтесь». Невидимый для других свет и особые оттенки этого света позволяли ей отличать среди других, внешним образом тождественных, предметов не только Святые Дары, но и все, что церковь освятила своими таинствами, особенно же мощи святых и реликвии. Обыденность таких восприятий, засвидетельствованных многими исследователями, позволила одному из друзей Эммерих прозвать ее сакрометром.
II
Мы привели указанные примеры, не разбираясь в них критически, – желая только пояснить, факты какого рода имеются в виду, причем надо заметить, что примеров таких можно набрать сколько угодно из описаний бесноватых и одержимых, ясновидящих и визионеров.
Допустим, однако, что, по тем или иным соображениям, мы хотели бы уклониться от пользования подобными описаниями, – хотя бы потому, что не имели бы возможности критически взвесить документы.
Тогда вопрос о таинствах сводился бы к необходимому признанию двух наличностей: во-первых, наличности тайнодействий, в которых известные лица не видят особого элемента, благодати; и, во-вторых, – наличности теории таинств, части догматики, утверждающей специфическую природу таинства, его «существительную» [6] особенность.
Итак, у нас есть два факта\ ни одного из них нельзя отмести, оба должны быть объясненными. Представим себе далее, что мы желаем считаться по преимуществу с первым фактом, с отсутствием у данного лица особых восприятий от таинств. Понятно, что простое отсутствие восприятий у данного лица ничего еще не предрешает само по себе относительно несуществования или, тем более, невозможности существования такого восприятия вообще, а потому – и наличности объекта этого восприятия – мистического что. Однако такое заключение иногда все-таки, по ошибке, делают; покажем же, что в данном случае оно ведет к нелепости. С этою целью временно допустим его, то есть сделаем принципиальное утверждение об отсутствии специфического восприятия и специфической природы таинства. Тогда, так или иначе, нам надобно считаться с другим фактом – с традиционной теорией, берущей свое начало в глубокой древности и упорно сохраняющейся, – с теорией о специфической природе таинства.
Как бы мы ни относились к Церкви, но нельзя быть настолько легкомысленным, чтобы никак не считаться основными убеждениями ее – с убеждениями миллионов людей разного воспитания и образования, разного общественного положения, – с убеждениями, пребывающими в мятущемся потоке времени.
Пусть их признают ошибкой, нелепостью. Но ведь и для ошибок и нелепостей, а тем более пребывающих в пространстве и времени, имеются свои причины, с которыми нельзя не считаться. Нельзя обращаться с такими убеждениями по «методу незамечания».
«Может быть, – скажут, – будет показано, что эта теория таинств есть результат исторических влияний на церковное учение, культурное наследие ее». Пусть так, но это – не объяснение. Ведь мы принципиально отказались признавать за таинством особую природу. Генетическое объяснение только переносит вопрос к другому времени и к другому народу, к сути дела даже не подступаясь; трудность объяснить причину создания церковной теории остается той же, что и ранее. В самом деле, ведь если безусловно отрицать особые восприятия в жизни духа при получении таинств, то с такою же безусловностью можно утверждать, что и рефлексии на них возникнуть не могло бы. Этим вопрос об априорности логической схемы нисколько не предрешается; идет дело только о том, как до переживания данная потенция, предрасположение разума, перешла в актуальность. Понятие об особых элементах не получается ни при каком комбинировании уже имеющихся данных, от первых принципиально отличных. Мы можем находить евхаристические молитвы соответствующими благословению иудейского пасхального канона; мы можем связывать их с мистериями Митры, Диониса или орфиков. Но, какова бы ни была ценность утверждения нашего об историческом преемстве того или другого явления, оно касается только формы, ободочки таинства; мистическая же сторона его таким путем абсолютно невыводима без мистических восприятий. «Но, – могут сказать, – в духе могло быть данное до всякого конкретного переживания, понятие о специфической природе, – некоторая, так сказать, рефлексия до переживания, чисто-логическая возможность схематизировать будущее переживание». Пусть в духе есть понятие, схема, данная актуально до наличности того, чего она есть схема. Пусть так. Но тогда, если эта возможность безусловно отрешена от конкретного переживания, то совершенно непонятно, как она могла после вступить в связь с другими конкретными переживаниями, чувственными данными. Другими словами, совершенно непонятно, как только общее , исключительно общее и притом относящееся к специфическому содержанию, могло быть применено к частному, к материальному содержанию таинства, которое, вдобавок, существенно разнится от схематизируемого данным понятием – благодати. Непонятно, почему образовалась теория таинства применительно к определенному явлению, а не к любому другому, и, так как этот вопрос относится ко всякому эмпирическому данному, то делается непонятным вообще, что связывает это общее, до переживания данное понятие, с частным каким бы то ни было явлением, данным в опыте эмпирическом; делается непонятным, почему под данное понятие нельзя подставить чего угодно, а тогда это бы значило, что материя таинства в теорию попасть никак не могла бы. Чтобы понятие могло быть применено к конкретному, оно должно быть прикреплено к определенному конкретному; но для последнего необходимо, чтобы это конкретное отличалось для сознания ото всякого другого, выделялось из остального, было особенным, то есть чтобы сознание воспринимало в нем какую-то специфическую природу, если общее, к нему применяемое, утверждает существование таковой.
Для применимости теории к опыту необходимо, чтобы она имела в опыте какое-то соответствие себе; опыт должен откликаться на теорию, и этот отклик, это соответствие должно быть пережито, – другими словами, должна быть пережита эмпирея.
Итак, наличность теории данного таинства, как имеющего специфическую природу, привела к заключению, что если не в этом таинстве, то в ином каком-то историческом прецеденте его было переживание эмпиреи. Это противоречит нашему принципиальному отрицанию такой возможности, и мы приходим к нелепости. Раз так, то крайне вероятно предположить, что такие случаи восприятия были в свое время отмечены и зарегистрированы, именно: как случаи чего-то нового по сравнению с обычными восприятиями, – как случаи, где сквозь эмпирию к сознанию прорывались иные слои действительности.
«Но, – скажут, – церковная теория таинств держится простым доверием к словам Христа. Христос сказал про хлеб: τοϋτό έστιν το σώμα μου и про вино: τοϋτό έστιν το αίμα μου (Мк. 14, 22, 24)21; Ему поверили апостолы, апостолам – первенствующая Церковь, а далее непрерывностью предания такое понимание таинства было доведено и до нашего времени». Это замечание вполне справедливо, но оно уклоняется от поставленного вначале утверждения: нет мистических переживаний и объектов, им соответствующих.
Прежде всего, если Христос простой человек (а ведь именно это и утверждает подлинный эмпирик), то тогда относительно Него возникают все те недоумения, какие были указаны относительно любого создателя церковной теории таинств; если Христос ошибался в приведенных выше словах, то необходимо объяснить возможность такой ошибки, а этого не сделаешь без предположения о наличности у Него же или у кого-нибудь, из влиявших на Него, мистических переживаний. Если же Христос – Богочеловек, то тогда в Нем уже есть сверхэмпирическое; тогда невозможно не верить Христу, и возражение само себя уничтожает.
Затем может возникнуть возражение, что, мол, в словах Христа вовсе не заключается церковной теории таинств, что церковное понимание есть «наслоение», внесенное апостолами или отцами Церкви. Допустим, что и это правильно, то есть, что церковная теория есть результат развития теории аллегорической, по которой таинство – только образ и слово «έστιν» употреблено в смысле «обозначает, служит знаком». Как бы там ни было, но нельзя тогда отрицать, что все-таки, в конце концов, явилось понимание таинства как чего-то большего, чем образ; такое понимание как качественно отличное от понимания аллегорического, не могло быть простою модификацией этого последнего, и, значит, в эволюции церковного учения где-то произошло внесение существенно нового угла зрения. Как таковое оно не могло быть постепенным для данного сознания; оно должно было быть прерывным, внезапным. Блеснул новый момент понимания таинства, – и, значит, тот, кому он блеснул впервые, оказывается создателем новой теории. А раз так, то о нем приходится повторять все сказанное выше.
Сказать, что церковная теория таинств явилась результатом непонимания Церковью приточного выражения со стороны Христа, – это значит ничего не сказать, так как для такого непонимания нужно было привнесение в слова Христа того, чего, по мнению возражающего, там не содержится; а это требует признания, что мистическое восприятие и рефлексия на него не были духу непонимающего безусловно чужды.
Итак, желая во что бы то ни стало отвергать за данным таинством его мистический характер, мы вынуждены принять мистическое в чем-нибудь другом; а раз принципиальное отрицание мистического невозможно, то мы имеем все данные признать его тем, за что ручается нам Христос и церковная традиция, хотя бы сами лично никогда не переживали таинства и его мистической стороны.
III
Таинство, в котором для сознания дается его благодатная сущность, воспринимается сознанием в виде чуда [7] . Эта чудесность может сопровождаться еще поразительностью, то есть какими-нибудь эмпирическими необычайностями, оттеняющими, подчеркивающими для внимания данное явление.
В аскетической литературе имеется много рассказов о таких чудесах; но прежде чем указать, почему таким рассказам мы придаем важное значение, напомним общий характер таких чудес.
Они происходили, по словам аскетов, при совершении или получении таинств, по преимуществу крещения и евхаристии, особенно последней. Причина этому вполне понятна – это именно сравнительная обыденность сказанных двух таинств, особенно в жизни монахов.
В описаниях случаев чудес вполне ясно отмечены мистические восприятия. Так, например, в одной легенде [8] рассказывается, что Иоанн Хозевит, совершая возношение Святых Даров, «не замечает, чтобы Дух Святый освятил их, как замечал это прежде». Причиною этого оказывается то, что евхаристийные хлебы были уже по оплошности освящены. В другой легенде [9] мы видим священника, судимого за запаздывание в совершении литургии и в нарушении этим устава. «В воскресные дни, – оправдывается старец, – от самой полунощницы я нахожусь у святого престола и не начинаю литургии, пока не увижу Святого Духа, нисходящего на святой престол. Когда же увижу наитие Святого Духа, немедленно совершаю литургию».
В третьей легенде [10] такого же характера рассказывается, как паства оклеветала перед папой Ромиллского епископа. По откровению от Ангела папа святой Агапит, вызвавший епископа на суд, велит ему служить литургию. «Епископ стоял пред святым престолом, папа стоял близ него, и диаконы окружали престол. И стал епископ совершать святое возношение… Он уже оканчивал молитву святого приношения, но, прежде чем заключить ее, начал опять снова, а потом в третий и в четвертый раз начинал святое возношение, не оканчивая его… Все были изумлены такою медлительностью… Тогда папа сказал епископу: «Что это значит, что ты вот четыре раза произнес святую молитву и все не можешь ее окончить?» Епископ отвечал: «Прости меня, святой папа, я не видел, по обыкновению, схождения Святого Духа, потому и не оканчивал молитвы. Но удали от святого престола диакона, держащего рипиду, так как я сам не смею сказать ему». Диакон удалился, по приказанию святого Агапита, и немедленно епископ и папа увидели наитие Святого Духа. Покров, лежавший на святом престоле, поднялся сам собою и осенял в течение трех часов папу, и епископа, и всех диаконов, предстоявших святому престолу…»
В некоторых случаях мистические восприятия облекались в символическую форму видений, тогда как приведенные выше случаи относятся, по-видимому, к восприятиям не символическим. Вот хороший пример [11] таких восприятий в картинной оболочке. Некоторый простой по вере, но великий по подвигам старец говорил, что «хлеб, который мы принимаем, не есть существенно тело Христово, а только вместообразное (αντίτυπον)». Другие два старца уговаривали его, говоря, что этот хлеб истинно есть тело Христово, но старец стоял на своем: «Если не уверюсь самым делом, не могу вполне убедиться», – отвечал он на уговаривания. Тогда, по недельной молитве его и старцев, «Бог услышал их. По прошествии недели, они пришли, в воскресенье, в церковь… И отверзлись им очи. Когда хлеб положен был на святой престол, он представился троим братьям в виде младенца. Когда же священник простер руку для преломления хлеба, Ангел Господень сошел с неба с ножом, заклал младенца, и кровь его вылил в чашу. Когда же священник раздроблял хлеб на малые части, тогда и Ангел отсекал от младенца малые части. Когда они приступили к принятию таинства, старцу одному подана была плоть с кровью. Увидев сие, он ужаснулся и воскликнул: верую, Господи, что Хлеб сей есть Тело Твое, и Чаша сия есть Кровь Твоя! И тотчас плоть в руке его стала Хлебом, как бывает в таинстве, и он приобщился, благодаря Бога».
«Святый Макарий (Александрийский или Младший) рассказывал [12] о бывшем ему еще более страшном видении. Братия приступали к принятию Святых Таин. Лишь только иные простирали длани для принятия Святых Таин, эфиопы, как бы предупредив священника, клали на руки некоторых уголья, между тем, как Тело Христово, преподаваемое священником, возносилось обратно к алтарю. Напротив – когда более достойные из причастников простирали руки к алтарю, злые духи отступали от них и далеко убегали с великим ужасом. Видел он также, что Ангел Господень предстоял алтарю, вместе с рукою священника простиравший также свою руку к алтарю и участвовавший в преподании Святых Таин».
Нечто подобное этому представляет рассказ о старце, усвоившем, по простоте своей, еретический чин литургии. Обличения брата не действовали, так как при своем служении он видел ангелов, предстоящих священнодействию. Но, услышав от них, что брат, обличающий его, прав, старец исправился в службе [13] .
В некоторых службах мистическая природа таинства ознаменовывалась необычайными эмпирическими явлениями. Таков, например, случай [14] , когда для испытания правильности веры некоего еретика-северианина православный бросил частицу его причастия в раскаленный сосуд, и она немедленно сгорела, тогда как частица Святых Даров Православной Церкви осталась невредимой.
В Алфавитном Патерике [15] (1491 г.) приводятся случаи, когда тайно окрещенный еврей был гоним своими родными за какое-то особое благоухание, по которому они узнавали о его христианстве; особым действием благодати окрещенный не сгорал в раскаленной банной печи, куда его засаживали гонители, и т. п. В другом месте [16] рассказывается, как частицы Святых Даров, которые еретики желали предать огню, произрастили стебли и колос, и это чудо произвело в Селевкии настолько сильное впечатление, что «горожане и поселяне, туземцы и пришельцы, путешествующие по суше и плавающие по морю, мужчины и женщины, старые и малые, юноши и старцы, господа и рабы, богатые и бедные, власти и подвластные, образованные и невежды, духовенство, девственники и подвижники, вдовцы и в браке живущие, правители и народ – все восклицали: «Господи, помилуй!» – и каждый взывал по-своему, прославляя Бога. Все благодарили Бога за неизреченное и недомыслимое знамение. Многие, уверовав после чуда, присоединились ко святой кафолической и апостольской церкви.
Но чаще всего мистические восприятия от таинств в легендах связываются со стихией огня. Огненное освящение Святых Даров у Преподобного Сергия невольно заставляет вспомнить освящение апостолов огненными языками – «и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них» (Деян. 2, 3). По легендам, огненный язык посылается для того, чтобы помешать недостаточно благоговейному обращению со Святыми Дарами, и, согласно такому назначению, он производит действие разрушительное. Так, например [17] , некий еретик Исидор, узнав, что жена его приняла Святое Причастие в Православной Церкви, пришел в бешенство. «Схвативши ее за горло, – рассказывает он, – я заставил ее извергнуть святыню. Подхватив святыню, я бросал ее в разные стороны, и, наконец, она упала в грязь. И мгновенно пред моими очами, молния восхитила Святое Причастие с того места…»
Несколько подобных нисхождений огня было в случаях, когда неуместно и незаконно совершалась литургия. Дело в следующем. «Император Юстиниан в начале VI века издал было указ, чтобы все епископы и пресвитеры не в молчании, а с возглашением во услышание православного народа, совершали Божественное возношение (новелла 137, гл. 6 ). Но последствия показали, как не пригоден был такой указ» [18] . Один из случаев такого рода [19] произошел в городе Апамее, в Сирии. Около этого города дети пасли скот и затеяли играть в обедню. «Поставили одного в чине священника, двух других произвели во диаконы. Нашли один гладкий камень и начали игру: на камне, как на жертвеннике, положили хлеб и в глиняном кувшине вино. Священник стал пред жертвенником, а диаконы – по сторонам. Священник произносил молитвы святого возношения, а диаконы махали поясами, будто рипидами…» Мальчик-священник знал молитвы, так как они читались, как сказано, в церкви громко, а дети стояли во время литургии перед святилищем. «Когда все было устроено по церковному чину, прежде чем приступить к раздроблению хлеба – вдруг огонь ниспал с неба, пожрал все предложенное и совершенно испепелил самый камень, так что не осталось никакого следа ни от камня, ни от того, что приносилось на нем. При виде неожиданного явления дети в страхе замертво попадали на землю и не могли ни встать, ни закричать». Родители, отправившиеся на поиски их, нашли их в бесчувственном состоянии, и только на другой день дети смогли рассказать, что произошло. Тогда родители отправились с детьми и народом на место происшествия. «Там заметны еще были следы ниспавшего огня», которые видел впоследствии и местный епископ, построивший тут храм.
Подобные же случаи, когда дети совершали таинства крещения и евхаристии, мы можем встретить в Патерике. Мы приведем, однако, еще один рассказ о святом Афанасии. «Святой Александр, бывший папою в Александрии… увидал на морском берегу игравших там по обычаю детей. Они представляли епископа и всё, что по чину совершается в храме. Присмотревшись внимательно к игре детей, он увидал, что у них совершаются некоторые таинства. Пораженный этим зрелищем, он немедленно созывает духовенство и рассказывает о том, что видел. Потом послал взять и привести к нему всех детей. Дети явились», рассказали всё по порядку и, между прочим, что «они крестили некоторых, оглашенных Афанасием, которого дети поставили над собою епископом. Тогда епископ тщательно расспросил, кого дети крестили – и узнал, что дети в точности исполнили всё по чину Богослужения. После совещания с своим клиром, папа постановил – вторично не совершать крещения над теми, кто удостоился святого таинства…».
Число таких рассказов можно было бы значительно увеличить, но размеры статьи не позволяют делать этого, да к тому же в этом нет особенной надобности. Поэтому теперь можно будет перейти к теоретическим соображениям – весьма отрывочным, так как детальнее и связнее они будут изложены в другом месте.
IV
Если одна из целей научно-философского мировоззрения – ответчивость [20] относительно каждой стороны действительности, так сказать, бухгалтерность сознания, возможность иметь в сознании каждую деталь и «делать подсчет» всякой грани ее, то целью научного опыта (понимаю это слово в самом широком смысле) является расщепление элементов и сторон действительности, подчеркивание их, обведение контурами. Но, чтобы производить такую разъединяющую работу, такое расчленение – сознание должн о иметь то, над чем оно оперирует, и это – нечто данное в духе же. Это нечто не дается сразу, но вырабатывается, открывается особым подсознательным процессом, который удобнее всего назвать народным опытом. Разумеется, что названия «научный» и «народный» берутся тут не в том смысле, чтобы у ученых был только опыт научный, а у «народа» – народный. Этого нет, так как эти два опыта нераздельны, но, при усиленности рефлексии, преобладает первый, а при преобладании созерцания и действенности – второй.
Итак, опыт научный предполагает опыт народный, и отсюда уже понятна характеристика последнего. Задача первого – подчеркивать и разделять. Задача последнего – давать наиболее полнозвучные переживания, материал по возможности не подчеркнутый и не разделенный.
Однако этот материал не может быть самою конкретною действительностью, так как рефлексия не может непосредственно направляться на бесконечно-многообразное. Следовательно, не будучи действительностью и, в то же время, не будучи абстрактными схемами, этот материал должен быть типическим изображением действительности в духе.
Это изображение должно быть таково, чтобы оно допустило применение к себе схем рефлексии, то есть должно иметь в себе известное единство, законченность, известную ограниченность (лерок;); но оно же должно носить в себе возможность, потенцию всей полноты определений действительности, никогда не исчерпаемой, но постоянно исчерпываемой, и, в этом смысле, такое изображение должно иметь в себе известное беспредельное множество, незаконченность, безграничность (πέρας).
Цельное в себе, оно должно иметь множество корней, по которым втекают в него животворные соки действительности и, будучи частью бытия, оно должно в известном смысле включать в себя все бытие; актуально законченное, оно должно быть потенциально безграничным.
Отсюда понятно, что оно должно носить в себе черты художественного произведения, – быть живым, сочным и органическим типом действительности, если угодно, раскрывающейся в духе идеей действительности, с тою только разницей, что идея в художественном произведении дается сознанию как нечто готовое, а эта – сознанием раскрывается.
Это изображение напоминает аналогичное, хотя и перепутанно-смешанное изображение сновидения, – живую поэзию или поэтическую жизнь. Недаром карамазовский Чорт заметил: «Иногда видит человек такие художественные сны, такую сложную и реальную действительность, такие события или даже целый мир событий, связанный такою интригой, с такими неожиданными подробностями, начиная с высших ваших проявлений до последней пуговицы на манишке, что, клянусь тебе, Лев Толстой не сочинит, а между тем, видят такие сны иной раз вовсе не сочинители, совсем самые заурядные люди, чиновники, фельетонисты, попы…» [21]
Художественные произведения назывались иногда (Овсянико-Куликовский) индукцией немногих наблюдений творца их; если согласиться на такое применение этого термина, то изображение действительности, о котором речь, тем более может быть названо индукцией, – индукцией тысячи поколений и миллионов опытов. Вот почему опыт народа есть опыт «народный» по преимуществу и содержит неисчерпаемый запас для научной переработки, является не искаженным, хотя часто символическим или даже условным рисунком действительности. Как бы ни казался этот опыт нелепым, – смириться должна пред ним гордыня скоростной рефлексии, беспристрастно должна вникнуть наука в народную мудрость, идущую в своей целостности всегда впереди науки. Не к одной загадке мировоззрения ключ – в руках народной мудрости, и стоит вспомнить историю науки, ну, хотя бы учение о метеорных камнях или о явлениях сублиминального сознания и оккультных деятельностях духа, чтобы призадуматься над тем легкомысленным игнорированием лейтмотивов народной мудрости, которое приходится видеть сплошь и рядом.
Но рефлексию можно применять только к «народному» опыту, а не непосредственно к опыту народа. Вопрос в том, как транспонировать последний в первый. Если подходить к произведениям народа с приемами рассудочной мысли, то, понятно, что мы не найдем в них ничего кроме слов, выражающих понятия; а в качестве таковых они не могут быть ничем иным, как результатом рефлексии же, – ничем иным, как частью научно-философского лексикона той среды, в которой возникли данные произведения.
Итак, смотря в «научные» очки, мы не увидим ничего, кроме хорошей или плохой научности, причем заранее можно утверждать, что всякая данная научность может увидеть только то, что не выше ее. Опыт же народа бывает по большей части, по своей научности, ниже опыта науки и потому подступаться к нему с такими методами, и притом не имея в виду целей истории, – это значит терять время.
Но если для рефлексии слово есть только знак некоторой схемы, понятия, то для непосредственного, дорефлективного отношения слово, по крайней мере в его связанности с другими, есть нечто большее, чем одно только орудие вызвать в сознании схему; для науки, собственно, нет слов, а есть термины, но термин и слово – вещи различные. Слово имеет двойственную природу. Оно – слово в собственном смысле, и может как таковое быть названо сверхрассудочным, – миниатюрным произведением искусства; но кроме того оно – термин, нечто рассудочное. Вот эта-то особенность слова [22] позволяет выражать данными словами то, что безусловно не выражается ими, если смотреть на них с точки зрения слов-терминов, – рефлексии. А потому содержание речи может перерастать ее терминологический смысл, который только и ухватывается рефлексией.
Не горит ли сердце наше, не замирает ли в сладкой утишенности, когда глаз падает на изумительно-простые слова Руфи к Ноемии: «Не упрашивай меня оставить тебя и возвратиться от тебя; но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты будешь жить, там и я буду жить; твой народ – мой народ, и твой Бог – мой Бог, где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Пусть то и то сделает со мною Господь, пусть и еще больше сделает; смерть одна разлучит меня с тобою» (Руфь 1, 16–17).
Не овеет ли нас благоуханной весною, не заластится ли в уши стыдливый ветерок? не надуется ли все существо белым парусом, когда услышим призывы пастуха: «Встань, подруга моя, красавица моя, иди сюда; потому что зима уже прошла, дождь миновал, прошел; цветы показались на земле; время песней наступило, и голос горлицы слышен уже в земле нашей; ягоды смоковницы созрели, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, подруга моя, красавица моя, иди сюда. Голубка моя, сидящая в ущелии скалы, под кровом утеса! Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой…» (Песнь Песней 2, 10–14).
Представим себе, что мы читаем подобные слова или, еще лучше, какого-нибудь мистика, хотя бы Исаака Сирина, и вполне добросовестно стараемся понять описываемые переживания, но подходим к читаемому с рефлексией. Что мы увидим тогда? Да ничего, кроме того, что сейчас известно научному миросозерцанию, то есть ничего, кроме физиологических и эмпирио-психологических процессов. Мистические же переживания распадутся на световые, термические, слуховые, мускульные и общесоматические ощущения и на голые утверждения особенности этого комплекса ощущений. Однако последнее, то есть претензия на особенность переживания, останется совершенно неоправданным и даже будет явно противоречить полной разложимости описанных процессов на «обычные» ощущения. Такой разбор описания будет прав по-своему; но он таков именно потому, что у науки нет средств захватить мистические переживания, и, вместо них, она ловит процессы попутные, – не самая суть, а пена, не жемчужина, а тина остается в ее руках. Но стоит только подступиться иначе, посмотреть непосредственно на произведение, чтобы духу открылось его сверхтермино-логическое содержание, чтобы в простых словах, – в словах терминологически ничтожных проснулось и выглянуло на нас что-то бесконечно милое, благоуханное, как полузабытая улыбка ребенка: он только что открыл ясные глазки и тянется ручонками со своей кровати к столбу золотой пыли, прорвавшему занавесь…
Миф – это крайний пример сверх-терминологической литературы. Подлинный миф, в его целом, для научного анализа есть подлинный набор слов, – примитивная, полубессмысленная философия первобытного мышления. Это, – с известным ограничением на современное мифотворчество [23] , – действительно так; но для непосредственного сознания миф как символика глубочайших переживаний, проецированных на эмпирическое, есть основа всякого постижения действительности.
Нечто аналогичное мифу представляет и легенда. Этим вовсе не говорится, что «материя» легенды, ее сюжет был бы вымышленной комбинацией наблюдаемого обычно. Напротив, подавляющее большинство легенд, как мне кажется, надо принимать en toutes lettres22, понимать тавтегорически [24] и признавать, что все рассказываемое в них – быль. Говорится только то, что суть легенды, как бы ни был неожидан ее сюжет, ее фабула, сколько бы нового ни давал он для научного миросозерцания сам по себе – не в сюжете. Он – дело второстепенной важности, проекция восприятий, мистических на эмпирические попутные явления, быть может – обыкновенные, быть может – необыкновенные, но во всяком случае, сами по себе имеющие роль только знамений, огщега signa24. Главное же – восприятие чуда, и подлинная легенда (а таковая – всегда религиозна) есть повествование о чуде, окруженном для его выделения, изолирования знамениями.
Обращаясь к легенде без рефлексии, мы часто можем уловить те переживания, которые заключены в оболочку фабулы, причем для нас вовсе не так важно, произошла ли эта оболочка в момент восприятия чуда как необходимый экран для проецирования мистического, или же она создалась впоследствии, постепенно.
Минуя обсуждение последнего вопроса, мы не можем не отметить факта замечательной однообразности легендарных фабул. В этом обычно видят существование шаблона, по которому составлялись легенды. Так или иначе, но применение единообразий символики к однородным переживаниям указывает на то, что между символизируемым и символизирующим есть какая-то связь. Вот почему часто, даже не переживая легенды, можно многое получить из нее, пользуясь раз навсегда исследованной символикой, в которой определенные внешние явления, определенные знамения являются проекциями соответственных им переживаний, тоже определенных и уже заранее известных.
ВОПРОСЫ РЕЛИГИОЗНОГО САМОПОЗНАНИЯ
ПИСЬМО I
«Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, – пишет Апостол, – но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией» (1 Кор. 2, 4–5). Вера христианская имеет своим основанием не рассуждения, не объяснения, не доказательства только, а прежде всего силу Божию. Все то, что опирается не на силу Божию, не на опытное богопознание, есть человеческое, только человеческое. Так и было на деле, когда христианское общество считало в своей среде множество явных носителей Духа. Но в настоящее время это кажется для многих лишь полузабытой сказкой; все упования перенесены в собственные дела человека, и сколь многие даже в виду не имеют, что основание веры – сила Божия, а цель христианской жизни – стяжание Духа, приобретение духовной силы.
«Господь открыл мне, – сказал однажды старец Серафим одному своему собеседнику, – что в ребячестве вашем вы усердно желали знать, в чем состоит цель жизни нашей христианской, и у многих великих духовных особ вы о том неоднократно спрашивали… Но никто не сказал вам о том определенно. Говорили вам: ходи в церковь, молись Богу, твори заповеди Божии, твори добро – вот тебе и цель жизни христианской. А некоторые даже негодовали на вас за то, что вы заняты не богоугодным любопытством, и говорили вам: высших себя не ищи. Но они не так говорили, как бы следовало. Вот я, убогий Серафим, растолкую вам теперь, в чем действительно эта цель состоит. Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские, сколь ни хороши они сами по себе, однако не в делании только их состоит цель нашей христианской жизни, хотя они и служат необходимыми средствами для достижения ее. Истинная же цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святого Божьего. Пост же и бдение, и молитва, и милостыня, и всякое Христа ради делаемое доброе дело суть средства для стяжания Святого Духа Божьего…»
Но не видно стяжавших Духа в среде христиан, не чувствуется действующей в них силы. Люди являются христианами по имени, в лучшем случае – по своим убеждениям и своим делам, а на самом деле, как будто, лишены мощи, которую дает вера. Но это еще – не самое ужасное. Ужасно более всего полное невнимание к самой идее о стяжании Духа. Не имеют и не хотят иметь, не считают нужным иметь, не думают, что без действительной силы христианство является обуявшею солью и потухшим светильником. Не видят, что сила Христова, действующая в христианине, есть не роскошь, а первая необходимость, и что о мощи, даваемой христианину, должно говорить не в переносном, а в подлинном смысле. Подрывают и разрушают христианство, и это не неверующие, а сами верные, безбожно умаляющие и отметающие обещание Господа о горе, ввергающейся в море по слову верующего.
Такова общая картина современности, – по крайней мере как она представляется со стороны. Однако невозможно думать, чтобы все ограничивалось только этими отрицательными чертами. Мы верим, мы убеждены, что под теплою золою полуверия хранится жар истинной веры. Но необходимо разгрести его, необходимо поискать, в каких затаенных уголках прячутся духовные явления современного христианского мира.
Решающим, преимущественным испытанием веры является исследование таинств, понимая это слово в самом широком смысле, а именно, как обозначение всего видимого и земного, за чем преимущественно скрывается невидимое и небесное. Таинства, по своей идее, – это начатки обожения твари, очаги, из которых распространяется Божественное тепло. Это – те точки, где в нашу действительность преимущественно вторгается новая, особенная, творческая сила, преображающая человека, и через него – всю действительность. Так – по идее. Но так ли на самом деле? И вот, этот ребром поставленный вопрос, по-видимому, находит себе отрицательный ответ. Самое надежное место, где нужно было искать особенных Божественных сил, по-видимому, оказывается недостаточно надежным. Для многих таинства представляются иссякнувшими источниками. Со всех сторон приходится слышать глухие утверждения, что таинства – это только простые церемонии, в лучшем случае имеющие значения образов, напоминаний, знаков. Говорят, что человек не приобретает по крещении ничего нового сравнительно с некрещенным: самое же крещение представляется чем-то вроде приобретения права на вход, входного билета в сообщество христиан. Приобщившийся Св. Даров ввел в свое тело только кусок хлеба, напитанного вином (Л. Толстой). Вступивший в брак ничего не потерял бы в своем брачном бытии, – говорят многие, – если бы жил в браке гражданском. Священство – это простое внешнее действие вроде ввода в новую должность. Елеосвящение же является, будто бы, какой-то насмешкой над умирающим. И то же самое говорят о других религиозных действиях. Крестное знамение и молитва так же бессильны, как и всякое другое двигание рукою. Так говорят. И весьма нередко люди, мнящие себя верующими, в глубине души спокойно подтверждают все это. Как же? Если и в таинствах не проявляется что-то особое, новое сравнительно со всеми остальными явлениями, то в чем же их сила? Если ни в душе, ни в теле воспринимающего таинство, действительно, не является никакого плюса, то к чему же таинство?
Повторяя то, что каждому из верующих приходится слышать весьма нередко, мы заранее предвидим негодование с двух противоположных сторон. Одни станут кричать с гневом: «Зачем искушать Бога своими испытаниями! Грешно даже повторять подобные вопросы!», а другие – насмехаться: «Да неужто в наш век, в век автомобилей, х-лучей и всего прочего можно всерьез говорить о таинствах?» Оставляя последних возражателей без ответа (ответом для них пусть послужат факты, которые сообщат читатели), мы приведем на память первым слова ап. Павла: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы? Самих себя исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть» (2 Кор. 13, 5).
Мы верим в истину христианства и потому уверены, что она выдержит всякое испытание, и не боимся за нее. Но вопросы, возникающие кругом нас, принудительно влекут нас испытать самих себя, в вере ли все мы, – то ли мы, «чем должны быть». Важно, необходимо важно выяснить, как переживаются таинства верующими. Священникам же, из всех верующих чаще всего имеющим дело с таинствами и знающим, кроме того, таинство священства и деятельное участие в совершении таинств, – предстоит преимущественная заслуга осветить своими указаниями эту темную область религиозной психологии.
Редакция журнала «Христианин» предполагает дать несколько статей по вопросам о психологии таинств и вообще о христианстве, как религии силы и духа, о чем всего менее любят говорить наши богословы. Не историю таинств хотим писать мы, хотя это было бы так легко сделать при современном обилии подобных трудов. И не психологию таинств в историческом освещении думаем мы разрабатывать, хотя последняя ближе подходит к насущным задачам современности. Сравнительно нетрудно знать, как думали и учили о таинствах наши предшественники. Но пред нами, верующими ХХ-го века, встает гораздо более трудная задача (как это ни странно!), а именно, узнать, как думаем о таинствах сами мы – знать, чта думают и как учат о таинствах, как переживают их в себе современные христиане. Ведь христианство – не археология, а живая жизнь, вечно развивающаяся в целом организме человечества, уходящая порою из отмирающего органа, оживотворяющая другой, онемевший. И в наших душах («разве только мы не то, чем должны быть») Христос продолжает ту духовную работу, которую Он совершил в душах наших предшественников-христиан.
Вот почему нам желательно сообща с читателями, соборно обсудить эти вопросы, а именно, – как понимают верующие силу и значение таинств, в чем эта сила сказывается, как о себе дает знать. Но конечно, интересен ответ живой действительности, ответ житейского опыта, а не ответ книг. И ответ жизни будет ценен, хотя бы эти вынесенные из практики убеждения и впечатления даже решительно расходились с утверждениями догматик. Редакция, призывая к подобному обмену мнений, просит забыть временно о догматах и обо всем том, что предполагается существующим, и высказаться откровенно, раскрыть, каково есть сейчас на самом деле сознание верующих. Производит ли крещение, например, по мнению наших читателей, какое-нибудь изменение в крещаемом (особенно взрослом) и как чувствует, переживает крещение (именно чувствует крещение, а не мыслит о нем) совершитель его? Что испытывает совершающий Евхаристию в тот или другой момент ее совершения? Какое значение имеет приобщение?
Правда ли, что освященные Св. Дары – Тело Христово? Если да, то можно ли доказать это чем-нибудь? Какое значение имеет церковный брак в сравнении с браком гражданским (тут особенно важно опираться на исповедальную практику). Какова сила елеосвящения? Имеет ли действительное значение крестное знамение? и т. д. Невозможно предуказать все возникающие тут вопросы. Кто поймет нашу общую мысль, тот сам увидит, что мы спрашиваем о силе христианства вообще и потому просим указать на те стороны, где эта сила обнаруживает себя. Но плодотворность ответа зависит от того, насколько бесхитростно и искренно будет описана сама жизнь. Кто что думает, что видел, что пережил – вот материал, из которого мы, общими усилиями, можем строить наше духовное обновление. И потому лучше всего, для предварительного самопознания, привести в известность наличные силы. Лучше всего – описывать частные случаи: «вот, тогда-то, я испытал, видел, чувствовал следующее» и т. д., «вот, каково мое наблюдение» и т. д. Мы зовем наших читателей к наверно нелегкой и мучительной совместной работе религиозного самопознания. Нужна полная, голая правда, и всякое приукрашивание современного положения только затормозит новое творчество, только повредит делу. Сейчас положение слишком тяжелое: мы говорим не о политическом положении, которое всегда можно исправить, а о более важном положении религиозном, которое может оказаться непоправимым. Нам надо честно подсчитать свой флот и тщательно осмотреть свои корабли. Иначе при ближайшей же буре мы рискуем пойти ко дну. А она уже надвигается на нас.
ПИСЬМО II
Прежде чем высказываться по существу в вопросе о таинствах, я считаю необходимым вызвать между читателями известный обмен мыслей и наблюдений. Ввиду этого, настоящее письмо всецело посвящено материалу, полученному от читателей. На первом месте поставлен рассказ провинциального священника Н.Е.Б. Этот рассказ, озаглавленный «Встречи», был записан мною под диктовку Н.Б. и имеет весьма нелитературный, чисто разговорный стиль, так как я не считал себя вправе вносить поправки и тем давать повод к подозрению в тенденциозности. Сейчас не стану делать выводов из рассказа, да и сам он достаточно говорит за себя. Скажу только, что я знаю священника Н. Б. как безукоризненно-искреннего и правдивого человека, в котором порою властно дает себя почувствовать его пастырство. Что же касается до «вещественных доказательств», то я лично видел фотографическую карточку героини рассказа, В. П., ее стихи и несколько писем ее и к ней…
Что же касается до помещаемых тут же двух писем, то ответ на них отчасти дан уже в Письме I, отчасти же определится из дальнейшего. Пока же приношу свою глубокую благодарность священнику Д. Г. Т. за искренний тон его писем. Письма его представляются мне весьма много дающими, несмотря на крайнюю их лаконичность.
1
ВСТРЕЧИ
В Успенском посте 1901 г., я исповедывал сестер к-го Успенского женского монастыря. Еще не успела кончиться исповедь, как я увидел, что в храм вошла девушка лет 16—17-ти, очень легко одетая, в небольшой вязаной косыночке на плечах, несмотря на августовское довольно холодное время. Когда я окончил исповедь монастырок, то она подошла ко мне и попросила исповедовать ее.
Сначала, даже когда она не произнесла еще ни слова, я почувствовал сильную-сильную тяжесть. Ту же тяжесть чувствовала на себе и девушка. Я угадывал то важнейшее, чего требовала ее душа. С другой стороны, и исповедовавшаяся тоже чувствовала эту тяжесть, лежавшую на мне. Я чувствовал, что я тут – ничтожество, что я – какое-то орудие, что мое я как-то исчезает и заменяется другим, которое руководит мною, и я являюсь только наблюдателем всего происходящего; и мне, в моем качестве наблюдателя, ясно, какое действие производит вмешательство высшей силы. И девушка тоже чувствует, что происходит со мною. О религии я ничего почти не говорил ей [25] . Но после исповеди она становится христианкой, хотя раньше была совершенно неверующей и только стремилась к истине. Исповедь отразилась на всей ней, и она мгновенно как-то переродилась. Особенное же действие, как впоследствии писала девушка в своем Дневнике, произвело на нее причащение Св. Таин. В нас обоих произошло какое-то раздвоение; каждое я раздвоилось. Одно мое я видело в девушке обыкновенного человека, смотрело плотскими очами. Другое я видело ее Ангела Хранителя [26] . Я почувствовал, что эта девушка должна сообщить что-то важное, несмотря на то, что в этот раз она ничего не сообщила, и я не выпытывал у нее, да и в голову мне это не приходило. Девушка же ничего не рассказывала во время исповеди, только каялась в своих грехах. Исповедь произвела на меня такое действие, что я ходил как полоумный.
О своих родителях, происхождении и вообще краткие сведения о своей жизни В. В. П . (так мы будем называть девушку) сообщила мне после, зайдя ко мне в дом, где в то время гостила у меня сестра. После разговора со мною и с сестрою она просила меня молиться за нее и ушла в монастырь, где дали ей приют. Затем уехала на пароходе к себе домой, к матери.
В половине сентября месяца неожиданно получаю от нее письмо, в котором она изливает свою радость, что сделалась, как она выражается, «христианкой», что теперь разные преследования, какую бы форму они ни принимали, ее не пугают, и что жизнь во Христе стала для нее всем. Почти одновременно получаю письмо от ее матери, в котором последняя просит меня, дабы я подействовал на ее дочь в том смысле, дабы она не выделялась из ряда других лиц, не «оригинальничала» и «не сходила с ума» (как там было выражено), не чуждалась бы того общества, в котором она вращалась. Вскоре же за письмом приезжает сама мать и просит меня, чтобы я дал удостоверение начальству той гимназии, в которой обучалась В. В. П., удостоверение в том, что она действительно была в такое-то время в к-ом монастыре и приобщалась; это нужно, т. к. прошли слухи, будто в то самое время ее видели на ярмарке и вообще возвели на нее клевету, роняющую ее репутацию. Я дал удостоверение, простился с матерью В. П. и с тех пор, до начала апреля 1902 г., о В. П. исчез совершенно всякий слух. Сам же не переписывался тогда с нею, да и она в своем письме не просила о том. В первых числах апреля 1902 г. я получил довольно обширное по объему письмо, в котором В. П. изложила довольно ясно и подробно свои душевные настроения и жизнь со времени бегства из родительского дома вплоть до апреля 1902 г. При этом в своем письме В. П. высказала, что были явно заметны для нее действия со стороны злого духа, чего она до тех пор не замечала; злой дух старался внушить ей по-прежнему сомнения, но она не поддавалась, хотя бывали случаи колебания. Случаи нападения злого духа участились до того, что ей стало прямо невыносимо, и она решилась написать письмо, обещая летом приехать ко мне как-нибудь тайком, дабы родители о том не знали, т. к. они крайне боялись моего влияния на нее. Действие злого духа В. П. чувствовала как бы с о – в н е, как бы даже ощущала его присутствие, ощущала «его дыхание леденящее душу» (как она писала), а не как что-нибудь изнутри.
В июле месяце того же 1902 г. я получил краткое письмо, в котором она в двух-трех словах объясняет, что приехать ко мне много ей препятствий, в чем она опять-таки видит явное действие злого духа, на этот раз не приводя примеров. Между тем внутренняя тяжесть достигла такой степени, что девушка не находит слов описать свои душевные страдания. И с июля месяца, вплоть до Великого Четверга 1903 г., она ничего о себе не извещает и не оставляет никакого адреса. В Великий Четверг, кончив чтение 12-ти евангелий и выходя из церкви, я вижу девушку лет 19—20-ти, в стороне стоящую, и совершенно не узнаю ее. Она подходит ко мне, спрашивает. По наводящим со стороны ее вопросам вижу в ней В. П. Переночевав в монастыре, она утром приходит ко мне и на словах мне вкратце сообщает то, что происходило с ней в течение того времени, как мы не видались. Она просит исповедовать ее в Великую Субботу, с тем чтобы в Великое Воскресенье приобщиться в монастырской церкви, и поясняет, что теперь-то она чувствует, что за великая сила таинства св. исповеди и причастия. Усилившуюся с того времени силу на нее злого духа девушка объясняет тем, что она игнорировала за это время сими таинствами, т. к. ей не хотелось обращаться к другому духовнику, а ко мне приехать она не могла. Выяснилось вместе с тем, какую великую силу имеют молитвы пред престолом: сперва, по ее просьбе в первый приезд, я молился за нее, а потом почти позабыл молиться и молился только в связи с некоторыми особыми случаями, которые хорошо мне запомнились. Девушка же записала в своей книжке часы и дни, когда она чувствовала себя легко и хорошо. Оказалось полное совпадение сроков. При этом она мне показала довольно больших размеров тетрадь, названную ею самою Дневником, в которой она описала всю жизнь, начиная с того момента, когда она начала помнить себя, до того времени, когда она явилась вторично ко мне. На этот раз, как сказала В. П., мать уже нисколько не препятствовала приезду ее, а как бы даже торопила ее, дабы она скорее ехала ко мне; та мать, которая так нелюбезно отнеслась ко мне в прошлый раз, увидев во мне разрушителя прежних убеждений ее дочери, теперь приглашала меня к себе, что я и исполнил в первых числах мая того же 1903 года. Эта перемена во взглядах объясняется тем, что В. П. читала свой Дневник матери; но в то время эта последняя старалась отнестись к читаемому иронически, насмешливо, рассматривая дочь, как пустую фантазерку.
Затем В. П. исповедалась, приобщилась. Та чудная сила, действовавшая на меня и на нее, опять проявилась, и в еще большей степени. Оба мы явственно чувствовали силу злого духа, вследствие вмешательства которого исповедь дважды прерывалась и затянулась в силу этого на целых полтора часа. Порою девушка чувствовала, что не может исповедываться, и даже хотела уходить; а я чувствовал, что не могу прочесть над ней разрешительной молитвы, потому что очищение души не кончилось, не сказано самого главного, хотя исповедница все грехи говорила и ничего не скрывала. Чувствовалось, что покаяние не дошло до глубины души. Иные минуты мне доставляли столько утомления, что мне казалось, будто я исполнил неимоверно-тяжелую физическую работу. Ничего особенного исповедница мне не сказала, а просто враг тешился [27] . Вся она высказалась, исповедь была очень искренняя, но все-таки девушка говорила, что не может исповедаться. Какое-то странное чувство; до сих пор не могу понять его. Точно говорила она против своей воли. Первый почувствовал облегчение я, и не медля времени прочитал ей разрешительную молитву, после чего душа ее совершенно обновилась, не меньшую радость испытала она, нежели после первой исповеди, бывшей в августе 1901 г.
Когда я приехал к ним, в г. Н., то произошло опять странное явление. В. П. дожидалась меня на пристани. Но, несмотря на то, что народу было очень немного, а мы оба знали, что должны встретиться, (мы списались), – так и не увидели, несмотря на все поиски, друг друга. И когда, вернувшись врозь к ним в дом, заговорили об этом, то одновременно почувствовали и разом сказали друг другу, что это – действие злого духа.
С того времени В. П. начала переписку со мною и довольно частую, начиная с половины мая до августа месяца. Вдруг она прерывает переписку до половины октября, и около двадцатых чисел октября приезжает ко мне в большом расстройстве, как бы после большого горя. При этом она рассказала одну весьма тяжелую историю [28] , опять-таки имеющую связь с преследованиями злого духа. После этого переписка не прекращалась, но стала очень редкою, а с мая месяца 1904 г., вплоть до первых чисел мая 1905 г., прекратилась совершенно. В мае я встретился с В. П. удивительным образом. Я был в это время не у дел и временно жил в городе Кс. Но по некоторым делам мне неоднократно приходилось ездить в город К. В одну из таких поездок (30-го апреля или 1-го мая 1905 г.) я, возвращаясь из К. обратно в Кс., хочу садиться в первый пароход, отходящий из К. вверх по Волге, но меня какая-то сила удерживает, несмотря на то, что я совсем собрался уже и решился. Никаких препятствий нет, но я чувствую в душе, что на этом пароходе не должен ехать, а должен ехать на пароходе другой компании, и эта сила, задерживающая меня, становится настолько властной, что вполне овладевает мною: как будто моего я уже не было, вот такое состояние я испытывал; как будто мое я куда-то улетучилось. При этом надо заметить, что пароход другой компании приходит в Кс. в очень неудобное время (в полночь без малого) и спустя большой промежуток времени отходит от К-ской пристани. Но это меня нисколько не останавливает и я обратно схожу с пристани и дожидаюсь парохода той компании. Взойдя на пароход вижу пожилых лет мужчину, приближающегося к старости, и с ним девушку, по-видимому дочь его. И мы с девушкой оба сразу узнали друг друга. Оказывается, что это В. П., а мужчина – ее отец. Во время дороги она рассказала состояние своей души, свою жизнь и, между прочим, случай, который совершенно неожиданно привел их именно на этот пароход. Между прочим она мне сообщила, что когда она, в течение года, неоднократно принималась писать мне письмо, то какая-то сила вызывала в ней недружелюбное чувство, и она бросала письмо, после чего эта сила оставляла ее, и прежнее расположение ко мне опять являлось, и так повторялось неоднократно.
Со времени этой встречи до сих пор (февраль 1907 г.) о В. П. нет никаких известий. Не знаю, где она живет, и не получаю писем, хотя я дал ей адрес, а она дала слово мне писать, обещав при этом выслать свой Дневник.
Расскажу теперь содержание этого Дневника.
Выросла В. П. в родовитой дворянской семье. Родители ее теперь уже прожились, но тогда они имели большой вес в обществе. В детстве ей было много знаменательных видений, и в очень ранних летах обнаружился поэтический талант. Эти видения не давали окончательно погаснуть зачаткам ее веры. Родители, особенно мать, старались воспитать ее в неверии, и как она родилась и вплоть до того времени, когда она стала учиться, и когда официально уже невозможно было этого сделать, не водили ее и не давали ее водить во храм для молитвы. В доме не было ни одного священного изображения и ни одной книги, которая напоминала о какой бы то ни было религии. Таких же взглядов держались и все знакомые этой семьи. Единственным верующим лицом была ее няня, которая изредка тайком носила ее приобщать. Как раз она попала в такую гимназию, где состав преподавателей, включая сюда и законоучителя, и классных дам, относились или индифферентно или прямо враждебно к религии. Не помню с каких лет, в ней получилось какое-то раздвоение, чему отчасти способствовали видения (наяву). Она размышляла, почему это бывает, что люди делятся на верующих и неверующих, но допытаться не могла, и некого ей было спросить, а когда спрашивала, то в результате получалась неудовлетворенность. Исповедь в гимназии не производила, по-видимому, на нее никакого действия, но после причастия часто забываемые за суетою жизни размышления ее о религии восставали всякий раз с еще большею силою; и эти размышления, все более и более беспокоя ее, сделали окружающую обстановку в конце концов прямо невыносимой. Ей стала эта жизнь противной, но выхода из этой жизни она найти не могла.
И так тянулось до 16-ти летнего возраста. Во время летних каникул ее маленький брат, сильно зараженный духом неверия, только что начавший учиться в реальном училище, как-то однажды сильно издевался над религией и над всеми верующими. Ему поддакивала мать. Это так возмутило девушку, что она хотя бы на время решила убежать из родительского дома, сама не зная куда, не отдавая себе в том отчета. И вот она выбирает день, когда матери дома не было (в начале августа 1901 г.). И вот, в чем была (а была она очень легко одета, день же клонился к вечеру), она выходит из родительского дома, где жила тогда временно с матерью в деревне, т. к. отец ее лежал в больнице и на даче жить было нельзя. Девушка идет прямо, сама не зная куда. Когда же она очнулась, пришла в себя, то увидела себя вблизи большой дороги, идущей к одному селу или слободке, где находилась ближайшая от ее местожительства пароходная пристань. В. П. как бы в раздумье остановилась и слышит она как бы внутренний какой-то голос: «Что ты, безумная, делаешь? Воротись назад». И она уже готова повиноваться этому голосу. Вдруг она, чего-то испугавшись, побежала опять вперед, сама не отдавая себе в том отчета. Но какая-то враждебная сила вдруг останавливает ее, и она в изнеможенье опускается на землю. И у девушки невольно вызывается восклицанье: «Господи! если Ты существуешь, укажи мне, что есть истина, и дай мне возможность узнать ее». И явственно девушка слышит извне, со-вне откуда-то голос: «Или теперь, или никогда!» Этот голос ее ободряет, вызывает в ней какую-то особую энергию, о какой раньше она и понятия не имела, и она бодро идет по дороге к пристани, невзирая на сгустившиеся сумерки.
В том селе или слободке, где была пароходная пристань, жили два священника. Девушкою овладевает какая-то решимость отправиться на пароходе, опять-таки она не знает – куда, и при этом она вспоминает, что из дому не захватила ни копейки денег и что все ее ценное имущество заключается в золотом браслете на руке. Она инстинктивно как-то желает обратиться за помощью к одному из священников, но жена этого священника встречает ее сурово и у В. П. пропадает охота обратиться к ней за помощью. Тогда В. П. идет в дом другого священника, и просит одолжить ей хотя бы под залог браслета несколько денег. Священник, не взяв с нее никакого залога, доверчиво дает ей денег, по костюму и по речи видя в ней интеллигентную особу, к которой нельзя не отнестись доверчиво. Получив денег, она направляется к пристани. Там стоят два парохода, почти одновременно отправляющиеся вверх и вниз по Волге. Это ее смущает и делает на некоторое время нерешительной. Почему-то ее взгляд приковывается к пароходному расписанию, и в этом расписании особенно рельефно, выгораживая все остальное, выступает название города К. В. П. принимает это за указание свыше и берет билет до К., сама не зная, что это: город ли, село ли, какой губернии и на каком расстоянии находится. Денег ей хватает как раз на билет, так что не остается ни копейки. Погода изменяется к худшему. Ехать приходится в третьем классе, при всех неудобствах, к чему ее совершенно не приучила изнеженная жизнь. Приехав в К., девушка спрашивает на пристани, опять-таки инстинктивно, не отдавая себе отчета, нет ли здесь какой обители, где бы можно помолиться. Какой-то мужчина говорит, что в 12 -ти верстах от города находится мужской монастырь, и указывает ей дорогу. В. П. отправляется, испытывая ужасно тягостное чувство. На полдороге она вдруг останавливается. Ей кажется, будто она идет не туда, и она спрашивает едущего вперед мимо ее одного мужичка. «Какой дурак Вам сказал, что здесь находится в 12 -ти верстах монастырь, да еще притом мужской, – говорит мужичок. – Есть монастырь в 4-х верстах и притом женский». И при этом предлагает ей подвезти ее, тем более, что ему надо проезжать неподалеку от монастыря. Приблизительно в версте от монастыря мужичок ссадил ее, и она пришла в монастырь – как раз в то время, когда я исповедывал сестер.
Самая исповедь уже рассказана. Назад В. П. отправилась на пароходе… Хотя она ничего почти не ела, однако испытывала такое блаженное состояние, что не ощущала ни холода, ни голода, ни усталости. Это радостное настроение было для нее другом и одеждою, и пищею, и всем. Она с радостью пострадала бы за Христа, если бы пришлось.
Надо было так случиться, что пароход не шел до той пристани, где ей надо было слезать, и ей пришлось переждать несколько часов следующего парохода на промежуточной пристани. На этой пристани народу почти никого не было, да и кто был, скоро разошелся, так что девушке пришлось остаться одной. Это было рано утром, часов в 5–6. Вид ее показался пристанщику подозрительным, т. к. она была одета легко, в шерстяной косынке, а погода была холодная. У него явилась мысль склонить ее на дурное дело. Но когда это не удалось, то он, до того времени спокойный и сдержанный, вдруг как-то преобразился, лицо его сделалось каким-то кровожадным и зверским, и он уже занес руку, чтобы утащить ее в ту каюту, где он жил. «Что ты безумный, делаешь! Ведь ты называешься христианином, и я – христианка, и к тому же вчера приняла Св. Таин», – воскликнула девушка. При этом она внутренно с молитвою обратилась к Богу, прося у Него помощи, твердо веря, что Он не откажет ей и заступится за нее. И тут совершилось чудо. Как бы по указанию свыше она протянула палец правой руки и коснулась груди этого человека, – сильного, рослого, пред которым она казалась прямо ребенком. Его могучая фигура пошатнулась, и, если бы не наружная стена каюты, вблизи которой он находился, он упал бы навзничь. Тут он почувствовал могущество Божие, прося у ней прощение. К тому же вскоре собрался народ, спешащий на пароход, который вскоре подошел к пристани, и В. П. отправилась к себе домой. Дома ее ждали новые испытания. Ей попался в руки еще в дороге № газеты, в нем публиковалось об исчезновении ее из дому, с тонкими намеками на то, как будто она бежала с дурною целью. К тому же дошел слух до начальства того заведения, где она обучалась, что в то время, как она была в К., в те дни и часы, когда она исповедывалась и приобщалась Св. Таин, ее будто бы видели в недозволенных для воспитанниц местах, в силу чего начальство хотело ее исключить. Когда же разъяснилось, где она была, то принуждено было потребовать от меня и от сестер монастыря удостоверение, что она именно в это время находилась в монастыре с религиозною целью.
Приведу в заключение несколько видений В. П.
В детстве, лет пяти, вскоре после смерти маленького брата, В. П. имела видение. Она сидела с матерью в гостиной, драпри на окнах были опущены, на улице были густые сумерки. Вдруг девочка тянется ручонками к окну и говорит матери: «Мама, мама, смотри: маленький брат – на небе. Вот, он тянется ручками. Он – светлый, как солнышко» и др. Мать испугалась, стала подымать драпри, доказывая, что ничего нет и что теперь ночь, но девочка радостно тянулась к окну и утверждала, что видит братца светлого.
Когда она уже стала религиозной, то было ей множество видений, но из них два особенно замечательны. Одно из них – во сне, а другое – «как бы» наяву: девушка говорит, что была «вне себя». Во сне она видела себя сидящей в темнице. Окна заделаны толстой железной решеткой. К окну тюрьмы подлетает крылатый юноша, как изображаются у нас на иконах ангелы, разламывает решетку и влетает в тюрьму. В это время девушка молится пред иконою с серебряною ризою Богоматери. Ангел, взяв девушку за плечо, гневно восклицает: «Кому ты, безумная, молишься!» Она говорит: «Богу». При этом юноша срывает с иконы ризу Богоматери, и на доске девушка видит что-то неопределенное, но чувствует, что тут изображен Сатана.
«Это виновата мать твоя», – сказал Ангел. При этих словах девушка просыпается.
«Вне себя» В. П. видела следующее. Смотрит она на небо. Вдали быстро, как при сильном ветре, плавно несутся, как бы к ней, перистые облака. Над облаками и как бы в середине их сидит какое-то Существо, окруженное ярко ослепительным сиянием и как бы поддерживаемое этими облаками. При приближении облаков она видит, что это – не облака, а крылатые существа, подобные Ангелам, как они изображаются на иконах. А это Существо, окруженное сиянием, есть Сам Христос. На встречу этих крылатых существ несутся два Ангела, издали показавшиеся ей перистыми облачками, и быстро и плавно ведут молодую девушку, как изображается на иконах душа, разлученная с телом. Спаситель поднимается во весь рост, а эта девушка, поддерживаемая Ангелами, кланяется Ему. Затем все исчезает.
2
В Редакцию «Христианина». В почтовый ящик.
По поводу «Письма I, о „Вопросах религиозного Самопознания \'6 Павла Флоренского, имею написать ему следующее:
Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа.
(Осеняю себя при этом крестным знамением.)
Содержание письма ударило в мою излюбленную тему: религиозно-нравственное усовершенствование Христианина производится двумя силами, совокупно, и рука об руку действующими, – силою Божиею и собственно силою (усилием) человека – христианина. Без силы Божией никакие старания человека – его добродетели не приведут его в меру возраста исполнения Христова, и сила Божия, воздействующая на человека, без старания и собственного подвига человека возвратится к своему источнику, невоспринятая и невозгретая в сердце его. Мир ваш возвратится к вам. Усилия отдельных людей и целых общин и союзов к устроению царствия Божия на земле только собственными дружными стараниями во имя любви, правды, равенства – есть величайший недуг и заблуждение века сего. Предводители этого века – о. Петров, Л. Н. Толстой и им подобные. О. Петров, по моему выражению, стремительно прыгает на одной ноге и притом левой. Правая нога, т. е. сила Божия, у него засохшая, недействующая, и потому он допрыгался и еще более допрыгается до полного бессилия и разбиения, как это случилось с Толстым.
Имея желание, вместе с большинством людей современных, сделаться лучшим в смысле и духе Евангелия и чтобы мои современники также взошли в разум истины, я постоянно хватаюсь за силу Божию (взываю): помощь мояот Господа сотворшаго небо и землю, крепость моя и пение мое Господь и бысть мне во спасение. Да не хвалится сильный силою своею, – премудрый премудростью своею, богатый богатством своим… но о сем да хвалится хваляйся, еже разумети Господа и творити суд и правду. Христос моя сила, Бог и Господь, – честная Церковь боголепно поет взывающи от смысла чиста, о Господе празднующи и проч. и проч. и проч… и все что совершается, поется, читается в христианском православном Богослужении. Тут встречаюсь с святыми таинствами, тут и ответ на вопрос: где искать силу Божию и как ее постоянно держать при себе и возгревать. И это несомненно совершается там, где совершается. Кто крещен в воде, тот получил силу Божию и получил в изобилии (благодать возблагодать), кто запечатлен печатаю дара Духа Святого, у того эта печать никем не может бысть изглажена, кто приобщался Святого Тела и Крови Христовой, то несомненно соединился со Христом и так во всех таинствах. Доказывать это и объяснять, т. е. доказывать, что сила Божия сошла на человека и хранится в нем, – бесполезно. Это не доказывается, а чувствуется, это не объясняется другим, а прививается, – прививается к тем, которые ищут этого, идут к сему, или приводятся и приносятся другими. На обыкновенное при сем возражение: кто приступает с верою и усердием, а кто без веры, и холодно, только по обычаю, я отвечу: как бы он ни приступил, хотя бы по обычаю, но все-таки приступил к таинству и оно воздействовало на него. Раз человек приступил, стало быть у него есть доля веры и усердие, и по крайней мере он не против таинств… Тут вопрос не о вере и неверии, а о степени веры и пожалуй о степени неверия. Но степени веры и усердия и степени духовной помощи и воздействия силы Божией не нам размерять. Это измерит только один Бог.
В самом действии таинства непременно участвуют две силы – Божия и человеческая, первая невидимая, вторая видимая, и притом так, что сила Божия не будет действовать, если не действует сила человеческая. Если священник не погрузил в воду троекратно крещаемого с произношением имени Святыя Троицы, то человек остался некрещеным и Святой Дух не вселился в него и не возродил в новую духовную христианскую жизнь. Если священник не отслужил литургию, или при литургии не благословил хлеб и вино с произношением известных слов, то таинство не совершилось, хлеб остался хлебом, вино – вином. Бог и Господь наш Иисус Христос и Святый Дух не совершает таинства для человека без человека, или как сказывается: не спасает человека без человека. Но спросят: зачем тут нужен Богу человек? Неужели Бог не может Сам один ниспослать свою силу, необходимую для спасения человека? А я отвечу: затем нужен человек, зачем и Бог – Сын Божий сделался человеком. Тут я чую (но не познаю) великую связь всего учения православно-Евангельского и всего дела Божия о спасении человека; тут премудрость Божия в тайне сокровенная.
В письме г. Флоренского ярко высказывается современный пессимизм, или лучше сказать по-православному – безнадежность и даже отчаяние в том, будто в современном христианском обществе, точнее – в православных христианах нет силы Божией действующей, нет преуспеяния в Евангельском житии, во всех упадок веры и нравственности, нет духа жизни Христовой, осталась одна форма, обрядность и проч. и проч. Это просто напраслина – или злонамеренная, или по неведению, по легкомыслию, по самому поверхностному взгляду, а больше всего, кажется, по влиянию безумной прессы (которая ныне размножилась, как поганые грибы в гнилую погоду). Берутся люди судить о том, в чем они некомпетентны; судят о состоянии православия, будучи далеко от православия, – о таинствах, не принимая их, о Богослужении вообще, не участвуя в нем. Уж очень для меня это обидно. А я грешный иерей (вместе с сонмом святых архиереев и иереев), скорбя о своих грехах и упадках, радуюсь на наш православный русский народ, за их чистую веру, за их добродетели, за все благочестие, и не столько учу их, сколько учусь от них – от прихожан своих и не прихожан, а духовных чад своих. Учусь не только добродетелям их, но даже тонким догматам веры. И удивляюсь, откуда простые, неученые мужчины и женщины знают писания, не учившись. Как они мыслят о Христе, о Святой Троице, о Царице небесной, о таинствах, что никакое ученейшее богословие не может так определить истины православия.
Аминь, аминь глаголю, что их научает Святой Дух, сходящий на сердца их и запечатлевающий помазанием своим в святых таинствах. И вы помазание имате от Святого и не требуете да кто учит вас… И сие сокрыто от очей премудрых и разумных, кощунственно говорящих: вера ослабела, нет Евангелия в жизни христиан и проч. Флоренский пишет: не видно стяжавших Духа в среде христиан, не чувствуется действующей силы в них. Прииди и виждь, отвечаю ему. Разгреби золу и увидишь огонь, он всегда старается укрыться; таково свойство огня Христова. Много имею писать по современным вопросам, а еще более же говорить с теми, кому нужно. Но писать для печати мало способен, да и не сожалею о том.
У меня дело высшее этого, служить алтарю, просвещать св. таинствами прихожан своих, молиться с ними и беседовать по силе веры и Богопознания.
Избави Бог оставить служение алтарю и прихожанам и сделаться фельетонистом нынешних газет.
Как бы ни желал Флоренский уяснить в «Христианине» Таинства, он никогда это не сделает. Таинства уясняются, усвояются при таинствах, православие уясняется при жизни православной, а не в книгах.
Потому недаром говорили и говорят опытные Архипастыри и Пастыри: молись Богу, ходи в Церковь, принимай св. таинства. Говорил ли преподобный Серафим против этого или нет – неизвестно. Если говорил, то тот, который слушал его и передавал (я читал об этом), не понял Отца Серафима и не сумел передать. Но тот вопрошающий, который не довольствуется советом: ходи в Церковь, молись Богу, и желающий большей беседы с пастырем, найдет и должен найти такого пастыря и Отца Духовного, который удовлетворит его потребности и излечит его болезни. Ведь только охаяли наше православное пастырство, нашу Иерархию, а она стоит по-прежнему на свещнике и светит всем, иже в храмине суть. Да, иже в храмине, а для тех, которые бегут из святой храмины, тем не светит, это газетные писаки, которые не ищут света от пастырей, а сами хотят светить им.
Нынешний, слабый, нервный, чувствительный интеллигент хочет сразу с нижней ступени лестницы подняться на верхнюю, от земли на небо, от греховности к святости; прыгает вверх и оттуда стремительно падает и разбивается (о. Петров, Л. Н. Толстой). Не так надо. Надо утвердиться на первой ступени и осторожно, не спеша переступать на вторую и так дал. Желающий веровать и познавать веру свою, должен начать, например, с креста, – надеть на шею крест и не снимать его, научиться правильно совершать рукою крестное знамение, потом читать простые и обыкновенные молитвы и проч. Скажут мне, что значит крест на шее и молитва без веры, без понимания о кресте, без теплоты сердечной. Я отвечу на это: примите крест без веры, без теплоты сердечной, без сознания, – сие малое научит вас великому. Раз человек надел крест, перекрестился, послушался других, – это уже вера в крест и вера детская, послушная.
По поводу безнадежности, проглядываемой у г. Флоренского, скажу, что он сам страдает самонадеянностью, а по отношению к другим, даже ко всему Христианскому Обществу – безнадежностию. (Но не срамляя его это пишу, но чтобы познал надежду христианскую.) Это недуг тоже современный и общий у интеллигентов. Нельзя не заметить, что вера ныне усиливается, или по крайней мере усиливается искание веры, а это уже вера, любовь в интеллигенции в такой степени обнаруживается, что хоть отбавляй. Третья же добродетель, или вернее вторая – надежда совсем или очень слабо действует в верующих и любящих интеллигентах, а потому и эти два столпа благочестия – вера и любовь – не связаны и колеблются. Свяжите веру христианскую и любовь надеждою христианскою и получите стойкость и утверждение.
Прошу редакцию и г. Флоренского извинить меня за посылаемую черную рукопись. Я пишу не для печати; сообщаю лишь свои впечатления и мысли по современным вопросам. Я человек не литературный.
Города Т., Спасо-Преображ. церкви грешный священник Д. Г. Т., 1907 г., фев. 16 дня».
В другом своем письме, не относящемся впрочем к нашему вопросу, тот же корреспондент пишет между прочим: «Я поставил в письме к Вам пресерьезный вопрос – о Надежде Христианской и о согласном содействии двух сил во спасении (чтобы ходить на двух ногах и не хромать). И теперь повторяю это. Рекомендую заняться этими вопросами, и при этом непременно найдите определение Христианской Надежды у Филарета (Катих.), и о результате напишите мне в свободное для Вас время».
ПИСЬМО
I
В редакцию получилось анонимное письмо, подписанное «Монах».
Факт, сообщаемый тут, может толковаться различно, в зависимости от общих воззрений на таинства вообще и таинство покаяния в частности. Но письмо характерно: сквозь простые слова тут веет безнадежностью и холодом отчаяния, от которых делается больно за автора письма и за себя самого. Несколько безыскусственных фраз ударяют сознание. Открываются тайные язвы нашей церковной жизни. Но пусть письмо говорит само за себя. Вот оно:
«В журнале «Христианин» № 1, П. А. Флоренский ставит вопрос: что испытывает, чувствует совершающий и приемлющий таинства.
Скажу о себе, что я испытывал в таинстве покаяния.
Это было давно, когда мне шел еще 31 год (теперь 65), я только что был пострижен в монашество и посвящен во иеродиакона; служить нужно было с приготовлением. Были случаи, совесть говорила: «Нужно исповедоваться, так нельзя приступать к приобщению св. Таин». Келья моя была рядом с келиею духовника. И вот, выйду из кельи, подойду к двери духовника, остановлюсь, мысль говорит: «Не надо, не ходи, что беспокоить, ведь не пост»; постою, постою у двери и отойду, нет, не надо, войду в свою келью. Совесть говорит: «Что ты делаешь, как ты будешь служить обедню, иди, исповедуйся», опять подойду к двери духовника, мысль опять говорит: «Да не надо, не ходи, неловко», постою, опять отойду, а совесть опять свое: «Как ты приступишь к св. Тайнам?» И вот, после долгой борьбы, наконец, решился сотворить молитву и войти… Выйдя – я чувствовал, что будто снял с себя тяжелую-тяжелую шубу, я чувствовал, что я мог, кажется, летать, настолько было легко, настолько сердце прыгало от полноты какой-то неизъяснимой легкости, – словами этого выразить нет возможности.
Такова сила таинства покаяния.
Было это и не раз, только… увы!., это было… давно.
Монах.
Грамматики не знаю, простите».
II
Привожу еще письмо, – письмо сельского священника, известного мне лично.
«Извините, что, может быть, опаздываю своим письмом. В «Христианине» Вы уже начали печатать письма читателей по вопросу о таинствах. Но пусть мое письмо будет последним, а все-таки я не могу замалчивать некоторых случаев, бывших в моей практике при совершении таинств исповеди и св. причащения над больными.
Нужно сказать Вам, что я всегда был человеком, верующим в силу и действенность св. таинств. Описываемые мною ниже случаи еще более утвердили меня в этом.
Первый случай был такой. Однажды позвали меня в деревню (Дубининскую) причастить больного (П. В., крестьянина). Этот больной был прежде сильным пьяницею и развратником. Сколько раз я ему ни говорил, чтобы он оставил свои пороки – ничего на него не действовало. Он продолжал свое. Но вот П. В. заболевает, и заболевает так сильно, что, когда я приехал причащать его, у него отнялся язык, хотя сознание его не оставило. После молитв пред причащением, я приступил к исповеди больного. Я говорил ему, что такое наказание от Бога он терпит за свои грехи; – он в знак согласия со мной в этом кивал мне головой. Я призывал его к исправлению своей жизни, к оставлению им своих прежних грехов; говорил, что, если он раскается и даст твердое намерение впредь не творить того, что он делал доселе, то Бог может отверзти уста его и поднять его с одра болезни. П. В. молился и, глядя на св. иконы, очевидно, призывал Бога в помощники себе; в глазах его выражалось святое намерение больше не повторять своих грехов. Я кончил исповедь, причастил его, потом и говорю родным и семейным больного: «Давайте, братие и сестры, помолимтесь Господу Богу о нашем больном»; я стал читать молитвы, которые читаются обычно над больными; читал я с глубокою верою и чуть не со слезами. И что же? Как только я кончил молитвы, больной стал говорить. Он сказал своей жене: «Возьми, отдай полотенце батюшке; пусть он повесит его на образ Божией Матери в нашем храме». После этого больной стал быстро поправляться и скоро совсем выздоровел. Я еще раз велел ему поговеть и причаститься в св. храме; и он в храме пред св. крестом и Евангелием дал публичное раскаяние в своем грехе пьянства и дал обет воздержания от него на 1/2 года.
Так произошло исцеление больного прихожанина на моих глазах. Я объясняю это исцеление действием св. таинств исповеди и причащения и молитв о нем верующих.
Другой аналогичный случай был в соседнем с моим приходе. За отсутствием своего соседа я был позван в село Сватково причастить больного юношу (16–17 л.) Василия Ширшанина. Приехавшая за мной женщина сказала, что больной – без языка, и потому поскорее просила меня ехать к нему. Я наскоро срядился и поехал.
Больной, действительно, лежал без языка и был все время до моего приезда без сознания. Он лежал на лавке; я подошел к нему; взял его за руку и сказал: «Вася, вставай, я причащу тебя». И, – о чудо! – больной сейчас же встал и заговорил. Я немедленно начал исповедь его и причастил Св. Таин. После меня больной опять впал в бессознательное состояние и так скончался.
Из этого случая видно, что Господь, не хотяй смерти грешника, желал, чтобы больной очистился от грехов, соединился с Ним в св. таинстве причащения и этим наглядно, так сказать, подтвердил спасительность и необходимость таинств для каждого человека.
Описанные здесь мною случаи – не есть плод моей фантазии, а – сущая правда; в этом клянусь Вам всем святым.
Священник села Бужанинова (Владим. губ., Александровск. у.) Александр Соколов».
ДОГМАТИЗМ И ДОГМАТИКА [29]
Единственному Другу,
Сергею Семеновичу Троицкому
ГЛУБОКОЧТИМОЕ СОБРАНИЕ!
Заранее извиняюсь в отчеканенном тоне настоящих мыслей, – тоне, слишком не соответствующем невежеству автора… Приходилось давать постановке вопросов известную стилизацию, обводить резкими контурами затрагиваемые вопросы. Причина тому – не самоуверенность, забывающая об оттенках и полутонах мысли, а боязнь расплыться в «хотя» и «с другой стороны». Недостаток времени толкает автора, таким образом, на формулировки более резкие, чем он желал бы…
«Вы не знаете, чему кланяетесь…
Но настанет время, и настало уже,
когда истинные поклонники будут
поклоняться Отцу в духе и истине…
Бог есть дух, и поклоняющиеся
Ему должны поклоняться в духе и истине».
(Ин. 4, 22–24)
I
Богопоклонение «в духе и истине» – εν πνεΰματι και άληθεία – таково требование дважды-рожденных. Обновленное сознание не удовлетворяется уже простой данностью Бога, но требует еще оправданности Его. Человек хочет поклоняться Богу не как факту только, не как вселомящей силе, не даже как своему Покровителю или Хозяину; – объектом поклонения эта Сила, этот Покровитель может быть только в своей Истине, в правде своей, как Отец. Прежде оправдания человека ищется оправдание Бога: прежде антроподицеи 2 ищется теодицея.
Антроподицея и Теодицея! Вот два момента, слагающие религию, потому что в основе религии лежит идея спасения, идея обожения всего существа человеческого. Первый из этих моментов есть, по преимуществу, Таинство, мистерия, т. е. реальное нисхождение Бога к человечеству, самоуничижение Божие или кенозис. Но чтобы было воспринято человечеством это спасительное и очищающее (катартическое) самоуничижение Божие, – самоуничижение, оправдывающее человека пред лицом Божиим, ему необходимо выполнить второй из упомянутых моментов, оправдание Бога. Эта сторона религии является, по преимуществу, учением, догмою и потому – созерцательным восхождением человечества до Бога, возвеличением человечества или обожением, теозисом (но только созерцательным). Но сейчас мы говорим только о последнем моменте, о необходимости Бога, о догме, устанавливающей право Божие требовать оправдания человека.
Ни из страха или корысти, ни из благодарности не склонится тот, кто может сказать:
…Солнцем Эммауса
Озолотились дни мои
(В. Иванов) —
или на кого попало хотя бы многократно отраженное сияние этого Солнца. Он склонится только из чистого благоговения пред святыней. «Трисвятое», от горних сил перенятое, – характернейшее песнопение нового человека: вопль «помилуй!» он обращает к Существу, Которое сознается Богом, как Существо Святое, которое крепко – в своей святости и потому бессмертно, опять-таки чрез то, что свято. «Святый», прибавляемое при каждом обращении, не есть признак равноправный с другими; он – гораздо центральнее, осно́внее в характеристике Благого и обусловливает для сознания возможность остальных.
Бог ли каратель, Бог ли благодетель – не склонятся колени пред Его неоправданной силой, пред мощью, не опознанной, как другая сторона святости, и, не нося в Себе самом своего оправдания, Он, по необходимости, подчиняется велениям неумолимой Судьбы: такова участь всего неабсолютного. И тогда богоборец Прометей, бого-мятежные Титаны и весь сонм ради Истины и Добра боговосстателей героев становится бесконечно-близким всякому, просвещенному «Светом Христовым» и ублаженному «Благою Вестью». Кажущееся богоборство открывается пред исцеленными очами, как богоношение; а преобразователь Прометей, страдалец за любовь к роду людскому, бог распятый с боком пронзенным, в своем бого-восстательстве оказывается довременным христианином. Но только лишь чаяниями грядущего Христа это прежде времени пробудившееся сознание может освежиться в томящем жаре горячки и порвать круг бредного марева; только само-доказательный луч Фавора осветит тяготеющую тьму [30] ; только теплом Эммауса будет «гореть сердце». Мощь призрачных небожителей ожигает и попаляет Мученика; но тем пышнее вздымается божественными и богоданными пламенами требование правды.
Кто богоносец? кто богоборец?
Страшно, о, страшно богов приближение,
их поцелуй!
Бога объявший, – с богом он борется;
Пламень объявший, пламенем избранный,
тонет во пламени духом дерзающим, —
персть сожжена!
(«Тантал». Вяч. Иванов)
Вспомним идею обожения, подобно полярной звезде-путеводительнице недвижной на духовном небе христианского аскета, – идею, овладевавшую подвижником и, как магнит, влекшую к себе железную волю его. Вспомним титанический вызов Кесарю от Великого Каппадокийца: «Я имею повеление сам сделаться божественным и не могу кланяться твари». Не перекатываются ли с грозным тут рокотом богоборческие громы, однородные с громами давно-былого, приведшими Прометея на брег полноводного Фазиса, к седым утесам многовершинного Кавказа? Нет ли и тут гула рушащихся в горные обрывы Пелея и Оссы, поднятых и нагроможденных одна поверх другого?.. Но то, что было беззаконием для мифологического сознания, то стало обязательным требованием, долгом сознания христианского. Вот великая революция духа, внесенная в мир Христом; вот узаконение человека в его Иакововском отношении к Богу.
В сознании появилось новое требование – требование поклоняться Богу «в духе и истине». Как бы ни относились к христианству люди нового времени, это требование такими проникновенными корнями оплело и проросло каждую душу, что нет и не может быть возврата к прошлому. Кто шел в Дамаск, кому слепила очи внезапная молния обновления, тот уже органически не в состоянии признать Бога за простую данность. Новый человек стал Прометеем и, покуда не удостоверится в личности Божьей, покуда собственными глазами не узрит Его, как Святого, до тех пор возрожденное сознание останется вовсе без Бога. Современный человек будет мучиться призрачностью шеола, беспредельно и безостановочно падать во «тьме внешней», – будет, надрываясь, «взывать из глубины» ко Господу, Которого не знает, но не сможет он склониться пред Тем, кто, может быть, только и имеет право силы, кто, может быть, – идол и узурпатор. Не эта ли, именно, глубина христианского сознания производит порою самых рьяных савлов и порождает жесточайших афеев. Со Христом «Неведомый Бог» становится Великим contradictio in adjecto1, Деспотом, Сильным Попрателем божественного в человеке. Христианский храм может быть посвящен только «Ведомому Богу», как это надписано над порталом одного Собора [31] .
«Ведомому Богу» – Богу ведомому нам, как Бог, как Безусловность, как Дух – как Святость и Правда – вот начальная формула христианского богопочитания. Требование же «ведомости» – истомное и неотметаемое требование искупленной личности. «Вы не знаете, чему кланяетесь… – говорит Христос язычникам, – но настанет время и настало уже ([\'Αλλ\'] έρχεται ώρα,καΐνονέστιν), когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу вдухе и истине… ([ο\'τε οί α\'ληθινοΐ προσκυνηταί προσκυνησουσιν τώ πατρί], έν πνεύματι και αληθ-εία)…» (Ин. 4, 22–23). И, как бы открывая, что пророчество это начало уже осуществляться, в прощальной беседе Он отмечает измененность сознания. «Я уже не называю вас рабами (Οΰκέτν υμάς λέγω δούλους), – обращается Господь к ученикам своим, – ибо раб не знает (ότι ό δούλος ουκ οΐδεν), что делает господин его; но Я назвал вас друзьями ([τί ποιεί αυτοΰ ό κΰπιος]υμάς δε εΐρηκα φίλους), потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего (ότι πάντα ά ηκουσα παρά του πατρός μου,έγνώρισα ΰμίν)» (Ин. 15, 15).
Истинное богопоклонение недоступно для языческого сознания, потому что язычество не знает Предмета своего почитания, воспринимает его рабски, внешне, несвободно и, следовательно, не имеет силы проникнуть во внутреннюю суть Его, – в Личность Божию: «Бога никто никогда не видел» (1 Ин. 4, 12). Напротив, сознанию христианскому поведаны тайны Божьи; оно знает Отца, Которому кланяется и потому относится к Отцу как друг и сын, а не как раб, проникает внутрь личности Божьей и не ограничивается одними только явлениями Сил Божьих. «Видевший Меня, – говорит Сын Божий, – видел Отца» (Ин. 14, 9). Древнее богоборчество не могло удовлетвориться созерцанием Сил Божьих, имманентных миру и потому чуждых божественному началу человека. Христианство подымает сознание над всем имманентным миру и ставит лицом к лицу с Самою трансцендентною Личностью Божьей. И тем основное данное христианства оказывается основным искомым внехристианского богоборчества.
Этот запрос – поклоняться Богу, как Истине, – удовлетворяется в непосредственных переживаниях Бога человеком, потому что в них только Бог может быть дан, как реальность, и в последней только, в самой реальности, а не в понятии, нами созданном, открывается сущность Бога, implicite 2 содержащая в себе и данные для оправдания Его. Только стоя лицом к лицу пред Богом, просветленным сознанием постигает человек правду Божию, чтобы благословить Бога за все. «Но в том и великое, что тут тайна, – что мимо идущий лик земной и вечная истина соприкоснулись тут вместе. Пред правдой земною совершается действие вечной правды» (Ф. Достоевский). И когда это «касание мирам иным» свершилось, тогда вдруг затрепещет и разрывается несказанною радостью ошеломленное сердце. И запоет оно жгуче-ликующий гимн своему Господу, благодаря и славословя, и рыдая за все и о всем, – за то, даже по преимуществу за то, что непросветленному сознанию кажется ужасным и скверным: «И б о всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава вовеки, аминь» (Рим. 11, 32–36).
Светозарным лучом тогда пронижет Бог туманные миазмы неискупленного сознания, и освежающий ветер разнесет удушливую мару древнего мифа… куда-то. Ясным-ясным солнышком глянет Бог, как Отец – глянет, в омытой атмосфере, сквозь разорванных облак. Мнимое богоборчество окажется отце-искательством, и пред обретенным Отцом сами собою склонятся колени Прометея. «Ты – святость и благо, Отец наш. Вот, я смиряюсь пред Тобою, уязвленный в сердце любовью Твоею. Вот, я желаю того, чего Ты желаешь, ибо знаю я, что моя собственная воля и моя собственная мысль дадут худшее, чем Твои, Отец мой. Подчиняюсь Тебе, – не потому, что Ты силен, не потому, чтобы Ты давил и ломал меня. Но вижу правду Твою, Господи, вижу истинность Твою. Не Ты требуешь от меня доверия к Твоей воле, но сам я в радости отдаю себя. Я колеблюсь и молю, да пройдет мимо меня чаша земного уничижения моего, земного кенозиса моего. Но, сделав усилие над слабостью своею, снова говорю:
Пусть будет воля Твоя, а не моя, потому что знаю правду Твою и святость Твою».
Так скажет Прометей. То, чего ранее не могли вырвать у него ни ужас богоборчества, ни громы Зевсовы, ни всесильные пытки распятья, то ныне сам он, как ребенок, отдаст Отцу Небесному, узнав правду Его в молитвенном переживании очищенного сознания.
II
Однако и история и каждодневный искус свидетельствуют о недостаточности для всей жизни одних только переживаний молитвы, этих зыблющихся и неудержно-текучих элементов сознания. Даже в области эстетической, где так много значения имеет внешнее, это – так. Вот что говорит поэт-философ [32] :
Я снова перечел – и не узнал я вас.
Так вот мои стихи, – вот ночи плод бессонной!
Ужель так стары вы? Не верит вам мой глаз;
Вы в сердце рождены, но слух мой изумленный
Сегодня внемлет вам как будто в первый раз.
О, бедные стихи, любви моей поэма, —
Какая прелесть в вас так быстро умерла?
Иль для вчерашних чувств сегодня сердце немо?
Где ж эта свежесть их? во мне ль она была?
Как изменилось все, как охладела тема!..
Но вы, читатели: вы от стихов моих
Стократно далеки! Какой же тенью бледной
Мелькнут они для вас, неведомых, чужих!..
Что вам мои стихи? Вздох ветерка бесследный;
Успели вы, боюсь, забыть уже о них…
Ничто на их призыв в ответ не пробудилось!
Остались чужды всем стремления мои…
Но в этих отзвуках живое сердце билось!
Но в вас любовь моя, в вас жизнь моя таилась,
О мои бедные вчерашние стихи!
Но тем более это нужно повторить о всецело внутренних религиозных переживаниях.
...
«Я поймал эту мысль на дороге и воспользовался первыми плохими словами и поскорее связал ее ими, чтобы она не улетела. А теперь она умерла в этих жестоких словах: и висит и болтается в них, и я едва могу припомнить, глядя на нее, почему это я так радовался, поймав эту птицу».
Ницше
, Веселая наука, 298.
Что стало ясно сегодня, то так часто мутнеет завтра! Что в переживаниях момента решено бесповоротно и с абсолютною ясностью, то ставится снова вечным вопросом в часы и минуты иного дня, когда померкнет сердце. Переживания молитвы слишком летучи, слишком порхающи, и это – не только относительно простых людей, но даже высочайших подвижников. Необходимо оформить переживания, к живущей плоти их придать сдерживающий ее костяк понятий и схем. Тут вступает в свои права разум.
Понятие, не имеющее цены само по себе, приобретает условную ценность чрез свою связь со схематизируемыми им переживаниями, равно как неустойчивое переживание расчленяется, формуется, фиксируется и делается устойчивым чрез понятие, его схематизирующее. Непосредственное обращение с переживаниями заменяется оперированием над понятиями, и этим достигается та же выгода, что и при введении письма в области мысли или бумажных денег в экономической жизни. Переживания оказываются приведенными к одному знаменателю, делаются сравнимы между собою. Безудержное утекание прошлого задерживается, так что опыт копится и растет, богатится и разнообразится. Приобретенная, наконец, ориентировка в излучистых загибулинах духовной жизни, – наличность географической карты для переживаний и возможность воспроизводить бывшие опыты, твердо держать в памяти границы – все это делает для нас совершенно необходимой систему понятий и схем.
История осязательно дает нам нащупать ту же неустранимую потребность – потребность схематизировать переживания. В удовлетворении этой потребности – вся история науки и философии, как богословской, так и общекультурной. Что, в самом деле, представляет собою история соборов, как не упорную, неослабную попытку создать такую систему схем и понятий, которая бы стилизировала, обводила четкими и уверенными контурами должные переживания духовной жизни, и притом наиболее экономично, с наименьшим количеством отдельных, несводимых друг на друга терминов. Соединить наибольшую полноту схематизируемого материала с наименьшею сложностью схем, объединяющихся в единое здание – такова задача, стоявшая пред каждым из свв. отцев. Тот или другой деятель великой эпохи догматических споров пытается построить такую систему; но неизбежно-одностороннее построение по необходимости оказывается слишком тесным, чтобы охватить собою весь круг духовной жизни Церкви во всей ее полноте. Отсюда – необходимость обратиться к соборному разуму, к над-индивидуальному коллективному сознанию и сверх-личной организации Церкви. Соответствующая ей полнота переживаний позволяет избегнуть односторонностей и создать систему понятий, наиболее просто, наиболее экономично охватывающих всю совокупность духовной жизни, духовных запросов и духовных стремлений у Церкви данного момента. Поистине, можно удивляться чисто математической точности и выразительности христологических формулировок, не позволяющих изменить ни одного понятия. Система схем построена так цельно, что тронув что-нибудь одно, мы непременно обрушим всю архитектурную массу. И подобным же образом, что представляет из себя с формальной стороны вся история науки и философии, как не непрекращающуюся попытку выработать круг понятий, наиболее экономично объединяющий известный научный материал?
III
Необходима догматика, употребляя это слово в самом широком смысле, – как систему основных схем для наиценнейших переживаний, как сокращенный путеводитель по вечной жизни. Перво-наперво это относится к области религиозной в более тесном смысле. С жадностью и глубоким томлением духа ищет формулы современное сознание.
«Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, – не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его» (Ам. 8, 11).
Пересыхает в горле, жжет все нутро, нестерпимей и нестерпимей распаляется томительная жажда по догматике. Но… взамен догматики мы имеем догматизм.
«Ну, а „Сильвестр“, два „Филарета“, да „Макарий“? – скажут мне. – Чего же еще надобно референту? Али он ищет новых догматов?» Спешу успокоить всех ортодоксальных и неортодоксальных слушателей: принимаю содержание этого догматизма и говорю не о создании новых догматов, а сетую на неведение старых, на почти непреодолимую затруднительность ведать их, как религиозные истины. На перечень же сказанных авторов отвечу вопросом же: «Как вам кажется наша догматика, хотя бы Макария?»
Пусть на минуту мои слушатели перестали бы задерживать все непосредственные движения. Тогда в ответ мне послышались бы, – предвижу, – многообразно перекликающиеся зевки, неправославные и православные, – преимущественно последние.
Не станем вглядываться, кто тут виноват. Но мы вынуждены признать факт: системе вероучения принесен в настоящее время высший ущерб, какой только может быть принесен духовной ценности; – она обесценена для сознания. Соль обуяла, свет – померкнул. Очаг перестал греть сознание, центр жизни оказался вне жизни. Единственное нужное кажется современному большинству лишним и ненужным. Наша догматическая система представляется скучной, настолько скучной, что с нею даже не находят времени полемизировать; похваливающий же ее сознается, что догматика хороша, но не для него, а «для кого-то другого». Одним словом, она существует не для жизни, не для людей, а заготовляется впрок, но для кого – неизвестно.
Легкие ответные зевки на вопрос о догматике – это только небрежно накиданное прикрытие; под ним – зияющие провалы современного сознания, и в гулких безднах исчезли святыни и величайшие сокровища духа. Но этого мы по беспечности даже и не замечаем, как не помним и собственной задачи. «Освяти их истиною Твоею (Άγίασον αυτούς εν τη αληθενα σου) («во истину Твою», по славянск [ому] переводу]), слово Твое есть истина» (Иоанн 17, 17), – молится Христос о нас. «Да, знают Тебя, единого истинного Бога», – говорит Он про нас. И, если бы не Сама Любовь произносила эти слова, то они звучали бы нам невыносимой насмешкой: разве мы воспринимаем религию, как Истину? Разве мы знаем Бога, как истинного, как основание всякой истины и всякой достоверности? И имеем ли мы со своей стороны какое бы то ни было отношение к Живому Центру нашей религии?
Не станем же прятать голову в песок пренебрежения, страусом скрываясь от опасности. Теперь более, нежели когда-либо, своевременно выяснить, как мы относимся к христианскому миросозерцанию. Думается, близок час, когда невозможно уже будет оставаться полу-христианином, полу-атеистом, «не холодным и не горячим», а только «теплым», тепловатым, когда придется волей-неволей решительно выясниться и стать либо за, либо против истинной свободы.
Указываются – и совершенно справедливо – разные недостатки в «догматиках» «отечественных фабрикаций», причем особенно достается преосв. Макарию. Этими указаниями, конечно, необходимо воспользоваться, но удовлетворить их – это значило бы вылить на здание, охваченное пожаром, две-три ложки воды. Правда, указываемые досадные дефекты нарушают архитектоническую целостность догматики. Но стоит ли плакаться на это, когда подымается вопрос более важный, видят ли эту цельность и стройность изучающие догматику? Видят ли они, как сцепляются отдельные звенья, почему после одного поставлено другое? Задумываются ли учащиеся над математически-точно сформулированными догматами, сплетающими кружевную ткань? И им не представляется ли, скорее, эта ткань «сотканной из ошибок и мечтаний»? Ясно ли им единство плана, взаимообусловленность и взаимозависимость отдельных понятий и положений, служащих, как органы единого организма, одному планомерному целому? Сколько знаю, – это все остается совершенно в тумане, и догматика представляется не системой, не строением из схем, а кучей нагроможденных текстов и слов.
Вслед за указанной ранее поправкой необходимо внести и эту, более важную. Но и ее вовсе недостаточно. У нас есть система православных догматов; нужно же дать православную догматику, как действительно живое, религиозное миросозерцание: другими словами, к системе догматов потребна пропедевтика.
Повторяю: ни восполнение частных недостатков догматики, ни опознание ее, как связного целого, недостаточны еще сами по себе. Есть обстоятельство более серьезное.
Жизнь идет вне нашего вероучения, и вероучение идет вне жизни. Тут я, конечно, под жизнью разумею вовсе не какие-нибудь экономические или политические движения. Нет, даже гораздо более глубокие пласты духа – интимнейшие волнения в необъятной шири духа – оказались вне этого вероучения. Другой вопрос, могут ли течения жизни не разлиться таким путем по болотам ложной мистики и пескам бесплодного позитивизма. Но факт тот, что даже чисто-внутренняя, нравственная и религиозная, жизнь прорыла русла свои в иных областях. Бьют в берега взъяренные волны неустановившегося потока, хлещут о корни, подмывая тысячелетние дубы. И проносясь стремительно, он влечет с собой бревна падающих построек, домашнюю утварь и семейные святыни…
Оторвавшись от всего живого, от всего интимного, от того, что близко и бесконечно мило, что хватает сердце щемящей тоскою по далям, выдохнув аромат личного религиозного опыта, система религиозных понятий перестала быть убедительной для отвергающих ее и привлекательной для принимающих. Тут же не приходится говорить о верующих и неверующих как синонимах православные и неправославные. Ведь ныне существуют верующие афеи, как существуют неверы православные. Насколько последние, не имея религиозного содержания, в тупом равнодушии готовы принять всякую схему известной марки, лишь бы не утруждать себя умственной работой, и заранее исповедуют все, на чем только будет надписано: «Avec approbation et privileges du Roi»3, будь то Символ веры или чья-нибудь отсебятина, настолько же первые, терзаясь мучительной потребностью оформить пламена духовной жизни и совершенно не умея воспользоваться для этого схемами уже выработанными, не желают и не могут принять их рабски, не видя их правды. И, если от «православного» можно услышать порою прямо или косвенно циничное заявление: «Мне нет дела до Бога, а важен лишь культ», то с губ «афея» сорвется иной раз стыдливое признание, что ему нужен Бог и только Бог, а все остальное представляется мишурою и хламом. Но нет Бога в нашей догматике. И небезосновательно заметил Л. Толстой, что многие верят не в догматы, а в то, что в них надо верить: омертвевшая пустая форма не несет в себе внутренней правды и потому является идолом. Не помогает тут ни филигранная отделка догматических понятий, ни глубокость содержания системы, ни традиция. Система стала безнадежно-скучной и безнадежно-неубедительной для большинства и часто даже для тех, которые искренно признают все Евангелие. Было бы однако слишком спешно обвинять тех, кто честно сознается в своем отпадении. Правильнее всмотреться, нет ли элементов того же настроения у многих других, не отпадающих, и, сознавшись в печальной правде, выяснить причину холодности. Только устранивши причину сможем мы отнестись жизненно к системе догматов – этой кружевной ткани кристаллов, многие века сплачивавшихся из нежнейших и благоуханнейших выдыханий к небу души в очистительном холоде разума.
Догматика сменилась догматизмом, – вот в чем разгадка нашей холодности к ее прекрасным, но для нас безжизненным формам. Догматика в современном сознании перестала связываться с живыми чувствованиями и живыми восприятиями. Тело и душа религиозного миросозерцания разлучились. Мы заботились только о себе, не желая сходить ни на минуту со своей точки зрения, и, в результате, сами позабыли, как попали на нее. Немудрено, что другие не находят входа в грандиозный готический собор, прекрасный в целом и в частях, но без паперти и без ступеней. Мрачно чернеют бесчисленные окна, затканные паутиной, и прохожий, боязливо косясь, проходит мимо, в свою домашнюю часовню. А верные, не зная выхода из собственного храма, бледные и безжизненные ходят между величественными колоннами, заглядывают в стрельчатые окна и, вместо молитв, бессильными губами бормочут анафемы тем, кто идет по улице, быть может (а это происходит так часто), и желая зайти помолиться в храм. Вместо взаимной помощи в опознании собственной души, взамен совместной духовной работы, мы дуемся на того, кто не может раскусить наших окаменелых орехов и, оставленный на произвол судьбы, идет своей дорогой. Или же мы сами поворачиваемся спиной к несметным сокровищам, собранным предшествующими поколениями, – поворачиваемся спиной, вместо того, чтобы взять на себя скопившийся грех и подлинным жаром богопознания растопить все льды, сковавшие великие сооружения свв. отцев, наших предшественников, имевших святое дерзновение надписать над порталом: «Ведомому Б ог у». Да, забыты традиции святых догматиков, забыты заветы древних русских философов, строивших храмы св. Софии – Премудрости Божией и стремившихся поклоняться «Ведомому Богу». Но что делать тому прохожему? Где храмовые остиарии? Где ключари?26 Какое тайное слово откроет ему двери величественного портала? Будем сначала понятными и убедительными для людей других лагерей; не станем приятно засыпать на поддакиваниях одних только своих единомышленников, да и то нередко сопровождаемых авгуровскими улыбками; откинем нелепую привычку начинать исследование с догматизирующих положений. Ведь мало того, что эти положения вовсе не обязательны, пока не будут тем или иным способом доказаны (понимая слово «доказывать» в самом широком смысле), – они и абсолютно-непонятны, т. к. состоят из терминов, не имеющих при таком изложении никакого реального содержания. Прежде, чем разговаривать с кем-нибудь, надо не только определить термины (это – дело последнее), но объяснить их, т. е. наполнить живым конкретным содержанием, обратиться к тому, что собеседник пережил, или же помочь ему пережить новое, заразить его личным своим опытом, уделить ему от полноты своей. В противном случае получается построение из слов, аргументация словами, кончающаяся припиранием, к стене… на словах. И, в то время, как, обливаясь потом, вы торжествуете свою победу и воображаете, что что-то такое сделали, что-то доказали противнику, в чем-то приперли его к стене, – он остается вполне спокойным, относясь более чем равнодушно к своему поражению. Стены, к которым его приперли, для него – из дыма.
Оставим же пустые разговоры о пользе такого воздействия на общество, воздействия, сводящегося к самоуслаждению, и взглянем на дело практически.
Не связанный с переживаниями, не прозрачный для интуиции, не убедительный психологически, аргумент, при всей своей доказательности, непременно будет особым видоизменением argument! baculini4. Нельзя забывать, что человек – прежде живет духом, а потом уже делает отвлечения от пережитого: теоретические положения только схемы, знаки, обводы действительных переживаний, и в последних – источник, жизнь и цель всей теории. Можно ли забывать, что аргумент в области религии и нравственности имеет полную силу тогда только, когда он убедителен, т. е. когда доказанная истинность его усматривается интуитивно на конкретном материале, когда общее положение воплощается в единичном ощущении истины всем существом. Отрываясь же от жизни духа, теории и системы повисают в воздухе, а радужные краски переживаний меркнут, как угасают цвета некоторых морских животных, выброшенных на берег из родной стихии, и оставляют серую, скучную массу опавших схем. Взаимоотношение понятий, их относительная топография, легко обозримая в живом организме миросозерцания, запутывается в войлокообразных, безжизненных останках; так тают на прибрежных камнях хрустальные цветы медузы, вытащенные на сушу.
Что сказали бы вы о математических выкладках, не имеющих ни начала, ни конца? Если вы механически проделываете известную последовательность действий, не зная, к чему направлена вся работа, из каких данных она исходит, что означают те или иные знаки, то вся работа представляется вам бесконечно-неубедительной, хотя ни в одном пункте вы не находите в себе сил возражать против хода выкладок. Собственно говоря, вы не только не можете показать ложности их, но и истинности их нисколько не видите. В лучшем случае, таково-то и есть состояние современной догматики, механически опирающейся на авторитет Св. Писания и Св. Предания и (при наиблагоприятнейших условиях) не дающей поводов возражать против себя; но и истинности ее большинству не видно.
Убедительность аргументации – это есть, именно, доказательность ее, никогда не становящаяся одним только формальным «припиранием к стене», всегда переходящая от пункта к пункту ввиду твердой почвы переживаемого, а не совершающая аэростатических путешествий чрез области произвольно придуманного – только мыслимого, но реально вовсе не переживаемого. Именно такой вот убедительности не хватает догматике, и результат этого у нас пред глазами. Часто в существенном далеко не убежден, как оказывается, даже тот, кто только что надсаживал горло, споря о незначительном догматическом или обрядовом различии, – о каких-либо опресноках или перстосложении. А сколько основных идей, бывших когда-то вопросом жизни, стало чуждым сознанию большинства и консервируется в догматиках только для получения за них скверных баллов (это – когда мы в школе) и для обличений в непра-вославии (когда мы вышли в жизнь) – об этом и поминать-то забыли. Понятие о зле, например, исчезло с духовного горизонта, и представление о нем, как о недостатке добра, пелагиански настраивает все миро-отношение, хотя в разговорах это скрытое полу-пелагианство или пелагианство большинства прикрывается безмысленным повторением церковного учения. С еще большей уверенностью можно сказать, что весь цикл эсхатологических идей большинству представляется пригодным только лишь для обличения социалистов всяких толков, – для обличения в невозможности идеального порядка на земле… Таких примеров можно было бы привести сколько угодно. Но сейчас не в них дело. Не имея собственных психологических устоев, мы оказываемся совершенно беспомощными пред детски-наивным, но убежденным напором иных миросозерцаний, не говоря уже о полном бессилии воздействовать на других.
«Советы, – говорит где-то В. В. Розанов, – могут быть глупые: это – те, которые вытекают из настроения лица, дающего совет, и – умные, вытекающие из обстоятельств лица, которое просит совета… Первые советы, которые мы назвали неумными, вытекают из душевной мелочности, безграничного эгоизма, ко всему глухого, и из инстинкта безграничного, так сказать, душерасширения: советчик хотел бы своею душою расшириться и вытеснить все другие разнородные души. Вторые советы, мудрые, вытекают из необыкновенной зоркости советчика, его душеумаления и безграничного интереса к мириадам чужих душ, чужих жизней…»
Всякая система понятий имеет целью урегулировать поток переживаний, оформить и расчленить его, ввести в него порядок и устойчивость. В этом она подобна совету, советом же является и догматика. Розановские слова о советах и советчиках в высокой степени применимы к догматике, и, согласно его терминологии, нашу догматику придется назвать системою советов глупых.
Догматика наша не пригождается. Но нельзя было бы более извратить мою мысль, как переиначив «не пригождается» в «непригодна». Наоборот, это мы не умеем пользоваться несметными сокровищами, собранными поколениями, не умеем претворить в свою плоть и кровь концентрированного творчества многих веков, – да, не умеем, потому что позабыли, как подступиться к заколдованному кладу, который мы видим, но который не дается в руки.
Не истину новую предлагаю на старое место, а места нового требую для старой истины, потому что то место сознания, куда должно поместить эту истину, загромождено хламом.
IV
Мы знаем, пожалуй, что в догматической системе каждая часть поддерживает другую; может быть даже знаем, как происходит эта взаимная подпорка. Но, зная как говорит догматика, мы не опознали, почему и для чего она говорит так, главное же, не знаем что она говорит. Однако для жизненности ее в сознании необходимо знание ее что, ее почему и ее для чего, и без этого знания догматика превращается в схоластическую хитреную забаву условными значками, по ценности своей нисколько не превосходящую шахматной игры. Но из смысла предыдущего ясно, что именно нужно для жизненности догматики. Тайное слово – в том, чтобы насытить богословские схемы психологическим содержанием, чтобы связать их с непосредственно переживаемым, чтобы сделать их из препарата в спирту нервами и костями живой жизни.
Тут-то мы наталкиваемся на затруднение, перед которым так часто отступают. «Сущность науки, – говорит великий Георг Кантор, – в ее свободе». Сущность нашей работы, скажем мы, в ее свободе κατ\' εξοχήν5. Переработка религиозного миросозерцания, создание к нему пропедевтики возможны только, как свободное творчество, исходящее из непосредственно-наблюдаемого в духе и не останавливающееся ни пред каким выводом, становящимся на дороге, не боящееся никакой боли, когда надобна операция, когда потребно оторваться от всех традиций, консервативных или прогрессивных, когда обязанность – быть готовым отречься от всего дорогого и близкого и остаться на мгновение в абсолютной пустоте, абсолютной несвязанности. Идти к цели, и, по-видимому, удаляться от нее; работать для Истины и быть беспощадным к Истине неопознанной вполне, как таковой, терять, чтобы получить – тут требуется такая вера в Истину и такая любовь к Ней, для которых нужно собрать все свое мужество, чтобы на пути не отступить вспять.
Однако из этого, конечно, не следует, чтобы мы не имели права пользоваться ничем, кроме непосредственно-наблюдаемого в духе. Мы вполне можем руководиться уже готовыми схемами, но только лишь как предварительными стройками, лесами, позволяющими скорее и целесообразнее обработать сырой материал. Выражаясь образно, скажем: готовому, в данном случае догматам, должен принадлежать голос не решающий, а только совещательный. Роль готовых схем – сначала лишь пробабилистическая6, и ценность – условная, хотя бы мы, индивидуально, считали ее безусловной. Это похоже на математический метод последовательных приближений, с тою только разницею, что тут внутреннее чувство заставляет нас провидеть результат работы. Материалом же (контролируемым Св. Писанием) для последней должен служить собственный наш опыт и опыт других, поскольку он выразился в аскетической и мистической литературах, в изящной словесности, в изобразительных искусствах и в музыке. А кроме того, необходим полный пересмотр свято-отеческой литературы, но не с охотничьим вынюхиванием «подтверждений», а с целью определить психологические данные, заставляющие говорить автора так именно, а не иначе.
Эти непосредственные данные, в связи с вспомогательными данными естественно-исторических наук (изучением физиологической подкладки у явлений духовной жизни) составят базис будущей убедительной догматики.
Мне скажут: «Но можно ли доказывать догматику? Не исключается ли это самим понятием откровения». Заметьте: я вовсе не говорю о доказательстве, разумея под ним доказательство формально-логическое: высказанное требование – в том, чтобы догмат стал интуитивно-прозрачным для сознания, настроенного религиозно, и чтобы было указано, как именно подойти к такому сознанию. Принять или отринуть догмат есть дело волевого акта; но необходимо, чтобы было вполне ясно, что, собственно, мы принимаем или отвергаем, потому что не может быть делом воли признать или отринуть слова. Теперь же так часто верят не в содержание формул, а в самые формулы, в слова. Тогда только будут подлинно-верные сыны Церкви, когда они будут не привязаны к Церкви, а свободны каждую минуту мысленно спуститься до начал и мотивов своей веры и, спустившись, снова вернуться обратно, потому что того потребует правда. Тогда только у нас наступит время, предреченное самарянской женщине, когда каждый сможет обозревать все вероучение, от чернозема его до сложных вершин верховных выводов и чаяний.
Для большей отчетливости мы снова охарактеризуем особенность будущей убедительной догматики, наметив вместе с тем некоторые ближайшие задачи.
«В глазах философа, – говорит Н. М. Минский [33] , – весь мир представляется уравнением с одним неизвестным, которое и есть Бог. Первая часть уравнения – это видимый мир чувственных явлений (разумея его, в самом широком смысле), как мир тварного, условного, тленного, вторая часть его – скрытый в нас мир явлений мысленных, определение же неизвестного составляет задачу жизни всего человечества. При многих или хотя бы при двух неизвестных, при многобожии или двубожии решение получилось бы неопределенное, но уравнение с одним неизвестным, вселенная с единым неведомым богом дает нам точный и определенный ответ». При таком понимании дела находится в зависимости от мира «не Бог, но богопознание. Есть два метода исследования: гадательный, идущий от неизвестного к известному, и истинный, идущий от известного к неизвестному. Так как известное есть мир, а неизвестное – Бог, то при религиозном творчестве можно идти или гадательным путем – от Бога к миру, через определение сущности Бога, его атрибутов и свойств, или истинным путем – от нашей человеческой природы к Богу, через единственно-плодотворное исследование того, что мы знаем о Боге и как это знание в нас возникает. Основной закон религиозного творчества может быть выражен следующим образом: все суждения, ведущие к истинному богопознанию, имеют своим неизменным подлежащим наше человеческое, условное я, а неизменным дополнением – абсолютное божество». Таково начало догматической работы, идущее от человека к божественному. Но мы повторили бы непростительную ошибку всех субъективистов, если бы захотели ограничить работу только на таком начале. Действительно, для философа, поскольку он теоретик, объект религии всегда является только сказуемым при условном я самого философа. Такой философ, действительно, может говорить лишь о божественном – не о Боге. Однако, раз только живой мистический опыт выведет его в сферу транссубъективной реальности, то человек и Бог поменяются местами, и Бог, равно как и все объекты религиозного сознания, станет из сказуемого подлежащим. Вместе с тем, догматика из субъективной и условной сделается объективной и безусловной. Гносеологическая зависимость богопознания от человека сменится мистической зависимостью человека от Бога.
Но где именно мост для такого перехода? Чтобы бегло [очертить] карту пути к переходному пункту, обратим внимание на следующее: мы говорим, что основою для построения догматики должно быть непосредственно переживаемое, и ясно, что спервоначала – это индивидуальные переживания догматиста. Но универсальность задачи требует дальнейшего расширения области переживаний. Необходимо заново ответить на вопрос: из каких и из чьих переживаний строится догматика?
Построение должно быть обще-значимым. Все люди должны иметь доступ к нему. Тут возникает серьезное недоумение. Если догматика в идеале должна быть общей для всех, то переживания, ее основывающие, по-видимому, приходится взять общие для всех, ходячие и являющиеся разменною монетою духовной жизни. Но кому же неизвестно, что чем шире область общих переживаний, тем скуднее, бесцветнее и банальнее ее духовная содержимость; чем ходячее монета, тем более она истерта. Но мало того; пусть мы остановились бы удовлетворенно на некотором достаточно широком круге переживаний, – таком, который не встречает отрицания ни в ком из известных нам лиц. Однако и тогда мы ничем не обеспечили себя, что не появится завтра же новых лиц, которые и к данным переживаниям слепы.
Таким образом, находясь в зависимости не от достоинства переживаний, но от численности переживающих, определяясь статистическими и, следовательно, внешними условиями, догматика никогда не могла бы представить из себя чего-нибудь твердого, не зыблющегося при малейшем ветерке, и это не в смысле эволюционного изменения и развития на почве уже имеющегося, а просто в смысле постоянной возможности полного «нет», где только что было «да». Не отыскивается среднего пути между своевольным релятивизмом, сводящимся к абсолютному нигилизму, и рабскою подзаконностью, подменяющею, как и было доселе, живую жизнь мертвой формулой. И этот средний путь недостижим философии вне религиозного опыта.
Тот путь, который оказался непригодным, есть путь о бщ ечеловеческий, – метод общего наибольшего делителя, могущего свестись к 1, т. е. к безразличию пустого единства в чисто формальных данных духовной жизни, совершенно не выражающих самой жизни. Но нам необходим путь всечеловеческий – метод наименьшего кратного для всех переживаний во всем их многообразии.
Тот путь был путем отцеживания всего разнородного, всего несходного. Этот путь – путь синтеза, путь собирания всей полноты духовной жизни. Но это собирание не может быть механическим складыванием: духовная жизнь по самому существу своему насквозь пронизана личным характером. И поэтому, если при общечеловеческом пути приходилось бы изучать человека самого бессодержательного, носящего минимум духовной жизни, то при пути всечеловеческом подлежит изучению Носитель максимума духовной жизни. Это – Сын Человеческий, ό υίος του ανθρώπου, Носитель идеальной человечности. Пережив Иисуса Назаретского, как Сына Человеческого, как универсального Человека, мы тем самым переходим в новую полосу работы. Его переживания и составляют истинный фундамент догматики. Переживания Иисуса из Назарета есть мост, по которому догматика может перейти от земли на небо, от психологии к метафизике. Но этот переход совершается не сразу. Сперва универсальный Человек Иисус есть только универсальный субъект догматического сознания: мы имеем дело не с тем, что Он есть, а с тем, что у Него есть. Вместе с тем догматика, неизменно оставляя божественное только сказуемым, получает право утверждать за своими суждениями общезначимость, хотя эти суждения все еще не имеют характера метафизического. Отныне она обращается уже не к человеку, а к человечности, и потому может затронуть сердечные струны каждого, рас-[ц]весть ярким отсветом во всякой душе. Она опирается [обращается —?] не к idola7, не к обособленному, не к прихотям, случайным ассоциациям или своекорыстным расчетам того или другого индивида, но к вечному, всечеловеческому, святому и бескорыстному каждого человека. Не к тому, что лишает человека образа человеческого, но что делает его истинным человеком. Одним словом, догматика начинает употреблять argumenta ad humanitatem8 вместо прежних argumenta ad dominem9, а момент психологии религии сменяется моментом новозаветного богословия. Но это – только первое изменение – по форме.
Но из совпадения в Иисусе самосознания с бого-сознанием [34] вытекает новое изменение в догматических суждениях. Условное человеческое я, доселе служившее безысключительным подлежащим всех суждений, вытесняется новым подлежащим – Богом, в силу чего все божественное в человеке делается лишь сказуемым нового Подлежащего. Суждения делаются метафизическими и относящимися к транссубъективной реальности, а момент новозаветного богословия вытесняется новым – моментом мистического гнозиса. Тут только начинается построение догматики в собственном и подлинном смысле. Последовательность отдельных моментов можно выразить приблизительно следующей схемой:
Вот только приблизительный план предстоящей всем нам работы – построения опытной [35] догматики. Только тогда, когда будет налицо убедительная догматика, только тогда каждый вполне сознательно ответит на дилемму «или – ил и» в отношении к Иисусу Христу «пришедшему во плоти» (2 Иоанн 1,7); тогда только возможна будет дифференциация пшеницы от плевел.
ПРАВОСЛАВИЕ
I
Элементы, из которых сложилось русское православие: византинизм; славянское язычество; культ солнечных божеств и культ предков. Русский национальный характер. Крещение Руси и его главные символические моменты.
Если мы вспомним первоначальную Церковь, такую простую по своей организации и все же переполненную божественными силами, и сравним с тем, что теперь называется Христианскою Церковью, то, с одной стороны, нас поразит та огромная перемена, которая совершилась с Церковью за девятнадцать веков ее существования, а с другой – станет вопрос, да имеет ли эта Церковь – католическая или иная – что-нибудь общее с христианством? Действительно, у Христа – «блажени нищие духом», а у нас сложная теософическая система, учение об ипостасях, естествах Бога, единстве, троичности и т. д.; в апостольской Церкви – нарушение закона, свобода от ритуала, обряда, правил, а у нас посты, поклоны, праздники, бесчисленные обряды; у Христа – «не говорите лишнего», а у нас шестичасовые богослужения, бесконечные акафисты, ектеньи, стихиры и т. д.; у христовых учеников – движение, внутренняя свобода, у нас поклонение преданию, строгий консерватизм, смерть за «единый аз»1. Такое сопоставление на первый взгляд оправдывает восклицание Гарнака: «Эта официальная церковь, со своим духовенством, богослужениями, со всеми своими священными сосудами, одеждами, изображениями, амулетами, постами и праздниками не имеет ничего общего с религией Христа».
Что христианство в нынешних формах не похоже на христианство христовых учеников – этого нельзя отрицать. Но мы попробуем доказать, что в Церкви, как она сейчас существует, сохраняется христианство настолько чистым, насколько вообще может сохраниться незамутненным божественное, влитое в земные сосуды. Прежде всего, христианское учение явилось в мир не с тем, чтобы преобразить его немедленно; свобода мира и человека предполагает сама собою, что силы, внесенные в мир Христом, медленно будут растекаться по миру, по мере того, как люди будут принимать их и свободно проникаться ими. Но ведь каждая страна, область, народ, принимая Евангелие, по-своему принимает его. Ведь христианство Иоанна совсем не то, что христианство Петра; христианство Франциска Ассизского не то, что христианство ап. Павла. Так же и с отдельными странами и народами. Западный мир, приняв Евангелие, по-своему принял его, а Восток – по-своему. Полная истина есть нечто абсолютное и поэтому не совместимое с миром; мир и человек по существу своему ограниченны, и потому ограниченно принимают истину христианства, а так как у каждого народа и человека своя особая ограниченность, то и христианство его выходит особым. Это – первый фактор, который разделил целую истину и этим изменил ее. Во-вторых, община учеников Христа жила той благодатной силой, которая непосредственно изливалась на них; нынешние церкви живут той же благодатью; доказательство этому – те святые, являющиеся доныне в церквах и католической и православной, которые по своей духовной жизни однородны, так сказать, с теми типами святости, которые так богато обнаруживались в первоначальной Церкви; дело только в том, что в апостольской Церкви благодатные силы лились потоками и реками, а у нас настоящая христианская жизнь разжижена таким огромным количеством язычества, даже в самой церкви, что получается впечатление, будто эти благодатные силы капают скупыми росинками, и то, что раньше давалось само собою, теперь достается с неимоверными трудами. Эти труды, которые берут на себя подвижники, кажутся иногда искусственными, нелепыми ухищрениями, но иных путей сейчас нет. То, что раньше давалось одним созерцанием образа живого Бога-Христа, дается теперь в результате многолетнего воспитания своей воли. Нетрудно было бы отменить сейчас все молитвы, службы, мощи, таинства на том основании, что всего этого не было при Христе. Но стали бы от этого легче пути к Божеству? Мы не имеем времени подробно говорить здесь об этом; скажем только одно. Если признавать религиозную жизнь, как нечто единое спасительное, то надо обратиться к опыту людей, достигавших наиболее высоких степеней религиозной жизни, а таковыми мы не можем не признать святых; но святые шли церковным обрядовым путем, частично оставляя его только уже на очень высоких ступенях жизни.
Итак, весь сложный аппарат современной церковной жизни имеет назначением получить, удержать и передать людям те капли божественных сил, которые сейчас доступны людям. Ведь никто не выдумывал этого аппарата нарочно. Он сам слагался по мере необходимости. Первые христиане, говоря грубо, жили религиозно круглые сутки и каждый акт своей жизни совершали для Бога. Их собрания носили первоначально характер свободных, беспрограммных бесед, молитв, пения гимнов, и твердыми точками таких собраний были только евхаристия и чтение слова Божия. Около этих неподвижных пунктов стали отлагаться по мере охлаждения религиозного энтузиазма наиболее вдохновенные молитвы и гимны, сложенные на прежних собраниях; эти элементы тоже становились неподвижными, число их росло, пока собрания эти не превратились в застывшее, совершающееся по определенной программе богослужение. Параллельно с этим шел другой процесс: собрания, занимавшие сначала все время христианина, превратились в богослужения, совершавшиеся несколько раз в день; затем отдельные богослужения (часы, заутреня, вечерня) стали сокращаться и соединяться по нескольку вместе, ради удобства мирян, потом стало обычаем совершать и посещать богослужения раз в неделю, проводя остальное время вне Церкви и без Бога.
Вот каким путем слагалась нынешняя Церковь. Раньше импровизировались вдохновенные молитвы – теперь мало кто слагает их, и нам остается повторять старые; раньше сам Бог учил людей и благословлял их, – теперь единственная возможность подойти к Нему – Его слова (Евангелие), молитвы, таинства. Конечно, можно оставить все это, отбросить испытанные пути, способы и приемы и устремиться к Богу самостоятельно и своими силами; но для этого мало даже иметь силы первых христиан; а пока нет их, надо держаться за единственное, что есть: не умеешь сам петь – повторяй за другими; не умеешь молиться – молись с теми, кто умел.
Но это «остывающее» христианство имело свою хорошую сторону. Силы человечества, неспособного к прямому богообщению, начинают проявлять себя в области умозрения, богословия, искусства. Единый белый свет экстаза распадается на многоцветные лучи христианской поэзии, науки, богословия, живописи, архитектуры. Так как все это – сферы человеческой деятельности, то образовались различные течения, обособленные одно от другого и часто враждебные, образовались разные исповедания, церкви католическая, восточная, позже – протестантская. Все эти церкви (в особенности католичество и православие), бедные собственным творчеством, главную свою задачу, естественно, видят в хранении святыни, полученной по преданию.
В этой главе мы будем говорить не о всей восточной церкви, мы оставим в стороне православие греков, сербов, болгар и т. д. Мы будем говорить только о русском православии и прежде всего обратимся к вопросу о его происхождении.
Русская вера сложилась из взаимодействия трех сил: греческой веры, принесенной нам монахами и священниками Византии, славянского язычества, которое встретило эту новую веру, и русского народного характера, который по-своему принял византийское православие и переработал его в своем духе.
Византийское православие характеризуется следующими чертами. Склонность философски рассматривать религию соединяется в византинизме с высокой оценкой важности обряда. Вместе с разработанной теософией, где выясняются в философских терминах отношения между Лицами Пресвятой Троицы, между естествами в Богочеловеке, понятия Церкви, спасения, бессмертия и т. п., в восточной религиозности не меньшее значение имеет глубокое уважение к обряду, так что исполнение его ставится рядом и даже выше исполнения нравственных заветов. Такая важность обряда и учения создает консервативное к ним отношение; соблюдение неприкосновенности обряда и учения становится главным делом Церкви. Но и обряд и учение не всегда понятны, часто даже вовсе непонятны массам, а между тем сила их явно чувствуется верующими; из такого противоречия развивается смирение перед глубиной церковного сокровища и послушание к хранителям его. С другой стороны, церковность входит в жизнь, пропитывает собою весь быт, делается неразрывной частью народного характера. Для армян, болгар, греков и русских народность неотделима от церковности, так что «православный» и «русский» становятся синонимами, обозначают одно и то же. Сюда же примыкает еще одно обстоятельство: по условиям образования восточной церкви, понятие царя получило в ней значение священное и тесно слитое с понятием Церковь. Божественный римский цезарь, владыка мира, приобретший к тому же все свойства восточного деспота, сделался главным покровителем христианской церкви, «епископом ее внешних дел» и проводником христианских начал в государственную жизнь. Такое положение тесно соединило идею царя с идеей православия, Церковь стала немыслима без царя.
В таком-то виде проникло христианство к русским. Византинизм явился среди русских славян огромной силой, прежде всего потому, что он поддерживался властью; во-вторых, он сам по себе был силой организованной; в-третьих, он нес с собой науку, гражданское и церковное право, просвещение. Он явился источником, откуда русский народ пил веками, почти не имея ничего другого. Но все же русское православие есть нечто иное, чем православие византийское, и это потому, что русский народ имел до христианства свое особое мировоззрение и свой особый племенной характер. Рассмотрим как то, так и другое, поскольку это возможно в кратком очерке.
Как и другие языческие религии, религия славян основывалась на мистическом отношении к природе. Это отношение к природе или останавливается на моменте рождения, видит в природе великую производительницу, и тогда религия принимает фаллический характер, становится культом рождающих сил; или же в природе выделяется, как предмет почитания, другой, столь же неизбежный ее момент – смерть, что порождает культ духов умерших, культ предков. В религии древних русских есть и тот и другой момент. Кроме того, оба момента достигли настолько большого развития, что мы находим у древних русских вполне сложившимися множество высших богов, правда, сохраняющих еще свое природное значение грома, солнца, ветра и т. п. Может быть, больше всего мы знаем о культе солнечных божеств любви, брака и плодородия. Их популярность подтверждается большим количеством их имен (Ярило, Ладо, Кострома, Хоре, Даждь-бог, Тур и т. д.); две губернии до сих пор сохранили имена этих божеств любви и веселия – Ярославская и Костромская; про последнюю даже сложена поговорка – «Кострома – веселая (блудливая) сторона»; там же были найдены фаллические изображения. Культ этих божеств пережил введение христианства и дожил до наших дней, отчасти косвенно, в виде многочисленных игр и хороводов с пением непристойных (с интеллигентской точки зрения) песен, отчасти прямо, в виде чествования, оплакивания и похорон девушки, изображающей Кострому, или соломенного чучела – Ярилы. Все эти данные указывают, какую большую роль в религиозных представлениях русских занимали явления, относящиеся к деторождению и браку. Ежегодное возрождение солнца и вообще пробуждение природы (равно, как и ее осеннее замирание) сопровождалось шумными празднествами с венками, цветами, плясками, пением и играми. Насколько разгульный, оргиастический характер носили эти празднества, показывает упорная и долговременная борьба с ними духовенства; духовная власть видела в этих «игрищах» прямое служение Дионису, как указывают следующие места из «Стоглава».
«Русали о Иванове дне… сходятся мужи и жены и девицы на нощное плещевание и на безчинный говор и на бесование песни и на плясание и на скакание и на богомерзкие дела; и бывает отроком осквернение, и девам растление»; подобные дела «Стоглав» сравнивает с «еллинскими беснованиями», когда они, «еллины» «голосование и вопль велий творят, еллинского бога Диониса, пьянству учителя призывают». Народ смотрел на такие праздники иначе; даже в наше время матери охотно отпускают своих дочерей на такие «гулянки», «поневеститься», как они выражаются. В этом снисходительном отношении к любви до брака слышится древнее чувство священности таких празднеств, освящающих то, что в другое время и при иной обстановке считается позором и преступлением.
Эти весенние и летние праздники в честь солнца и существ, наполняющих природу – только частный пример религиозного и мистического отношения древнего человека к природе.
Перейдем теперь к культу предков, душ умерших и духов вообще, как он существовал у древних русских. Поговорка – «на печи сидел, кирпичам молился» – имеет старинное происхождение и глубокий смысл. Печь, тождественная с священным очагом арийских народов, не имела у древних русских ничего общего с нашей кухонной плитой или, тем менее, с голландскими и иными печами, служащими для отопления. Древнее священное значение печи, как очага и религиозного центра семьи и дома, чувствуется у нас, и то очень слабо, пожалуй, в камине. Печь была седалищем домашних богов, духов предков; огонь ее, поэтому, священен, угли из нее – лечебное средство; еще и теперь при переходе в новую избу хозяйка переносит туда золу из старой печи, и эта зола заменяет, таким образом, домашнего бога. Такими же духами-покровителями считались души всех законно умерших. И поныне в губерниях пензенской и саратовской мордовские крестьяне, принося на могилы умерших еду, говорят при этом: «Вот тебе! это принесла такая-то; береги у нее скотину и хлеб, корми цыплят, гляди за домом». Наоборот, умершие насильственной смертью, самоубийцы, обращаются в злых духов.
Перейдем теперь к третьему «слагаемому» русского православия – к национальному характеру. Но здесь мы встречаем некоторое затруднение, состоящее в том, что нам надо определить, чем был русский славянин до принятия христианства. Теперешний тип великоросса – результат христианских влияний на него, и чтобы определить, чем он был до христианства, нам надо было бы или иметь сведения, рисующие славянина-язычника, или, взявши современный тип русского, мысленно выделить из него то, что создано в нем христианством. Первый путь для нас закрыт, так как история располагает слишком скудными сведениями относительно языческого славянства. Здесь возможно установить только такие, маловыразительные черты, как гостеприимство, мягкость нравов, наклонность к междуплеменным раздорам и вообще перевес начал этических и религиозных над общественными и правовыми. Второй метод не менее труден. Национальный характер не есть нечто неустойчивое и неподвижное. Тысячи причин определяют его и заметно меняют даже в течение века. В частности, характер русского племени очень изменился с переселением его на Волгу и Оку; самостоятельная, в одиночку, борьба с неприветливой природой развила в нем такие черты, которых не было у жителей киевской Руси. Впрочем, и эти черты важны для нас сейчас, так как, независимо от времени их появления, они придали православию очень определенные особые черты. Вот что говорит о некоторых сторонах характера великоросса Ключевский.
Природа северо-восточной России «часто смеется над самыми осторожными расчетами великоросса: своенравие климата и почвы обманывает самые скромные его ожидания, и привыкнув к этим обманам, расчетливый великоросс любит подчас, очертя голову, выбрать самое, что ни на есть, безнадежное и нерасчетливое решение, противопоставляя капризу природы каприз собственной отваги. Эта наклонность дразнить счастье, играть в удачу и есть великоросский авось». Короткое, быстро проходящее лето приучило великоросса к чрезмерному, но кратковременному напряжению сил, за которым следует продолжительное зимнее безделье. Работа в одиночку не создала привычки к совместному труду; поэтому же великоросс – себе на уме, осторожен, необщителен, и взятый в отдельности, выше и лучше «великорусского общества». «В борьбе с неожиданными метелями и оттепелями, с непредвидимыми августовскими морозами и январской слякотью он стал больше осмотрителен, чем предусмотрителен, выучился больше замечать следствия, чем ставить цели, воспитал в себе искусство подводить итоги на счет умения составлять сметы. Это умение и есть то, что мы называем задним умом». «Великоросс часто думает на-двое, и это кажется двоедушием. Он всегда идет к прямой цели, но идет оглядываясь по сторонам, и потому походка его кажется уклончивой и колеблющейся. Ведь лбом стены не прошибешь, и только вороны прямо летают».
Итак, вот те три силы, которые пришли в взаимодействие, чтобы образовать то, что мы называем русским православием. Византинизм, как готовое, сложное, обставленное подробным ритуалом вероучение, было внесено в страну, сплошь языческую, населенную народом совершенно иного склада чем тот, который создал византийское понимание христианства.
Зарождение новой веры, ее первые шаги, как бы они ни казались случайными и безразличными, имеют важное значение для уразумения этой веры. Чтобы завершить эту вводную часть нашей главы, мы рассмотрим эти первые моменты рождения у нас христианства.
Известно, что до крещения Руси у нас были христиане, прежде всего, среди варягов. Вообще, постоянные сношения с христианской Византией и Западом не давали Руси возможности оставаться изолированно-языческой. Крещение княгини Ольги показывает, что христианство и не было чем-то абсолютно враждебным и неприемлемым для русских.
Летописный рассказ об испытании вер, о крещении князя Владимира и его дальнейшей христианской жизни известен всем, но мы все же остановимся на нем; как ни легендарен этот рассказ, он имеет в себе несколько черт, символически освещающих нашу тему. Чего искал Владимир в христианстве? Он отверг магометанство, несмотря на то, что оно произвело впечатление на его чувственность; в магометанстве он не видел широты, универсализма и радости: «нет веселья в них, но печаль и смрад велик». Еврейской веры он тоже не мог принять. Он понимал неразрывность вер со всем бытием народным, а изгнание евреев из Иерусалима и рассеяние их по всей земле плохо рекомендовало их религию.
Почему же он остановился на христианстве и что он оценил в нем? На это отвечают три эпизода летописного рассказа. Когда греческий богослов изложил Владимиру всю историю божественного промысла и судьбы человечества, он показал в заключение картину, изображающую страшный суд, неизреченную красоту царства небесного, веселье и вечную жизнь одних и бесконечную огненную муку и «червя неусыпающего» для других. Владимир вздохнул и сказал: «Добро сим – одесную, горе же сим ошую». – Его поразило самое главное в христианстве, именно то, что оно – религия абсолютных оценок, религия суда, а вместе с тем религия спасения.Когда послы, отправленные Владимиром для исследования разных вер, вернулись в Киев, они рассказывали о богослужении греков, о красоте, стройности и ангельском пении, и как вывод сообщили, что в богослужении греков Бог явно пребывает с людьми, – быть может, намек на то видение Христа-Младенца, приносимого в евхаристической жертве, которое они имели в храме св. Софии Цареградской. Иначе сказать, христианская религия, по впечатлению послов, имеет в себе силы превращать безобразную случайную жизнь в божественную красоту и гармонию и хотя изредка, в богослужении, но действительно воссоединяет людей с Богом.
Ставши христианином, Владимир показал, что он всей душою принял эти два начала в христианстве, о которых мы только что сказали: он принялся строить церкви, крестить своих подданных, спасая их души от власти дьявола, и заводить училища; но с особенной подробностью биографы останавливаются еще на одной стороне его деятельности. «Больше же всего бяше милостыню творяй Володимер», «…повеле всякому нищему и убогому приходити на двор княж и взымати всякую потребу – питье и яденье»; для тех, кто по болезни не мог прийти сам, Владимир завел особые телеги, на которых развозились по городу «хлебы, мяса, рыбы, овощь разноличный, мед в бочках, а в других квас». Эта милостыня распространялась и на села и деревни «и по всей земли русской».
Вот тот третий момент, который усмотрел в христианстве Владимир: это то, что оно – религия милосердия. Владимир вводил христианство без и часто против желания своего народа, но в великом деле выбора веры и крещения Руси он таинственным образом предугадал судьбы христианства в России. Давно умер Владимир, а и доныне православные, как некогда Владимир, ужасаются в каком-нибудь соборе или монастыре перед картиной адских мук и жаждут быть с теми, кто «одесную»; в своих скудных церквушках, как и в столичных соборах, так же как Владимировы послы, они половину смысла христианства видят в богослужении, в молитвенном соединении с небесными силами, которые невидимо служат в храме, а выйдя из церкви, вспоминают и вторую его половину – милостыню.
II
Стихия православия: Церковь и быт. Демократизм в понимании Церкви. Важное значение обряда. Консерватизм. Монашеский идеал. Приходское православие. Взгляд на духовенство. Быт; церковность в быту. Языческие воспоминания. Дисциплина в домашней жизни. Православная культура. Отношение к земле и хлебу. Двоеверие. Колдуны.
Мы рассмотрели в предыдущей главе элементы, из которых сложилась вера современного русского народа. Заранее можно сказать, что в результате такого соединения будет нечто очень своеобразное и сложное. Так оно и есть на самом деле. Русский крестьянин, наиболее полно и искренно исповедующий сейчас православие, верит в Бога, Церковь и таинства, но одновременно с этим он не менее твердо верит в лешего, шишигу, сарайника, заговоры и т. п., и это последнее – такой же непременный элемент его веры, его поведения и мировоззрения, как и первое. Он мистически относится не только к миру святых, но и к природе, не только к Богу, но и к нечистому. Кроме того, область религиозного не ограничивается для крестьянина церковью и природой; третьей сферой его религиозной жизни является быт, заключающий в себе его земледельческий труд, семейные отношения, еду, сон, одежду и вообще повседневность. Поэтому мы будем рассматривать русское православие по трем областям: Церковь, быт, природа, – понимая под природой не только природные явления в обычном смысле, но и мир языческих стихийных духов.
Церковь для православного – не внешний авторитет, как у католиков; православные никогда не дорожили церковным единством, которое покупается потерей свободы членов церкви, но они далеки также от протестантского понимания свободы, при котором церковь становится пустым звуком. Католицизм склонен отождествлять Церковь с духовенством, противопоставлять духовенство мирянам. В православии Церковь немыслима без народа, и верующий народ есть Церковь. Это взгляд общий всем православным церквам от армян до греков; в 17-м параграфе окружного послания восточных патриархов 6-го мая 1848 года пишется:
«У нас ни патриархи, ни собор никогда не могли ввести что-нибудь новое, потому что хранитель благочестия у нас есть самое тело Церкви, т. е. самый народ». Иннокентий, епископ Алеутский, говорил, что епископ в одно и то же время есть учитель и ученик своей паствы. При отсутствии резкого разделения на клир и мирян получается (в идеале) тесная и дружная жизнь всех членов Церкви. Поэтому в православной Церкви «всякое слово, внушенное чувством истинно-христианской любви, живой веры, или надежды, есть поучение; всякое дело, запечатленное Духом Святым, есть урок; всякая христианская жизнь есть образец и пример» (слова Хомякова).
Другая черта православного отношения к Церкви – это перевес культа, и в частности обряда, над учением и моральной стороной христианства. Брань, драка, пьянство – меньший грех, чем нарушение поста; нарушение целомудрия легче отпустится духовником, чем не-хождение в церковь; участие в богослужении более спасительное дело, чем чтение евангелия; отправление культа важнее дел благотворительности. Наш народ недаром усваивал христианство не по евангелию, а по прологу (жития святых), просвещался не проповедями, а богослужением, не богословием, а поклонением и лобызанием святынь. Умы, склонные отводить первое место разумению, рассудку, анализу, возмущаются так называемым обрядоверием православных; но это возмущение не более, как недоразумение. Неужели больному полезнее начать изучать медицину, чем принять лекарство и излечиться? Религия ни в каком случае не дело рассудка; для не признающего религии возмутительно не только обрядоверие, но и религиозная философия; а признающий религию за дело реальное должен признать, что религия не в рассудке и даже не в познавании, а в действительном отношении к Богу; религия – не рассуждение о божественных вещах, а принятие божественного в свое существо. Поэтому молитва, в которой Бог нисходит в душу молельщика, для верующего выше даже чтения Библии, лобызание мощей, из которых, как из переполненного сосуда, льется благодать, важнее усвоения богословской премудрости; евхаристия, принятие в свое тело Тела Господа, бесконечно важнее всех проповедей, учреждения богоугодных заведений, школ, больниц и т. д. Православный считает богодейственными не только вышеназванные акты: молитвенные формулы, произносимые в церкви, мелодии, которые поются там, лампады, возжигание свечей – все это не просто слова и жесты, это – священнодействия, т. е. такие формулы и такие акты, которые при всем своем сходстве с обычными словами и движениями отличаются таинственной, мистической, сверхъестественной силой. Освященная вода ничем по виду не отличается от простой, но от нее бегут бесы, она излечит от дурного глаза, она поможет во всех болезнях.
Отсюда понятен упорный консерватизм русского православия, не позволяющий изменить ни одной буквы, ни одного движения в обряде. Спасительными оказывались именно эти формулы, а каковы будут новые – еще не известно.
Может быть, здесь бессознательно присутствует такое рассуждение. В храме поют «Христос воскресе!». Этот гимн, точь-в-точь теми же словами и в той же мелодии, поют сейчас по всем храмам, церквам и часовням России. Точь-в-точь так же пели его наши далекие предки; благочестивый царь Алексей Михайлович, Александр Невский с своей дружиной слушали и повторяли те же слова. Мало того, в темных римских катакомбах при свете масляных медных и глиняных светильников первые христиане пели ту же песнь. Но сама мелодия гимна, его музыка еще древнее; наша торжественная, победная песнь поется на мотив свадебных эллинских гимнов, которые пелись пред лицом древних божеств. Вся глубокая, седая старина звучит в этом гимне, и только наше невнимательное ухо мало чувствует это, мало слушает и, слушая, ничего не понимает. Перед священником в крестном ходе несут свечу в стеклянном фонаре. Это – остаток обычая нести факел перед епископом, пробиравшимся в темноте катакомб в подземный храм. Многие обряды и символы нашего богослужения ведут свое происхождение (по своей внешней оболочке, по своему телу) не только от христианской древности, но и прямо из Эллады, Финикии, Египта. И человеческому ли уму, который ограничен кругозором в несколько лет, который знает только вчерашний день, менять то, что тысячелетиями живило людей и воссоединяло их с миром божественным.
Впрочем, православный консерватизм не безусловен. Православное сознание охотно и даже с радостью принимает новое, но только, если в нем оно видит явную печать святыни. Новые, особенно действенные молитвы, новые (явленные) иконы, наконец, новые святые встречаются с живой радостью и без всяких колебаний, раз на новом явно почила благодать. В этой области православный народ даже слишком легковерен, легко поддаваясь обману, он часто принимает подделку за святыню.
Теперь мы оставим эти общие черты православия и перейдем к подробностям.
Православный одинаково считает христианином и себя, живущего семьей, и монаха, всего себя посвятившего Богу, но все же путь монаха он считает чем-то особенным и более спасительным, чем жизнь мирянина. Таким образом, живя в быте, православный ценит, как высший путь, назначенный для особых избранников, – монастырь. Как в глубокой древности, так и теперь неграмотный крестьянин получает пищу для своего религиозного чувства в богослужении и богомольях. Он посещает старцев, известных строгостью жизни, простаивает длинные монастырские службы, поклоняется мощам угодников, в трапезной слушает повествования о житии святых подвижников, и повествования эти вместе с рассказами о святых местах расходятся в виде устных рассказов по деревням и селам, укрепляя в народе идеалы аскетического подвига.
Это христианство монастырей и святых он отделяет от своего, так сказать, домашнего христианства, центр которого в местном приходском храме и священнике. Здесь прихожанин совсем нетребователен, он даже мало радеет о благолепии своего храма, и приходская жизнь у нас вообще не развита вовсе. Его не огорчает, что дьякон невразумительно читает и часто бывает нетрезв, а от священника он желает, главным образом, исправления треб. От «попа» никто не ожидает ни особенно благолепного служения, ни проповедей, ни устроения прихода, ни даже нравственного руководительства. Его дело – крестить, венчать, хоронить, служить молебны на полях, освящать куличи на Пасху и плоды на Спаса. Конечно, энергичный священник может понять свои обязанности шире и заняться просвещением своего прихода, воспитанием в прихожанах нравственных привычек, приняться за искоренение пьянства, улучшение семейных отношений, наконец, открыть кредитное товарищество или потребительную лавку, но все это будет принято, как нечто сверхдолжное, а настоящий православный, пожалуй, заподозрит здесь лютеранский дух и осудит такую деятельность.
Переходим теперь ко второй области православия, к быту. Недаром у крестьян сложилась поговорка – «без Бога – не до порога». Вне богослужения, вне храма православный окружен той же церковностью. Но в храме он по возможности забывает свое человеческое и живет исключительно божественным, а вне храма на первое место выступает человеческое, которое ищет у Бога благословения себе, все же оставаясь человеческим.
Прежде всего, православный ведет свою жизнь по церковному календарю и по святцам. С одной стороны, он свято блюдет праздники, точно знает их до самых незначительных, соблюдает все посты по монастырскому уставу, помнит, когда можно есть рыбу, а когда полагаются одни овощи. С другой стороны, к тем или иным дням крестьянин приурочивает определенные земледельческие и хозяйственные заботы. В зависимости от этого дни года получают особые названия, например: 24-го января – Аксинья-полузимница и полухлебница, т. е. прошло ползимы и съедено половина запасов; 1-ое апреля – пустые щи; 12-го апреля – Василий выверни оглобли, т. е. оставляй сани, снаряжай телегу; 23-го апреля – Егорий-скотопас (выгон скотины в поле); 5-го мая – Ирина-рассадница (рассадка капусты); 6-го – Иов-горошник; 23-го – Леонтий-огуречник и т. д. Таким образом, акты земледельческой и домашней жизни ставятся под покровительство святых. Но этого мало. Мы напрасно стали бы искать в жизни православного таких моментов, которые он не освящал бы или сложным обрядом, или хотя крестным знамением. Прежде всего, самые важные моменты его жизни – рождение, смерть, брак происходят пред лицом Бога и благословляются таинствами и богослужениями. Здесь, конечно, главную роль играет Церковь и священник; но не забыты и древние языческие обряды. Они тесно переплетаются с церковным обрядом и по сей день полностью совершаются во многих областях. Описание одного свадебного обряда какой-нибудь северной губернии занимает десятки страниц этнографических сочинений. До семнадцатого – восемнадцатого века эти обряды были особенно живы, и церковная власть тщетно боролась с ними.
«В мирских свадьбах, – говорит один пункт «Стоглава», – играют глумотворцы и арганники, и смехотворцы, и гусельники, и бесовские песни поют. И как к церкви венчаться поедут – священник с крестом едет, а перед ним со всеми теми играми бесовскими рыщут».
Менее важные случаи жизни тоже освящаются церковью, напр., новоселье, сев, жатва, именины, поминание усопших. Все подобные случаи православный ознаменовывает молебнами, с окроплением святой водой, крестными ходами на поле, приглашением к себе на дом особенно почитаемой иконы и т. д. Все это – особенные точки в жизни православного; но и будничные, каждодневные дела сопровождаются молитвой. Молитва предшествует принятию пищи, сну, всякой работе, «творению» хлеба. Там, где не читаются молитвы, творится хотя бы крестное знамение с поклоном.
Надо, конечно, признать, что часто, даже в большинстве случаев, молитва и крестное знамение совершаются механически; иначе сказать – сознание в это время не занято божественными вещами; но, вероятно, и такая механическая молитва возбуждает какие-то подсознательные движения в душе, которые в итоге создали тип православного крестьянина, каким мы видим его в глухих уездах северных губерний. Строгое подчинение церковным постам, обязательные посещения служб, молитва перед каждым делом пронизывают насквозь жизнь великоросса, скрепляют ее, делают ее, прежде всего, стройной и крепкой. Участник такой размеренной, крепкой жизни чувствует себя в ней на своем месте, не торопится, а сознание, что он делает дело, которое до него делали сотни поколений, делает его уверенным в себе, степенным и торжественным. Кроме того, постоянная молитва создает тишину в душе и особую мягкость, в соединении с глубокой серьезностью. Еда для православного – священное дело, он не ест, а вкушает; входит он в чужой дом, крестится перед иконами, и этот акт настраивает его глубоко-серьезно и по отношению к дому, в который он входит, и к людям, с которыми он сейчас будет говорить. Для большой наглядности представим себе с внешней стороны жизнь европейского интеллигента. Он ест наспех, относясь к еде грубо материалистически, читая одним глазом газету, торопясь к какому-нибудь делу. В чужой дом он входит, как в ресторан, в магазин, в клуб; едет в большое путешествие, трогается поезд, и в то время, как православный крестится, делается хоть на секунду сосредоточенно серьезным, европеец торопливо доедает пирожок, перехваченный в станционном буфете, и пробегает вечерний листок. Во всем этом прежде всего – отсутствие уважения к той же газете, к чтению, к еде, к людям, к каждому акту жизни, часто даже к семье и к своей работе. Вот отчего в то время, как среди крестьян «живущих по старине» есть много лиц, с которых можно прямо писать икону, так они строги, благообразны и «стильны», европейская физиономия поражает своей случайностью, безвыразительностью и неодухотворенностью.
Принято говорить, что у крестьян (мы говорим, главным образом, о крестьянстве, т. к. оно полнее всего сохранило в себе православие) нет никакой культуры. Предпосылкой такого утверждения является мысль, что существует только одна культура – европейская. Конечно, это неправда. Очень прочная, глубоко вросшая и сложная культура есть не только у крестьянина, но и у дикарей всех материков и частей света. В частности, свою культуру имеет и русский крестьянин. Мы упоминаем об этом здесь потому, что культура эта – религиозного характера и покрывается одним обозначением – православие. Это не будет злоупотреблением словом; православные сами употребляют это слово в таком смысле. С их точки зрения быть православным не значит отрицать filioque2 и чистилище и признавать причастие sub utraque3. «Он ест не по-православному», «не по-православному одевается» – это ходячие выражения. Православный православен не только в догматах и, может быть, менее всего в них, а в том, что он не ест прежде, чем не прослушает раннюю обедню, что в праздник он ест пироги, что, не перекрестя лба, он не сядет за стол, что по субботам он парится в бане, словом, живет в определенном быту, что он сын православной культуры.
Третья сфера, к которой религиозно относится православный, это – природа. Область эта тесно сливается с тем, что мы рассматривали выше под именем быта. Здесь мы будем иметь в виду отношение православного не только к природе в узком смысле, но и к земледелию, которое, будучи основой крестьянского быта, все же не меньше относится и к природе. Кроме того, в ту же категорию войдут те остатки природных языческих сил в виде леших, домовых и проч., с которыми православный крестьянин и доныне имеет дело.
Травы, птицы, деревья, насекомые, всякие животные, земля, – каждая стихия вызывает к себе у крестьянина непонятное сочувствие. Послушайте, как крестьянин разговаривает со скотиною, с деревом, с вещью, со всею природой: он ласкает, просит, умоляет, ругает, проклинает, беседует с нею, возмущается ею и порой ненавидит. Он живет с природой в тесном союзе, борется с нею и смиряется перед нею. Вся природа и все вещи – нечто живое и личное. Это – бесчисленные существа – лесовые, полевые, домовые, под овинники, сарайники, русалки, кикиморы и т. д. и т. д. – двойники вещей, мест и стихий. Они живут своей жизнью, требуют от человека пищи, вершат житейские дела, женятся, едят, пьют, спят, ссорятся, дерутся, плачут, умирают. Все вещи и события принимают особый вид. Нет просто еды, просто болезни, просто одежды, просто огня. Все – просто и не просто. Вот вихрь крутится вдоль по дороге, но это не просто ветер. Это – ведьма празднует с чёртом свою нечистую свадьбу. И в этом можно убедиться. Надо только бросить в этот вихрь нож, и нож упадет на землю окровавленным.
Что земля для православного – мать и святыня, это общее место. Но для того, чтобы показать, что это общее место имеет для крестьянина живой и реальный смысл, приведем иллюстрации. В Ярославской губернии есть такой обычай. Обычай этот соблюдается при «притыке», т. е. такой загадочной болезни, для которой крестьянин не находит объяснений; так, совершенно здравый человек, находясь в поле, на работе вдруг чувствует боль в какой-нибудь части тела; это знак, что он наказан матерью-землей за какую-нибудь вину. Чтобы выздороветь, надо просить у земли прощения. На том месте, где человек почувствовал боль, он должен сказать, повернувшись к востоку и кланяясь в землю: «Прости, мать сыра земля, в чем я тебе досадил» («Живая Старина», 1896 г., т. VI). Легко себе представить, какое священное и серьезное значение приобретает работа над землей.
Дары земли и, прежде всего, хлеб также священны. Хлеб – «дар Божий», он эмблема богатства и плодородия. Начиная новую ковригу, крестьянин произносит: «Господи, благослови!» Небрежное обращение с хлебом, катание из него шариков – великий грех. Наоборот, кто не брезгает никаким хлебом, а ест его и черствым и цвелым, тот не будет бояться грома, не потонет в воде, доживет до старости в достатке. Все работы по добыванию хлеба, очевидно, еще с глубокой древности обставлены религиозными обрядами. «Перед началом этих работ, а равно и после – перед покосом и жнитвою, совершается крестный ход на поля, причем церковные образа и хоругви бывают увиты свежей зеленью и цветами; священник благословляет нивы и кропит их святой водою. На Сретенье каждый хозяин освящает для себя восковую свечу; эту свечу он заботливо хранит в амбаре, а при посеве и зажинках выносит ее на поле». «На Благовещенье и в Чистый четверг поселяне освящают просвиры и потом привязывают их к сеялкам;
в некоторых же деревнях просвиры эти высушиваются, стираются в порошок и смешиваются с зернами, предназначенными для посева; в Черниговской губернии принято освящать в церквах самые семена». Жатва сопровождается тоже особыми обрядами. В некоторых местах Малороссии первый сноп зажинается священником. Мы не будем приводить здесь всех относящихся к земледелию обрядов, ограничившись приведенными, как типичными (они собраны между прочим в третьем томе «Поэт, воззр. славян на природу» Афанасьева).
Если мы, оставивши землю и земледельческий труд, обратимся к другим природным явлениям, то заметим следующую особенность: относясь религиозно ко всем явлениям природы, крестьянин ко многим из них относится не по-христиански. Так, нет ничего христианского в многочисленных остатках религиозных языческих празднеств, в плясках, играх, прыганьи через костры, завивании венков, чем обычно сопровождаются различные моменты в жизни природы. Для крестьянина стихийные духи, духи воды, леса, дома – личные живые существа. Светлые они силы, или темные? Во всяком случае, не светлые. Ни один православный не вздумает, обращаясь с молитвой к домовому, помянуть Бога или святого; когда в доме расшалятся духи (а это бывает весной, когда домовой меняет шкуру, или бесится, потому что хочет жениться на ведьме), крестьянин не обратится к попу – он пойдет к знахарю. Но эти силы не всегда и злые силы.
Тот же домовой обычно считается добрым духом дома; он подметает пол, кормит скотину, смотрит за домом, предупреждает крестьянина о несчастии, доставляет ему изобилие во всем и богатство. И не только домовой может помогать крестьянину. Вот, например, молитва крестьянки Смоленской губернии, обращенная ко всем стихийным силам: «Хозяин-батюш-ка домовой и хозяюшка-матушка домовая! хозяин-батюшка лесовой и хозяюшка-матушка лесовая! хозяин-батюшка водяной и хозяюшка-матушка водяная! хозяин-батюшка полевой и хозяюшка-матушка полевая! Простите меня грешную и недостойную (поклон на четыре стороны). Помогите, пособите от внутренних наносных и от нудных переговорных; дайте доброго здоровья!»
Но еще чаще бывает, что эти духи делают зло человеку, посылают на него болезнь, неурожай на его поле, падеж на его скотину. Это – нечисть, погань, нечистая сила и проч. И крестьянин, сознавая себя православным и сыном церкви, чувствует себя сильнее этих духов, редко он обратится к Церкви для избавления от них. Правда, иногда он ограждается молитвой, или кропит святой водой углы, но чаще идет к колдуну, знахарю, страшному человеку, рожденному женщиной от такого же природного духа, не бывающему у причастия, начинающему свои заговоры с многознаменательной формулы: «Стану я не благословясь, пойду не перекрестясь» и т. д. И не надо думать, что обращающийся к колдуну испытывает те же чувства, что западные Фаусты, продающие душу чёрту. Ничуть не бывало: баба, ходившая «снимать килу» к колдуну, не чувствует себя согрешившей; она с чистым сердцем будет после этого ставить свечи в церкви и поминать там своих покойников. В ее сознании Церковь и колдун просто разные департаменты, и Церковь, властная спасти ее душу, не может спасти ее от дурного глаза, а колдун, лечащий ее ребенка от криксы, не властен молиться за ее умершего мужа.
Мы должны здесь оговориться. Такая двойственность – самое заурядное и обычное явление; но надо сказать, что по местам, и даже очень часто, бывает и полная спутанность в этой области. Кроме того, что за лечением от беса, одержимости, кликушества, даже зубной боли обращаются к лицам «церковного чина» – от какого-нибудь старца, до приходской просвирни включительно, – кроме этого, существуют знахари и не такого темного характера, как мы описали выше. Сами заговоры часто имеют вид христианских молитв, читаются «во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа», а та формула, которую мы привели выше, читается и иначе, именно: «стану я благословясь, пойду перекрестясь» и пр. Встречаются даже деревни, где обязанности знахаря исполняет священник. Все же в отношении православного к природе есть элемент несвободы, страха, подчиненности, «суеверия» в смысле признания своей слабости перед стихийными духами.
Мы рассмотрели тот материал, церковный и бытовой, который составляет православие. Сделаем из него некоторые выводы.III
Выводы. Характер русского благочестия. Христос страдающий. Разделение Божьего и человеческого. Православный взгляд на милостыню. Иррационализм. Смирение. Интимность в отношениях к Богу, переходящая в фамильярность. Сектантство. Старообрядчество.
«Не прикасайся ко Мне», – сказал воскресший Христос Марии, а вместе с тем Фоме он дал коснуться ран своих.
В своих «Мыслях» Паскаль объясняет это видимое противоречие тем, что мы, христиане, должны иметь участие только в ранах и страданиях Христа. Если эти раны разуметь, как вообще скудость, истощание, «рабий зрак» Христа, то русский народ, в своей религиозности, живет со Христом страдающим, а не с воскресшим и преображенным. Это вовсе не значит, что русское православие живет какими-нибудь необычайными страданиями и подвигами; как раз наоборот. Ничто так не чуждо православию, как героические деяния и эффектные подвиги. Бог умалился для нас, сделался человеком и жил среди людей. «Он взошел, как отпрыск из сухой земли; нет в нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни» (Ис. LIII). Это – русский Христос, такой близкий к скудному русскому пейзажу, неприглядным, серым деревням, пьяной, больной, разоренной России. Это Христос – друг грешников, убогих, немощных, нищих духом.
«Православие, – писал Победоносцев, – это религия блудниц и мытарей, идущих в Царство Небесное вперед законников и фарисеев». Так понимали православие Лесков и Достоевский, а ведь глубже их никто не описывал сущности народной веры. Сила Божия в немощи совершается; если сам Бог явился в немощном виде, то как можем мы презирать немощное? Может быть, именно в немощном и обнаруживается благодать? Православный поэтому никогда не судит по наружности. Он не торопится осуждать и возмущаться, он даже чувствует какую-то внутреннюю симпатию к пьяным, нищим, оборванцам, неученым и просто дурачкам. Блеска, величия, силы он не ищет, даже наоборот, он особенно осторожен, когда видит силу и блеск, которые ему всегда кажутся чем-то «человеческим, слишком человеческим». Православие – полная противоположность языческому и современному европейскому взгляду (сильнее всего он выражен у Ницше), что ценность человека увеличивается с увеличением его внешних достоинств, что чем человек умнее, красивее, сильнее телом и волей, тем он божественнее. Православие делает гораздо более радикальную переоценку ценностей; оно не только сомневается в такой прямой пропорциональности между ценностью человека и его человеческими достоинствами, но склонно понимать эту пропорциональность, как обратную. Правда, эта склонность принадлежит не исключительно русскому православию; в главе о христианстве мы показали, что это – взгляд всей апостольской церкви, но в западных исповеданиях этот взгляд давно заменен оценками языческими и позитивными.
Эту оценку православие переносит и в область общественного дела. «Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущии» (Пс. CXXVI). Оно подозрительно относится к социальному и культурному процессу, и, в лучшем случае, ценит его, как дело очень относительное, вполне человеческое и имеющее мало общего с теми подлинно-божественными, таинственными процессами, которые совершаются в душах народов. Может быть, возможно достижение всеобщего равенства, упразднение бедности и голода, установление международного мира, но – «когда будут говорить: мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба» (I Фес. V, 3). А кроме того, может быть, для мира нужнее страдания и бедствия? может быть, достигнув благоденствия, человечество возгордится и забудет Бога? может быть, сытость усыпит совесть, а беспечальное житие и леность пробудят небывалые пороки? Поэтому-то православие не гонится за общественной деятельностью и не высоко ставит социальные мероприятия. Даже в сфере церковной деятельности (напр., миссия, церковное просвещение) православие проявляет не только неумелость, но и равнодушие. Очень точно формулировал этот взгляд преосвященный Евлогий, при наречении его во епископа люблинского. «Взять ли в руки меч, – говорит он, – вооружиться ли всеми средствами борьбы, к которым прибегают инославные учения, кичащиеся громадными количественными успехами своей пропаганды? Но слышится грозное слово пастыреначальника: взявшие меч мечем погибнут. Нет, не в этом сила истинного пастырства по духу Христову – не в стройности и крепости внешней организации деятелей, не в широте их проникновения во все общественные сферы, не в обилии материальных средств, даже не в препретильных человеческия мудрости словесех, – нет, мы, говорит св. апостол, не по плоти воинствуем; оружия бо воинства нашего не плотская, но сильна Богом; это – броня правды, щит веры, шлем спасения, меч духовный, иже есть глагол Божий и молитва» («Ц. Вед.», 1903 г., № 5).
В этой выдержке ясно выражены как пренебрежение человеческими способами борьбы, так и боязнь свою человеческую деятельность принять за божественное дело. Это не значит, что православие отрицает все человеческие дела, но оно пуще всего боится смешать дело Божье с земным. Это полная противоположность лютеранству, которое одинаково считает за дело церковное, а вернее – за человеческое, и служение в церкви, и проповедь, и церковную благотворительность. С православной точки зрения, благотворительность не отрицается; одеть нагого, накормить голодного, посетить больного – все это исконные русские добродетели, но смысл их исключительно в том, что все это – дела любви, дела милосердия, а не переустройство мира из «долины слез и плача» в рай земной. В то время, как общественная деятельность и церковная благотворительность на Западе имеет целью пересоздание условий жизни на более нормальные и поэтому принимает безличную, механическую форму (работные дома, искоренение нищенства, государственные пенсии старикам, страхование), православие, горячо сочувствуя страдающему миру, совсем не верит в возможность изменить их человеческими силами, а потому благотворительность в России носит личный характер помощи именно этому лицу, без посредников и исключительно из любви к нему, а не с расчетом, что этой помощью изменяются условия человеческой жизни.
Человеческий мир несоизмерим с божественным, малое в этом мире наречется великим в Царствии Небесном; пути Господни неисповедимы; человек не в силах понимать смысл всего исторического процесса, а отсюда два вывода: иррационализм и покорность. Здесь опять-таки полная противоположность католицизму и лютеранству. Там – вера в человеческий ум, стремление не только познавать, но и подчинять божественное законам разума, и это не только в лютеранстве, сущность которого – рационализм, но и в католичестве. В православии наоборот – вера в самые неразумные, нелепые вещи, вера, понимаемая, как отказ от разума, наконец, действительный отказ от разума в вопросах религиозных и поэтому легкое и свободное признавание таких противоречивых и недоступных разумному пониманию фактов, от которых рационалист впадает в судорги.
Но раз все делается не нашим умом, а Божьим судом, раз человек предполагает, а Бог располагает, и все, в конце концов – в руках Божьих, то религиозный долг человека смириться перед Богом, отказаться от своей человеческой воли и не перечить воле Божественной.
Это – первая обязанность христианина. Он смиренно должен делать дело, к которому приставлен, жить, как все, не высовываться, не гнаться за большими делами и как можно меньше рассуждать.
Если ты чиновник, военный, учитель – старайся хорошо делать свое дело, вовремя женись, люби жену и семью – это сфера твоей деятельности, в которой ты можешь развернуть все твои силы, но не воображай, что ты призван для великих дел, не тужься, не надсаживайся – и благо ти будет. Тип такой, истинно православной жизни дал своей биографией Достоевский. В частной жизни это был обыкновеннейший обыватель, житейски озабоченный – весь в тягостной власти буден, «изнывающий в напряжении усилий около мелочей жизни, покрытый пылью житейской прозы». (Об этом смотри статью Волжского во 2-м выпуске сборника «Вопросы религии».)
Какой далекой от Бога кажется такая жизнь! Неужели есть что-нибудь общее у этого прозябания с религиозной, – да и не только религиозной, а просто жизнью?
Предыдущее, я думаю, подготовило нас к утвердительному ответу на этот вопрос. Да, отвечает православный, Христос, который жил с грешниками и блудницами, ходит и среди нас, в нашей мещанской обстановке. Думается, из всех христианских исповеданий ни одно так живо не чувствует личного Христа, как православие. В протестантизме этот образ далек и не имеет личного характера, в католицизме он – вне мира и вне сердца человеческого. Католические святые видят его перед собою, как образец, которому они стремятся уподобиться до стигматов – гвоздинных ран, и только православный – не только святой, но и рядовой благочестивый мирянин – чувствует Его в себе, в своем сердце. Вспомним рассказ о. Кириака (у Лескова, «На краю света») о том, как ребенком, забившись под банный полок, он молил Бога, чтобы его не выдрали за шалость; и вдруг он почувствовал, что повеяло тихой прохладой, «и у сердца, как голубок тепленький», что-то зашевелилось. Это был Христос. «Всей вселенной он не в обхват, а, видя ребячью скорбь, под банный полочек к мальчику подполз и за пазушкой обитал».
Эта интимная близость с Богом не имеет ничего общего с западной экзальтацией и сентиментализмом; наоборот, эти отношения легко принимают у крестьянина оттенок добродушной фамильярности. Над этой фамильярностью подшучивает и сам крестьянин. «Батюшка Предтеча, будто бы молится баба, – я Павлова сноха, Иванова жена, помилуй меня!» «Одному мигнул, другому кивнул, а третий сам догадается», – говорят про небрежную молитву. С угодниками крестьянин живет запросто – ведь «Никола мужику воз подымает», он первый друг крестьянину – «проси Николу, а он Спасу скажет». Поэтому он не считает обидным для святых угодников давать им прозвища, не всегда почтительные, вроде Афанасий – Ломонос, Евдокия – Плющиха, Никола – Кочанный, Акулина – Задери хвосты, и т. п. Эта трезвость религиозного чувства исключает не только религиозный романтизм, но и ханжество; как ни много молится обычный православный, но он не выносит тех, кто «украл часослов, да: услыши, Господи, правду мою!» – не выносит лицемерия в религиозном деле.
Из этого краткого очерка православного благочестия, мы полагаем, видно, как в православии русское религиозное чутье счастливо избегло как Сциллы рационализма, куда его мог увлечь русский здравый смысл, так и Харибды безудержного мистицизма, к чему его тянуло то свойство русской натуры, которое Достоевский определил, как стремление преступать черты и заглядывать в бездны. Всё же эти свойства остались в русском характере, и ими объясняются многочисленные секты в православной Церкви, распадающиеся как раз на две главных группы сообразно двум вышеназванным особенностям русского характера.
Последователи сект первой категории, руководимые здравым смыслом, отвергают православную догматику и богослужение, как непонятные и противоречащие человеческому уму – типичным и наиболее выразительным представителем этого направления является Л. Толстой. Вторая группа сект обычно называется сектами мистическими. Главную из них – хлыстовство – мы рассмотрим в следующей главе.
Есть еще одно ответвление православия – старообрядчество. Первоначально это было православие в его самом чистом виде, но под влиянием своего «протестантского» состояния оно усвоило себе некоторые неправильные черты; в общем, оно все же наиболее близко к тому идеалу, который мы нарисовали в этой главе. Отторгнутое от господствующей церкви внешними силами, оно рано или поздно все равно отделилось бы от той части русского народа, которая стала усваивать себе европейскую цивилизацию, оставлять православный быт и изменять вере отцов. Старообрядчество выделилось из православия как раз в самый момент культурного перелома в русском обществе, в конце XVII-ro века, т. е. во время культурных новшеств в одежде и вообще быте и накануне эпохи Петра Великого. Разорив православный быт, реформа Петра нанесла сильный удар православию, лишив его, по крайней мере в городах и образованном классе, его тела – быта. Результаты второго исторического удара православию, революции – еще нельзя учесть. Во всяком случае революция усилила тот упадок и разложение православного быта, а значит – и православия, которое давно уже совершается капитализмом, городами и фабриками. Как ни медленно движется культурная (не политическая) история, все же православие близко к какому-то рубежу, где оно должно или совсем разложиться, или, изменившись, возродиться. Мы говорим «изменившись», потому что православие своим бытом тесно связано с жизнью, а жизнь меняется и ломает этот быт, ломая и православие. С другой стороны, православие крепко и внутренно связано даже с политической историей – через самодержавие. Вера в царское самодержавие, мистическое к нему отношение – это один из непременных элементов православия, и поэтому изменения в способах управления страной наносят православию новый удар. Третьей трещиной в православии надо считать все более и более открывающееся неустройство церкви, неканоничность ее, нарушение ею основных церковных же канонов. Открывается вопиющее противоречие между консерватизмом православия и его фактическим отступлением от консерватизма и притом в сторону разорения церковного устройства. Это противоречие уже сознано и готово стать движущей силой в православии.ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА И РОССИЯ
I
Посетивший Троице-Сергиеву Лавру в XVII веке, именно 11-го июня 1655 года, архидиакон антиохийского патриарха Павел Алеппский отзывается о ней с величайшим восхищением, как о прекраснейшем месте всей земли. Церковь же св. Троицы «так прекрасна», по его словам, «что не хочется уйти из нее». Нам нет нужды заподазривать искренность этого суждения: ведь Павел Алеппский писал не для печати, а исключительно для себя и для своих внуков, и лишь в наше время его впечатления стали общим достоянием. Неправильно было бы отнести это свидетельство и ссылкой на восточное красноречие писателя, ибо, если арабская фантазия его, а точнее сказать, огнистость восприятий, способна была видеть в окружающем более художественных впечатлений, чем притупленная и сыроватая впечатлительность северян, то одинаковой оценке подвергалось все виденное, и среди него Лавра оказывается на первом месте, – то очевидно она и была таковою. Это свидетельство Павла Алеппского невольно проверяет на себе всякий, кто прожил достаточно времени возле «Дома Пресвятыя Троицы», как выражаются наши летописцы. При туристском обходе Лавры беглому взору впервые развертывается не подавляющее количественно, но действительно изысканное богатство художественных впечатлений от нее. Есть, однако, и гораздо более тонкое очарование Лавры, которое охватывает изо дня в день, при вживании в этот замкнутый мир. И это очарование, теплое, как смутная память детства, уродняет душу Лавре, так что все другие места делаются отныне чужбиной, а это – истинною родиной, которая зовет к себе своих сынов, лишь только они оказываются где-нибудь на стороне. Да, самые богатые впечатления на стороне скоро делаются тоскливыми и пустыми, когда потянет в Дом Преподобного Сергия. Неотразимость этого очарования – в его глубокой органичности. Тут – не только эстетика, но и чувство истории, и ощущение народной души, и восприятие в целом русской государственности, и какая-то, труднообъяснимая, но непреклонная мысль: здесь, в Лавре именно, хотя и непонятно как, слагается то, что в высшем смысле должно назвать общественным мнением, здесь рождаются приговоры истории, здесь осуществляется всенародный и, вместе, абсолютный суд над всеми сторонами русской жизни. Это – то всестороннее, жизненное единство Лавры, как микрокосма и микроистории, как своего рода конспекта бытия нашей Родины, дает Лавре характер ноуменальности. Здесь ощутительнее, чем где-либо, бьется пульс русской истории, здесь собрание наиболее нервных, чувствующих и двигательных, окончаний, здесь Россия ощущается, как целое.
Подобно тому, как художественный портрет бесконечно более плотен, так сказать, нежели фотографический снимок, ибо сгущенно суммирует в себе многообразие различных впечатлений от лица, которые фотографической пластинкой улавливаются лишь случайно и разрозненно, так и Лавра есть художественный портрет России в ее целом, по сравнению с которым всякое другое место – не более как фотографическая карточка. В этом смысле можно сказать, что Лавра и есть осуществление или явление русской идеи, – энтелехия, скажем, с Аристотелем. Вот откуда это неизъяснимое притяжение к Лавре. Ведь только тут, у ноуменального центра России, живешь в столице русской культуры, тогда как все остальное – ее провинции и окраины. Только тут, повторяю, грудь имеет полное духовное дыхание, а желудок чувствует удовлетворенность правильно-соразмеренным и доброкачественным культурным питанием. Отходя от этой точки равновесия русской жизни, от этой точки взаимоопоры различных сил русской жизни, начинаешь терять равновесие, и гармоническому развитию личности начинает грозить специализация и техничность. Я почти подхожу к тому слову о местности, пронизанной духовной энергией Преподобного Сергия, к тому слову, которому пока еще все никак не удается найти себе выражения. Это слово – античность. Вжившийся в это сердце России, единственной законной наследницы Византии, а через посредство ее, но также – и непосредственно, – древней Эллады, вжившийся в это сердце, говорю, здесь, у Лавры, неутомимо пронизывается мыслью о перекликах, в самых сокровенных недрах культуры, того, что он видит перед собою, с эллинской античностью. Не о внешнем, а потому поверхностно-случайном подражании античности идет речь, даже не об исторических воздействиях, впрочем бесспорных и многочисленных, а о самом духе культуры, о том веянии музыки ее, которое уподобить можно сходству родового склада, включительно иногда до мельчайших своеобразностей и до интонации и тембра голоса, которое может быть у членов фамилии и при отсутствии поражающего глаз внешнего сходства. И если вся Русь, в метафизической форме своей, сродна эллинству, то духовный родоначальник Московской Руси воплотил в себе эту эллинскую гармонию совершенной, действительно совершенной, личности с такою степенью художественной проработки линий духовного характера Руси, что сам, в отношении к Лавре, или, точнее, всей культурной области, им насквозь пронизанной, есть, – возвращаюсь к прежнему сравнению, – портрет портрета, чистейшее выражение той духовной сущности, которая сквозит многообразно во всех сторонах Лавры как целого. Если Дом Преподобного Сергия есть лицо России, явленное мастерством высокого искусства, то основатель ее есть первообраз ее, этого образа России, первоявление России, скажем с Гёте, или, обращаясь к родной нашей терминологии, лик лица ее, ибо под «ликом» мы разумеем чистейшее явление духовной формы, освобожденное ото всех наслоений и временных оболочек, ото всякой шелухи, ото всего полуживого и застягшего чистые, проработанные линии ее. В церковном сознании, не том скудном сознании, которое запечатлено в богословских учебниках, а в соборном, через непрерывное соборование и непрерывное собирание живущем духовном самосознании народа, Дом Живоначальныя Троицы всегда сознавался и сознается сердцем России, а строитель этого Дома, Преподобный Сергий Радонежский, – «особым нашего Российского царствия хранителем и помощником», как сказали о нем цари Иоанн и Петр Алексеевичи в 1689 году, – особым покровителем, хранителем и вождем русского народа, – может бы точнее было сказать – Ангелом-Хранителем России. Не в сравнительных с другими святыми размерах исторического величия тут дело, а – в особой творческой связанности Преподобного Сергия с душою русского народа. Говоря о своем отце как об исключительном для меня человеке, я этим даже не ставлю вопроса о сравнительных его размерах с другими отцами, но, тем не менее, он – мой, он именно, и вникая в себя, я не могу не сосредоточиться исключительным образом именно на нем. Так, в стремлении познать и понять душу России, мы не можем не собрать своей мысли на этом Ангеле земли Русской – Сергие, а ведь народная, церковная мысль об ангелах-хранителях весьма близко подходит к философским понятиям: платоновской идее, аристотелевской форме, или скорее энтелехии, к позднейшему, хотя и искаженному, понятию идеала, как сверх-эмпирической, выше-земной сущности, которую подвигом художественного творчества всей жизни надлежит воплотить, делая тем из жизни – культуру. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру, а чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанного святым при жизни, «чюдного старца, святаго Сергия», как свидетельствуют о нем его современники.
II
Время Преподобного Сергия, то есть время возникновения Московской Руси, совпадает с одной из величайших культурных катастроф. Я разумею конец Византии, ибо Преподобный Сергий родился приблизительно за полтораста, а умер – приблизительно за шестьдесят лет до окончательного падения Константинополя. Но светильник перед угасанием возгорается ярче: так Византийское Средневековье перед падением дает особенно пышный расцвет, как бы предсмертно, с обостренной ясностью, сознавая и повторяя свою идею: XIV век ознаменован так называемым третьим Возрождением Византии при Палеологах. Все духовные силы царства Ромеев тут вновь пробуждаются – и в умозрении, и в поэзии, и в изобразительных искусствах. Древняя Русь возжигает пламя своей культуры непосредственно от священного огня Византии, из рук в руки принимая, как свое драгоценнейшее достояние, Прометеев огонь Эллады. В Преподобного Сергия, как в воспринимающее око, собираются в один фокус достижения греческого средневековья и культуры. Разошедшиеся в Византии, и там раздробившиеся, – что и повело к гибели культуры тут, – в полножизненном сердце юного народа они снова творчески и жизненно воссоединяются ослепительным явлением единой личности, и из нее, от Преподобного Сергия, многообразные струи культурной влаги текут, как из нового центра объединения, напаивая собой русский народ и получая в нем своеобразное воплощение.
Вглядываясь в русскую историю, в самую ткань русской культуры, мы не найдем ни одной нити, которая не приводила бы к этому первоузлу: нравственная идея, государственность, живопись, зодчество, литература, русская школа, русская наука – все эти линии русской культуры сходятся к Преподобному. В лице его русский народ сознал себя, свое культурно-историческое место, свою культурную задачу, и тогда только, сознав себя, – получил историческое право на самостоятельность. Куликово поле, вдохновленное и подготовленное у Троицы, еще за год до самой развязки, было пробуждением Руси как народа исторического: Преподобным Сергием incipit historia1. Однако, вглядимся, какова форма того объединения всех нитей и проблем культуры, которая была воспринята Преподобным от умирающей Византии. Ведь не мыслить же Преподобного полигистором или политехником, в себе одном совмещающим всю раздробленность расползающейся Византийской культуры. Конечно, нет. Он прикоснулся к наиболее огнистой вершине греческого Средневековья, в которой, как в точке, были собраны все ее огненные лепестки, и от нее возжег свой дух: этою вершиной была религиозно-метафизическая идея Византии, особенно ярко разгоревшаяся вновь во времена Преподобного. Я знаю: для не вникавших в культурно-исторический смысл религиозно-метафизических споров Византии за ними не видится ничего, кроме придворно-клерикальных интриг и богословского педантизма. Напротив, вдумавшемуся в догматические контроверзы рассматриваемого времени, бесспорна их неизмеримо важная, обще-культурная и философская подоснова, символически завершающаяся в догматических формулах. И споры об этих формулах были отнюдь не школьными словопрениями о бесполезных тонкостях отвлеченной мысли, но глубочайшим анализом самых условий существования культуры, неутомимой и непреклонной борьбой за единство и самое существование культуры, ибо так называемые ереси, рассматриваемые в культурно-историческом разрезе, были, по своей подоснове, попытками подрыть фундамент античной культуры и, нарушив ее целостность, тем ниспровергнуть сполна. Богословски все догматические споры, от первого века начиная и до наших дней, приводятся только к двум вопросам: к проблеме Троицы и к проблеме Воплощения. Эти две линии вопросов были отставанием абсолютности Божественной, с одной стороны, и абсолютной же духовной ценности мира – с другой. Христианство, требуя с равной силой и той и другой, исторически говоря, было разрушением преграды между только-монотеистическим, трансцендентным миру, иудейством и только-пантеистичным, имманентным миру, язычеством, как первоначал культуры. Между тем, самое понятие культуры предполагает и ценность воплощаемую, а следовательно – и сущую в себе, неслиянно с жизнью, и воплощаемость ее в жизни, так сказать пластичность жизни, тоже ценной в своем ожидании ценности, как глины, послушной перстам ваятеля:
…Сама в перстах слагалась глина
В обличья верные моих сынов… —
свидетельствует о творчестве, устами Прометея, глубинный исследователь художественного творчества. Итак, если нет абсолютной ценности, то нечего воплощать, и, следовательно, невозможно самое понятие культуры; если жизнь, как среда, насквозь чужда божественности, то она не способна принять в себя, воплотить в себе творческую форму, и, следовательно, – снова уничтожается понятие культуры. Нападения на это понятие были все время то с одной, то с другой стороны – то со стороны одностороннего язычества, то со стороны одностороннего иудейства, и защита культуры, в самых ее основах, всенародным соборным сознанием всегда была борьбой за оба, взаимо-необходимых начала культуры. Смотря по характеру нападений, и самая защита схематически чеканилась в лозунгах, имеющих, на вкус случайного обозревателя истории, узкий и схоластический характер догматических формул, но полных соками жизни и величайшей обще-культурной значимости, при рассмотрении их в контексте культуры. Два принципа культуры, – они же – предельные символы догматики, – взаимно-подкрепляемые и взаимо-разъясняемые, как основа и уток, сплетают ткань русской культуры. Притом, Киевская Русь, как время перво-образования народа, как сплетение самых тканей народности, раскрывается под знаком идей о божественной Восприимчивости мира, тогда как Руси Московской и Петербургской, как веку оформления народа в государство, маячит преимущественно другая идея – о воплощающемся, превышемирном Начале ценности. Женственная восприимчивость жизни в Киевской Руси находит себе догматический и художественный символ Софии-Премудрости, Художницы Небесной. Мужественное оформление жизни в Руси Московско-Петербургской выкристаллизовывается в догматический и художественный символ Пресвятой Троицы. Родоначальники двух основных пластов русской истории, – Киевского и Московского, вместе с тем, суть величайшие провозвестники этих двух основных идей русского духа.
III
Это они первыми узрели в иных мирах первообразы тех сущностей, которыми определяется дух русской культуры, – вовсе не богословской науки только, культуры не церковной только, ложно понимая это слово как синоним «клерикальный», но во всей ширине и глубине ее, церковной – в смысле всенародной, целостной русской культуры, во всех ее, как общих, так и частных, обнаружениях. Да, Равноапостольный Кирилл узрел в таинственном сновидении, в видении детского возраста, когда незапятнанная душа всецело определяется явленным ей первообразом горнего мира, узрел Софию, и, в его восприятии, Она – божественная восприимчивость мира – предстала как прекраснейшая Дева царственного вида. Избрав ее себе в невесты из сонма прочих дев, Равноапостольный Кирилл бережно и благоговейно пронес этот символ через всю свою жизнь, сохранив верным свое рыцарство Небесной Деве. Этот символ и сделался первой сущностью младенческой Руси, имевшей восприять от царственных щедрот Византийской культуры. Первый по времени русский иконографический сюжет – икона Софии, Премудрости Божией, этой царственной, окрыленной и огненно-ликой, пламенеющей Эросом к Небу, Девы – исходит от первого родоначальника русской культуры – Кирилла. Нужно думать, что и самая композиция Софийной иконы, исторически столь таинственной, – имею в виду древнейший, так называемый Новгородский, тип, – дана Кириллом же. Около этого небесного образа выкристаллизовываются Новгород и Киевская Русь. Не забудем, что самый язык нашей древнейшей письменности, как, вместе с ним, и наша древнейшая литература, пронизанная и формально и содержательно благороднейшим из языков – эллинским, был выкован, именно выкован, из мягкой массы языка некультурного – Кириллом, другом Софии, ибо прозвание его – Философ, и что около Софийного храма, около древнейших наших, Софийных, храмов обращается рыцарственный уклад Средневековой Киевской Руси. Но вот, за доверчивым приятием эллинства и за формированием извне женственной восприимчивости русского народа, приходит пора мужественного самосознания и духовного самоопределения, создание государственности, устойчивого быта, проявление всего своего активного творчества в искусстве и науке и развитие хозяйства и быта.
Новое видение горнего первообраза дается русскому народу в лице его второго родоначальника – Преподобного Сергия, и опять небесный зрак выкристаллизовывается в его душе с детского, на этот раз еще более раннего, а по сказанию жития – даже утробного возраста. Нам нет надобности опровергать или защищать сказание жития о том, как младенец Варфоломей приветствовал троекратно Пресвятую Троицу, ибо важно народное сознание, желающее этим сказать: «вот как глубоко определился дух Преподобного горним первообразом, еще в утробе материнской весь ему преданный и весь им проработанный». Этим первообразом была абсолютность Пресвятой Троицы, приблизительно в это время, во время Преподобного Сергия, предельно довыясненная и досказанная в так называемых паламитских спорах и в вопросах об «общей благодати Пресвятой Троицы» церковною мыслью Византии. Эти вопросы глубоко занимали и Преподобного Сергия – для осведомленности в них он посылал в Константинополь своего доверенного представителя. Выговорив это свое последнее слово, Византия завершила свою историческую задачу, и ей делать было больше нечего. В истории открылся новый век – век культурного воплощения этого слова, и культурная миссия переходила к новому народу, уже усвоившему добродетель восприимчивости, а потому и способность воплощать в себе горний первообраз. Византийская держава выродилась в «грекосов», а из русских болот возникло русское государство. Символом новой культурной задачи было видение Троицы.
IV
Нередко говорится, что деревянный храм Пресвятой Троицы, построенный Преподобным Сергием в Лавре и затем вновь возведенный из белого камня Преподобным Никоном, есть первая по времени в мире церковь во имя Пресвятой Троицы. Сейчас трудно отстаивать внешне-фактическую точность этого первенства: древние историки упоминают до четырех храмов во имя Пресвятой Троицы на Востоке и два – на Западе в IV–IX веках; но если бы эти свидетельства и были достоверными, то все же такое храмоздательство не вошло в обиход, и даже названные церкви не удержали долго своего имени, так что впоследствии Восток не имел Троицких храмов. В наших летописях уже в XII, XIII и XIII веках упоминаются храмы Троичные; так, в Кракове, в Лысце, несколько в Новгороде Великом, Холме, в Серпухове, в Паозерье и, главное, соборный в Пскове. Точно ли позднейшая редакция летописных известий соответствует древним записям, или же названные храмы, первоначально все деревянные и горевшие, были лишь впоследствии переименованы в Троицкие и названы в летописях, в более древних известиях, этим именем только ретроспективно, – сказать трудно. Но бесспорно, во-первых, существовавшее в древности переименование храмов (так, например, Лаврский Святого Духа был первоначально во имя Троицы), во-вторых, варианты в летописных известиях (например, Троицкий Краковский называется и Богородичным) и, наконец, в порядке раскрытия богословско-философского сознания, – сравнительно поздняя, в XIV веке лишь, установка симметричной Троичной формулы, каковая именно в XIV веке в Восточной Церкви делает идею Троицы предметом особенного внимания и ведет потому к строительству Троичных храмов, развитию Троичной иконографии, созданию цикла Троичных празднеств и новой литургической поэзии. Поэтому, весьма маловероятно построение храмов Троичных до этого роста Троичной идеи в XIV веке; но если бы несколько таких храмов и в самом деле было в века предшествующие, то они не могли быть сознательно воздвигнутыми символами идеи еще не оформившейся и, следовательно, должны быть рассматриваемы либо как исторические случайности, не входящие в планомерное течение истории, либо – как смутные предчувствия того целостного явления, которое раскрывается лишь с XIV века. Великое не возникает случайно и не бывает капризной вспышкой: оно есть слово, к которому сходятся бесчисленные нити, давно намечавшиеся в истории. Великое есть синтез того, что по частям фосфорически мерцало во всем народе; оно не было бы великим, если бы не разрешало собою творческое томление всего народа. Но тем не менее это оно именно творчески синтезирует смутные волнения, изливая их в одном слове. Таковым было слово Преподобного Сергия, выразившего самую суть исканий и стремлений русского народа, и это слово, хотя бы и произносимое ранее, сознательно и полновесно было, однако, произнесено впервые им. В этом смысле, неоспоримо мировое первенство Лаврского Собора Пресвятой Троицы. Начало западноевропейской самостоятельности в Петербургский период России опять ознаменовалось построением Троицкого собора. Этим установил Петр Великий духовную связанность Санкт-Петербурга и Москвы. Таким же построением было ознаменовано, в свое время, и начало самостоятельности России на Востоке. Чтитель Пресвятой Троицы, Преподобный Сергий строит Троичный храм, видя в нем призыв к единству земли русской во имя высшей реальности. Строит храм Пресвятой Троицы, «чтобы постоянным взиранием на него, – по выражению жизнеописателя Преподобного Сергия, – побеждать страх пред ненавистной раздельностью мира». Троица называется Живоначальной, т. е. началом, истоком и родником жизни, как единосущная и нераздельная, ибо единство в любви есть жизнь и начало жизни, вражда же, раздоры и разделения разрушают, губят и приводят к Смерти. Смертоносной раздельности противостоит живоначальное единство, осуществляемое духовным подвигом любви и взаимного понимания. По творческому замыслу основателя, Троичный храм, гениально им, можно сказать, открытый, есть прототип собирания Руси в духовном единстве, в братской любви. Он должен быть центром культурного объединения Руси, в котором находят себе точку опоры и высшее оправдание все стороны русской жизни. Широкое гостеприимство, заповеданное Преподобным Сергием и возведенное в силу закона царем Алексеем Михайловичем, дары всех родов, начиная от хлеба и кончая исцелением душ и тел, причем не забыты даже утешения детям – игрушки, самим Преподобным изготовляемые, все это вместе, по замыслу гениального открывателя Троичного культурного идеала России, должно было стать благоприятным условием для «взирания» на храм Пресвятой Троицы и созерцания в нем первообраза Божественного единства. Отныне Троичное храмоздательство связывается с именем Преподобного Сергия, и не без причины Троичные храмы имели обычно Сергиевские приделы.
Но если храм был посвящен Пресвятой Троице, то должна была стоять в нем и храмовая икона Пресвятой Троицы, выражающая духовную суть самого храма – так сказать, осуществленное в красках имя храма. Трудно при этом представить, чтобы ученик ученика Преподобного Сергия, так сказать, духовный внук его, почти ему современный, работавший уже при его жизни и, вероятно, лично знавший его, осмелился бы заменить композицию Троичной иконы, бывшую при Преподобном и им утвержденную, самочинной композицией того же первообраза. Миниатюры Епифаниева жития представляют икону Троицы в келии Преподобного Сергия не с самого начала, а лишь с середины жизни, т. е. свидетельствуют о возникновении ее именно среди деятельности Преподобного. Если первоявленная Софийная икона, неизвестная Византии, впервые создается в Киевской Руси, с самым ее возникновением, восходя к видению младенца Кирилла, рыцаря Софии, то икона Троичная, дотоле неизвестная миру, появляется впервые в Московский период Руси, опять-таки в самом его начале и художественно воплощает духовное созерцание служителя Пресвятой
Троицы – Сергия. Мы сказали «неизвестная миру», но и тут, как и в утверждении о Троицком Соборе, требуется различение духовного смысла, как символического содержания, и тех, исторически выработанных материалов, которые привлечены к воплощению символа. Если в отношении к знаменитой Рублевской Троице мы говорим о последних, то тогда, конечно, ее должно рассматривать лишь как звено в цепи развития изобразительных искусств вообще и композиции трех Странников-Ангелов – в частности. История этой композиции очень длинна, ибо уже в 314 году у дуба Мамврийского, по известию Юлия Африкана, была картина, изображавшая явление трех странников Аврааму, а в Y и VI веках известны подобные же изображения на стенах римской церкви Марии Маджиоре и равеннской св. Виталия. С тех пор этот иконографический сюжет встречается не раз, но нужно вникнуть в духовный смысл этих изображений, прежде чем устанавливать их связь с Троицей Рублева. Изображение женщины с ребенком на руках вовсе не есть первообраз Сикстины, ибо в Сикстине творческим мы признаем вовсе не сюжет материнства, каковой доступен всякому, а именно Бого-материнство, открывшееся Рафаелю. Так точно три фигуры за обеденным столом, хотя бы даже и снабженные крыльями, просто не могут быть даже сопоставляемы с Троицей Рублева, ибо этим сюжетом творческое названной иконы еще нисколько не определяется. Композиция трех странников с предстоящим Авраамом, или позже, без него, есть не более как эпизод из жития Авраама, хотя бы даже условно-аллегорически принято было усматривать в ней намек на Пресвятую Троицу. Нас умиляет, поражает и почти ожигает в произведении Рублева вовсе не сюжет, не число «три», не чаша за столом и не крила, а внезапно сдернутая пред нами завеса ноуменального мира, и нам в порядке эстетическом важно не то, какими средствами достиг иконописец этой обнаженности ноуменального и были ли в чьих-либо других руках те же краски и те же приемы, – а то, что он воистину передал нам узренное им откровение. Среди метущихся обстоятельств времени, среди раздоров, междуусобных распрей, всеобщего одичания и татарских набегов, среди этого глубокого безмирия, растлившего Русь, открылся духовному взору бесконечный, невозмутимый, нерушимый мир, «свышний мир» горнего мира. Вражде и ненависти, царящим в дольнем, противопоставилась взаимная любовь, струящаяся в вечном согласии, в вечной безмолвной беседе, в вечном единстве сфер горних. Вот этот-то неизъяснимый мир, струящийся широким потоком прямо в душу созерцающего от Троицы Рублева, эту ничему в мире не равную лазурь – более небесную, чем само земное небо, да, эту воистину пренебесную лазурь, несказанную мечту протосковавшего о ней Лермонтова, эту невыразимую грацию взаимных склонений, эту премирную тишину безглагольности, эту бесконечную друг пред другом покорность – мы считаем творческим содержанием Троицы. Человеческая культура, представленная палатами, мир жизни – деревом и земля – скалою, – все мало и ничтожно пред этим общением неиссякаемой бесконечной любви: все – лишь около нее и для нее, ибо она – своею голубизною, музыкою своей красоты, своим пребыванием выше пола, выше возраста, выше всех земных определений и разделений, есть само небо, есть сама безусловная реальность, есть то истинно лучшее, что выше всего сущего. Андрей Рублев воплотил столь же непостижимое, сколь и кристально-твердое и непоколебимо-верное видение мира. Но чтобы увидеть этот мир, чтобы вобрать в свою душу и в свою кисть это прохладное, живительное веяние духа, нужно было иметь художнику пред собою небесный первообраз, а вокруг себя – земное отображение, – быть в среде духовной, в среде умиренной. Андрей Рублев питался, как художник, тем, что дано ему было. И потому, не Преподобный Андрей Рублев, духовный внук Преподобного Сергия, а сам родоначальник земли Русской – Сергий Радонежский должен быть почитаем за истинного творца величайшего из произведений не только русской, но и, конечно, всемирной кисти. В иконе Троицы Андрей Рублев был не самостоятельным творцом, а лишь гениальным осуществителем творческого замысла и основной композиции, данных Преподобным Сергием. Это – второй символ русского духа; под знаком его развертывается дальнейшая русская история, и достойно внимания, хотя иного и ждать было нельзя, что величайший литургический сдвиг, в котором, своим чередом, выразились русская идея и своеобразные черты русского духа, опять-таки связываются с именем Преподобного Сергия.
Я говорю о Троичном дне как литургическом творчестве именно русской культуры и даже, определеннее, – творчестве Преподобного Сергия. Напомним, что Византия не знала этого праздника, как не знала она ни Троичных икон, ни Троичных храмов. Последнее слово Византии, в области догматической, стало неточным выходом первых творческих сил русской культуры. Праздник Пятидесятницы, бывший на месте нынешнего Троичного дня, был праздником исторического, а не открыто онтологического значения. С XIV века на Руси он выявляет свою онтологическую суть, делаясь праздником Пресвятой Троицы, причем третья молитва на вечерне, обращенная ко Христу, соединяется теперь с новой молитвой – к Духу Святому, впоследствии отмененной, согласно Византийскому образцу, реакционною и вообще антинациональною деятельностью патриарха Никона. Почитание же Духа Утешителя, Надежды Божественной, как духовного начала женственности, сплетается с циклом представлений Софийных и переносится на последующий за Троицей день – День Духа Святого, в каковой, по проникновенной догадке нашего народа, «Земля – именинница», т. е. празднует своего Ангела, свою духовную Сущность – Радость, Красоту, Вечную Женственность.
Праздник Троицы, нужно полагать, впервые появляется в качестве местного храмового праздника Троицкого Собора – как чествование «Троицы» Андрея Рублева. Подобно тому как служба Иерусалимского Храма Воскресения, в мире, по самому месту своего совершения, единственная, – делается образцом и образцом службы Воскресной, повсюдно совершаемой, и вводится затем в устав или подобно тому как празднество Воздвижения Креста Господня, опять-таки первоначально единственное, по самому предмету празднования, по единственности Животворящего Креста, уставно распространяется, в качестве образца (аналогичных примеров перехода единичного литургического явления в устав можно принести и еще немало), так точно местное празднование единственной иконы единственного храма, будучи духовною сущностью всего русского народа, бесчисленными отражениями воспроизводится в бесчисленных Троицких храмах, с бесчисленными иконами Троицы. Предмет, отраженный тысячью зеркал, среди тысячи своих отражений, все же остается основою реальности всех их и реальным их центром. Так первое воплощение духовного первообраза, определившего суть России – первообраза Пресвятой Троицы как культурной идеи, несмотря на дальнейшее размножение свое, все же остается историческим, художественным и метафизическим уником, не сравнимым ни с какими своими копиями и перекопиями. Прекраснейшее из зданий русской архитектуры, Собор Троицкий, «из которого не хочется уходить», – по вышеупомянутому признанию Павла Алеппского, – и прекраснейшее из изображений русской иконописи – Рублевская Троица, как и прекраснейшая из музыкальных воплощений, несущая великие возможности музыки будущего, служба вообще, и Троицына дня в частности, значительны, вовсе не только как красивое творчество, но своею глубочайшею художественною правдивостью, то есть полным тождеством, покрывающих друг друга, первообраза русского духа и творческого его воплощения.
V
Так вот почему именно здесь, в Лавре, мы чувствуем себя дома более, чем в своем собственном доме. Ведь она, и в самом деле, воплотила в себе священнейшие воздыхания наших собственных глубин, но с таким совершенством и полнотою, с какими мы сами никогда не сумели бы их воплотить. Лавра – это мы, более чем мы сами, это мы – в наиболее родных и наиболее сокровенных недрах нашего собственного бытия. Вот почему мы несли и несем сюда не только задушевнейший трепет нашего сердца, но и все наше творчество, во всем его объеме, все наши культурные достижения и ценности: мы чувствуем в них какую-то неполноту, покуда не соотнесли их с сердцем русской культуры. Около Лавры, не в смысле стен, конечно, а в смысле средоточия культурной жизни, выкристаллизовывается культурное строительство русского народа. Праздник Троицы делается точкой приложения творчества бытового и своеобразных поверий, народных песен и обрядов. Красота народного быта обрастает вокруг этого Троицына дня и частью, как, например, наши Троицкие березки, вливается в самое храмовое действо так, что нет определенной границы между строгим уставом церковным и зыблющимся народным обычаем. Русская иконопись нить своего предания ведет в иконописной Лаврской школе. Русская архитектура на протяжении всех веков делает сюда, в Лавру, лучшие свои вклады, так что Лавра – подлинный исторический Музей русской архитектуры. Русская книга, русская литература, вообще русское просвещение, основное свое питание получали всегда от просветительной деятельности, сгущавшейся в Лавре и около Лавры. Самые странствования Преподобного Сергия, а дальше бесчисленные поколения русских святых, бывших его именно духовными детьми, внуками, правнуками и так далее, до наших дней включительно, разносили с собой русское просвещение, русскую культуру, русскую хозяйственность, русскую государственность, а точнее сказать, русскую идею в ее целом, все стороны жизни нашей собою определяющую.
В древней записи о кончине Преподобного он назван «начальником и учителем всем монастырем, иже в Руси». И действительно, не менее четверти русских монастырей основано прямыми его учениками, колонизировавшими Северную и Северо-Восточную Россию, до пределов Пермских и Вологодских включительно. Но бесчисленны отраженные и тысячекратно преломленные лучи нашего Солнца! Что не озарено его светом?
Идея Пресвятой Троицы для Преподобного Сергия была в порядке общественного строительства, заповедью общежития. «Там не говорят: это мое, это – твое: оттуда изгнаны слова сии, служащие причиною бесчисленного множества распрей», – писал в свое время св. Иоанн Златоуст о современных ему общежительных монастырях. Общежительство знаменует всегда духовный подъем: таковым было начало христианства. Начало Киевской Руси также было ознаменовано введением общежития, центр какового возникает в Киево-Печерской Лавре вскоре после крещения Руси; и начало Руси Московской, опять-таки приобщившейся новому духовному созерцанию, отмечено введением в центре Руси Московской общежития, по совету и с благословения умирающей Византии. – Идея общежития как совместного жития в полной любви, единомыслии и экономическом единстве, назовется ли она по-гречески киновией или по-латыни– коммунизмом, всегда столь близкая русской душе и сияющая в ней как вожделеннейшая заповедь жизни, – была водружена и воплощена в Троице-Сергиевской Лавре Преподобным Сергием и распространялась отсюда, от Дома Троицы, как центра колонизации и территориальной, и хозяйственной, и художественной, и просветительной и, наконец, моральной. Из всех этих сторон культурного излучения Лавры следует остановиться сейчас в особенности на сравнительно мало учитываемом ее просветительном воздействии на Русь. Уже Преподобный Сергий требовал от братии, наряду с телесными трудами, в которых сам первенствовал, неустанного чтения, а для чтения необходимо было завести и мастерских переписчиков; так Сергиева Лавра, от самого основания своего, делается очагом обширной литературной деятельности, частичным памятником которой доныне живет в монастыре его драгоценное собрание рукописей, в значительной доле здесь же написанных и изукрашенных изящными миниатюрами, а живым продолжением той же деятельности было не прерывавшееся доныне огромное издательское дело Лавры, учесть культурную силу которого было бы даже затруднительно, по его значительности. А с другой стороны, Лавра всегда была и местом высших просветительных взаимо-соприкосновений русского общества; просветительные кружки, эти фокусы идейных возбуждений, все пять веков были связаны тесными узами с Лаврой, и все пять веков тут именно, у раки Преподобного, искали они духовной опоры и верховного одобрения своей деятельности. От кого именно? – Не от тех или иных насельников монастыря, входящих и входивших в состав Лавры как ее служители и охранители, а у всего народа русского, чрез Лавру говорящего, искали одобрения от Лавры как единого культурного целого, центр которого – в Троицком Соборе, а периферия – далеко с избытком покрывает границы России. Московская Духовная Академия, питомица Лавры, из Лаврского просветительного и ученого кружка Преподобного Максима Грека вышедшая и в своем пятисотлетием бытии, при всех своих скитаниях, неизменно блюдшая крепость уз с Домом Живоначальной Троицы, не без глубокого смысла, после четырехсотлетней своей истории, нашла себе наконец место успокоения в родном своем гнезде и вот уже более ста лет пребывает здесь, с рукописными и книжными своими сокровищами. Эта старейшая Высшая Школа России духовно была и должна быть, конечно, отнюдь не самостоятельным учреждением, а лишь одною из сторон в жизни Лавры. Так точно нельзя рассматривать обособленно и те кустарные промыслы, которые испокон веков сгрудились вкруг Лавры и во второй половине XIX века выкристаллизовали из себя более чистое свое выражение – художественно-кустарную мастерскую Абрамцева, в свой черед ставшую образцом художественно-кустарных мастерских прочих наших губерний. Кстати сказать, не без вдохновений от Лавры и не без ее организующей мощи возникло и жило самое Абрамцево, взрастившее новое русское искусство и столь много значившее в экономическом строе современной России: вспомним хотя бы Северную и Донецкую железные дороги. Но разве можно исчерпать все то, чем высказывала и высказывает себя культурная зиждительность, исходящая от Лавры? Рискуя или распространиться на целую книгу, или же – дать сухой перечень, не будем продолжать далее и на сказанном остановимся.
VI
Подвожу итоги. Лавра собою объединяет в жизненном единстве все стороны Русской жизни. Мы видим тут великолепный подбор икон всех веков и изводов; как же можно представить себе Лавру без школы иконописи и без иконописных мастерских? Лавра – показательный музей архитектуры; естественно организовать здесь школу архитектурную, а может быть, – и рассадник архитектурных проектов, своего рода строительную мастерскую на всю Россию. В Лавре сосредоточены превосходнейшие образцы шитья – этого своеобразного, пока почти неоцененного изобразительного искусства, достижения которого недоступны и лучшей живописи; как необходимо учредить здесь, на месте, Общество, которое изучало бы памятники этого искусства, издавало бы атласы фотографически увеличенных швов и воспроизведения памятников, которое распространяло бы искусство вышивки и устроило соответственную школу и мастерские. Превосходнейшие образцы дела ювелирного в Лавре наводят на мысль о необходимости устроить здесь учреждение, пекущееся об этом деле. Нужно ли говорить, как необходима здесь певческая школа, изучающая русскую народную музыку, с ее, по терминологии Адлера, «гетерофонией» или «народным многоголосием», – это зерно прорастающей музыки будущего, идущей на смену полифонии Средневековья и гомофонии Нового времени и их в себе примиряющей? Нужно ли напоминать об исключительно-благоприятном изучении здесь, в волнах народных, набегающих ото всех пределов России, задач этнографических и антропологических? Но довольно. Сейчас не исчислить всех культурных возможностей, столь естественных около Лавры, нельзя и предвидеть те новые дисциплины науки, сферы творчества и плоскости культуры, которые могут возникнуть и, наверное, возникнут с свершившимся переломом мировой истории – от уединенного рассудка ко всенародному разуму. Скажу короче: мне представляется в будущем Лавра русскими Афинами, живым музеем России; в котором кипит изучение и творчество и где, в мирном сотрудничестве и благожелательном соперничестве учреждений и лиц, совместно осуществляются те высокие предназначения – дать целостную культуру, воссоздать целостный дух античности, явить новую Элладу, – которые ждут творческого подвига от Русского народа. Не о монахах, обслуживающих Лавру и безусловно необходимых, как пятивековые стражи ее, единственные стильные стражи, не о них говорю я, а о всенародном творчестве, сгущающемся около Лавры и возжигающемся культурною ее насыщенностью. Средоточием же этой всероссийской Академии культуры мне представляется поставленное до конца, тщательно, с использованием всех достижений русского высоко-стильного искусства храмовое действо у священной гробницы Основоположника, Строителя и Ангела России.
ХРАМОВОЕ ДЕЙСТВО КАК СИНТЕЗ ИСКУССТВ [36]
Мне хотелось бы высказать перед вами несколько соображений общего характера. Однако мысли, оторванные от жизненного фонда, из которого они возникли, не понимаются правильно; пусть же предлагаемое так и остается мыслями «на случай», конкретно-теоретическими размышлениями ввиду едва ли не первого по степени важности живого музея русской культуры вообще и русского искусства в особенности. А с другой стороны, только на почве правильной установки общих принципов и, главное, – единомыслия в понимании основных линий общекультурной и специально-художественной работы возможно планомерное осуществление ставимых нам историческою действительностью задач. Практическая деятельность непременно должна идти рука об руку с теоретическим пришлифовыванием сотрудников одного дела и, более того, – с разработкою на месте, среди самой гущи работы, теоретических вопросов искусства; к тому же в занимающей нас своей части, именно в проблеме церковного искусства как высшего синтеза разнородных художественных деятельностей, теоретические вопросы искусства приходится признать почти еще не затронутыми. Если бы дозволительно было от ближайших задач простереться фантазией в область возможностей, хотя, впрочем, и не особенно далеких, то тут была бы развита перед вами мысль о необходимости создать систему целого ряда научных и учебных учреждений при Троице-Сергиевой Лавре как образцовом памятнике и явленной исторически попытке осуществить верховный синтез искусств, о котором столько мечтает новейшая эстетика.
Мне представляется Лавра как своего рода опытная станция и лаборатория для изучения существеннейших проблем современной эстетики, отчасти подобная, например, современным Афинам, так чтобы теоретическое обсуждение проблем церковного искусства происходило не отвлеченно от действительного осуществления этих задач искусства, но перед лицом эстетического феномена, теоретические рассуждения контролирующего и питающего. Из дальнейшего, может быть, станет ясно, что Музей, – доведу свою мысль до конца, – Музей, самостоятельно существующий, есть дело ложное и в сущности вредное для искусства, ибо предмет искусства хотя и называется вещью, однако отнюдь не есть вещь, не есть εργον, не есть неподвижная, стоячая, мертвая мумия художественной деятельности, но должен быть понимаем как никогда не иссякающая, вечно бьющая струя самого творчества, как живая, пульсирующая деятельность творца хотя и отодвинутая от него временем и пространством, но все еще неотделимая от него, все еще переливающая и играющая цветами жизни, всегда волнующаяся ενεργεια духа.
Художественное произведение живет и требует особливых условий своей жизни, в особенности – своего благоденствия, и вне их, отвлеченно от конкретных условий своего художественного бытия, – именно художественного, – взятое, оно умирает или по крайней мере переходит в состояние анабиоза, перестает восприниматься, а порою – и существовать как художественное. Между тем, задача Музея – есть именно отрыв художественного произведения, ложно понятого как некая вещь, которую можно унести или увезти куда угодно и поместить как угодно, – уничтожение (– беру эту задачу предельно —) художественного предмета как живого. Скажем образно: Музей законченную картину подменяет абрисом ее, хорошо еще – если не искаженным. Но что сказали бы мы об орнитологе, который вместо наблюдения птиц, по возможности в свойственных им условиях жизни, занялся исключительно коллекционированием красивых шкурок. Естествоиспытатели нашего времени ясно поняли существенную необходимость изучения природы, в по возможности конкретных естественных условиях, и самые музеи естествознания, по силе возможности, превращаются в зоологические и ботанические сады, но не с клетками, а с естественными, насколько таковые удается осуществить, условиями жизни: напомню о знаменитом зоологическом саде в Гамбурге. Но почему-то мысль о том же, бесконечно более веская при изучении духовных деятельностей человека, чрезвычайно мало усвоена в соответственных дисциплинах. Несколько музейных тряпок или бубен шамана суть именно тряпки и бубен, и при изучении шаманизма столь же мало имеют цены, как шпора Наполеона в военной истории новейшего времени. Чем выше человеческая деятельность, чем определеннее выступает в ней момент ценности, тем более выдвигается функциональный метод постижения и изучения и тем бесплоднее делается доморощенное коллекционирование раритетов и монстров: – мысли столь же бесспорные, сколь и мало памятуемые, когда требуется их применение. Сознаю, что затрудняю ваше внимание этими слишком простыми истинами, но я вынужден к тому весьма нередко встречающимся неумением или нежеланием считаться с ними, тем элементарным художественно-археологическим хищничеством, тою rabies museica1, которые готовы, кажется, вырезать кусочек картины, лишь бы иметь возможность поместить его именно в определенный дом, по определенной улице, именуемой Музеем; поистине, lucus а поп lucendo2: но Муз не засадить в воланы. Во имя интересов культуры должно протестовать против попыток оторвать несколько лучей от солнца творчества и, наклеив на них ярлык, поместить под стеклянный колпак. Этот протест, следует надеяться, не останется без отклика, – если не сейчас, то в будущем, – ибо музейное дело явно направляется в сторону конкретизации, насыщения жизнью и полноты жизненной совокупности вкруг предметов искусства. Среди страниц П. П. Муратова нахожу несколько, которые готов включить в кодекс музейно-эстетического законодательства. «Может быть, вовсе не в свете музеев следует искать источников подлинного энтузиазма перед античным, – пишет автор «Образов Италии». – Кто решится утверждать, что действительно почувствовал Грецию в четырех стенах Лондонского хранилища и удержал в душе ее образ, выйдя на вечно мокрый Странд или спустившись к по-северному мечтательным дымчатым и романтическим рощам Хайд Парка. Гений места в Лондоне явно чужд гению мест, где увидели впервые свет мраморы Парфенона и Деметра Книдская, и не ближе ли к воздуху, каким питали свою невидимую жизнь эти существа античного мира, тот воздух, которым дышит всякий из нас на обширном дворе, пусть не имеющего таких первоклассных вещей, Римского музея Терм… Посетитель, рассматривающий здесь античные рельефы, может услышать иногда падение созревшей груши или стук в окно колеблемого ветром лапчато-лиственного фигового дерева. У старых кипарисов посреди двора играет фонтан, плющ обвивает жертвенных белых быков. Установленные тут во множестве обломки и саркофаги залиты солнцем, делающим их травертин голубым и прозрачным, их мрамор теплым и живым. За прекрасное бытие этих вещей можно отдать совершенство хранимого бережно в глухой комнате шедевра. Лепестки осыпавшейся розы, которые удержались на складках платья женщины, изваянной неизвестно кем и когда, украшают ее еще более, чем все суждения ценителей и споры ученых. В этих лепестках, в этих скользящих по мрамору тенях листьев и ветвей и снующих среди обломков ящерицах есть как бы связь античного с нашим миром, которая одна дает сердцу узнать его и поверить в его жизнь». Тот же автор говорит далее о превосходной мысли устроителей Национального музея вынести под открытое небо и на солнечный свет часть хранимых в нем античных коллекций. «Для античной скульптуры музей более гибелен, чем картинная галерея для живописи Возрождения… Скульптура нуждается в свете и тени, в пространстве неба и тональном контрасте зелени, может быть, даже в пятнах дождя и в движении протекающей около жизни. Для этого искусства музей всегда будет тюрьмой или кладбищем». «Глубокое волнение, – говорит Муратов, – охватывает путешественника в тихом углу форума у источника Ютурны, из которого Диоскуры поили своих лошадей». Но, – спросим себя, – много ли цены было бы у камней этого самого источника, увезенных в Берлинский музей и разложенных на полках вдоль хотя бы отлично просушенных стен?
Не жизненный ли фон этих камней, не функциональное ли их созерцание волнует и возвышает душу? Самое страшное для меня в деятельности нашей Комиссии и всех подобных комиссий и обществ, в какой бы стране они ни работали, – это возможность погрешить против жизни, соскользнув на упрощенный, на легчайший путь умерщвляющего и обездушивающего коллекционирования. А разве не так бывает, когда эстет или археолог рассматривает проявление жизни некоторого организма, функционально единого целого, как самодовлеющие, вырезанные из жизненного духа вещи, вне их функционального отношения к целому.
В описи Лаврской ризницы мы уже встречаем опыты такого умерщвления. Так, говоря о знаменитом потире из рудо-желтого мрамора, пожертвованном великим князем Василием Васильевичем Темным, составитель описи делает пометку: «А мрамору столько-то фунтов, по стольку-то, всего на 3 рубля 50 копеек». Не будем обманывать себя наивной откровенностью этой пометки: nomine mutato de te fabula narratur3. Хотя и в осложненно-утонченном виде, а формула: «мрамора на 3 рубля 50 копеек», можно сказать, канонична для сторонников отвлеченного коллекционирования вещей, вне совокупности известных жизненных условий не имеющих или почти не имеющих смысла. «Можно только мечтать, – скажем с П. П. Муратовым, – что когда-нибудь все найденные на форуме и Палатине рельефы и статуи вернутся сюда из музеев Рима и Неаполя. Когда-нибудь поймут, что для античного лучше честное умирание от времени и от руки природы, чем летаргический сон в музее». – Децентрализация музеев, вынесение музея в жизнь и внесение жизни в музей, музей-жизнь для народа, воспитывающий каждодневно струящиеся около него массы, а не собирание редкостей только для гурманов искусства, – всестороннее жизненное усвоение человеческого творчества, и притом всенародное, а не для замкнутых кучек нескольких специалистов, в художественном целом часто понимающих менее специалистов, – вот лозунги музейной реформы, которые должны быть противоположены тому худшему в культуре прошлого, что воистину заслуживает эпитет «буржуазность».
Но вернемся к теоретическому обсуждению.
В одном из своих докладов К). А. Олсуфьев определяет стиль как результат накопления однородных художественных восприятий (я бы добавил: творческих, наших реакций) определенной эпохи, и «потому, – говорит он, – в согласии стиля и содержания лежит залог истинной художественности, подлинности искусства данного времени». Таким образом, жизненность искусства зависит от степени объединенное™ впечатлений и способов их выражений. Истинное искусство есть единство содержания и способов выражения этого содержания, но эти способы выражения легко понять упрощенно, вырезывая из полносодержательной функции воплощения какую-нибудь одну грань. Тогда сторона, одна только сторона, органического единства принимается за нечто самодовлеющее, существующее уединенно от прочих граней воплощения, хотя на самом деле она есть фикция, вне целого не имеющая реальности, подобно тому как не есть эстетическая реальность краска, соскобленная с картины, или совместно звучащие звуки всей симфонии. И если эстет, на основании этого своего опрощенского недочувствия, попытается разрезать нити или, точнее, кровеносные артерии, связующие усмотренную сторону художественного произведения с другими, им, эстетом, не замеченными, то он разрушает единство содержания и способов их выражения, уничтожает стиль предмета искусства или искажает его, а, исказив или уничтожив стиль, обесстилив произведение, тем самым лишает его подлинной художественности. Художественное произведение, повторяем, художественно – не иначе как в полноте необходимых для существования его условий, в расчете на которые и в которых оно было порождено. Устранение части этих условий, отвод или подмен некоторых из них, лишает художественное произведение его игры и жизни, искажает его и даже делает антихудожественным. Черты инородных стилей, внесенные в произведение определенного стиля, – часто бывают отвратительны, если только не произведено нового творческого синтеза. Афродита в фижмах так же была бы невыносима, как маркиза XVII века на аэроплане. Но если в этой примитивной форме целостность художественного произведения общепризнана, то далеко не так же ясна всем общеобязательность и широта высказанного здесь предусловия художественности. Конечно, всякий знает, что для эстетического феномена картины или статуи нужен свет, для музыки – тишина, для архитектуры – пространство, но уже не с такой степенью ясности памятует всякий, что эти общие условия, кроме того, должны иметь и некоторые качественные определенности и что, в таких своих определенностях, они – вовсе не сверхдолжная заслуга, не милость к ним их созерцателя, но конститутивно входят в самый организм художественного произведения и, предусмотренные творцом его, образуют его продолжение, хотя лежащее и за пределами того, что, ради краткости и упрощая дело, мы называем собственно художественным произведением. Картина, например, должна быть освещена некоторым определенным светом, рассеянным, белым, достаточной силы, однородным, а не цветным, не пятнами и т. д., и вне этого требуемого освещения она как предмет искусства, т. е. как эстетический феномен, не живет. Осветить картину красным светом, если она написана для освещения белым, – это значит убить эстетический феномен как таковой, ибо рама, холст и краски – вовсе не произведение искусства. Подобно сему, поместить архитектурное произведение в пространстве туманном или слушать музыкальное произведение в зале с плохой акустикой – это опять значит исказить или уничтожить эстетический феномен. Но и более того: есть условия восприятия художественных произведений, так сказать, отрицательного характера; нельзя, например, слушать симфонию или смотреть картину в помещении, наполненном невыносимо зловонными газами, и эти отрицательные условия, раз не соблюденные в некоторой определенной их качественности, вклиниваются в стиль произведения, разрушают единство формы и содержания и тем уничтожают произведение как таковое. Как положительно, так и отрицательно художественное произведение есть центр целого пучка условий, при которых оно только и возможно как художественное, и вне своих конститутивных условий оно как художественное просто не существует. Для станковой живописи мы подбираем раму и фон, для статуи – драпировку, для здания – окружающую его совокупность цветовых пятен и воздушных пространств, для музыки – общий характер одновременных с нею впечатлений. Чем сложнее условия жизни данного произведения, тем легче исказить его стиль, тем легче сделать ложный шаг, незаметно уводящий с плоскости подлинной художественности и ведущий к бесстилию.
Это общее положение в особенности относится к искусству церковному. Эстетика недавнего прошлого считала себя вправе свысока смотреть на русскую икону; в настоящее время глаза эстетов раскрылись на эту сторону церковного искусства. Но этот первый шаг, к сожалению, – пока еще только первый, и нередко эстетическое недомыслие и недочувствие, по которому икона воспринимается как самостоятельная вещь, находящаяся обычно в храме, случайно помещенная в храме, но с успехом могущая быть перенесенной в аудиторию, в музей, в салон или еще уж не знаю куда. Я позволил себе назвать недомыслием этот отрыв одной из сторон церковного искусства от целостного организма храмового действа как синтеза искусств, как той художественной среды, в которой, и только в которой, икона имеет свой подлинный художественный смысл и может созерцаться в своей подлинной художественности. Даже самый легкий анализ любой из сторон церковного искусства покажет связанность этой стороны с другими, – я лично убежден, – со всеми, – но нам сейчас достаточно отметить хотя бы некоторые, почти наудачу взятые, взаимно-обусловленности сторон церковного искусства.
Возьмем, напр., ту же икону. Конечно, далеко не безразличен способ, каким она освещена, и, конечно, для художественного бытия иконы освещение ее должно быть именно то самое, в виду которого она написана. Это освещение в данном случае – отнюдь не есть рассеянный свет художественного ателье или музейной залы, но неровный и неравномерный, колышущийся, отчасти, может быть, мигающий свет лампады. Рассчитанная на игру трепетного, волнуемого каждым ветерком пламени, заранее учитывающая эффекты цветных рефлексов от пучков света, проходящего через цветное, порою граненое, стекло, икона может созерцаться как таковая только при этом струении, только при этом волнении света, дробящегося, неровного, как бы пульсирующего, богатого теплыми призматическими лучами, – света, который всеми воспринимается как живой, как греющий душу, как испускающий теплое благоухание. Писанная приблизительно при тех же условиях, в келье полутемной, с узким окном, при смешанном искусственном освещении, икона оживает только в соответственных условиях и, напротив того, мертвеет и искажается в условиях, которые могли бы, отвлеченно и вообще говоря, показаться наиболее благоприятными для произведения кисти, – я говорю о равномерном, спокойном, холодном и сильном освещении музея. И многие особенности икон, которые дразнят пресыщенный взгляд современности: преувеличенность некоторых пропорций, подчеркнутость линий, обилие золота и самоцветов, басма и венчики, подвески, парчовые, бархатные и шитые жемчугом и камнями пелены, – все это, в свойственных иконе условиях, живет вовсе не как пикантная экзотичность, а как необходимый, безусловно неустранимый, единственный способ выразить духовное содержание иконы, т. е. как единство стиля и содержания, или, иначе, – как подлинная художественность. Золото, – варварское, тяжелое, бессодержательное при дневном рассеянном свете, – волнующимся пламенем лампады или свечки оживляется, ибо искрится мириадами всплесков то там, то здесь, давая предчувствие иных, неземных светов, наполняющих горнее пространство. Золото – условный атрибут мира горнего, нечто надуманное и аллегорическое в музее – есть живой символ, есть изобразительность в храме с теплящимися лампадами и множеством зажженных свечей. Точно так же примитивизм иконы, ее порой яркий, почти невыносимо яркий колорит, ее насыщенность, ее подчеркнутость есть тончайший расчет на эффекты церковного освещения. Тут, во храме, вся эта преувеличенность, смягчаясь, дает силу, недостижимую обычным изобразительным приемам, и в лице святых мы усматриваем тогда, при этом церковном освещении, лики, т. е. горние облики, живые явления иного мира, первоявления, иЬфЬапошепа, – сказали бы мы вслед за Гете. В храме мы стоим лицом к лицу перед платоновским миром идей, в музее же мы видим не иконы, а лишь шаржи на них.
Но пойдем теперь далее и от искусства огня, необходимо входящего в синтез храмового действа, перейдем к искусству д ы – м а, без которого опять-таки не существует этого синтеза. Нужно ли доказывать, что тончайшая голубая завеса фимиама, растворенного в воздухе, вносит в созерцание икон и росписей такое смягчение и углубление воздушной перспективы, о которой не может мечтать и которого не знает музей. Нужно ли напоминать, что этой атмосферою, непрестанно движущейся, атмосферою материализованною, атмосферою, видимой взору, и притом как некая тончайшая зернистость, в росписи и иконы привносятся совершенно новые достижения искусства воздуха, которые, однако, новы только для светского отвлеченного, уединенного искусства, но, будучи вовсе не новыми в искусстве церковном, заранее учтены его творцами и, следовательно, без которых их произведения не могут не искажаться.
Никто не станет спорить, что электрический свет убивает краску и нарушает равновесие цветовых масс; если я скажу, что нельзя рассматривать икону в богатом синими и фиолетовыми лучами электрическом свете, то едва ли кто станет спорить со мною. Всякий знает, что электрический свет как ожог уничтожает и психическую восприимчивость. Это пример отрицательного условия художественности церковного искусства. Но если есть условия отрицательные, то есть, тем более, и положительные, совокупностью своею определяющие не только храмовое действие, как нечто целое, но и каждую сторону его, как органически соподчиненную всем прочим. Стиль требует известной полноты круга условий, некоторой замкнутости художественного целого, как особого мира, и вторжение в него элементов иного характера ведет к искажению как целого, так и отдельных частей, в целом имевших свой центр и начало равновесия. В храме, говоря принципиально, все сплетается со всем: храмовая архитектура, например, учитывает даже такой малый, по-видимому, эффект, как вьющиеся по фрескам и обвивающие столпы купола ленты голубоватого фимиама, которые своим движением и сплетением почти беспредельно расширяют архитектурные пространства храма, смягчают сухость и жесткость линий и, как бы расплавляя их, приводят в движение и жизнь. Но мы говорим доселе только о небольшой части храмового действа и, притом, – сравнительно очень однообразной. Вспомним о пластике и ритме движений священнослужащих, например при каждении, об игре и переливах складок драгоценных тканей, о благовониях, об особых огненных провеиваниях атмосферы, ионизированной тысячами горящих огней, вспомним далее, что синтез храмового действа не ограничивается только сферой изобразительных искусств, но вовлекает в свой круг искусство вокальное и поэзию, – поэзию всех видов, сам являясь в плоскости эстетики – музыкальною драмой. Тут все подчинено единой цели, верховному эффекту кафарсиса этой музыкальной драмы, и потому всё, соподчиненное тут друг другу, не существует или по крайней мере ложно существует взятое порознь. Поэтому, оставляя в стороне мистику и метафизику культа и обращаясь исключительно в автономной плоскости искусства как такового, я все же изумляюсь, когда мне приходится слышать речи об охране такого памятника высокого искусства, как Лавра, с ограничением внимания на какой-нибудь одной стороне и с антикультурным и антихудожественным равнодушием с другой.
Если бы любитель вокальной музыки стал указывать мне, что в церковных напевах, так тесно связанных с античностью, мы имеем высокое искусство, может быть, и даже, вероятно, высшее вокальное искусство, сравнимое в области инструментальной разве только с Бахом; если бы во имя этой культурной ценности он стал бы требовать охраны певческой стороны богослужения, в частности ссылаясь на хранимые Лаврским преданием местные особенные распевы, то я, разумеется, пожал бы ему руку. Но мне трудно было бы при этом удержаться от горечи в упреке: «Неужели же вам все равно, что разрушаются своды высоких архитектурных достижений, что осыпаются фрески и перемазываются или расхищаются иконы?» Подобно сему, любителю пения и вместе ценителю изобразительных искусств я не мог бы не противопоставить своей заботы
об охране памятников древней поэзии церковной, доселе сохранившей особенности древнего распевного способа чтения, древнего скандирования, и об охране рукописей былых веков, полных исторического значения, осуществивших в совершенстве композицию книги как целого. А всем им, ценителям искусства вместе, я не мог бы не напомнить о входящих в состав храмового действа более вспомогательных, но, однако, весьма существенных в организации этого действа как художественного целого искусствах, забытых или полузабытых современностью: об искусстве огня, об искусстве запаха, об искусстве дыма, об искусстве одежды и т. д., исключительно до единственных в мире Троицких просфор с неведомым секретом их печения и до своеобразной хореографии, проступающей в размеренности церковных движений при входах и выходах церковнослужителей, в схождениях и восхождениях ликов, в обхождении кругом престола и храма и в церковных процессиях. Вкусивший чар античности хорошо знает, до какой степени это все антично и живет как наследие и единственная прямая отрасль древнего мира, в частности – священной трагедии Эллады. Даже такие подробности, как специфические прикосновения к различным поверхностям, к священным вещам различного материала, к умащенным и пропитанным елеем, благовониями и фимиамом иконам, притом прикосновения чувствительнейшей из частей нашего тела, губами, – входят в состав целого действа как особое искусство, как особые художественные сферы, например как искусство осязания, как искусство обоняния и т. п., и, устраняя их, мы лишились бы полноты и завершенности художественного целого. Я не буду говорить об оккультном моменте, свойственном всякому художественному произведению вообще, а храмовому действу по преимуществу: это завело бы нас в область слишком сложную; не могу говорить я здесь и о символике, необходимо присущей всякому искусству, в особенности искусству органических культур. С нас достаточно и внешнего, поверхностного можно сказать, учета стиля как единства всех средств выражения, чтобы говорить о Лавре как о целостном художественно-историческом и единственном в своем роде мировом памятнике, требующем бесконечного внимания и бесконечной бережности к себе. Лавра, в порядке культурном и художественном рассматриваемая, должна, как единое целое, быть сплошным «музеем», не лишаясь ни одной капли драгоценной влаги культуры, здесь так стильно, в самом разностилии эпох, собиравшейся в течение московского и петербургского периодов нашей истории. Как памятник и центр высокой культуры Лавра бесконечно нужна России, и притом в ее целости, с ее бытом, с ее своеобразною, отошедшею уже давно в область далекого прошлого жизнью. Весь своеобразный уклад этой исчезнувшей жизни, этого острова XIV–XVII веков, должен быть государственно оберегаем, по крайней мере с не меньшею тщательностью, чем в Беловежской Пуще сберегались последние зубры. Если бы в пределах государства оказалось, хотя и чуждое нам по культуре и стоящее вне нашей истории учреждение, подобное Лавре, магометан или ламаитов, то могло ли бы государство поколебаться в мысли о поддержке и охране такого учреждения. Во сколько же раз более внимательным должно быть государство к этому зародышу и центру нашей истории, нашей культуры, научной и художественной? При этом я считаю весьма непроникновенным и эстетически недочувствованным замыслом передать пользование Лаврой из рук монахов в руки приходских общин. Кто вникал в несоизмеримость и качественное различие быта, психологии и, наконец, богослужебной манеры иноков, хотя бы и плохих, и – людей, вне монастыря живущих, хотя бы и весьма добродетельных, тот не может не согласиться со мной, что было бы великим бесстилием предоставить служение в Лавре белому духовенству. Даже красочно, в смысле цветовых пятен в церквах или на площадях Лавры, замена черных фигур с их своеобразною монашескою посадкой какими-либо другими, иного стиля, или вовсе бесстильными сразу разрушила бы целостность художественного впечатления от Лавры и сделала бы ее из памятника жизни и творчества мертвым складом более или менее случайных вещей. Я понял бы фанатическое требование разрушить Лавру, так, чтобы не осталось камня на камне, – во имя религии социализма; но я решительно отказываюсь понять культуртрегерство, в силу случайного преобладания в наше время специалистов именно по изобразительному искусству, а не по каким-либо иным – культуртрегерство, ревностно защищающее икону, стенописи и самые стены и равнодушное к другим, нисколько не менее драгоценным достижениям древнего искусства, главное же – не считающееся с высшей задачей искусств – их предельным синтезом, так удачно и своеобразно разрешенною в храмовом действе Троице-Сергиевой Лавры и с такою неуемною жаждою искомою покойным Скрябиным.
Не к искусствам, а к Искусству, вглубь до самого средоточия Искусства, как первоединой деятельности, стремится наше время. И от него не сокрыто, где – не только текст, но и все художественное воплощение «Предварительного действа».
ПРИМЕЧАНИЯ
ЭМПИРЕЯ И ЭМПИРИЯ
Беседа «Эмпирея и Эмпирия» написана Флоренским в июне 1904 г. При жизни автора не была издана.
1 после совершившегося (лат.).
2 Молча кричишь? (лат.)
3 Что есть истина? (лат.)
4 здесь букв. – змея прячется в траве (лат.)\', предупреждение о скрытой опасности.
5 обо всем, что можно знать, да и еще кое о чем (лат.).
6 смертельный исход (лат.).
7 «Тот, кто вне области чистой математики произносит слово „невозможно“ поступает неосмотрительно» (франц.).
8 Все это прекрасно; почти то же говорит и пастор, только немножко другими словами (нем.) (Гете Вольфганг. Трагедия / Пер. в прозе Петра Вейнберга. СПб., 1904. С. 125). В стихотворном переводе Б. Л. Пастернака:
Почти что в этих выраженьях
Так и священник говорит,
Все это так. Но я в сомненьях.
(Гете И. В. Фауст. М., 1983. С. 129).
9 другими словами (нем.).,
10 когда слушаешь такие речи, выходит, как будто и правда; однако тут все-таки фальшь: ведь ты совсем не христианин! (нем.) (Гёте В. Трагедия. С. 125). В переводе Б. JL Пастернака:
Ты прав как будто поначалу,
А присмотреться – свет Христов
Тебя затронул очень мало.
(Гёте И. В. Фауст. С. 130).
11 Катехизис – начальное учение о христианской вере.
12 Будете как Бог (лат.). Ср.: «…но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло» (Быт 3, 5).
13 приведение к нелепости (лат.).
14 естественно (лат.).
15 истинно (лат.).
16 говорится для того, чтобы рассказать, а не доказать (лат.).
17 заранее (лат.).
18 Соглашаюсь и завершаю (лат.).
19 полностью (лат.).
20 частные откровения (лат.).
21 исе есть Тело мое… сие есть Кровь моя (греч.).
22 полностью (франц.).
23 «Мифология – не аллегорична, она тавтегорична. Боги для нее – действительно существующие существа, которые вовсе не что-то иное, которые не значат ничего иного, но значат лишь то, что они есть» (Шеллинг Ф.В.И. Соч. в двух томах. М., 1987–1989. Т. 2. С. 325).
24 знамение (греч. и лат.).
ВОПРОСЫ РЕЛИГИОЗНОГО САМОПОЗНАНИЯ
Работа опубликована в 1907 г.
ДОГМАТИЗМ И ДОГМАТИКА
Работа представляет собой реферат, подготовленный для обсуждения на заседании философского кружка МДА.
Прочитана была на заседании 20-го янв. 1906 г.
1 противоречие в определении (лат.).
2 в скрытом виде (лат.).
3 Одобрено и пользуется дарованными королем привилегиями (франц.).
4 «палочного» довода (лат.), убеждения силой; в переносном смысле – осязаемого доказательства.
5 по преимуществу (греч.).
6 вероятностная (от лат. probabilitas – вероятность).
7 Флоренский использует это понятие в бэконовском смысле, возвращающем ему первоначальное значение греческого термина «призрак», «тень умершего», «видение».
8 Здесь: аргументы, апеллирующие к человеческим качествам; к человечности (лат.).
9 Здесь: аргументы, апеллирующие к свойствам Бога (лат.).
ПРАВОСЛАВИЕ
Впервые опубликовано в кн.: [Ельчанинов А. В.] История религии. М., 1909. С. 161–188 – в качестве главы, написанной «в сотрудничестве» с Ельчаниновым.
1 Аз — название буквы «а» в древнерусской кириллице. Исправление богослужебных книг во времена патриарха Никона (середина XVII в.) привело к изъятию союза «а» из второго члена Символа Веры («сотворенна, а не рождена»).
2 и от Сына (лат.). Речь идет о догматических разногласиях по вопросу об исхождении Святого Духа, возникших между православными и католиками. В православном Символе Веры, которым стал Символ, принятый на 1-м (Никейском) и 2-м (Константинопольском) Вселенских соборах, говорится об исхождении Святого Духа от Отца (8-й член никео-царьградского Символа Веры). Римско-католическая церковь придерживается добавления к Символу Веры, принятого на Толедском соборе в 589 г. Согласно этому добавлению, Святой Дух исходит от Отца и сына.
3 Таинство причащения (лат.).ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА И РОССИЯ
Статья «Троице-Сергиева Лавра и Россия» была написана Флоренским в первый же месяц деятельности Комиссии как своеобразный идейный манифест и доложена 26 ноября 1918 г. на 5-м заседании Комиссии.
1 начинается история (лат.).
ХРАМОВОЕ ДЕЙСТВО КАК СИНТЕЗ ИСКУССТВ
Первая статья, написанная Флоренским во время работы в Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры.
1 музейное бешенство (лат.).
2 Светлая (роща), потому что темно в ней (лат.). Традиционный пример нелепой причинно-следственной связи.
3 имя путать с вымыслом рассказчика (лат.).
Примечания
1
A Erdan [Epsend var. Jacob, Alexandre Andrii.] La France Mystique. [(Tableau des excentricites religieuses de ce temps… 2-e ed. rev, par. l’aut. et augm. d’une nouv. pref. Par Charles Potvin. Amsterdam. Miejek, 1858).] Т. 1, p. 42.
2
Ввиду того, что г-н А., цитируя Паскаля на память, несколько изменяет подлинные выражения и тем очень изменяет смысл цитаты, мы позволим себе воспроизвести ее полностью. Вот как говорит Паскаль («Мысли», гл. XXIII): «„Чудо, – говорят иные, – подкрепило бы мою уверенность“. Говорят это – не видя чуда. Если основания слишком далеки от вас, то это, по-видимому, ограничивает наше зрение, но стоит подойти к ним ближе, и мы начинаем видеть еще дальше. Ничто не может остановить подвижности нашего ума. Нет правила, говорят, без исключения, нет истины столь всеобщей, чтобы с какой-нибудь стороны она не оказалась неполной. А достаточно того, что она не абсолютно всеобща, – и мы имеем уже повод подводить под исключение – настоящий именно случай и говорить: „Это не всегда истинно; значит, есть случаи, где оно не истинно “. После этого остается только показать, что данный случай и есть именно такой; и разве только очень неловкий или очень неудачливый не найдет средств сделать такой вывод“». Заметим, что тон всего разговора делает несомненным, что изменение смысла цитаты есть следствие несколько односторонней памяти г-на А., но ни в каком случае не недобросовестности.
3
В подлиннике все это место есть «Гимн любви», написанный стихами; русский перевод соответственным размером и указания на ритмичность см. у Муретова («Новозаветная песнь любви…») в «Богословском вестнике» (1903, № 11 и № 12).
4
Эти выдержки и письмо заимствованы мною из книжки М. А. Новоселова «Забытый путь [опытного Богопознания». Изд. 2-е, Вышний Волочек. 1902], с. 41 и след. – [с. 42, 43, 44, 45].
5
Заимствую эти сведения из статьи И. Левицкого «Эфес или Иерусалим?» («Христианское Чтение», 1900, т. ССХ, ч. 2, с. 580–619).
6
Выражение, слышанное мною от одного старообрядческого начетчика Костромской губ.; он употребил его в смысле существенно, substantialiter.
7
См. статью П. Флоренского «О суеверии» в № 8 «Нового Пути» за 1903 г. Первоначальное заглавие было: «О суеверии и чуде». Статья довольно сильно переделана в редакции: платоновско-соловьевский характер излагаемой там теории знания В. Я. Брюсовым, не понявшим дела, был превращен в кантовский. Написана в 1902 г.
8
Луг духовный. Творение блаженного Иоанна Мосха. Пер. с греч. священника М. И. Хитрова. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1896 (далее – Луг духовный). Гл. 25, с. 30–31.
9
Луг духовный, гл. 27, с. 36.
10
Луг духовный, гл. 150, с. 179–180.
11
Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцев. Пер. с греч. Изд. 4. М, 1871, с. 93–96. Об авве Данииле, 7.
12
Жизнь пустынных отцев. Творение пресвитера Руфина. Пер. с лат. священника М. И. Хитрова. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1898. Гл. 29, с. 105.
13
Луг духовный, гл. 199, с. 246–247.
14
Луг духовный, гл. 29, с. 38–39.
15
Собрание словес и деяний преподобных отец скитских, яже обретаются в патерице по алфавиту. Лист 165 и др.
16
Луг духовный, гл. 79, с. 99—100.
17
Луг духовный, гл. 30, с. 40.
18
«Толкование на Божественную литургию по чину св. Иоанна Златоустого и св. Василия Великого» протоиерея В. Нечаева. М., 1884, с. 42. Цитирую по примечанию к «Лугу духовному», с. 243.
19
Луг духовный, гл. 196, с. 241–243.
20
Выражение Достоевского.
21
Достоевский [Ф. М.] Братья Карамазовы. [Полное собрание сочинений,] т. XII. [СПб., 1895], с. 757.
22
Не останавливаемся на ней, так как для этой цели пришлось бы входить в теорию символов, а это требует особого сочинения.
23
Замечательный и ни с чем несравнимый пример нового мифотворения представляет «поэзия» Андрея Белого, носящая в себе совершенно явный отпечаток мифа.
24
Слово, употребляемое Ф. Шеллингом. Оно образовано в параллель «аллегорически» из шита ayopsusiv говорить то же самое; аллегорически – иносказательно, тавтегорически – буквально23.
25
Для пояснения необходимо упомянуть, что священник Н. Б. принципиально против наставлений во время исповеди и вообще против всякого «совопросничества», потому что видит в себе во время совершения таинства исключительно лишь свидетеля и не считает удобным примешивать к благодатному воздействию своих, чисто-человеческих разговоров и соображений.
26
Относительно последнего пункта Н. Б. несколько колебался, назвать ли это второе я девушки ее Ангелом Хранителем или же ее очищенным духовным центром. Это понятно ввиду тесной связи обоих понятий.
27
Это просил подчеркнуть сам рассказчик Н. Б.
28
По просьбе Н. Б. опускаем ее.
29
Программная речь, читанная 20-го января 1906 года на заседании философского кружка при МДА.
30
Этот пункт будет выяснен в статье о догмате Троичности («Вопросы Религии», № 2).
31
Успенского Собора в Троицко-Сергиевской Лавре.
32
М. Гюйо. Мои вчерашние стихи, пер. Ив. Ив. Тхоржевского.
33
Н. М. Минский. Религия будущего (Философские разговоры). СПб., 1905, стр. 150–151.
34
Подробнее говорить об этом было бы неуместно в настоящем беглом очерке. По словам Философа и Мученика, св. Иустина, крещение делает нас, «чад необходимости и неведения», «чадами свободы и знания» (Apol. I, с. 61). Однако и свободу и знание свое мы должны после крещения еще завоевать долгим подвигом, так как имеем их не в акте, а в потенции. И тогда только, достигнув свободы и знания, поистине мы получим право писать на своих соборах: «Ведомому Богу».
35
Опытная догматика была бы в полном соответствии со всею современною наукою, тоже стремящеюся строиться на опытном, непосредственно-данном основании.
36
Настоящая заметка есть доклад в Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры. Она затрагивает, по поводу совершенно конкретного случая, вопросы большой сложности и большой важности. Автор оставляет ее в ее первоначальном и эскизном виде доклада; так беглость обсуждений имеет свое оправдание. При иной же форме изложения потребовался бы, конечно, обширный трактат.





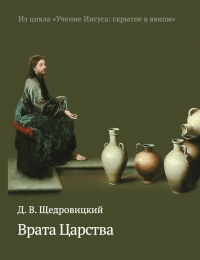

Комментарии к книге «Вопросы религиозного самопознания», Павел Александрович Флоренский
Всего 0 комментариев