Виктор Франкл Воля к смыслу
Переводчик Л. Сумм
Редактор К. Чистопольская
Руководитель проекта И. Серёгина
Корректоры М. Миловидова, С. Чупахина
Компьютерная верстка А. Фоминов
Дизайнер обложки Ю. Буга
Фото на обложке EastNews
© Viktor E. Frankl, 1969, 1988 This edition published by arrangement with Plume, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC.
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2018
Все права защищены. Произведение предназначено исключительно для частного использования. Никакая часть электронного экземпляра данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для публичного или коллективного использования без письменного разрешения владельца авторских прав. За нарушение авторских прав законодательством предусмотрена выплата компенсации правообладателя в размере до 5 млн. рублей (ст. 49 ЗОАП), а также уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет (ст. 146 УК РФ).
* * *
Памяти Гордона Олпорта
Предисловие
Эта книга сложилась из лекций, которые я читал в летнюю сессию 1966 года в Школе богословия имени Перкинса при Южном методистском университете в Далласе, штат Техас. Передо мной стояла конкретная задача разъяснить систему, на которую опирается логотерапия. Хотя многими авторами неоднократно указывалось, что логотерапия, в отличие от других школ экзистенциальной психиатрии, создает собственно психотерапевтическую технику, редко замечают, что она также последняя из психотерапевтических школ, систематизировавших свою концепцию{1}.
Обращаясь к основаниям системы, главы этой книги определяют те фундаментальные предпосылки и аксиомы, на которых стоит логотерапия. Это цепочка взаимосвязанных представлений, поскольку логотерапия основывается на трех концептах: 1) свобода воли; 2) воля к смыслу; 3) смысл жизни. 1) «Свобода воли» подразумевает противопоставление детерминизма и пандетерминизма. 2) «Воля к смыслу» обсуждается как понятие, принципиально отличающееся от воли к власти и от воли к удовольствию, действующих в психологии Адлера и Юнга соответственно. Вообще-то термин «воля к власти» создан Ницше, а не Адлером, а термин «воля к удовольствию», вместо «принципа удовольствия» по Фрейду, придуман мной самим, Фрейд такое выражение не употреблял. Более того, принцип удовольствия следует рассматривать в рамках более всеобъемлющего понятия, принципа гомеостаза{2}. Критически разбирая обе эти концепции, мы вынуждены будем подробнее разобраться с мотивационной теорией логотерапии. 3) «Смысл жизни» включает противопоставление релятивизма и субъективизма.
Применения логотерапии, которые обсуждаются в этой книге, также имеют три направления. Прежде всего, логотерапия применяется в лечении ноогенных неврозов; во-вторых, логотерапия лечит психогенные неврозы, то есть неврозы в традиционном значении термина; и, в-третьих, логотерапия применяется в лечении соматогенных неврозов и соматогенных заболеваний в целом. Как мы убедимся, все три измерения человеческого бытия отражены в этой последовательности тем.
В вводной главе этой книги логотерапия определяется по отношению к другим школам психотерапии и специально по отношению к экзистенциализму в сфере психотерапии. Последняя глава предлагает диалог логотерапии и богословия.
Я постарался учесть в этой книге последние достижения логотерапии – и в том, что касается формулировок каждой аксиомы, и в том, что касается иллюстративного материала. Однако стремление создать законченную картину цельной системы вынуждает меня включать также материал из предыдущих книг{3}. То, что я называю экзистенциальным вакуумом, стало основным вызовом для современной психиатрии. Все больше пациентов жалуется на чувство пустоты и бессмыслицы, которое, как мне кажется, проистекает из двух источников: в отличие от зверя, человек не обладает инстинктом, подсказывающим, что ему надо делать, и, в отличие от людей прошлого, он больше не обладает традицией, указывающей, что следует делать. Зачастую человек даже не знает, чего он на самом деле хочет: он хочет либо делать то, что «все делают» (конформизм), либо делает то, чего хотят от него другие (тоталитаризм).
Надеюсь, я сумею передать читателю свое убеждение, что даже после распада традиций жизнь сохраняет смысл для каждого человека и, более того, смысл сохраняется буквально вплоть до последнего его вздоха. Психиатр может показать пациенту, что смысл жизни никогда не утрачивается. Разумеется, он не может указать пациенту, в чем состоит смысл, но может показать ему, что смысл существует и что жизнь его сохраняет, то есть остается значимой при любых условиях. Как учит логотерапия, даже трагические и негативные аспекты жизни, в том числе неизбежное страдание, могут обратиться в достижение благодаря той позиции, которую человек займет по отношению к своему несчастью. В противоположность большинству направлений экзистенциальной мысли логотерапия ни в малейшей мере не пессимистична, однако она реалистична, то есть смотрит в лицо «трагической» триаде человеческого существования: боли, смерти и вине. Логотерапию можно по справедливости назвать даже оптимистической, потому что она показывает пациенту, как претворить отчаяние в триумф.
В наш век, когда традиции иссякли, психиатрия должна видеть главную свою задачу в том, чтобы оснастить человека способностью находить смысл. В эпоху, когда десять заповедей в глазах очень многих людей утратили непререкаемость, человеку пора научиться прислушиваться к десяти тысячам заповедей, скрытых в десяти тысячах ситуаций, из которых состоит его жизнь. Вот почему я надеюсь, что читатель признает: психотерапия обращена к потребностям часа сего.
Виктор ФранклВена, АвстрияВведение Ситуация психотерапии и позиция логотерапии
Нынешняя ситуация в психотерапии характеризуется подъемом экзистенциальной психиатрии. Фактически можно говорить о прививке экзистенциализма к психиатрии как о важнейшей современной тенденции. Но, говоря об экзистенциализме, мы должны учитывать, что экзистенциализмов существует примерно столько же, сколько экзистенциалистов. Мало того что каждый экзистенциалист формирует собственную версию этой философии, каждый вдобавок использует терминологию по-своему, не так, как другие. Например, такие термины, как «экзистенция» и Dasein, несколько по-разному понимаются в творчестве Ясперса и Хайдеггера.
Тем не менее у всех авторов в поле экзистенциальной психиатрии есть нечто общее – общий знаменатель. Это выражение, которое данные авторы столь часто употребляют – и которым, увы, нередко злоупотребляют: «бытие в мире». Кажется, многие из них считают: чтобы называться истинным экзистенциалистом, достаточно время от времени произносить фразу «бытие в мире». Лично я сомневаюсь, что это дает полное право именовать себя экзистенциалистом, особенно учитывая, что (это нетрудно продемонстрировать) хайдеггеровская концепция бытия в мире в большинстве случаев перетолковывается в пользу чистой воды субъективизма, так, словно «мир», где «находится» человек, сам по себе есть всего лишь самовыражение этого человека. Я отваживаюсь критиковать столь широко распространенное заблуждение только потому, что однажды имел возможность обсудить это в личном разговоре с Мартином Хайдеггером и убедился, что в этом он со мной согласен.
Недопонимание в сфере экзистенциализма можно легко понять. Терминология тут порой эзотерическая, и это еще мягко сказано. Примерно тридцать лет назад я должен был выступать в Вене с публичной лекцией о психиатрии и экзистенциализме. Я привел два примера и сообщил слушателям, что один взят из текста Хайдеггера, а другой – из разговора с пациентом-шизофреником, который лечился в государственной больнице Вены в ту пору, когда я там работал. И я предложил аудитории проголосовать, где чьи слова. Хотите верьте, хотите нет, подавляющее большинство приписало отрывок из Хайдеггера больному шизофренией – и наоборот. Результаты этого эксперимента не должны, конечно, подводить нас к поспешным выводам. Ни в коем случае эта путаница не умаляет величия Хайдеггера, и для нас он остается такой же безусловной величиной, как для многих специалистов. Скорее этот результат указывает, как мало повседневный язык готов выражать неведомые доселе чувства и мысли, будь то революционные идеи великого философа или странные ощущения больного шизофренией. Общее для всех – кризис средств выражения, и я в другом месте уже доказывал, что нечто похожее происходит и с современным художником (см. мою книгу «Психотерапия и экзистенциализм. Избранные работы по логотерапии. Psychotherapy and Existentialism, Selected Papers on Logotherapy, Washington Square Press, New York, 1967, глава «Психотерапия, искусство и религия»).
Что же касается метода, который я назвал логотерапией и о котором идет речь в этой книге, большинство авторов согласны отнести его в рубрику экзистенциальной психологии. Еще в 30-е годы я придумал выражение «экзистенциальный анализ» (Existenzanalyse) как альтернативное для термина «логотерапия», созданного мною в 20-е. Позднее, когда американские специалисты начали публиковать работы в сфере логотерапии, они использовали выражение existential analysis, переведя Existenzanalyse на английский. К сожалению, другие авторы поступили точно так же со словом Daseinsanalyse – этот термин в 40-е годы великий швейцарский психиатр Людвиг Бинсвангер предпочел для обозначения собственного учения. С этого момента английское выражение existential analysis стало не слишком-то однозначным. Чтобы не усиливать путаницу, порожденную таким состоянием дел, я все более избегал использовать в работах на английском языке выражение «экзистенциальный анализ». Зачастую я использовал термин «логотерапия» даже в контекстах, где, строго говоря, не было речи о терапии как таковой. Например, то, что я называю медицинским служением, представляет собой важный аспект в практике логотерапии, но показано это служение именно в ситуации, когда собственно терапия уже невозможна, поскольку пациент болен неизлечимо. Да, логотерапия и тут остается лечением в самом широком смысле слова – мы лечим позицию пациента по отношению к неизбежной судьбе.
Логотерапию не только помещали в категорию экзистенциальной психиатрии, но также внутри этой категории прославляли как единственную школу, сумевшую развить то, что можно по праву именовать техникой. Однако из этого не следует, что мы, логотерапевты, преувеличиваем значение техники. Давным-давно стало ясно, что в терапии важнее всего не техника, а человеческие отношения между врачом и пациентом, личная и экзистенциальная встреча.
Чисто технологический подход к психотерапии может помешать терапевтическому эффекту. Некоторое время назад меня пригласили прочесть в американском университете лекцию перед группой психиатров, работавших с людьми, которых пришлось эвакуировать во время урагана. Я не только принял приглашение, но и назвал эту лекцию «Техника и динамика выживания», что вполне устраивало спонсоров. Но в самом начале выступления я честно предупредил всех, что, до тех пор пока мы будем формулировать свою задачу лишь в понятиях техники и динамики, мы будем упускать из виду главное – сердца тех, кому попытаемся предложить первую психиатрическую помощь. Подступаясь к людям исключительно «технически», мы уже пытаемся ими манипулировать, а подступаясь к людям исключительно «динамически», мы их объективируем, превращаем в вещи. И эти люди, разумеется, сразу же замечают и чувствуют манипуляторство в наших приемах и нашу тенденцию объективировать. Я бы сказал, объективация сделалась первородным грехом психотерапии. «Не-вещность» человека (а не его «не-вечность») – вот первый урок экзистенциализма.
Когда в рамках другого лекционного тура меня попросили выступить с обращением к заключенным тюрьмы Сан-Квентин, после этого выступления меня заверяли: узники впервые почувствовали, что их кто-то понимает. Ничего особенного я при этом не делал, просто воспринимал их как людей, а не воображал, будто имею дело с механизмами, которые надо исправить. Я воспринимал их так, как они сами изначально себя воспринимали, то есть как свободных и ответственных людей. Я не предлагал задешево отделаться от чувства вины, объявив себя жертвой биологического, психологического или социологического обусловливания. Я также не считал их беспомощными пешками на поле боя между «Оно», «Я» и «Сверх-Я». Не обеспечивал им алиби, не отнимал у них вину, не находил для нее удобных объяснений. Я относился к этим людям как к равным. Они услышали от меня, что сделаться виновным – прерогатива человека и ответственность человека – преодолеть вину.
Что я подразумевал, обращаясь таким образом к узникам Сан-Квентина, если не феноменологию в чистейшем смысле слова? Феноменология – попытка объяснить, как человек понимает самого себя, как он истолковывает свое существование без заведомых способов интерпретации, приуготовленных психодинамическими или социоэкономическими гипотезами. Принимая феноменологическую методику, логотерапия, как определил Пол Полак{4}, пытается сформулировать в научных терминах непредвзятое представление человека о себе.
Позвольте мне вернуться к противопоставлению техники и личной встречи. Психотерапия – больше чем просто техника, потому что она – искусство, и она превосходит чистую науку, потому что она – мудрость. Но даже мудрость еще не все. В концлагере я помню женщину, которая покончила с собой. Среди ее пожитков нашелся обрывок бумаги с записью: «Сильнее судьбы – отвага, которая ее переносит». Вопреки этому девизу женщина свела счеты с жизнью. Мудрость сама по себе недостаточна без личного отношения.
Недавно мне в три часа ночи позвонила дама, сообщившая, что намерена совершить самоубийство, однако ей любопытно знать мое мнение по этому поводу. Я привел все доводы в пользу жизни и против такого решения, я проговорил с ней полчаса, и в итоге женщина пообещала не отнимать у себя жизнь, а обратиться в больницу. Но когда она пришла ко мне на прием, выяснилось, что все мои аргументы нисколько ее не тронули. Единственной причиной, по которой моя собеседница отложила самоубийство, был тот факт, что я не обозлился, когда меня разбудили посреди ночи, а терпеливо ее выслушал, полчаса проговорил с ней. Мир, где такое возможно, стоит того, чтобы в нем жить, решила она.
В психотерапии главным образом это заслуга покойного Людвига Бинсвангера, что человек вновь восстановлен и утвержден в своем человеческом качестве. Все чаще отношения «Я» и «Ты» рассматриваются как суть дела. И все же нужно добавить еще одно измерение. Встреча «Я» и «Ты» не может быть всей истиной, исчерпывающим сюжетом. По сути, самотрансцендентное качество человеческого существования превращает человека в существо, тянущееся за пределы себя. Соответственно, если Мартин Бубер вместе с Фердинандом Эбнером понимает человеческое существование главным образом как диалог «Я» и «Ты», мы вынуждены признать такой диалог несостоятельным до тех пор, пока «Я» и «Ты» не выйдут за пределы себя к смыслу, который лежит вовне.
В той мере, в какой психотерапия, не ограниченная психологическим моделированием и технологиями, основана на личной встрече, подразумевается встреча не двух монад, а двух человеческих существ, хотя бы одно из которых обращено к другому с логосом, то есть со смыслом бытия.
Делая упор на встрече «Я» и «Ты», Daseinsanalyse вынуждает партнеров в такой встрече подлинно прислушиваться друг к другу и тем самым освобождает их от онтологической глухоты. Но все же нам предстоит еще освободить их от онтологической слепоты, все же нужно сделать так, чтобы воссиял смысл бытия.
Этот шаг совершает логотерапия. Логотерапия выходит за пределы Daseinsanalyse или (так этот термин переводит Джордан Шер) онтоанализа, потому что она озабочена не только онтосом, то есть бытием, но и логосом, то есть смыслом. Этим вполне можно объяснить тот факт, что логотерапия – больше чем просто анализ, она, как указывает само название, терапия. В личном разговоре Людвиг Бинсвангер однажды сказал мне, что, по его мнению, логотерапия, в сравнении с онтоанализом, более активна и, более того, логотерапия может стать терапевтическим дополнением к онтоанализу.
Умышленно упрощая, можно дать логотерапии определение, буквальный перевод – «лечение через смысл» (Джозеф Фабри){5}. Разумеется, надо помнить, что логотерапия вовсе не панацея, она показана в одних случаях и противопоказана в других. Во второй части книги, разбираясь с применением логотерапии, мы покажем, насколько она уместна, прежде всего, при неврозе. И тут проступает еще одно отличие логотерапии от онтоанализа. Если максимально сжато определить вклад Бинсвангера в психиатрию, то это более точное понимание психоза, конкретно – особого и специфического способа психотического бытия-в-мире. В противовес онтоанализу логотерапия стремится не к лучшему понимаю психоза, но к более быстрому излечению невроза. Это, конечно, опять-таки упрощение.
В таком контексте следует упомянуть авторов, которые утверждают, что, по сути дела, заслуга Бинсвангера сводится к применению хайдеггеровских концепций в психиатрии, в то время как логотерапия стала плодом применения в психотерапии концепции Макса Шелера.
Теперь, после разговора о Шелере и Хайдеггере и о влиянии их философий на логотерапию, что же мы скажем о Фрейде и Адлере? Разве логотерапия меньше обязана им? Ни в коем случае. В первом же абзаце первой написанной мною книги читатель найдет слова о моем огромном долге перед ними, там я привожу известный образ карлика, стоящего на плечах гиганта: благодаря такой позиции он видит дальше гиганта. Психоанализ есть и всегда будет незаменимой основой любой психотерапии, в том числе и всех будущих школ. Вместе с тем он обречен разделить судьбу иных фундаментов, то есть сделать невидимкой после того, как на нем будет возведено само здание.
Фрейд был в достаточной степени гением, чтобы сознавать: его исследование ограничено фундаментом, он заглядывал в глубинные слои, в низшие измерения человеческой жизни. В письме Людвигу Бинсвангеру он сам говорил: «Я всегда ограничивался цокольным этажом и фундаментом здания», то есть человека{6}. Однажды в рецензии на книгу{7} Фрейд выразил убеждение, что уважение к великому мастеру – вещь правильная, однако уважение к фактам должно быть у нас сильнее. Попробуем теперь заново истолковать и оценить психоанализ в свете фактов, которые выявились лишь после смерти Фрейда.
Такая переоценка психоанализа отклоняется от собственного подхода Фрейда к своим заслугам. Колумб тоже думал, что нашел новый путь в Индию, в то время как открыл новый континент. Есть также разница между тем, во что Фрейд верил и чего он достиг. Он верил, что человека можно объяснить механистической теорией, что его душа может быть излечена техническими методами. А достиг он принципиально иного, того, что и сейчас действенно, лишь бы мы сумели переосмыслить это в свете экзистенциальных фактов.
Согласно одному высказыванию Зигмунда Фрейда, психоанализ опирается на две концепции: он считает причиной невроза вытеснение, а основным способом лечения – перенос. Каждый, кто признает важность этих двух концепций, может с полным правом считать и называть себя психоаналитиком.
Вытеснение преодолевается возрастающей осознанностью. Вытесненное должно быть осознано, или, говоря словами Фрейда, там, где было «Оно», должно настать «Я». Освободившись от механистической идеологии XIX века, рассуждая в понятиях экзистенциальной философии ХХ века, мы можем сказать, что психоанализ поощряет в человеке понимание самого себя.
Также и концепцию переноса можно уточнить и очистить. Последователь Адлера Рудольф Дрейкурс указал на манипуляторское качество концепции переноса по Фрейду{8}. Освобожденный же от этого качества перенос можно понимать как средство той человеческой, личной встречи, которая основана на отношениях «Я» – «Ты». И несомненно, для достижения самопонимания требуется такая встреча. Иными словами, формулу Фрейда «там, где было “Оно”, должно настать “Я”» можно расширить: там где было «Оно», должно настать «Я», но «Я» может сделаться «Я» лишь через «Ты».
Что же касается вытесняемого материала, Фрейд полагал, что это секс. В его время секс подавлялся даже на массовом уровне. Это последствие пуританизма, господствовавшего в англосаксонских странах. Неудивительно, что именно эти страны охотно приняли психоанализ и сопротивляются тем школам психотерапии, которые идут дальше Фрейда.
Отождествлять психоанализ с психологией или психиатрией – такая же грубая ошибка, как отождествлять диалектический материализм с социологией. И фрейдизм, и марксизм скорее определенный подход к наукам, чем сама наука. Разумеется, индоктринация – и в восточном, и в западном стиле – способна размыть разницу между сектой и наукой.
Но в некоторых отношениях психоанализ незаменим, и место Фрейда в истории терапии я мог бы проиллюстрировать с помощью легенды, которую рассказывают в старейшей из ныне существующих синагог – в Староновой синагоге Праги, восходящей к Средневековью. Показывая интерьер синагоги, экскурсовод сообщает, что место, некогда принадлежавшее знаменитому рабби Лёву, никогда не осмеливался занять ни один из его последователей. Для преемников рабби отвели другое место, потому что никто не мог сравняться с рабби Лёвом, никто не мог его заменить. Веками никто не допускался на его сиденье. И сиденье, принадлежащее Фрейду, также пребудет пусто.
Часть I Основания логотерапии
Метаклинические предпосылки психотерапии
Метаклинические основания психотерапии определяются главным образом концепцией человека и жизненной философией. Никакая психотерапия невозможна без опоры на теорию человека и соответствующую философию жизни. Психоанализ в этом смысле также не представляет собой исключения: Пауль Шильдер называл психоанализ Weltanschauung – мировоззрением, и лишь недавно Гордон Плейне заявил: «Тот, кто практикует психоанализ, выступает, прежде всего, как моралист» и «влияет на моральное и этическое поведение других людей»{9}.
Итак, вопрос не в том, основывается ли психотерапия на Weltanschauung, но скорее в том, насколько эта основа правильна или же неверна. А правильность и неправильность в данном контексте определяются тем, удается ли этой философии и теории сохранить человеческое измерение человека. Например, человеческие качества отбрасываются и принижаются теми психологами, кто придерживается «машинной модели» или «крысиной модели» (термины Гордона Олпорта{10}). Что касается первой модели, мне кажется примечательным один факт: покуда человек считал себя творением, он сверял свое существование с образом Создателя, но стоило ему вообразить самого себя творцом, как и собственное существование он сопоставляет со своим же созданием, машиной.
Логотерапевтическая концепция человека опирается на три столпа: свободу воли, волю к смыслу и смысл жизни. Первый, свобода воли, противостоит принципу, определяющему наиболее современный подход к человеку, то есть детерминизму. Вернее, этот принцип противостоит тому, что я привык называть «пандетерминизмом», потому что разговор о свободе воли сам по себе не подразумевает априорный индетерминизм. В конце концов, свобода воли – это свобода именно человеческой воли, то есть ограниченного, конечного существа. Наша свобода не есть свобода от различных обстоятельств, но скорее свобода выстоять в любых обстоятельствах.
Когда Хьюстон Смит из Гарвардского университета (теперь он работает в Массачусетском технологическом) спросил меня в интервью, готов ли я как профессор неврологии и психиатрии признать, что человек зависит от обстоятельств и других факторов, я ответил, что как невролог и психиатр, разумеется, вполне осознаю, до какой степени человек не свободен от всевозможных условий – биологических, психологических и социальных. Но тут же я добавил, что я не только профессор по двум дисциплинам (неврологии и психиатрии), но и узник четырех концентрационных лагерей, и как таковой несу свидетельство о невероятной способности, которая всегда есть и всегда остается у человека, – сопротивляться и противостоять самым ужасным обстоятельствам. Отрешаться от самых ужасных обстоятельств – уникальная способность именно человека. И эта уникальная способность человека отрешаться от любой ситуации, с какой ему доведется иметь дело, проявляется не только в форме героизма, как в концлагере, но и в форме юмора. Юмор тоже уникальное человеческое свойство. И нет повода этого стыдиться. Говорят даже, что юмор имеет Божественную природу. В трех псалмах прославляется смех Бога[1].
Юмор и героизм – две стороны уникальной человеческой способности отрешаться. Благодаря им человек может отрешиться не только от ситуации, но и от самого себя. Он может выбрать собственное отношение к себе. Так он реально занимает позицию перед лицом своих соматических и психических состояний и детерминирующих факторов. Понятно, насколько этот вопрос важен для психотерапии и психиатрии, образования и религии, ведь с такой точки зрения личность свободна формировать собственный характер и человек отвечает за то, каким он становится. В центре внимания оказывается не характер, не порывы и инстинкты сами по себе, но позиция по отношению к ним. Способность занимать такую позицию и делает человека человеком.
Заняв позицию по отношению к соматическим и психическим явлениям, человек поднимается над их уровнем и открывает новое измерение, измерение ноэтических феноменов, ноологическое измерение – в противоположность биологическому и психологическому. В нем располагаются явления, свойственные только человеку.
Можно было бы также назвать это измерение духовным, но, поскольку термин «духовное» имеет религиозный подтекст, лучше его по возможности избегать, ведь то, что мы понимаем под ноологическим измерением, представляет собой антропологический, а не богословский параметр. Такую же оговорку следует сделать в отношении «логоса» в «логотерапии». «Логос» означает и «смысл», и «дух», но опять-таки без специфически религиозных коннотаций. «Логос» здесь означает человечность человеческого существа плюс смысл – что значит «быть человеком»!
Человек достигает ноологического измерения, когда рефлексирует о себе или, если приходится, отвергает себя, когда он превращает себя в объект размышления или возражает сам себе, когда обнаруживает сознание себя или совесть. Совесть предполагает наличие уникальной человеческой способности подниматься над собой, оценивать и судить свои поступки по моральным и этическим понятиям.
Разумеется, можно лишить такой уникальный человеческий феномен, как совесть, его человечности. Можно рассматривать совесть как результат выработки рефлекса (процесса обусловливания). Но на самом деле такое истолкование подходит лишь, к примеру, для собаки, если та сделала на ковре лужу и, поджав хвост, уползает под диван. В самом ли деле у собаки пробудилась совесть? Я бы скорее предположил в данном случае страх перед ожидаемым наказанием, и этот страх внушен дрессировкой, то есть выработан условный рефлекс.
Сводить совесть к последствиям дрессировки и выработки рефлекса – лишь один из вариантов редукционизма. Я называю редукционизмом псевдонаучный подход, который сбрасывает со счетов и игнорирует человеческую составляющую тех или иных феноменов, сводя их к чему-то меньшему, недочеловеческому. В целом редукционизм можно назвать субгуманизмом.
Возьмем для примера два наиболее уникальных человеческих феномена: совесть и любовь. Оба они самые поразительные проявления другой уникальной человеческой способности – способности к самотрансценденции, выходу за пределы себя. Человек выходит за собственные пределы навстречу другому человеческому существу или навстречу смыслу. Любовь – та способность, что позволяет человеку воспринимать другого именно в его уникальности. Совесть – та способность, что помогает человеку постичь смысл ситуации именно в ее уникальности, а смысл в полноценном анализе всегда оказывается уникален, как уникален каждый человек. Каждый человек незаменим – если не для всех, то, безусловно, для того, кто его любит.
В силу уникальности интенциональных объектов любви и совести обе эти способности интуитивны. Однако при наличии общего для интенциональных объектов знаменателя уникальности есть между этими способностями и отличие. Уникальность, подразумеваемая любовью, направлена на уникальные особенности любимого человека, в то время как уникальность, подразумеваемая совестью, направлена на уникальную потребность или необходимость.
Редукционизм склонен истолковывать любовь попросту как сублимацию секса, а совесть – попросту в терминах «Сверх-Я». Но я настаиваю, что любовь не может быть всего лишь результатом сублимации секса, поскольку там, где обнаруживается сублимация, любовь оказывается изначальной предпосылкой. Я бы сказал, что лишь в той мере, в какой «Я» с любовью обращено к «Ты», – лишь в этой мере «Я» способно интегрировать «Оно», интегрировать сексуальность в личность.
И совесть не может сводиться попросту к «Сверх-Я» по той очевидной причине, что совесть в определенных ситуациях призвана воспротивиться тем условностям и стандартам, традициям и ценностям, что транслируются «Сверх-Я». Если в каких-то случаях обнаруживается, что совесть противоречит «Сверх-Я», значит, она не может полностью с ним совпадать. Все попытки сводить совесть к «Сверх-Я» и выводить любовь из «Оно» обречены на провал.
Попробуем выяснить, чем вызван редукционизм. Для ответа на этот вопрос нужно всмотреться в последствия научной специализации. Мы живем в эпоху специалистов, и это имеет свою оборотную сторону. Я определяю специалиста как человека, не способного разглядеть лес истины за деревьями фактов. Для примера: в области шизофрении мы располагаем большим количеством открытий, сделанных биохимиками, мы также имеем обширную литературу по гипотетической психодинамике шизофрении. Другой раздел литературы посвящен уникальному для шизофрении модусу бытия в мире. И тем не менее, боюсь, тот, кто утверждает, будто доподлинно разобрался в шизофрении, обманывает свою аудиторию или как минимум себя самого.
«Картинки реальности», складывающиеся внутри отдельных наук, сделались столь разрозненными, столь далекими друг от друга, что нам все труднее становится согласовывать их. Несходство картинок необязательно считать проблемой, оно вполне может привести к приумножению знания. В стереоскопическом видении как раз отличия между правым и левым отражением способствуют полноценному восприятию образа, то есть восприятию пространственному, в трех измерениях, а не плоскому и двухмерному. Разумеется, и тут есть предварительное условие. Сетчатка глаза должна быть способна сливать воедино различные картинки!
То, что верно применительно к зрению, относится и к познанию. Вопрос в том, как получить, как удержать и как восстанавливать единую концепцию человека перед лицом разрозненных данных, фактов и открытий, поставляемых разделенными науками о человеке.
Но колесо истории не прокрутишь в обратную сторону. Общество не может обойтись без специалистов. Значительная часть исследований осуществляется теперь в командной работе, а в командной работе специалисты необходимы.
Но в самом ли деле опасность проистекает из недостаточной универсальности? Не таится ли главная угроза в притязании на тотальность? Наиболее опасно, мне кажется, стремление эксперта, скажем, в биологии понимать и объяснять человека исключительно в биологических терминах. Это же справедливо и относительно психологии и социологии. Как только появляется притязание на тотальность, биология превращается в биологизаторство, психология – в психологизаторство и социология – в социологизаторство. Иными словами, в этот момент наука превращается в идеологию. Сокрушаться следует, по моему мнению, не о том, что ученые специализируются, но о том, что ученые обобщают. Всем знаком тип terrible simplicateurs[2], теперь же мы привыкаем к типу, который я назову terrible généralisateurs[3]. Я подразумеваю тех, кто не может устоять перед соблазном сверхобобщенных выводов на основании ограниченных данных.
Однажды я наткнулся на афоризм, описывавший человека в таких выражениях: «Всего лишь сложный биохимический механизм с двигателем внутреннего сгорания, который обеспечивает энергией компьютеры, обладающие поразительной способностью хранить закодированную информацию». Как невролог я вполне согласен с тем, чтобы компьютер использовался в качестве модели для описания, скажем, деятельности центральной нервной системы. Это совершенно оправданная аналогия. То есть в определенном смысле данное утверждение верно: человек – это компьютер. Однако в то же время он и бесконечно больше, чем просто компьютер. Данное утверждение ошибочно, если человек описывается как «всего лишь» компьютер, ничего сверх компьютера.
Сегодняшний нигилизм уже не разоблачает себя высказываниями о ничтожности всего – он говорит осторожнее: «ничего сверх». Маской нигилизма сделался редукционизм.
Как справиться с таким ходом дел? Как перед лицом редукционизма сохранить человеческое в человеке? Как, подводя итоги анализа, сохранить единство человека перед лицом множества наук, когда само это множество наук и есть питательная почва редукционизма?
Николай Гартман и Макс Шелер более многих других бились над этой проблемой. Онтология Гартмана и антропология Шелера представляют собой попытки определить каждую науку как область знаний с ограниченной валидностью выводов. Гартман различает несколько страт: телесную, душевную и духовную вершину. У него понятие «духовный» также лишено религиозных коннотаций, скорее подразумевается ноологический смысл. Гартман рассматривает стратификацию человеческого существования как иерархическую структуру. Напротив, антропология Шелера прибегает к образу слоев (Schichten), а не страт или ступеней (Stufen), помещая на периферию биологические и психологические слои, а в центр – личностный слой, духовную ось.
Несомненно, и Гартман, и Шелер отдавали должное онтологическим различиям между телом, душой и духом, причем указывали на качественные, а не всего лишь количественные отличия. Тем не менее они недостаточно учитывали то, что противостоит онтологическим различиям, то, что я готов назвать антропологическим единством. Иначе говоря, человек – это многообразное единство, “unitas multiplex”, как сформулировал Фома Аквинский. Человека я считаю правильным описывать как единство вопреки многообразию!
Рассматривая человека в виде телесных, душевных и духовных слоев и страт, мы действуем так, словно соматический, психический и ноэтический модус бытия можно отделить друг от друга. Я и сам пытался воздать должное одновременно и онтологическим отличиям, и антропологическому единству в том, что я называл многомерной антропологией и онтологией. Этот подход использует геометрическую модель пространственных измерений как аналогию для качественных различий, которые не отменяют единство структуры.
Многомерная онтология в том виде, в каком я ее выстраивал, опирается на два закона. Первый закон многомерной онтологии гласит: «Любое явление дает в более низких измерениях проекцию, отличающуюся от его реального образа в собственном измерении, а потом эти проекции вступают в противоречие друг с другом».
Представьте себе цилиндр, например стакан. Его проекции из трехмерного пространства на горизонтальную и вертикальную двухмерную плоскость образуют в первом случае круг, а во втором – прямоугольник. Эти проекции противоречат друг другу. И что еще важнее, стакан – открытый сосуд, в противоположность кругу и прямоугольнику, закрытым фигурам. Еще одно противоречие!
Теперь перейдем ко второму закону многомерной онтологии, который звучит так: «Различные явления, проецируемые из своего измерения в более низкое, дают неоднозначные образы».
Представьте себе цилиндр, конус и сферу. Их тени на горизонтальной поверхности кажутся одинаковыми кругами. Мы не можем по тени судить о том объекте, который ее отбрасывает, понять, что там «наверху» – цилиндр, конус или сфера.
Согласно первому закону многомерной онтологии, проекция феномена в различные измерения более низкого уровня приводит к противоречиям, а согласно второму закону, проекция различных феноменов в более низкое измерение приводит к изоморфизму.
Как применить эти аналогии к антропологии и онтологии? Когда мы делаем проекцию человека в биологическое и психологическое измерение, мы тоже получаем противоречивые результаты, поскольку в одном случае результат – биологический организм, а в другом – психологический механизм. Но хотя телесные и душевные аспекты человеческого существования друг другу противоречат, в свете многомерной антропологии эти противоречия уже не отменяют единства человеческой личности. Ведь две разные картинки, круг и прямоугольник, не отменяют того факта, что обе проекции получены от одного и того же цилиндра.
Многомерная онтология отнюдь не решает психофизическую проблему, но она объясняет, почему эта проблема не может быть решена. Единство человека – единство, существующее вопреки многозначности тела и души, – нельзя отыскать в биологическом или психологическом измерении, следует обратиться к ноологическому измерению, из которого человек и проецируется во все остальные{11}.
Тем не менее наряду с проблемой противопоставления тела и души существует и проблема детерминизма, проблема свободы выбора. И к ней тоже можно приблизиться со стороны многомерной антропологии. Открытость стакана с неизбежностью исчезает в проекциях на горизонтальную и вертикальную плоскость. И человек в проекции в более низкое измерение тоже выглядит закрытой системой, системой физиологических рефлексов или психологических реакций на стимулы. Например, те мотивационные теории, которые и поныне цепляются за принцип гомеостаза, рассматривают человека как закрытую систему. Но такой подход вынуждает пренебречь сущностной открытостью человеческого бытия, которая засвидетельствована Максом Шелером, Адольфом Портманом и Арнольдом Геленом. Именно биолог Портман и социолог Гелен показали нам, что человек открыт миру. В силу такой самотрансцендентности человеческого состояния я готов утверждать, что быть человеком всегда означает быть направленным вовне, указывать на кого-то или на что-то иное, чем ты сам.
Это свойство исчезает в биологическом и психологическом измерении, однако в свете многомерной антропологии мы хотя бы понимаем, отчего так происходит, и теперь кажущаяся закрытость человека в биологической и психологической проекции уже не противоречит его человечности. Закрытость в более низких измерениях вполне совместима с открытостью в более высоком измерении, будь то открытость цилиндрического стакана или человека.
Теперь также становится понятно, почему надежные данные исследований на более низких уровнях, пусть они и оставляют в стороне человеческую сущность, при этом вовсе ее не опровергают. Это относится и к столь различным подходам, как бихевиоризм Уотсона, изучение рефлексов в теории Павлова, психоанализ Фрейда и психология Адлера. Логотерапия не отменяет все эти подходы, а стремится выйти за их пределы. Она предлагает рассмотреть их данные с точки зрения более высокого измерения или, как поясняет норвежский психотерапевт Бьярне Квильхоуг{12} применительно к теории научения и поведенческой терапии, открытия этих школ пересматриваются и заново оцениваются логотерапией, возвращаются к человеческому смыслу.
В таком контексте уместно будет предостережение. Называя различные уровни более или менее высокими, мы не подразумеваем оценочное суждение. «Более высокое» измерение всего лишь более инклюзивное и более всеохватывающее{13}.
Для антропологии это ключевая проблема. Подразумевается не более и не менее как признание того, что человек, сделавшись человеком, никоим образом не перестал быть животным, как самолет не утрачивает способности передвигаться по земле на территории аэропорта.
Как я указывал во введении, Фрейд был слишком великим человеком, чтобы не понимать, как он навеки привязал себя к «фундаменту здания и первому этажу», иными словами, к более низкому, психологическому измерению. Жертвой редукционизма он становится лишь в тот момент, когда в письме к Людвигу Бинсвангеру завершает это признание словами, что он-де «уже отвел место религии, поместив ее в разряд неврозов человечества». Даже гений не может до конца противостоять цайтгайсту, духу своего времени.
А теперь посмотрим, как второй закон многомерной онтологии применяется к человеку. Нужно лишь заменить те три не поддающихся однозначному истолкованию круга неврозами, поскольку неврозы столь же неоднозначны. Невроз может быть психогенным, то есть неврозом в традиционном смысле. Более того, собственное исследование убедило меня в том, что существуют также соматогенные неврозы. Например, есть случаи агорафобии, вызванные гипертиреозом. И наконец, есть не менее значительная группа неврозов, которую я назвал ноогенными. Они коренятся в духовных проблемах, в моральных конфликтах или в конфликтах между истинной совестью и тем «Сверх-Я», которое я упоминал в начале главы. Но еще важнее те ноогенные неврозы, которые происходят из фрустрации воли к смыслу, из того, что я назвал экзистенциальной фрустрацией, из экзистенциального вакуума, которому в этой книге посвящена отдельная глава.
Итак, в той степени, в какой этиология неврозов многомерна, их симптоматика становится неоднозначной. И как мы не можем по круглой тени определить, возвышается ли над ней цилиндр, конус или шар, так не можем заведомо знать, скрывается ли за неврозом гипертиреоз, страх кастрации или экзистенциальный вакуум, – по крайней мере мы не можем это выяснить до тех пор, пока ограничиваемся психологическим измерением.
Патология неоднозначна, то есть в каждом конкретном случае нам приходится искать логос патоса, смысл страдания. А смысл страдания необязательно располагается в том же измерении, что и симптоматика, он вполне может скрываться в другом измерении. Многомерная этиология неврозов требует того, что я бы хотел именовать объемной или многомерной диагностикой.
И это верно применительно как к диагностике, так и к терапии в целом. Терапия тоже должна ориентироваться на многомерность. Нет никаких априорных возражений против «уколов и электросудорожной терапии». В случаях эндогенной депрессии, как это называется в психиатрии, вполне закономерно и оправданно применять лекарства, а в тяжелых случаях даже лечение разрядами электрического тока. Надо сказать, я изобрел первый транквилизатор на континенте, еще до того как англосаксы проторили путь к «Милтауну»[4]. В исключительных случаях я назначал лоботомию и иногда сам проводил такие операции на мозге. Само собой разумеется, что и эти меры не отменяют необходимости в психотерапии и в логотерапии, ибо даже в таких случаях мы не просто лечим болезнь, но имеем дело с человеческими существами.
Вот почему я не могу разделить тревогу тех выступавших на международной конференции, кто высказал опасение, как бы психиатрия не сделалась механистической и пациенты не почувствовали себя обезличенными, если мы начнем активно применять фармацевтические средства. В отделении неврологии больницы при Венской поликлинике мои сотрудники использовали и лекарства, и по необходимости даже электросудорожную терапию, но никогда не происходило никакого насилия над человеческим достоинством пациентов. С другой стороны, я знаю многих глубинных психологов, которые решительно противятся лекарствам, не говоря уж об электросудорожной терапии, но при этом самим своим механистическим подходом к человеку попирают достоинство пациентов. Вот почему мне кажется важным создать концепцию человека, с которой мы будем подходить к нашим пациентам осознанно, а метаклинические результаты такой психотерапии будут очевидны.
Важна не столько техника сама по себе, сколько принципы, в соответствии с которыми применяется техника. Это верно не только для лекарств и электросудорожной терапии, но и для классического психоанализа, для адлерианской психологии и также для логотерапии.
Теперь вернемся ко второму закону объемной онтологии и для разнообразия заменим геометрические фигуры историческими примерами. Представим себе, что первая тень-круг соответствует шизофрении со слуховыми галлюцинациями, а вторая тень – Жанне д’Арк. Несомненно, с точки зрения психиатрии святой поставили бы диагноз «шизофрения» и, пока мы остаемся в пределах психиатрии, Жанна д’Арк «всего лишь» шизофреничка и «ничего более». Что она представляет собой помимо шизофренички, нельзя установить внутри этого, психиатрического, измерения. Как только мы перейдем в ноологическое измерение и примем во внимание теологическую и историческую роль Жанны, выяснится, что она «не только» шизофреничка. Тот факт, что на уровне психиатрии Жанна больна шизофренией, ни в малейшей степени не убавляет ее значимость в других измерениях. И наоборот: даже если мы примем на веру, что она святая, это не отменит тот факт, что она также была больна.
Психиатр должен оставаться в рамках психиатрии и не делать из психиатрических феноменов вывод, только ли психиатрический тут феномен или нечто большее. Но, оставаясь в рамках психиатрии, он вынужден проецировать данный феномен в психиатрическое измерение. Это вполне законно, пока психиатр сам понимает, что он делает. Более того, такая проекция в науке не только правомерна, но даже обязательна. Наука не может совладать с реальностью в полном ее объеме, но вынуждена разбираться с реальностью так, словно у реальности всего лишь одно измерение. Тем не менее ученый должен помнить об этом хотя бы затем, чтобы не впасть в редукционизм.
Другой пример неоднозначности проекций произошел несколько лет назад в Вене, в моем квартале. В табачный магазин ворвался грабитель, и владелица в ужасе стала призывать на помощь своего мужа Франца. Поскольку в глубине магазина висела занавеска, грабитель решил, что сейчас оттуда явится Франц. Он обратился в бегство и был схвачен полицией. Разумеется, это все вполне естественно. Однако Франц умер за две недели до этой попытки ограбления, и на самом деле его жена взывала к небесам, умоляя покойного мужа заступиться за нее перед Богом и спасти. Далее каждый волен сам истолковывать эту последовательность событий либо как ошибку грабителя, то есть понимать все с психологической точки зрения, либо и в самом деле поверить, что небеса откликнулись на молитву. Лично я убежден, что, если небеса внимают молитвам, их ответ все равно выглядит как естественная последовательность событий.
Самотрансцендентность как человеческий феномен
В предыдущей главе я сказал, что человек открыт миру. Он открыт миру в противоположность животным, которые не открыты миру (Welt), но скорее привязаны к среде (Umwelt), специфичной для того или иного вида. Среда соответствует инстинктам этого вида и удовлетворяет их. Напротив, характерное свойство человеческого существования – прорываться через барьеры среды, где обитает вид Homo sapiens. Человек тянется вовне к миру – и в итоге его достигает – к миру, где он сталкивается со множеством других существ и находит множество смыслов для осуществления.
Подобное мировоззрение в корне противоречит мотивационным теориям, основанным на принципе гомеостаза. Эти теории изображают человека как замкнутую систему: согласно такому подходу человек главным образом озабочен поддержанием или восстановлением внутреннего равновесия и ради этого стремится снизить напряжение. В конечном счете такая же цель приписывается исполнению желаний и удовлетворению потребностей. Как справедливо заметила Шарлотта Бюлер{14}, «от первых формулировок принципа удовольствия у Фрейда до последней современной версии разрядки напряжения и принципа гомеостаза конечной целью любой деятельности человека на протяжении всей жизни считается восстановление индивидуального баланса».
Принцип удовольствия поставлен на службу принципу гомеостаза, но и принцип удовольствия, в свою очередь, обслуживается принципом реальности. Согласно формулировке Фрейда, цель принципа реальности заключается в том, чтобы обеспечить удовольствие, пусть и с отсрочкой.
Фон Берталанфи показал, что принцип гомеостаза перестал подтверждаться даже на биологическом уровне. Голдштейн сумел доказать на примере мозговых нарушений свою гипотезу, что стремление к гомеостазу представляет собой не свойство нормального организма, а симптом расстройства. Только во время болезни организм готов платить любую цену, лишь бы избежать напряжений. В психологии теорию гомеостаза оспорил Олпорт{15}, сказав, что она «не в состоянии охватить природу личных стремлений», поскольку их «характерное свойство – сопротивление равновесию: напряжение не снижается, а, напротив, поддерживается». Маслоу{16}, как и Шарлотта Бюлер{17}, выдвигал сходные возражения. В более поздней работе Шарлотта Бюлер{18} утверждала, что, «согласно принципу гомеостаза, по Фрейду конечная цель заключается в такого рода полном удовлетворении, которое восстановит равновесие индивидуума, приведя все его желания в состояние покоя. С этой точки зрения все культурные творения человечества рассматриваются как побочный продукт этого стремления к личному удовлетворению». Но даже с учетом дальнейших переформулировок психоаналитической теории Шарлотта Бюлер{19} настроена скептически, поскольку, по ее словам, «психоаналитическая теория, скорее всего, не сможет, вопреки всем попыткам ее обновить, оторваться от своей фундаментальной гипотезы, согласно которой первичной целью всякого стремления будет гомеостатическое удовлетворение. Создание ценностей и свершения – вторичные цели, возникающие из победы “Я” и “Сверх-Я” над “Оно”, однако и эти цели в конечном счете обслуживают принцип удовольствия». Сама же Шарлотта Бюлер приписывает человеку интенциональность, то есть считает его «существом, живущим определенной целью. Эта цель придает жизни смысл… Индивидуум… хочет создавать ценности». Более того, «человеческое существо» обладает «первичной или врожденной ориентацией на творчество и ценности».
Таким образом, принцип гомеостаза не дает нам достаточного основания для объяснения человеческого поведения, в особенности в такой системе понятий игнорируется феномен человеческого творчества, направленного на ценности и смысл.
Что касается принципа удовольствия, я готов еще дальше зайти в его критике: я убежден, что в конечном счете принцип удовольствия опровергает сам себя. Чем более человек стремится к удовольствию, тем дальше промахивается мимо цели. Иными словами, сама «погоня за счастьем» губит наше счастье. Это самоуничтожающее свойство стремления к счастью отвечает за многие сексуальные неврозы. Снова и снова психиатру приходится наблюдать, как и потенция, и оргазм оказываются недостижимы именно потому, что сделались самоцелью. И это происходит тем неизбежнее, если (что часто случается) напряженная интенция сочетается с обостренным вниманием. Гиперинтенция и гиперрефлексия, как я их называю, склонны порождать невротические стили поведения.
В норме удовольствие не цель человеческого стремления, оно должно быть и оставаться результатом, а точнее, побочным эффектом достижения цели. Достижение цели дает нам причину для счастья. Иными словами, если существует разумная причина для счастья, то счастье возникает само собой, автоматически и спонтанно. Вот почему не нужно гоняться за счастьем, не нужно специально про него думать, когда для счастья есть причина.
Но что важнее, за счастьем и невозможно угнаться. В той мере, в какой счастье превращается в мотивационную цель, оно с неизбежностью превращается и в объект внимания. Но именно из-за этого человек упускает из виду причину счастья – и само счастье ускользает от него.
Тот упор, который фрейдистская психология делает на принципе удовольствия, у Адлера находит аналог в акценте на стремлении к статусу. Однако и оно оказывается обречено на провал: если человек проявляет стремление к статусу, он рано или поздно будет разоблачен как честолюбец.
Один пример из моего личного опыта поможет проиллюстрировать эту мысль. Если из двадцати трех написанных мной книг какая-то принесла успех, то именно та, которую я первоначально хотел опубликовать анонимно. Лишь когда рукопись была закончена, друзья убедили меня поставить на этой книге свое имя{20}. Поразительно: именно та книга, которую я писал в убеждении, что она никоим образом не может принести мне славу, принесла и славу, и успех, именно она оказалась наиболее удачной. Пусть это послужит примером и предостережением молодым авторам: надо следовать своей научной или художественной совести, не заботясь об успехе. Успех и счастье случаются, и чем меньше о них хлопотать, тем больше у них шансов случиться.
В конечном счете стремление к статусу или воля к власти, с одной стороны, и принцип удовольствия или, как его можно было бы назвать, воля к удовольствию, с другой стороны, – всего лишь производные основной заботы человека, его воли к смыслу, второго элемента в триаде понятий, на которых основывается логотерапия. То, что я именую волей к смыслу, можно определить как базовое стремление человека найти и осуществить смысл и цель.
Но на каком основании мы называем волю к власти и волю к удовольствию всего лишь производными воли к смыслу? Просто потому, что удовольствие не итог человеческих устремлений, а результат осуществления смысла. И власть не цель в себе, а средство достижения цели: чтобы человек мог осуществить свою волю к смыслу, ему, как правило, требуется определенное количество власти, например финансовой. И лишь когда изначальное устремление к смыслу фрустрировано, приходится удовлетвориться властью или нацелиться на удовольствие.
И удовольствие, и успех лишь подмена самоосуществления, так что и принцип удовольствия, и воля к власти лишь производные воли к смыслу. Поскольку их развитие обусловлено невротическим искажением первоначальной мотивации, понятно, как основатели классических терапевтических школ, кому приходилось иметь дело с невротиками, создавали свои теории исключительно на почве этих типично невротических мотиваций, которые наблюдали у своих пациентов.
Итак, избыточная сосредоточенность на удовольствии происходит из фрустрации другой, более существенной потребности. Позвольте проиллюстрировать это анекдотом. Человек встречает на улице своего врача. «Как поживаете, мистер Джонс?» – спрашивает врач. «Не слышу», – отвечает пациент. «КАК ПОЖИВАЕТЕ? – кричит доктор. «Видите ли, у меня слух сильно испортился», – говорит этот человек. Это, конечно, повод для врача дать совет: «Вы слишком много пьете. Завязывайте со спиртным, и слух улучшится».
Проходит несколько месяцев, они снова встречаются. «КАК ПОЖИВАЕТЕ, МИСТЕР ДЖОНС?» – «Не надо кричать, доктор, я вполне хорошо слышу». – «Значит, вы перестали пить?» – «Совершенно верно». Проходит еще несколько месяцев, они встречаются в третий раз, и врачу снова приходится повышать голос, чтобы его услышали. «Вы что же, опять пьете?» – спрашивает он пациента. И тот отвечает: «Видите ли, доктор, сначала я пил, и у меня снизился слух. Потом перестал пить и стал лучше слышать. Но то, что я слышал, было совсем не так приятно, как виски».
Этот человек был фрустрирован тем, что услышал, и потому вернулся к бутылке. Поскольку слух не стал для него источником счастья, он погнался за счастьем напрямую. И он даже ухватил счастье, поскольку удовольствие ему обеспечивала биохимическая реакция – выпитый алкоголь. Как мы знаем, удовольствия нельзя достичь, пытаясь его получить. Но теперь мы делаем оговорку: удовольствие можно добыть биохимическим способом. Итак, человек, не имея повода для удовольствия, обеспечивает себя причиной для удовольствия. В чем разница между поводом и причиной? Повод всегда будет психологическим или ноологическим, причина же всегда биологическая или физиологическая. Когда вы режете лук, у вас нет повода плакать, но есть причина для слез. Повод плакать появляется у человека в отчаянии. Если альпинист, поднявшийся на три тысячи метров, чувствует себя удрученным, у его чувств есть либо причина, либо повод. Если он сознает, что плохо экипирован или недостаточно тренировался, у него есть повод для беспокойства. Однако причина может быть чисто физиологической – недостаток кислорода.
Вернемся теперь к концепции «воли к смыслу». Это понятие наилучшим образом совместимо с «базовыми тенденциями» Шарлотты Бюлер{21}. Согласно ее теории, главной целью является самоосуществление, а четыре базовые тенденции обслуживают эту цель, причем речь идет об осуществлении смысла, а не об осуществлении буквально себя, не о самоактуализации.
Самоактуализация не может быть конечным назначением человека и даже его главным намерением. Превращать самоактуализацию в самоцель противно самотрансцендентному качеству человеческого существования. Самоактуализация, как и счастье, побочный результат осуществления смысла. Лишь в той мере, в какой человек осуществляет смысл во внешнем мире, он осуществляет и самого себя. Если он пытается актуализовать себя, вместо того чтобы исполнять смысл, то мгновенно утрачивает основания для самоактуализации.
Я бы назвал самоактуализацию неумышленным следствием умышленности жизни. Наиболее кратко эту мысль сформулировал Карл Ясперс: Was der Mensch ist, das ist er durch die Sache, die er zur seinen macht («Человек есть то, чем он становится в деле, которое сделал своим»).
Мое утверждение, что человек утрачивает основания для самоактуализации, если думает только о ней, вполне совпадает со взглядами Маслоу, который признает, что «задача самоактуализации» наилучшим образом осуществляется «в преданном исполнении важной работы»{22}. С моей точки зрения, избыточная озабоченность самоактуализацией приводит к фрустрации воли к смыслу. Как бумеранг возвращается к охотнику только в тех случаях, когда не попадает в цель, так и человек возвращается к себе и сосредотачивается на самоактуализации лишь тогда, когда не знает своего предназначения{23}.
Что справедливо применительно к удовольствию и счастью, верно и относительно пиковых переживаний по Маслоу. Они тоже представляют собой побочный эффект и должны таковым оставаться. Они тоже возникают сами собой, и за ними бессмысленно гнаться. Сам Маслоу согласился бы с таким истолкованием, поскольку он утверждал, что «искать пиковых переживаний – все равно что искать счастья»{24}. Более того, он признавал, что «сам термин “пиковые переживания” – это обобщение»{25}. Тем не менее это еще и недоговорка, ибо концепция Маслоу представляет собой нечто большее, чем упрощение: это отчасти даже сверхупрощение. То же самое я скажу и о другой концепции, о принципе удовольствия. В конце концов удовольствие остается одним и тем же независимо от того, чем оно вызвано. Счастье остается одним и тем же независимо от повода его пережить. И опять-таки сам Маслоу признает, что «наши внутренние опыты счастья весьма схожи независимо от того, что их стимулирует»{26}. И по поводу пиковых переживаний он сделал аналогичное заявление в том смысле, что сами они одинаковы, хотя «стимулы весьма различаются: их доставляют нам рок-н-ролл, наркотики и алкоголь», и тем не менее «субъективное переживание обычно одинаково».
Очевидно, если интенция направлена на единообразную форму переживаний, а не на разнообразие их содержаний, самотрансцендентное свойство человеческого существования исключается. И все же «в любой момент», как говорит Олпорт, «разум человека направляется какой-то интенцией»{27}. Шпигельберг также определяет интенцию как «свойство любого акта, указывающее на объект»{28}. Он опирается на мысль Брентано: «Всякий психический феномен характеризуется… отношением к содержанию, направленностью на объект»{29}. Но даже Маслоу осведомлен об интенциональном качестве человеческого существования, что подтверждается его высказыванием: «В реальном мире невозможно покраснеть, когда краснеть не из-за чего» (иными словами, «краснеют всегда в каком-то контексте»){30}.
Отсюда ясно, как важно психологии рассматривать феномены «в контексте», а конкретнее, рассматривать такие феномены, как удовольствие, счастье и пиковые переживания, в контексте их объектов, то есть учитывать повод, который у человека появляется для счастья, и повод для пиковых переживаний и ощущения удовольствия. Отсекая объекты, с которыми соотнесены подобные переживания, мы обедняем психологию. Вот почему поведение человека нельзя исчерпывающе понять в рамках гипотезы, будто человек заинтересован в удовольствии и счастье безотносительно повода для них. Такая мотивационная теория устраняет поводы, разные для каждого случая, в пользу эффектов, которые всегда одинаковы. На самом деле человек стремится не к удовольствию и счастью как таковым, но к тому, что вызывает такой эффект, будь то осуществление личного смысла или встреча с другим человеком. Это верно даже применительно к встрече с Божеством. Отсюда ясно, сколь скептично следует относиться к пиковым переживаниям, спровоцированным ЛСД или интоксикацией любого другого рода. Когда на место духовных поводов подставляются химические факторы, эффект – всего лишь подделка. Короткий путь ведет в тупик.
К тому классу феноменов, к которым нельзя прийти напрямую, поскольку они представляют собой сопутствующий эффект, относятся также здоровье и совесть. Если мы начнем заботиться о чистоте своей совести, мы как раз и лишимся чистоты – сама эта забота превратит нас в фарисеев. И если для человека главное попечение – здоровье, значит, он заболел. От такой заботы становятся ипохондриками.
Разговор о самоопровергающем свойстве погони за удовольствием, счастьем, самоактуализацией, пиковыми переживаниями напомнил мне притчу о том, как Господь предложил Соломону исполнить одно его желание. Поразмыслив, Соломон сказал, что хочет стать мудрым судьей своего народа, и на это Бог молвил: «Хорошо, Соломон, я выполню твое желание и сделаю тебя самым мудрым из всех живших на земле людей. Но именно потому, что ты не просил долгой жизни, здоровья, богатства и власти, я дам их тебе в придачу к тому, чего ты пожелал, и сделаю тебя не только мудрейшим человеком, но и самым могущественным царем за всю историю». Так Соломон получил те дары, к которым не стремился.
В целом можно было бы предположить вслед за Унгерсма{31}, что введенный Фрейдом принцип удовольствия является ведущим для маленького ребенка, адлеровский принцип стремления к власти преобладает у подростков, а воля к смыслу – ведущий принцип зрелого человека. «Итак, – говорит Унгерсма, – развитие трех венских психотерапевтических школ отражает онтогенетический переход личности от детства к зрелости». Однако главным поводом для оспаривания подобной последовательности стал бы тот факт, что на ранних этапах развития не прослеживается воля к смыслу, но этот факт перестанет нас смущать, как только мы согласимся понимать жизнь как Zeitgestalt, временной гештальт: жизнь становится цельной лишь после того, как сама история жизни завершается. В таком случае допустимо, чтобы определенные феномены, хотя и составляющие конституирующий аспект человеческого бытия, проявлялись только на зрелой стадии развития{32}. Возьмем для сравнения другую, несомненно присущую человеку способность создавать и использовать символы. Никто не оспаривает эту способность как свойство человеческого бытия, но при этом никто и не видел младенца, владеющего языком.
Я утверждаю, что человек стремится не к удовольствию и счастью как таковым, но к тому, что вызывает у него эти ощущения. Это особенно очевидно от обратного – когда человек несчастен. Допустим, тому, кто оплакивает смерть близкого, предлагают принять транквилизатор, чтобы облегчить его депрессию. За исключением случаев невротического эскапизма, горюющий почти наверняка откажется искусственно заглушать скорбь и скажет, что это ничего не изменит, не вернет умершего к жизни, иными словами, повод чувствовать себя несчастным никуда не денется. Всякий человек (за исключением невротика) будет больше озабочен поводом своей депрессии, чем задачей устранить депрессию. Реалистически настроенный человек понимает, что нет смысла закрывать глаза на какое-то событие – это не сделает событие небывшим. И ученый, как я полагаю, обязан быть не менее реалистичным, чем это обычно свойственно людям, то есть изучать поведение человека в контексте объектов, на которые направлена его интенция.
Эмпирическое подтверждение концепции воли к смыслу предложили Крамбо и Махолик{33}, которые установили, что «данные наблюдений и экспериментов подтверждают существование драйва, который предполагает в человеке Франкл». Но тут приходится задать вопрос, допустимо ли говорить о воле к смыслу как о «драйве в человеке». Я думаю, это неправильно, поскольку, если мы будем рассматривать волю к смыслу просто как еще один драйв, человек снова окажется существом, которое главным образом озабочено сохранением внутреннего равновесия. Очевидно, человек в таком случае будет стараться осуществить смысл, чтобы удовлетворить побуждение к смыслу, то есть восстановить внутреннее равновесие. Это значило бы, что он осуществляет смысл не ради смысла, а ради самого себя.
Но и помимо того, что это возвращает нас к принципу гомеостаза, понимание первичной человеческой задачи в терминах «драйва» представляет собой неточное описание реальной ситуации. Непредубежденное наблюдение за процессами, происходящими в человеке, ориентирующемся на смысл, раскрывает фундаментальное отличие между драйвом – импульсивным побуждением – и стремлением к чему-то. Самые непосредственные данные жизненного опыта свидетельствуют о том, что драйвы гонят человека, но смысл притягивает, и это подразумевает, что человек всегда сам решает, захочет он или нет осуществлять этот смысл. Таким образом, исполнение смысла всегда подразумевает принятие решения.
Итак, я говорю именно о воле к смыслу во избежание неверных истолкований этой концепции как драйва, или побуждения к смыслу. И выбор терминологии ни в коей мере не обусловлен волюнтаристским предубеждением. Да, Ролло Мэй{34} утверждал, что «экзистенциальный подход возвращает решение и волю в центр общей картины», и далее: «экзистенциальные психотерапевты», по его мнению, «занимаются проблемами воли и решения как ключевыми для процесса терапии», «камень, отвергнутый строителями, стал во главу угла». Но я бы хотел добавить, что мы также остерегаемся впасть в другую крайность и проповедовать силу воли или наставлять в волюнтаризме. Волю нельзя вызвать по требованию, командовать ею и ей приказывать. Нельзя захотеть захотеть. Чтобы пробудить волю к смыслу, нужно прояснить сам смысл.
Шарлотта Бюлер{35} полагает, что «функционирование здорового организма зависит от чередования разрядки и нарастания напряжения». Я считаю, что такое чередование в онтогенезе соответствует и чередованию в филогенезе. В истории человечества тоже отмечаются периоды нарастания и спада напряжения. Эпоха Фрейда была периодом напряжения, вызванного массированным подавлением секса. Теперь мы живем в пору облегчения и, в частности, разрядки сексуальных импульсов. Особенно жители англосаксонских стран из-за своего пуританизма чрезвычайно долго страдали от массированного подавления секса. Как указывалось в первой главе, они чувствовали себя пожизненно обязанными Фрейду за ту услугу, которую он им оказал, и именно этой благодарностью Фрейду вполне можно объяснить довольно-таки иррациональное сопротивление всем новым подходам в психиатрии, выходящим за пределы психоанализа.
Сегодня люди избавлены от напряжения. Прежде всего, отсутствие напряжения связано с утратой смысла, с описанным мною экзистенциальным вакуумом, или фрустрацией воли к смыслу.
В редакционной статье газеты, издаваемой кампусом Университета Джорджии, Бекки Лит задает вопрос: «Какое значение имеет для нынешней молодежи Фрейд или Адлер? У нас есть Таблетка, освобождающая нас от последствий сексуального удовлетворения (беременности): ныне с медицинской точки зрения нет ни малейшей причины для запретов и фрустраций. И у нас есть власть – посмотрите, как американские политики прислушиваются к толпам двадцатипятилетних и еще более молодых людей, посмотрите на Красную гвардию Китая. С другой стороны, Франкл заявляет, что современный человек живет в экзистенциальном вакууме и этот экзистенциальный вакуум проявляется главным образом состоянием скуки. Скука – это ведь вам знакомо? Многие ваши знакомые жалуются на скуку, и это при том, что все в наших руках: и секс, о котором хлопотал Фрейд, и власть по Адлеру. Тут-то и задашься вопросом: отчего так? Возможно, Франкл знает ответ».
Разумеется, Франкл не знает ответа. В конце концов, в обязанности логотерапии не входит давать ответы. Ее основная функция – служить катализатором. Эту функцию описал молодой американец, обратившийся ко мне из Вьетнама: «Я еще не нашел в вашей философии ответы на свои вопросы, но вы сумели вновь запустить колесо моего самоанализа».
В какой мере образование усиливает экзистенциальный вакуум и способствует снижению напряжения? Образование, по-прежнему опирающееся на теорию гомеостаза, следует принципу предъявлять молодым людям как можно меньше требований. Но мы также должны принять во внимание тот факт, что ныне, в стадии благополучного общества, большинство людей страдает скорее от недостатка требований к ним, чем от их избытка. Благополучное общество – это общество минимальных требований, где человек избавлен от напряжения.
Однако, если беречь человека от напряжения, он с большой вероятностью создаст его сам либо здоровым, либо нездоровым способом. Что касается здорового способа, мне кажется, функция спорта именно и заключается в том, чтобы предоставлять людям возможность осуществить свою потребность в напряжении, сознательно предъявляя к себе повышенные требования – такие требования, от которых человека обычно уберегает нетребовательное общество. Более того, мне кажется, что спорту свойствен определенного рода аскетизм, так что едва ли стоит с горечью утверждать, вслед за немецким социологом Арнольдом Геленом{36}, будто не существует внерелигиозного эквивалента средневековой добродетели аскетизма.
Что же касается нездоровых способов создавать напряжение, особенно популярных у молодых людей, вспомним о тех, кого именуют битниками и хулиганами – тех, кто в Вене дразнит полицию, а на Восточном побережье США «на слабо» проделывает опасные трюки. Эти люди рискуют своей жизнью в точности как фанатичные серфингисты на Западном побережье, которые ради этой забавы прогуливают уроки, бросают учебу. Само собой разумеется, что это мое высказывание касается только тех, кто подсел на риск: ведь и подсевшие на ЛСД пользуются наркотиком для той же цели – для прикола, для пикового переживания. В Англии дерутся моды и рокеры[5]. В Осло бывшие вандалы сцепились с вандалами сегодняшними. Каждую ночь десятки волонтеров в возрасте от 14 до 18 лет охраняют бассейн Фрогнер-парка и катаются на трамваях по Осло, оберегая их от озорников, режущих сиденья. Большинство этих мальчиков прежде сами числились в хулиганах. Борьба на стороне закона и против него возбуждает одинаково, говорится в текущем отчете. Иными словами, ребята искали себе источник напряжения, того самого напряжения, которое им недодает общество.
Образование теперь избегает тыкать молодых людей носом в идеалы и ценности. О них не говорят. Есть в американской культуре аспект, для европейца неожиданный: почти что одержимость желанием избежать авторитарности, даже направление не подсказывать. Эта одержимость, видимо, происходит из воспоминаний о пуританской эпохе, о моральном и этическом авторитаризме, доходившем до тоталитаризма. Это навязчивое желание не предъявлять молодежи идеалы и ценности вполне может быть реактивным образованием: коллективный, доходящий до одержимости страх, как бы нам самим не навязали смысл и цель, трансформируется в аллергию на все идеалы и ценности. Таким образом, вместе с водой выплескивается ребенок, все идеалы и ценности отбрасываются. Тем не менее глава департамента психиатрии, неврологии и наук о поведении Школы медицины при Университете Оклахомы Л. Дж. Уэст{37} недавно сделал следующее заявление: «Наша молодежь может себе позволить идеализм, ибо это первое поколение общества благосостояния, но не может позволить себе материализм, диалектический или капиталистический, потому что это первое поколение, которое вполне может наблюдать конец света. Наши молодые люди достаточно образованны, чтобы понимать: лишь идеал общечеловеческого братства дает шанс спасти их мир и их самих». Очевидно, так и есть. Позвольте процитировать данные Австрийского профсоюза, который провел публичный опрос. 87 % из 1500 молодых участников опроса выразили убеждение в необходимости иметь идеалы. Даже в массовом масштабе «идеалы – основа выживания» – вместо глубинного психолога процитируем для разнообразия психолога возвышенного, Джона Гленна{38}.
Вопреки теории гомеостаза напряжения не следует избегать при любых условиях, и мир духа, он же мир души, не должен стать безоговорочной целью любого стремления. Здоровый уровень напряжения, то есть напряжения, которое возникает при осуществлении смысла, неотделим от человеческой природы и обязателен для умственного благополучия. Прежде всего, человеку нужно то напряжение, которое порождается направленностью. Фрейд{39} однажды сказал: «Человек остается сильным до тех пор, пока отстаивает сильную идею». Эта максима подверглась проверке в японских и северокорейских лагерях военнопленных (Нардини{40} и Лифтоном{41} соответственно), а также в концлагерях. Даже в нормальных условиях сильная ориентация на смысл укрепляет здоровье и продлевает жизнь, а то и сохраняет ее. Она важна не только для физического, но и для душевного здоровья (Котчен{42}).
Позвольте рассказать вам о событиях прошлого года в кампусе Калифорнийского университета в Беркли. Когда начались пикеты, внезапно сократилось количество поступающих в психиатрическое отделение студенческой больницы – и резко возросло, как только пикеты прекратились. Несколько месяцев студенты находили смысл в движении за свободу слова.
Разговор о свободе напомнил мне о том, что случилось со мной много лет назад во время лекций в одном американском университете. Знаменитый американский последователь Фрейда, комментируя прочитанный мною доклад, сообщил, что сам он только что вернулся из Москвы. Там, сказал он, неврозы встречаются реже, чем в США, и предположил, что это может быть связано с постоянной необходимостью выполнять какие-то задачи. «Это говорит в пользу вашей теории, – закончил он, – что направленность на смысл и ориентация на задачу важны для душевного здоровья».
Годом позже несколько польских психиатров попросили меня сделать доклад по логотерапии, и в нем я процитировал мнение этого американского психоаналитика: «Вы меньше склонны к неврозам, чем американцы, потому что должны выполнять больше задач», – сказал я им. Поляки самодовольно улыбнулись. «Но не забывайте, – добавил я, – что американцы сохранили свободу самостоятельно выбирать себе задачи – ту свободу, в которой, мне кажется, подчас бывает отказано вам». Они перестали улыбаться.
Как хорошо было бы соединить Восток и Запад, сочетать задачи со свободой. Тогда бы свобода развилась вполне. Свобода – негативное понятие, требующее позитивного дополнения{43}, и это позитивное дополнение – ответственность. Ответственность имеет две интенциональные референции: она соотносится со смыслом, за осуществление которого мы отвечаем, и с тем существом, перед которым мы отвечаем. Таким образом, здоровый сам по себе дух демократии понимается лишь односторонне, если в нем видят свободу без ответственности.
Свобода выродится в пустое своеволие, если не проживается внутри ответственности. Я бы предложил дополнить статую Свободы на Восточном побережье статуей Ответственности на Западном.
В чем смысл «смысла»?
Я пытаюсь доказать, что наше бытие рушится без «сильной идеи» (если воспользоваться термином Фрейда) или сильного идеала. Процитирую Альберта Эйнштейна: «Человек, который считает свою жизнь бессмысленной, не просто несчастлив – он едва ли способен жить».
Тем не менее наше существование не только интенционально, оно также трансцендентно. Самотрансцендентность – суть нашего существования. Бытие человека направлено на что-то другое, а не на самое себя. Под «другим» я, следуя Рудольфу Аллерсу{44}, понимаю объект интенции, к которому устремлено человеческое поведение. Таким образом устанавливается «царство транссубъективности», опять-таки говоря словами Аллерса{45}. Однако ныне стало модным затуманивать транссубъективность. Под влиянием экзистенциализма акцент перенесли на субъективность человеческого бытия. Право же, это неверное истолкование экзистенциализма. Те авторы, кому, по их мнению, удалось преодолеть дихотомию объекта и субъекта, попросту не видят, что, как подтвердит подлинный феноменологический анализ, не существует познания вне поля напряжения между объектом и субъектом. Эти авторы привыкли рассуждать о «бытии в мире», но, чтобы верно понять эту фразу, нужно признать, что быть человеком сущностно означает быть включенным и вовлеченным в некую ситуацию, сталкиваться с миром, объективность и реальность которого ни в коей мере не могут убывать в связи с субъективностью некоего существа, которое «пребывает в мире».
Сохранять качество «другого», объективность объекта, – значит сохранять и напряжение между объектом и субъектом. Это напряжение – то же, что между «я есть» и «я должен»{46}, между реальностью и идеалом, бытием и смыслом. И чтобы такое напряжение сохранялось, нельзя допускать, чтобы смысл совпал с бытием. Я бы сказал, смысл смысла заключается в том, чтобы задавать ритм бытия.
Я хочу сравнить эту необходимость с историей, рассказанной в Библии: когда Израиль шел через пустыню, слава Господня предшествовала ему в виде облака, только так и могло осуществляться Божье руководство. Представьте же себе, что бы произошло, если бы Господне присутствие, обозначаемое облаком, переместилось в самую середину Израиля: тогда облако не указывало бы путь, а затемнило бы все вокруг и народ сбился бы с пути.
С этой точки зрения мы видим определенную опасность в том «слиянии фактов и ценностей», что происходит в «пиковых переживаниях и самоактуализации»{47}, ведь в пиковых переживаниях «есть» и «должно» смешиваются{48}. Тем не менее быть человеком – значит предстоять смыслу, который нужно осуществить, и ценностям, которые нужно воплотить. Это значит жить в поле напряжения между полюсами реальности и идеалов, которые требуется сделать реальностью. Человек живет идеалами и ценностями. Человеческое существование не подлинно, если не проживается в условиях самотрансцендентности.
Первичная и естественная озабоченность человека смыслами и ценностями подвергается опасности превалирующего субъективизма и релятивизма. Они оба способны подорвать идеализм и энтузиазм.
Позвольте привлечь ваше внимание к примеру, который приводит американский психолог: «Чарльз… бывал очень, как он выражается, “зол”, когда получал счет от врача, будь то дантист или терапевт, и либо платил меньшую сумму, либо не платил вовсе… Я отношусь к долгам иначе и придаю большую ценность тому факту, что всегда вовремя плачу по счетам. В данном случае я не стану обсуждать свои ценности, но сосредоточусь на психодинамике поведения Чарльза, поскольку… моя собственная одержимая потребность платить как можно скорее имеет невротическую мотивацию… ни при каких обстоятельствах я бы не пытался убедить других людей или навязать им мои ценности, поскольку я уверен, что эти ценности имеют относительное, а не абсолютное значение»{49}.
Я думаю, оплата счетов имеет определенный смысл независимо от того, нравится ли человеку это делать, а также независимо от придаваемых этому подсознательных значений. Гордон Олпорт однажды правильно сказал: «Фрейд был специалистом именно в тех мотивах, которые нельзя принимать за чистую монету»{50}. Сам факт существования таких мотивов, безусловно, не отменяет другого факта: что в целом мотивы можно принимать за чистую монету. А если кто-то это отрицает, каковы же бессознательные и скрытые мотивы отрицания?
Возьмем для примера рецензию доктора Джулиуса Хейшера на два тома, в которых знаменитый последователь Фрейда анализирует Гёте. «На этих 1538 страницах, – говорится в отзыве{51}, – нам предъявляют гения с симптомами маниакально-депрессивного психоза, паранойи, эпилептоидного расстройства личности, гомосексуальности, инцеста, вуайеризма, эксгибиционизма, фетишизма, импотенции, нарциссизма, обсессивно-компульсивного невроза, истерии, мании величия и т. д. Автор почти исключительно сосредоточен на динамической игре инстинктов, которая лежит в основе… произведения искусства. Нас всех пытаются убедить в том, что [творчество Гёте] представляет собой всего лишь результат прегенитальной фиксации. Поэт стремится не к идеалу, красоте, ценностям, главное для него – преодолеть смущающие его трудности с преждевременной эякуляцией. Эти тома в очередной раз убеждают, – завершает автор рецензии, – что фундаментальная позиция [психоанализа] не поколебалась».
Теперь мы видим, по какому праву Уильям Ирвин Томпсон задавал вопрос: «Если самые образованные члены общества продолжают рассматривать гениев как замаскированных сексуальных извращенцев, если они продолжают думать, что все ценности – это лицемерные выдумки, которые нормативны для человека толпы, но не для проницательного ученого, который все знает лучше, то с чего же нам волноваться, когда наша культура утрачивает уважение к ценностям и растворяется в оргии потребления, преступности и безнравственности?»{52}
Чему же удивляться, когда за такое состояние дел приходится дорого платить. Лишь недавно Лоренс Джон Хэттерер{53} указывал, что «многие художники покидают кабинет психиатра, возмущенные интерпретациями своего творчества: дескать, автор пишет, потому что копит обиды или вообще мазохист, актер играет, потому что он эксгибиционист, танцует, желая сексуально соблазнить зрителей, художник рисует, преодолевая строгое приучение к горшку – свободным выбросом красок».
Как мудр и осторожен был Фрейд, напоминавший, что сигара порой бывает сигарой и ничем большим. Или это его заявление само по себе всего лишь механизм защиты, способ извинить собственное курение? И так до бесконечности, regressus in infinitum[6]. В конце концов, мы же не разделяем «веру Фрейда в полное совпадение “мотивации” и “детерминированности”», как говорит Маслоу{54}, упрекавший Фрейда в том, что тот «ошибочно отождествлял “детерминированность” и “подсознательную мотивированность”, словно других детерминантов поведения не существует».
Согласно одному определению, смыслы и ценности представляют собой лишь реактивные образования и защитные механизмы. Что до меня, я бы не хотел жить ради своих реактивных образований и тем более умереть во имя защитных механизмов.
Но в самом ли деле смыслы и ценности столь относительны и субъективны, как нас убеждают? В некотором смысле – да, но в смысле ином, нежели говорят о них релятивизм и субъективизм. Смысл относителен постольку, поскольку относится к конкретному человеку в конкретной ситуации. Можно сказать, что смысл меняется, во-первых, от человека к человеку, а во-вторых, изо дня в день и даже от часа к часу.
Вообще-то я бы предпочел говорить об уникальности смысла, а не его относительности. Однако уникальность – качество не только ситуации, но и жизни в целом, поскольку жизнь состоит из ряда уникальных ситуаций. То есть человек уникален и по своей сущности, и в своем существовании. В конечном счете каждый незаменим именно потому, что сущность каждого человека уникальна. И жизнь каждого человека уникальна, ибо никто не может ее повторить, то есть в силу уникальности существования. Раньше или позже эта жизнь завершится со всеми ее уникальными возможностями осуществления смыслов.
Я нигде не нахожу эту мысль в более короткой и точной формулировке, чем у Гиллеля, великого еврейского мудреца, который жил почти две тысячи лет назад. Он сказал: «Если я чего-то не делаю, кто сделает за меня? И если не делаю прямо сейчас, то когда же? Но если я делаю это лишь ради себя – то кто же я?» «Если я не делаю» – здесь, как я считаю, речь о моей уникальности. «Если не делаю прямо сейчас» – это об уникальности уходящей минуты, что дает мне возможность осуществить смысл. И «если делаю только ради себя» – тут уже речь идет не более и не менее как о самотрансцендентном качестве человеческого существования. Вопрос «Кто я, если я делаю это лишь ради себя?» требует ответа: «Я никак не могу считаться человеком», поскольку постоянное качество человеческой жизни в том и состоит, что она выходит за пределы себя и тянется к чему-то иному. Говоря словами Августина, сердце человека неспокойно, пока не найдет и не осуществит свой смысл, свою цель в жизни. Это утверждение, как мы увидим в следующей главе, кратко передает суть теории и практики того типа невроза, который я назвал ноогенным.
Но вернемся к уникальности смыслов. Из того, что я уже сказал, следует, что нет такой вещи, как универсальный смысл жизни, есть только уникальные смыслы индивидуальных ситуаций. Тем не менее нельзя забывать, что в числе этих ситуаций есть и такие, у которых есть нечто общее, а следовательно, есть и смыслы, общие для людей из разных слоев общества, более того, общие для разных эпох. Такие смыслы не ограничиваются уникальной ситуацией, но относятся к человеческому состоянию, и все эти смыслы есть то, что мы называем ценностями. Итак, ценности можно определить как универсальные смыслы, которые кристаллизуются в типичных ситуациях, с какими сталкивается общество или даже человечество в целом.
Обладание ценностями облегчает человеку поиск смысла, поскольку хотя бы в типичных ситуациях он избавлен от принятия решений. Но, увы, за это упрощение тоже приходится платить, поскольку, в отличие от уникальных смыслов уникальных ситуаций, ценности могут вступать в противоречия между собой. Такие противоречия между ценностями в душе человека вызывают конфликт ценностей, что играет важную роль в формировании ноогенных неврозов.
Представим себе, что уникальные смыслы – точки, а ценности – круги. Понятно, что ценности могут пересекаться и накладываться друг на друга, а с уникальными смыслами этого не произойдет (см. рис. 5). Но следует задать себе вопрос: могут ли две ценности в самом деле совпасть, иными словами, верна ли эта аналогия с двухмерными кругами? Не точнее ли будет сравнивать ценности с трехмерными сферами? Две трехмерные сферы в проекции на плоскость дадут два двухмерных пересекающихся круга, хотя сами сферы даже не соприкасаются (см. рис. 6). Впечатление, будто две ценности совпадают, складывается из-за того, что мы отбрасываем целое измерение. А что это за измерение? Это иерархия ценностей. Согласно Максу Шелеру, когда мы что-то именуем ценностью, это имплицитно предполагает предпочтение одного другому. Таков итоговый вывод из его глубокого феноменологического анализа процесса определения ценностей.
Ранг ценности переживается наряду с самой ценностью, иными словами, переживание ценности включает в себя ощущение, что данная ценность стоит выше какой-то другой. И не остается места для конфликта ценностей.
Однако ощущение иерархического порядка ценностей не освобождает человека от принятия решения. Импульсы подталкивают человека, а ценности его притягивают. Он всегда свободен принять или отвергнуть те ценности, которые предлагает ему ситуация. Это же относится и к иерархическому порядку ценностей, который в значительной степени определяется моральными и этическими традициями и стандартами. Они все равно подвергаются испытанию – испытанию человеческой совестью, если только человек не откажется прислушиваться к совести, не подавит ее голос.
Теперь, когда мы разобрались с вопросом об относительности смыслов, перейдем к вопросу об их субъективности. Не будет ли верным утверждение, что в конечном счете смыслы – это вопрос истолкования? И разве истолкование не подразумевает всегда также решение? И разве не приходится делать выбор в ситуациях, которые допускают несколько вариантов истолкования? Мой собственный опыт подсказывает, что такие ситуации имеют место{55}.
Незадолго до того как Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну, мне пришло из американского консульства в Вене приглашение – получить иммиграционную визу. В ту пору я жил в Вене один, со стариками-родителями. Они, разумеется, думали, что я поступлю именно так: получу визу и поскорее уеду в другую страну. Однако в последний момент я заколебался и начал переспрашивать себя: «Должен ли я так поступить? Смогу ли я это сделать?» – слишком ясно было, что ожидает моих родителей: судя по тогдашней ситуации, в ближайшие две недели им предстояло отправиться в концлагерь, точнее – в лагерь уничтожения. Должен ли я был попросту предоставить их этой судьбе, покинув Вену? До того времени мне удавалось защитить их от общей участи, поскольку я все еще возглавлял отделение неврологии еврейской больницы, но с моим отъездом их положение радикально изменилось бы. Когда я попытался разобраться, в чем же заключается моя истинная ответственность, я понял, что эта ситуация относится к тому типу, когда человек мечтает получить некий намек, «знак свыше». В этом настроении я пошел домой и, придя, увидел на столе обломок мраморной плитки. Я спросил у отца, откуда это взялось, и он ответил: «Виктор, я подобрал этот камень утром на том месте, где раньше стояла синагога» (национал-социалисты сожгли ее). «А зачем ты взял этот обломок?» – спросил я. «Потому что это часть скрижалей, на которых написаны десять заповедей». И он показал мне вырезанную на мраморе золоченую еврейскую букву. «Я тебе более того скажу, – продолжал он, – если хочешь знать: эта еврейская буква может обозначать лишь одну из десяти заповедей». И я с интересом переспросил: «Какую?» Ответ был: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле». И в этот миг я твердо решил остаться здесь, с родителями, и не получать визу.
Вы можете справедливо заметить, что это был проективный тест, что я, конечно же, в глубине души принял решение до того и лишь спроецировал его на этот внезапно появившийся кусок мрамора. Но если бы я не видел в этом куске мрамора ничего, кроме карбоната кальция, это опять-таки было бы результатом проективного теста, а конкретно – выражением того чувства общей бессмыслицы и внутренней пустоты, которое я назвал экзистенциальным вакуумом.
Итак, с виду смысл – лишь то, что мы проецируем на окружающие нас вещи, которые сами по себе нейтральны. И с точки зрения такой нейтральности реальность может показаться экраном, на который мы проецируем свои желания и мечты, чем-то вроде теста Роршаха. Будь это так, смысл сводился бы к средствам самовыражения, то есть был бы глубоко субъективен{56}.
Однако единственный тут субъективный момент – точка зрения, с которой мы смотрим на реальность, и эта субъективность не в силах что-то отнять у объективности самой реальности. На гарвардском семинаре я спонтанно предложил студентам иллюстрацию этого феномена: «Выгляньте из окна нашего лекционного зала и посмотрите на гарвардскую часовню. Каждый увидит ее под своим углом, в особом ракурсе, в зависимости от места, где он сидит. Если кто-то станет утверждать, будто видит часовню в точности так же, как ее видит сосед, я вынужден буду предположить, что один из этих двух очевидцев страдает галлюцинациями. Но убывает ли объективность и реальность часовни из-за такой разницы ее образов? Разумеется, нет».
Человеческое познание не стоит сравнивать с калейдоскопом. Если заглянуть в калейдоскоп, увидишь только его внутренности, а вот если посмотреть в телескоп, то увидишь нечто за его пределами. Когда мы смотрим на мир или на что-то в мире, мы также видим нечто большее, чем нашу, так сказать, перспективу. То, что можно увидеть сквозь перспективу, сколь бы субъективной эта перспектива ни была, и будет объективным миром. На самом деле «видеть сквозь» – это буквальный перевод латинского слова perspectum. Я готов заменить термин «объективный» более осторожным «транссубъективный», который использует в том числе Аллерс{57}. Это ничего не меняет, как не меняет и способ обсуждения – о вещах или о смыслах: и то и другое «транссубъективно». Такая транссубъективность предполагается изначально, как только мы заводим разговор о самотрансцендентности. Человек выходит за пределы себя к смыслам, которые представляют собой нечто иное, чем он сам, а не только выражение его «Я» или его проекцию. Смыслы открываются, а не изобретаются.
В этом мы противостоим утверждению Жан-Поля Сартра, который считает, что идеалы и ценности изобретаются и формируются человеком. Или, как сформулировал Сартр, человек изобретает себя. Это напоминает мне трюк факира. Факир утверждает, что может забросить веревку в воздух, в пустое пространство, так что она ни на чем не будет закреплена, и все-таки по этой веревке сможет вскарабкаться мальчик. Разве Сартр не пытается нас убедить, будто человек «проецирует» – а этот глагол буквально означает «бросает вперед и вверх» – идеал в ничто и тем не менее карабкается к осуществлению этого идеала и к самосовершенствованию? Но поле напряжения, которое человеку так отчаянно нужно для его душевного здоровья и моральной целостности, не может быть установлено, если не сохраняется объективность объективного полюса и человек не ощущает транссубъективность смысла, который он призван осуществить.
Что транссубъективность – реальный факт, переживаемый человеком, с очевидностью следует из того, в какой форме он говорит об этом опыте. Если только его самосознание не изувечено заранее принятыми стилями истолкования (а то и индоктринации), он говорит о смысле как о том, что надо найти, а не о том, что нужно придать. Феноменологический анализ, который старается описывать такой опыт эмпирически и без предвзятости, покажет нам, что смыслы и в самом деле чаще отыскиваются, чем предписываются. И если даже чему-то дается смысл, то не в виде приказа свыше, но скорее так, как дается ответ. Ведь на каждый вопрос существует один-единственный правильный ответ, так и в каждой ситуации есть единственный смысл, и это истинный смысл.
В одном из лекционных туров по США я попросил слушателей писать вопросы печатными буквами и передавать их богослову, который вручал их мне. Один из вопросов богослов посоветовал пропустить, поскольку, по его словам, это была «полная чепуха». «Вас спрашивают, – пояснил он, – как в вашей теории экзистенции определяется 600». Когда я прочитал ту же записку, я увидел другой смысл: «Как в вашей теории экзистенции определяется GOD». При записи печатными буквами трудно отличить слово «Бог» по-английски и число 600. Нельзя ли это считать неумышленным проективным тестом? Богослов прочел «600», а невролог – «GOD»{58}. Однако существует единственный правильный способ читать этот вопрос – тот, который соответствует значению, вложенному в него автором. Итак, мы пришли к определению смысла: смысл – это то, что нам хочет сказать человек, который задает вопрос, или ситуация, ведь она тоже подразумевает вопрос и требует ответа. Я не могу сказать: «Это мой ответ, и плевать, прав я или нет» (как американцы говорят: «Моя страна, права она или нет»). Я должен изо всех сил постараться выяснить подлинное значение заданного мне вопроса.
Разумеется, человек свободен в своем ответе на вопросы, которые задает ему жизнь. Но свобода – не своеволие. Свободу надо понимать в терминах ответственности. Человек несет ответственность за то, чтобы дать на вопрос правильный ответ, чтобы найти истинный смысл ситуации. А смысл – это то, что находят, а не то, что дают. Крамбо и Махолик{59} указывают, что поиск смысла в ситуации связан с восприятием гештальта. Это утверждение поддерживает гештальтист Вертгеймер: «Ситуация семь плюс семь равно… – это система с лакуной, с прорехой. Можно заполнить лакуну разными способами. Один из ответов – четырнадцать – соответствует ситуации, заполняет лакуну и есть то, что структурно требуется в этой ситуации, на этом месте, в соответствии со своей функцией в целом. Это отвечает ситуации. Другие ответы, например пятнадцать, не подходят. Это неправильные ответы. Вот в чем состоит концепция запросов ситуации, ее “требований”. “Требования” такого рода представляют собой свойство объективное»{60}.
Я сказал, что смысл не может быть назначен произвольно, его следует ответственно искать. Я мог бы сказать также, что его нужно искать с помощью совести. В самом деле, в поисках смысла человека направляет совесть. Совесть можно определить как интуитивную способность человека находить смысл в ситуации. Поскольку смысл уникален, он не подпадает под действие общих законов, и интуитивная способность, такая как совесть, – единственный способ овладеть гештальтами смысла.
Совесть не только интуитивна, она также креативна. Снова и снова совесть человека приказывает ему сделать то, что противоречит назиданиям общества, к которому он принадлежит, так сказать, его племени. Представим себе племя каннибалов: творческая совесть человека вполне может обнаружить, что в конкретной ситуации будет больше смысла пощадить врага, чем его убивать. Так, совесть вполне может начать революцию, и то, что поначалу было уникальным смыслом, может сделаться универсальной ценностью: «Не убий». То, что сегодня уникальный смысл, завтра – универсальная ценность. Так создаются религии и возникают ценности.
Совесть также обладает способностью обнаруживать уникальные смыслы, которые противоречат принятым ценностям. Та заповедь, которую я только что процитировал, дополняется другой: «Не прелюбодействуй». В этом контексте на ум приходит история мужчины, который вместе с молодой женой был отправлен в Аушвиц. Он рассказывал мне после своего освобождения, что, когда их разлучили в концлагере, он в последний момент почувствовал настоятельную потребность попросить жену, чтобы она выжила: «Любой ценой, ты меня понимаешь? Любой ценой…» Она, конечно, поняла: она была красавица, и ей мог представиться в ближайшем будущем шанс спасти свою жизнь, согласившись стать проституткой для эсэсовцев. На случай, если бы возникла такая ситуация, муж хотел, так сказать, авансом дать ей отпущение. В последний момент совесть побудила его, приказала освободить жену от заповеди «Не прелюбодействуй». В уникальной ситуации – подлинно уникальной – уникальный смысл заключался в отказе от универсальной ценности супружеского обета, в том, чтобы нарушить одну из десяти заповедей. И это был единственный способ соблюсти другую из десяти заповедей – «Не убий». Если бы он не дал ей своего разрешения, то принял бы на себя часть ответственности за ее смерть.
Ныне мы живем в век рушащихся, исчезающих традиций, то есть вместо сотворения новых ценностей в поисках уникальных смыслов происходит обратное: универсальные ценности оскудевают. Вот почему все больше людей оказываются пленниками пустоты и бесцельности, экзистенциального вакуума, как я привык это называть. И все же, даже если бы разом исчезли все универсальные ценности, жизнь останется осмысленной, поскольку с утратой традиций никуда не денутся уникальные смыслы. Разумеется, чтобы находить смыслы даже в эпоху, лишенную ценностей, человеку требуется вся полнота способностей совести. Из этого с очевидностью следует, что в такую эпоху, как наша, то есть в век экзистенциального вакуума, первоочередной задачей образования должна быть не передача традиций и знаний, а укрепление той способности, которая позволяет человеку находить уникальные смыслы. Сегодня образование не может привычно следовать по традиционным рельсам, оно должно пробуждать способность к независимым и аутентичным решениям. В эпоху, когда десять заповедей утратили, по-видимому, безусловную неколебимость, человеку больше, чем в прежние века, необходимо прислушиваться к десяти тысячам заповедей, которые возникают в десяти тысячах уникальных ситуаций, из которых состоит жизнь человека. А к этим заповедям его направляет совесть, и только на нее он может полагаться. Живая, пылкая совесть – единственное, что помогает человеку противостоять последствиям экзистенциального вакуума, то есть конформизму и тоталитаризму (см. предыдущую главу).
Мы живем в эпоху изобилия – всевозможного. СМИ бомбардируют нас огромным количеством стимулов, и нужно защищаться от них, отфильтровывать лишнее. Нам предлагается множество возможностей, из них нужно выбирать. Словом, мы должны принимать решения, что для нас существенно, а что нет.
Мы живем в эпоху Таблетки. Нам предлагаются неслыханные прежде возможности, и, если мы не хотим, чтобы нас с головой накрыло распутство, нужно применять избирательность. Избирательность же основана на ответственности, то есть на принятии решений под руководством совести.
Настоящая совесть не имеет ничего общего с тем, что я бы назвал «суперэготистской псевдоморалью». Нельзя от нее отмахнуться и как от условного рефлекса. Совесть, несомненно, человеческий феномен. Но следует уточнить, что она также «всего лишь» человеческий феномен. Она зависима от человеческой природы, то есть ей присуща человеческая ограниченность, ведь совесть не только направляет человека в поисках смысла, но нередко и сбивает его с пути. И человек, если только он не перфекционист, признает также эту погрешность совести.
Да, человек свободен и ответствен. Но его свобода ограничена. Человеческая свобода – не всемогущество, человеческая мудрость – не всеведение, и это верно как для мышления, так и для совести. Никто не может быть до конца уверен в подлинности смысла, в который уверовал. И не будет этого знать даже на смертном одре. Ignoramus et ignorabimus[7] – не ведаем и не будем ведать, как сказал Эмиль Дю Буа-Реймон, хотя в принципиально ином контексте психофизической проблемы.
Но и признавая свою человеческую природу, человек все-таки должен безоговорочно следовать своей совести, хотя и сознавая вероятность ошибки. Я бы сказал, что вероятность ошибки не освобождает от обязанности попытаться. Как сформулировал Гордон Олпорт, «мы можем одновременно быть наполовину уверены и всем сердцем преданны»{61}.
Вероятность того, что моя совесть заблуждается, подразумевает возможность, что права совесть другого человека. Отсюда прямой путь к скромности и смирению. Отправляясь на поиски смысла, я должен быть уверен, что смысл существует. Если же, с другой стороны, я не могу быть уверен в том, что я его непременно отыщу, то я должен быть толерантен. Это ни в коем случае не подразумевает неразборчивость и индифферентность. Толерантность не требует, чтобы я разделил чужую веру, но предполагает, что я признаю право другого человека доверять собственной совести и ей подчиняться. Отсюда следует, что психотерапевт не может навязывать пациенту свои ценности. Пациента следует обратить к его личной совести. И если мне зададут вопрос, который довольно часто возникает, – следует ли соблюдать такой нейтралитет даже по отношению к Гитлеру, – я отвечу утвердительно, поскольку я уверен, что Гитлер никогда бы не стал тем, чем он стал, если бы не подавил в себе голос совести.
Само собой разумеется, что в неотложных случаях психотерапевт не обязан сохранять нейтралитет. Так, когда возникает опасность суицида, совершенно правильно будет вмешаться, потому что лишь заблуждение совести может побуждать человека покончить с собой. Я также убежден, что лишь заблуждение совести может побуждать человека совершить убийство или – раз уж мы заговорили о Гитлере – геноцид. Но помимо этого убеждения сама клятва Гиппократа требует, чтобы врач предотвратил самоубийство пациента. Я с радостью признаю, что навязывал пациентам жизнеутверждающий Weltanschauung[8] в тех случаях, когда приходилось иметь дело с людьми, склонными к суициду.
Однако в большинстве случаев психотерапевт не должен навязывать пациенту какое-либо мировоззрение, и логотерапевт не исключение из общего правила. Ни один логотерапевт не притязает на обладание ответами. Не логотерапевт, а Змей-искуситель сказал женщине: «Вы будете, как боги, знающие добро и зло»[9]. Ни один логотерапевт не претендует на умение различать, что является ценностью, а что нет, что обладает смыслом, а что им не обладает, что разумно, а что нет.
Редлих и Фридман{62} отвергают логотерапию именно потому, что она якобы внедряет в жизнь пациента смысл. На самом деле точнее было бы сказать обратное. Я неустанно повторяю, что смысл нужно искать, его никто не может вам дать и менее всего дать пациенту смысл{63} способен врач{64}. Пациент должен сам спонтанно отыскать смысл. Логотерапия не раздает рецепты и предписания. Но, сколько бы я это ни разъяснял, логотерапию снова и снова обвиняют в том, что она «дает смысл и цель». Никто не обвиняет последователей Фрейда, психоаналитиков, которые изучают сексуальную жизнь пациента, в том, что они поставляют пациентам девочек. Никто не обвиняет последователей Адлера, которые обеспокоены социальной жизнью пациента, в том, что они ищут пациентам работу. С какой же стати логотерапия, которая занимается экзистенциальными устремлениями и фрустрациями, подвергается обвинениям в том, что она «навязывает смысл»?
Такие упреки в адрес логотерапии тем не менее понятны, если принять во внимание факт, что даже поиск смысла ограничен полем ноогенных неврозов, то есть примерно 20 % случаев, за которые берутся наши клиники и филиалы. А техника парадоксальной интенции, которая применяется в рамках логотерапии, разработанная для лечения психогенных неврозов, вообще едва ли затрагивает какие-либо проблемы смысла и ценностные конфликты.
Не логотерапевт, а скорее практикующий психоаналитик является (опять-таки сошлюсь на International Journal of Psycho-Analysis) «в первую очередь моралистом», поскольку он «влияет на моральное и этическое поведение человека»{65}. Лично я считаю моралистическую дихотомию эгоизма и альтруизма устаревшей. Я убежден, что эгоист только выигрывает, когда начинает считаться с другими, и также верно обратное: альтруист именно ради других людей должен всегда заботиться и о собственном благе. Я уверен, что моралистический подход постепенно сменится онтологическим, то есть подходом, который будет определять добро и зло с учетом того, что способствует или же препятствует осуществлению смысла, и не важно, собственному смыслу человека или же чьему-то еще.
Мы, психотерапевты, действительно убеждены и при необходимости стараемся убедить в этом же своих пациентов, что какой-то смысл непременно должен быть и его нужно осуществлять в жизни. Однако мы не беремся утверждать, будто знаем, в чем состоит этот смысл. Читатель мог уже заметить, что мы добрались до третьей аксиомы логотерапии, после свободы воли и воли к смыслу: до смысла жизни. То есть мы утверждаем, что в жизни есть смысл, тот самый смысл, в поисках которого человек находился все время, а также что человек обладает свободой приступить к осуществлению этого смысла.
Но на каком основании мы беремся утверждать, что жизнь обладает смыслом и сохраняет его в любой ситуации? Я подразумеваю не моральные основания, но попросту эмпирические, в самом широком смысле слова. Нужно лишь присмотреться к тому, как обычный человек переживает смысл, и перевести его опыт на язык науки. Такое предприятие, думаю я, как раз и является задачей для того, что мы называем феноменологией. И напротив, задача логотерапии – заново переводить то, что мы таким образом сумели узнать, на простой язык, который поможет нашим пациентам понять, как они сами могут обрести смысл в жизни. Не следует думать, будто этот процесс сводится исключительно к философским дискуссиям с пациентами. Существуют и другие каналы, по которым можно передать пациентам мысль о безусловной осмысленности жизни. Хорошо помню, как после публичной лекции, которую я читал по приглашению Университета Нового Орлеана, ко мне подошел человек – просто пожать руку и поблагодарить. Простой человек в самом подлинном смысле слова, дорожный рабочий, отсидевший одиннадцать лет в тюрьме, и единственным, что обеспечило ему внутреннюю поддержку, была обнаружившаяся в тюремной библиотеке книга «Человек в поисках смысла». Итак, логотерапия отнюдь не только интеллектуальное занятие.
Логотерапевт – не моралист и не интеллектуал. Его работа основана на эмпирическом, то есть феноменологическом, анализе, и этот анализ опыта обретения ценностей, через который проходит самый обычный человек, демонстрирует, что смысл в жизни можно обрести в творческой работе, в исполнении какого-то дела или в ощущении блага, истины и красоты, в переживании природы и культуры или (хотя я называю это последним, это не менее важно) воспринимая другое уникальное существо в самой его уникальности, иными словами, полюбив другое уникальное человеческое существо. И все же самое благородное постижение смысла уготовано тем людям, кто, не имея возможности обрести смысл в деянии, работе или любви, самим отношением к своей нелегкой участи поднимается над ней и растет превыше себя. Важна единственно их позиция, та позиция, которая превращает тяжелую судьбу в достижение, подвиг и победу.
Если кто-то предпочтет в таком контексте говорить о ценностях, ему следует разделить ценности на три основные группы. Я обозначил их как творческие ценности, ценности переживания и ценности позиции. Эта последовательность отражает три основных способа обретения смысла. Первый способ – то, что человек дает, то есть то, что он созидает; второй – то, что он берет от мира, то есть встречи, опыт и впечатления; и третий способ – это позиция, которую человек занимает по отношению к обстоятельствам, когда оказывается в ситуации, которую не властен изменить. Вот почему смысл жизни никогда не иссякает, ведь даже у человека, лишенного возможности осуществлять творческие ценности и ценности переживания, все еще остается смысл, который он может осуществлять, – смысл, который обретается в правильном, прямом отношении к страданию.
В качестве примера сошлюсь на рассказ раввина Эрла Гроллмана, которого однажды вызвали к женщине, которая умирала от неизлечимой болезни. «Как мне принять мысль о смерти и ее реальность?» – спросила она. И дальше, как рассказывает раввин, «мы много раз с ней об этом говорили, и я, по обязанности раввина, приводил ей различные учения о бессмертии, которые допускает наша вера. А потом, как дополнение, я упомянул концепцию доктора Франкла о ценности позиции. Богословские доводы в целом не произвели на нее особого впечатления, зато понятие о ценности позиции пробудило ее интерес, особенно когда женщина услышала, что основатель этого учения – психиатр, выживший в концлагере. Этот психиатр и его теория завладели ее воображением именно потому, что он знал страдание не только с теоретической стороны. И женщина тут же приняла решение: раз уж она не может спастись от неизбежного страдания, она, по крайней мере, сама будет определять свое отношение к болезни. Она превратилась в твердыню и опору для всех близких, чьи сердца раздирала скорбь. Сначала это была скорее “бравада”, но со временем жест стал наполняться значением. Женщина призналась мне: “По-видимому, единственное мое притязание на бессмертие заключается в той манере, в какой я приму это испытание. И хотя боль порой становится невыносимой, я обрела внутренний мир и удовлетворение, каких прежде не знала”. Она умерла достойно, и наша община помнит эту женщину и ее неукротимую отвагу».
Я не хочу в этом контексте подробно останавливаться на связи логотерапии с богословием{66}. Для этой темы я оставляю последнюю главу книги. Пока достаточно будет сказать, что в принципе ценность позиции возможна независимо от того, признаёт ли человек религиозную философию жизни или нет. Концепция ценности позиции проистекает не из моральных или этических предписаний, но скорее из эмпирического опыта и фактического описания того, что происходит в человеке всякий раз, когда он оценивает свое или чужое поведение. Логотерапия основана на утверждениях о ценностях как фактах, а не на суждениях о фактах как ценностях. И один из таких фактов: обычный человек оценивает тех, кто несет свой крест с «неукротимой отвагой» (как выразился раввин Гроллман), выше, чем тех, кто попросту добивается успеха, даже чрезвычайно большого успеха, как в сфере бизнеса и обогащения, так и в сфере плейбойского покорения женщин.
Позвольте подчеркнуть, что ценность позиции применима только «к судьбе, которую невозможно изменить». Никакого смысла нет в том, чтобы страдать от болезни, которую можно вылечить, – запускать операбельную опухоль, например. Это больше похоже на мазохизм, чем на геройство. Стоит проиллюстрировать эту мысль более конкретным примером. Однажды мне попалась на глаза немецкая реклама в форме стихотворения. На английский язык его перевел мой друг Джозеф Фабри:
Все удары судьбы Терпеливо сноси, Но клопов не терпи: «Розенштайн» купи.Ричард Траутманн в рецензии{67} на мою немецкую книгу Homo patiens{68} совершенно справедливо говорит, что «страдание есть то, что следует устранять любыми средствами и любой ценой». Однако мы вправе предположить, что он как врач вполне осознает: порой страдание оказывается неизбежным. Каждый человек рано или поздно обречен умереть, а до того – страдать, и тут не спасут все достижения науки, столь превозносимые прогрессизмом и сциентизмом. Закрывая глаза на эти экзистенциальные «факты бытия», мы лишь поощряем эскапизм пациентов-невротиков. Желательно избегать страдания, насколько это возможно. А как быть с неизбежным страданием? Логотерапия учит, что боли следует избегать до тех пор, пока остается возможность ее купировать. Но когда выясняется, что изменить причиняющую боль ситуацию невозможно, ее не только нужно принять, но и возможно преобразить во что-то осмысленное, в достижение. И неужели, хотел бы я знать, такой подход впрямь «выражает регрессивную тенденцию к самодеструктивной покорности», как утверждает Ричард Траутманн?
В некоторых аспектах концепция ценности позиции шире, чем мысль, что в страдании можно обрести смысл. Страдание лишь одна составляющая того, что я называю «трагической» триадой человеческого существования. Эта триада состоит из боли, вины и смерти. Ни один человек не может сказать о себе, что он никогда не сбивался с пути, никогда не страдал, никогда не умрет.
Здесь, как заметит читатель, вводится третья триада. Первая состоит из свободы воли, воли к смыслу и смысла жизни. Смысл жизни образуется второй триадой – ценностями творчества, переживания и позиции. А ценности позиции мы раскладываем на третью триаду – осмысленное отношение к боли, вине и смерти.
Разговор о «трагической» триаде не должен внушить читателю подозрение, будто логотерапия столь же пессимистична, как экзистенциализм (или как о нем отзываются). Напротив, логотерапия – оптимистический подход к жизни, она учит, что нет таких трагических и негативных обстоятельств, которые нельзя было бы изменить с помощью занятой в их отношении позиции и преобразить в позитивные достижения.
Но есть разница между позициями по отношению к боли и вине: по отношению к боли это действительно умение противостоять собственной судьбе, иначе из страдания не выжать смысл. Однако, если речь идет о вине, человек занимает позицию по отношению к самому себе. И, что еще важнее, судьбу изменить невозможно, на то она и судьба, но человек вполне может изменить себя, на то он и человек. Прерогатива человека, основа человеческого существования как раз и заключается в способности формировать и реформировать себя. Иными словами, человек обладает привилегией стать виноватым и ответственностью превозмочь вину. Как сформулировал в письме ко мне издатель San Quentin News, «у человека остается возможность превращения» (см. предыдущую главу).
Никто не предлагал более глубокого феноменологического анализа подобных превращений, чем Макс Шелер в одной из своих книг{69}, а конкретно в главе «Покаяние и возрождение». Макс Шелер также напоминает о праве человека быть признанным виновным и быть наказанным. Если мы рассматриваем человека лишь как жертву обстоятельств и их влияний, мы не только перестаем рассматривать его как человека, но и подрываем его волю к изменению.
Обратимся к третьему аспекту «трагической» триады человеческого существования, то есть к бренности жизни. Зачастую человек видит лишь скошенное поле преходящего и не замечает полные житницы прошлого. В прошлом ничто не утрачено безвозвратно, но все неотменимо сохранено и спасено, благополучно исполнено и собрано. Никто и ничто не может лишить нас того, что спасено в прошлом. То, что мы сделали, не может быть уничтожено. И это опять-таки умножает ответственность человека: перед лицом преходящей жизни он обязан не упускать моменты для реализации возможностей, воплощать ценности – творчества, переживания или позиции. Иными словами, человек отвечает за выбор: что делать, кого любить и как страдать. Как только он осуществит некую ценность, воплотит смысл – это сделано раз и навсегда.
А теперь вернемся к простому человеку и бизнесмену: первый оценивает успех второго как относящийся к более «низкому» измерению, чем его собственное, ведь сам он сумел преобразить трудную ситуацию в достижение. Антропология «измерений», намеченная в предыдущей главе, поможет нам разобраться с понятиями «выше» и «ниже». В повседневной жизни человек живет и движется в том измерении, где позитивный полюс закреплен за успехом, а негативный – за неудачей. Это измерение компетентного человека, разумного животного, Homo sapiens. Но Homo patiens, страдающий человек, который в силу самой своей человечности способен подняться над страданием и занять позицию по отношению к нему, движется в измерении, перпендикулярном к этому первому, в том измерении, чей позитивный полюс – осуществление, а негативный – отчаяние. Человеческое существо стремится к успеху, но не зависит от судьбы, которая допускает или не допускает успех. Человек в силу самой позиции, которую он избирает, способен найти и осуществить смысл даже в безнадежной ситуации. Этот факт можно понять только с точки зрения нашей концепции измерений, которая относит ценности позиции к более высокому измерению, чем творческие ценности и ценности переживания. Эти ценности позиции – самые высокие из возможных. Смысл страдания – только страдания неизбежного и неустранимого – самый важный из возможных.
Рольф фон Эккартсберг провел в Гарвардском университете исследование, как приспосабливаются к жизни выпускники. Согласно собранным данным, большая доля из ста человек, окончивших университет двадцатью годами ранее, жаловались на кризис. Они чувствовали, что их жизнь бесполезна и бессмысленна, и это несмотря на очень заметный профессиональный успех в качестве юристов, врачей и, можно предположить, в качестве психоаналитиков, а также в супружеской жизни. Эти люди оказались пленниками экзистенциального вакуума. На нашей диаграмме они попадают в точку «Э (экзистенциальный) В (вакуум)», ниже «успеха» и справа от «отчаяния». Такое явление, как отчаяние вопреки успеху, можно объяснить лишь с точки зрения двух разных измерений.
С другой стороны, есть явление, которое можно описать как осуществление вопреки неудаче. Оно размещено в левом верхнем углу и обозначено буквами «С.-К.», как тюрьма Сан-Квентин, потому что в этой тюрьме я однажды встретил человека, подтвердившего мою гипотезу, что смысл жизни можно отыскать буквально в последний момент, на последнем вздохе, перед лицом смерти.
Меня пригласили познакомиться с издателем San Quentin News в Калифорнийской государственной тюрьме. Он был заключенным этой тюрьмы. После того как он опубликовал в своей газете рецензию на мою книгу, инспектор, отвечавший за образование заключенных, постарался организовать ему интервью со мной. Это интервью передавалось по радио в камеры Сан-Квентина тысячам заключенных, в том числе в камеры смертников. Меня попросили сказать что-то специально для одного из приговоренных, кому предстояло четыре дня спустя войти в газовую камеру. Как мог я справиться с таким поручением? Обратившись к личному опыту заключения в другом месте, где люди ждали отправки в газовую камеру, я выразил свое главное убеждение: либо жизнь имеет смысл, а в таком случае смысл не зависит от длительности самой жизни, либо смысла нет, а тогда зачем и длить жизнь? Далее я коснулся рассказа Толстого «Смерть Ивана Ильича». Я старался показать заключенным, как человек может подняться над собой, вырасти за пределы себя даже в последний момент и таким образом задним числом наполнить смыслом даже растраченную жизнь. Хотите верьте, хотите нет – эта весть дошла до заключенных. Некоторое время спустя официальное письмо из Калифорнийской государственной тюрьмы известило меня о том, что «Статья в San Quentin News о визите доктора Франкла заняла первое место в Общенациональном конкурсе журналистики исправительных заведений, спонсируемом Университетом Южного Иллинойса. Статья была отобрана из группы текстов от более чем 150 американских исправительных заведений и удостоена высшей награды». Но, после того как я письмом поздравил победителя, он ответил мне: «Запись нашей дискуссии широко распространилась среди заключенных», причем «раздавались и замечания: мол, в теории все звучит хорошо, но жизнь устроена иначе». И затем он поделился со мной вот чем: «Я планирую написать передовицу на основе нашей текущей ситуации, того, как мы непосредственно живем, и показать, что жизнь в самом деле устроена именно так. Я покажу всем подлинный пример в нашей тюрьме, как из глубин отчаяния и бессмысленности человек сумел создать себе осмысленный и значимый жизненный опыт. Люди не готовы поверить, что в подобных обстоятельствах человек способен пережить преображение, которое обратит отчаяние в триумф: я попробую показать им, что это не просто возможность, а даже необходимость».
Постараемся извлечь урок из опыта Сан-Квентина и Гарварда. Люди, получившие пожизненный срок или ожидающие смерти в газовой камере, могут «восторжествовать», а успешные люди, чью траекторию проследил профессор фон Эккартсберг, могут впасть в отчаяние. В свете многомерной антропологии и онтологии отчаяние хорошо совместимо с успехом, так же как осуществление смысла совместимо со страданием и умиранием.
Конечно, когда мы проецируем такое осуществление из его собственного измерения на более низкое, скажем на измерение бизнесмена или плейбоя, для которого важен успех, когда мы проецируем осуществление смысла вопреки и даже в силу страдания на более низкое измерение, картинка выходит неоднозначная (это соответствует второму закону трехмерной антропологии и онтологии) и ее могут оценить отрицательно, скажем, как «регрессивную тенденцию к самодеструктивной покорности» – процитируем еще раз Ричарда Траутманна{70}.
Два американских автора изучали психологию заключенных концлагеря. Как они истолковывают страдания этих узников? Как определяется смысл страдания, спроецированный в измерение аналитического и динамического психологизаторства? «Узники, – утверждает один из авторов, – регрессировали до нарциссической позиции. Примененные к ним пытки…» – какой бы смысл вы ожидали от страдания, причиненного узникам пытками? Слушайте: «Примененные пытки приобрели неосознаваемое значение кастрации. Узники защищались с помощью мазохизма или садизма и инфантильного поведения». Более того: «Пережившие нацистские преследования подавляли в себе ярость против… – опять-таки, против кого бы вы думали они подавляли в себе ярость? – …против своих убитых родителей». И «выжившие пытались сдержать в себе агрессию против… – против кого? – …против своих уцелевших детей».
Даже если мы допустим, что здесь собран достаточно репрезентативный материал, очевидно, что смысл страдания ускользнул от попытки понять его в духе чисто аналитических и динамических интерпретаций{71}. Йорг Зутт, заведующий кафедрой психиатрии Университета Франкфурта-на-Майне, отметил, что это исследование психологии переживших нацистские преследования ненадежно, поскольку ограничено отобранной группой участников{72}. Более того, из материала, относящегося к тому или иному случаю, отбирались лишь те детали, что умещаются в аналитическую и динамическую модель. Например, применительно к «случаю» моей книги «Человек в поисках смысла» единственное, что привлекло внимание некоего исследователя аналитического и динамического направления, так это предполагаемый им факт, что узники регрессировали до уретральной фазы развития либидо. Ничего более он не счел достойным упоминания.
В заключение давайте послушаем человека, который должен бы разбираться в этом лучше теоретиков психоанализа, поскольку он еще ребенком попал в Аушвиц и вышел оттуда еще ребенком. Иегуда Бэкон, один из лучших художников Израиля, однажды опубликовал отчет о своих переживаниях в первый период после освобождения из концлагеря: «Помню одно из первых послевоенных впечатлений: я увидел похороны с огромным гробом и музыкой и засмеялся: что они, с ума сошли – устраивать такую суету из-за одного трупа? В театре или на концерте я высчитывал, сколько времени понадобится, чтобы умертвить газом такую толпу, сколько останется одежды и сколько золотых зубов, сколько мешков набьют волосами». Таковы были страдания Иегуды Бэкона. А в чем их смысл? «Пока я был ребенком, я думал: “Я все расскажу, что видел, и люди изменятся к лучшему”. Но люди не менялись и даже не хотели ничего знать. Лишь намного позднее я по-настоящему понял смысл страдания. Оно может обрести смысл, если изменит к лучшему тебя самого».
Часть II Применение логотерапии
Экзистенциальный вакуум: вызов психиатрии
Разобравшись со смыслом, мы теперь обращаемся к тем людям, кто страдает от бессмыслицы и ощущения пустоты. Все больше пациентов жалуются на «внутреннюю пустоту», и потому я подобрал для этого состояния особый термин – «экзистенциальный вакуум». В противоположность пиковым переживаниям, так точно описанным Маслоу, экзистенциальный вакуум можно описать как «переживание бездны».
Причины экзистенциального вакуума, как мне представляется, следующие. Во-первых, в отличие от животного, человек не имеет инстинктов и импульсов, однозначно указывающих, что он должен делать. Во-вторых, в отличие от прежних эпох, сейчас уже никакие условности, традиции и единые ценности не подсказывают человеку, что следует делать, а сам он зачастую даже не знает, что он хотел бы сделать: он хочет делать то, что делают другие люди, или же делает то, чего другие люди хотят от него. Иными словами, человек становится жертвой конформизма или тоталитаризма, из которых первый более соответствует Западу, а второй – Востоку.
Экзистенциальный вакуум – феномен растущий и распространяющийся. Ныне даже последователи Фрейда признают, как это произошло на международной конференции в Германии, что все больше пациентов страдает от недостатка содержания и цели в жизни. Более того, они признают, что это состояние дел приводит к многочисленным случаям «бесконечного анализа», то есть лечение у психотерапевта становится для человека буквально единственным смыслом жизни. Разумеется, последователи Фрейда не применяют логотерапевтический термин «экзистенциальный вакуум», который я пустил в ход десять с лишним лет назад, не применяют они и логотерапевтическую технику для борьбы с этим явлением. Но само явление они признают.
Экзистенциальный вакуум, как я уже сказал, не только нарастает, но и распространяется. Например, чехословацкий психиатр в статье об экзистенциальной фрустрации{73} сообщил, что экзистенциальный вакуум проявляется и в коммунистических странах.
Но как же справиться с экзистенциальным вакуумом? Можно было бы предположить, что нам требуется здоровая философия жизни, которая напомнит, какой смысл есть в жизни для всех и для каждого человека. Это предположение основано на ценности позиции, то есть на концепции, которую мы разбирали в предыдущей главе, где мы также указали, что оскудение традиций сказывается только на универсальных ценностях, но не затрагивает уникальный смысл.
Но Зигмунд Фрейд пренебрегал философией, отмахивался от нее как от наиболее благопристойной формы сублимации подавленной сексуальности{74}. Лично я считаю, что философия вовсе не сублимация секса, напротив, секс часто служит легким выходом как раз из тех философских и экзистенциальных проблем, что осаждают человека.
В американском журнале можно прочесть такое утверждение: «Никогда в истории мира страна не подвергалась такому натиску секса, как ныне подвергается Америка». Удивительно – это цитата из Esquire. Во всяком случае, если это правда, то тем самым подтверждается и гипотеза, что средний американец в большей степени является заложником экзистенциальной фрустрации, чем прочие люди, и потому стремится к сексуальной сверхкомпенсации. С этой же точки зрения следует истолковывать и импровизированное статистическое исследование, проведенное среди моих студентов в Медицинской школе Венского университета: 40 % австрийцев, западных немцев и швейцарцев на личном опыте уже знакомы с экзистенциальным вакуумом. Однако среди американских студентов, присутствовавших на лекциях, которые я читал на английском, эта доля достигала уже 81 %.
Главные проявления экзистенциальной фрустрации – апатия и скука – стали серьезным вызовом не только для психиатров, но и для педагогов. В эпоху экзистенциального вакуума, как мы уже сказали, образование не может сосредотачиваться на самом себе и довольствоваться передачей традиций и знаний. Нет, оно обязано совершенствовать способность человека находить те уникальные смыслы, которые не рушатся с падением универсальных ценностей. Человеческая способность находить смыслы, скрытые в уникальных ситуациях, именуется «совесть». Итак, образование должно снабдить человека средствами находить смыслы, а сейчас образование зачастую лишь усиливает экзистенциальный вакуум. Это ощущение пустоты и бессмыслицы у студентов усугубляется из-за того способа, каким преподносятся молодежи научные открытия, то есть из-за редукционизма. Студенты подвергаются индоктринации на основе механистической теории человека в сочетании с релятивистской философией жизни.
Редукционистский подход склонен объективировать человека, то есть обращаться с человеческим существом как с объектом, с вещью. Однако, говоря словами Уильяма Ирвина Томпсона{75}, «люди не объекты, которые просто существуют, как столы и стулья, они живут, а если обнаруживают, что их жизнь сведена к существованию мебели, то совершают самоубийство». Это ни в коем случае не преувеличение. Когда я читал лекции в одном из главных университетов этой страны, заместитель декана по работе со студентами, комментируя мой доклад, сказал, что готов представить мне целый список студентов, совершивших самоубийство или покушавшихся на свою жизнь именно по причине экзистенциального вакуума. Экзистенциальный вакуум стал для него уже знакомым явлением, он повседневно имел с ним дело в общении со студентами.
И сам я хорошо помню, как себя почувствовал, когда столкнулся с редукционизмом преподавателя, – сам я был тогда школьником тринадцати лет. Однажды наш учитель биологии заявил, что жизнь в конечном счете всего лишь процесс горения, процесс оксидации. Я вскочил на ноги и воскликнул: «Профессор Фритц, если это действительно так, то какой же смысл в жизни?» Разумеется, в данном случае речь шла не о редукционизме, а о примере того, что этому учителю следовало бы – иронически – именовать оксидационизмом.
В этой стране многие выдающиеся педагоги уже обеспокоены охватившей студентов скукой и апатией. Например, Эдвард Д. Эдди с двумя помощниками изучил двадцать крупных колледжей и университетов Соединенных Штатов, он брал интервью у администраторов, преподавателей и студентов. В своей книге он приходит к выводу: «Почти в каждом кампусе от Калифорнии до Новой Англии студенческая апатия стала одной из главных тем обсуждения. Этот вопрос чаще всего затрагивался в наших разговорах и с преподавателями, и со студентами»{76}.
В интервью «Ценностные измерения преподавания»{77}, которое я дал профессору Хьюстону Смиту, этот гарвардский философ спросил меня, возможно ли научить ценностям. Я ответил, что ценностям научить невозможно: ценности должны быть прожиты. Также невозможно дать кому-либо смысл: учитель дает ученикам не смысл, но пример, личный пример своей преданности делу исследования, поиска истины, науки. Далее профессор Смит предложил мне обсудить апатию и скуку, но я ответил вопросом на вопрос, пожелав узнать: а как можно ожидать от американского студента чего-то еще, кроме скуки и апатии? Что есть скука, если не неспособность проявить интерес? Что есть апатия, если не неспособность проявить инициативу? Но как может студент проявить инициативу, если его учат, что человек всего лишь поле битвы сталкивающихся притязаний разных аспектов личности: «Оно», «Я» и «Сверх-Я»? Как может студент проявить интерес, с чего он вдруг озаботится идеалами и ценностями, если ему внушают, что они всего лишь реактивные образования и защитные механизмы? Редукционизм способен только размыть и подорвать естественный энтузиазм юности. Энтузиазм и идеализм американской молодежи должен быть просто неисчерпаемым, иначе не объяснить, почему столь многие молодые люди все-таки вступают в Корпус мира и VISTA[10].
Но как работать с конкретным случаем экзистенциального вакуума, когда требуются уже не профилактические, но терапевтические меры? Подразумевается ли, что экзистенциальный вакуум подлежит лечению? Можем ли мы считать его болезнью? Можем ли согласиться с утверждением Зигмунда Фрейда в письме принцессе Бонапарт: «С того момента, как человек задается вопросом о смысле и ценности жизни, он болен»{78}?
Собственно, неверное истолкование экзистенциального вакуума как патологического явления – результат его проецирования из ноологического пространства на психологическую плоскость. Согласно второму закону многомерной антропологии и онтологии, такая процедура приводит к диагностической двусмысленности. Разница между экзистенциальным отчаянием и эмоциональным недугом стирается. Невозможно провести границу между расстройством духовным и душевной болезнью.
Однако экзистенциальный вакуум не равен неврозу, или если он все же невроз, то невроз социогенный и даже ятрогенный, то есть невроз, вызываемый тем самым врачом, который берется его лечить. Как часто врачи берутся «объяснять» озабоченность пациента окончательным смыслом жизни перед лицом смерти, объявляя эту «крайнюю озабоченность» страхом кастрации! Пациент чувствует облегчение, услышав, что может не беспокоиться, стоит ли жизнь того, чтобы жить, а должен просто признать тот факт, что пока еще не удалось окончательно излечить его Эдипов комплекс. Разумеется, такое истолкование представляет собой рационализацию (и редукцию) экзистенциального отчаяния.
В связи с этим я бы хотел привести пример венского профессора, который поступил в мое отделение из-за того, что усомнился в смысле жизни. Вскоре выяснилось, что он страдает от эндогенной депрессии, которая в традиционной европейской психиатрии считается соматогенной. Но самое замечательное: пациент терзался сомнениями вовсе не в период депрессии, а только в ту пору, когда наступала ремиссия. В депрессии он был слишком озабочен ипохондрическими жалобами, чтобы вспоминать о смысле жизни. Вот перед нами случай, в котором экзистенциальное отчаяние и эмоциональный недуг оказались взаимоисключающими. Значит, едва ли мы будем вправе списывать экзистенциальный вакуум на «очередной симптом» невроза.
Тем не менее, хотя экзистенциальный вакуум не обязан быть следствием невроза, он вполне может оказаться его причиной. Тогда мы будем говорить о ноогенном неврозе, противопоставляя его неврозам психогенным и соматогенным. Мы определяем ноогенный невроз как невроз, вызванный духовной проблемой, моральным или этическим конфликтом, например конфликтом между «Сверх-Я» и подлинной совестью – вторая может воспротивиться и противостоять первому. И наконец (хотя это не менее важно), ноогенная этиология формируется экзистенциальным вакуумом, экзистенциальной фрустрацией или фрустрацией воли к смыслу.
Джеймс Крамбо, надо отдать ему должное, разработал тест «цель-в-жизни» (Purpose-in-Life, PIL), позволяющий дифференцировать ноогенный невроз и обычные неврозы. Вместе с Леонардом Махоликом{79} он опубликовал полученные результаты, а затем доложил расширенную версию этой статьи на ежегодном собрании Американской психологической ассоциации. Его данные основаны на обследовании 1151 субъекта. Крамбо пришел к выводу, что «ноогенный невроз существует отдельно от традиционных диагностических категорий и не идентичен какому-либо из традиционных диагностических симптомов. Это новый клинический синдром, который невозможно адекватно объяснить с точки зрения каких-либо классических описаний. Полученные результаты говорят в пользу предложенной Франклом концепции ноогенного невроза и экзистенциального вакуума. Низкая корреляция между PIL и уровнем образования позволяет предположить, с одной стороны, что осмысленная, имеющая цель жизнь доступна отнюдь не только тем, кто получает высшее образование, а с другой – что образование само по себе ни в коей мере не гарантирует обретение смысла в жизни»{80}.
Наряду с этим эмпирическим подтверждением проводились также статистические исследования частотности ноогенного невроза. Вернер{81} в Лондоне, Ланген и Вольхард{82} в Тюбингене, Прилл{83} в Вюрцбурге и Нибауэр{84} в Вене пришли к единому мнению: около 20 % встречающихся нам неврозов по природе и происхождению являются ноогенными.
Когда экзистенциальный вакуум разрешается ноогенным неврозом, лечение, бесспорно, входит в компетенцию врачей. В моей родной стране, как и во многих других, психотерапию могут практиковать только люди с медицинским образованием. Разумеется, это же требование предъявляется логотерапии. С другой стороны, понятно, что те аспекты логотерапии, которые не связаны с лечением болезни – неважно, ноогенного, психогенного или соматогенного невроза, – доступны также для других видов консультирования. Нет никаких ограничений: почему бы клинический психолог, социальный работник, пастор, католический священник или раввин не могли бы предложить совет и помощь людям, которые ищут смысл жизни или сомневаются в смысле жизни, то есть людям, попавшим в петлю экзистенциального вакуума? Учитывая это, Аргентинская ассоциация экзистенциальной логотерапии, основанная в 1954 году, создала секцию психиатров и отдельную секцию для тех своих членов, кто не получил диплом врача.
Поиск смысла жизни, как и вопрос о том, есть ли в жизни смысл, сам по себе не является патологическим феноменом. И что касается молодых людей, их прерогатива в том и состоит, чтобы не принимать на веру существование некоего смысла, но отважно подвергать его сомнению. Всюду, где мы пытаемся предложить первую помощь страдающим от экзистенциального вакуума, мы должны исходить из этой предпосылки. Нет надобности стыдиться экзистенциального отчаяния, считая его эмоциональным недугом, ведь на самом деле это вовсе не симптом невроза, но важное для человека достижение и достоинство. Прежде всего, это свидетельство интеллектуальной искренности и честности.
Тем не менее, когда молодой человек признает эту свою прерогативу и подвергает сомнению смысл жизни, ему требуется терпение – достаточно терпения, чтобы дождаться, пока этот смысл забрезжит перед ним.
Как в таких случаях принести пациенту облегчение, помочь ему достичь объективного взгляда на ситуацию, показывает следующий отчет, основанный на магнитофонной записи диалога с двадцатипятилетним пациентом. Пациент несколько лет страдал от тревожности. Последние три года он проходил курс психоанализа и теперь обратился за помощью в амбулаторную службу неврологического отделения Венской поликлиники. Один из врачей направил его ко мне, и первым делом я услышал, что ему часто кажется, будто в жизни отсутствует смысл. Он страдал от повторяющегося кошмара, в котором проступало это ощущение тотальной бессмысленности жизни. В этом сне молодой человек был окружен людьми, которых он настойчиво молил помочь ему с решением проблемы, освободить из невыносимой ситуации. Он заклинал их избавить его от тревоги, будто вся жизнь напрасна. Однако люди продолжали наслаждаться собственной жизнью, вкусно есть, загорать на солнышке, пользоваться всем тем, что предоставляла им жизнь.
Когда молодой человек рассказал мне этот сон, между нами состоялся следующий диалог:
ФРАНКЛ: То есть они бездумно наслаждаются жизнью?
ПАЦИЕНТ: Верно! В то время как меня терзают сомнения, есть ли смысл в моей жизни.
ФРАНКЛ: И как вы пытаетесь себе помочь?
ПАЦИЕНТ: Иногда я чувствую облегчение, если играю или слушаю музыку. В конце концов, Бах, Моцарт и Гайдн – глубоко религиозные творцы, и, наслаждаясь музыкой, я наслаждаюсь также сознанием, что ее создателям повезло достичь полноты убеждения в существовании глубокого или даже окончательного смысла человеческого бытия.
ФРАНКЛ: То есть, хотя вы сами не верите в такой смысл, вы по крайней мере верите в великих верующих?
ПАЦИЕНТ: Вы правы, доктор.
ФРАНКЛ: Не в том ли и заключается миссия великих религиозных и этических вождей – быть посредниками между ценностями и смыслами, с одной стороны, и человеком – с другой? Так человек обретает шанс получить из рук какого-то гения человеческого рода – Моисея, Иисуса, Мухаммеда, Будды – то, чего никак не может добыть сам. Понимаете, в сфере науки мы вполне можем довольствоваться собственным интеллектом, но в сфере наших убеждений нам приходится порой полагаться на людей больших, чем мы сами, доверяться им и принимать их видение. В поиске окончательного смысла бытия человек сущностно зависит более от эмоциональных, чем от интеллектуальных ресурсов, это мы признаем. Иными словами, он должен поверить в окончательный смысл бытия. И еще более: такое доверие обеспечивается доверием к кому-то, как мы с вами только что убедились. А теперь позвольте задать вам вопрос: когда музыка достигает самых глубин вашей души и трогает вас до слез (ведь в какие-то моменты это, несомненно, происходит, правда же?), в эти минуты вы тоже сомневаетесь в смысле своей жизни или тут такого вопроса даже не возникает?
ПАЦИЕНТ: В такие минуты эта проблема даже не вспоминается.
ФРАНКЛ: Верно. Не можем ли мы допустить, что именно в такие моменты, когда вы непосредственно соприкасаетесь с великой красотой, вы обретаете смысл жизни, обретаете в эмоциональном источнике то, чего не смогли найти в интеллектуальном? В такие минуты мы не спрашиваем себя, есть ли в жизни смысл, но если бы мы задали такой вопрос, из глубины души вырвалось бы торжествующее «да!» бытию. Жизнь, чувствуем мы в такие минуты, стоит того, чтобы жить, – хотя бы ради этого уникального переживания.
ПАЦИЕНТ: Я понимаю и готов согласиться: безусловно, в моей жизни есть моменты, когда я вовсе не рефлексирую, и именно тогда смысл попросту вот он. Я даже испытываю что-то вроде единства с бытием, и можно сказать, что это переживание сродни близости к Богу, описываемой великими мистиками.
ФРАНКЛ: В любом случае можно сказать, что вы в эти моменты чувствуете себя близко к истине, и мы вполне вправе предположить, что истина – это еще и аспект Божества. Посмотрите, что у меня за плечом: там, на стене, позади моего кресла, висит герб Гарвардского университета, и на нем вы увидите надпись veritas, то есть «истина», причем это слово разделено на три слога, каждый слог стоит на отдельной книге, из чего мы можем сделать вывод, что полная истина не есть истина универсальная, доступная всем. Человеку приходится обычно довольствоваться тем, что он ухватит одну какую-то грань целой истины. Тем более это верно по отношению к Богу, ведь истина всего лишь один из его аспектов.
ПАЦИЕНТ: Меня, однако, тревожит вопрос, что мне делать, когда меня преследует ощущение пустоты, отсутствия всяких ценностей и смыслов, когда я отчужден даже от художественной красоты и научной истины.
ФРАНКЛ: Ну, я бы сказал, не стоит цепляться лишь за тех великих гениев, кто нашел смысл, а следует обратиться также к тем, кто искал его понапрасну. Вам следует изучить творения тех философов, которые, как, например, французские экзистенциалисты Жан-Поль Сартр и покойный Альбер Камю, по-видимому, страдали от тех же сомнений, какие переживаете вы, но обратили их в философию, пусть и нигилистическую. Вы как бы переведете свои проблемы на академический уровень и сможете от них дистанцироваться. То, что вас терзает, можно будет рассмотреть в свете того или иного абзаца на такой-то странице определенного тома этого или другого автора. Вы поймете, что страдание от подобных проблем – общечеловеческий удел, и даже достойный удел, достижение, повод для гордости, а не симптом невроза. Главное, вы убедитесь, что тут нечего стыдиться и есть чем гордиться: своей интеллектуальной честностью. Вы будете интерпретировать свою проблему не как симптом, вы научитесь понимать ее как сущностный аспект la condition humaine и признаете само это человеческое состояние. Вы осознаете себя как члена невидимого сообщества мучающихся людей, людей, страдающих от переживания бездны, бессмыслицы человеческого существования и борющихся за решение этой вековечной проблемы человечества. Это страдание и эта борьба объединяет вас с лучшими образчиками человеческого рода. Так постарайтесь же собраться с терпением и отвагой: терпение требуется, чтобы оставить проблемы пока без решения, и отвага – чтобы не сдаться и биться за их окончательное решение.
ПАЦИЕНТ: Так вы не думаете, доктор, что мое состояние – это просто невроз, с которым нужно справиться?
ФРАНКЛ: Если это невроз, то коллективный невроз нашего времени, от которого и вылечить можно лишь на коллективном уровне. С такой точки зрения ваше страдание то же, что постигло человечество в целом или по меньшей мере его самых чувствительных и открытых духом представителей: вы берете на свои плечи часть общего груза!
ПАЦИЕНТ: Я не против страдания, лишь бы оно имело смысл.
ФРАНКЛ: Ни ваш поиск смысла, ни сомнения в смысле своей жизни нельзя признать патологическими. Скорее это прерогатива юности. Подлинно молодой человек не принимает смысл свой жизни на веру, но осмеливается бросить вызов. Иными словами, вы не должны отчаиваться из-за того, что близки к отчаянию. Скорее вы можете принять отчаяние как доказательство того, что я привык называть «волей к смыслу». В некотором роде сам факт вашей воли к смыслу оправдывает вашу веру в смысл, или, как однажды высказался знаменитый австрийский писатель Франц Верфель: «Жажда – самое убедительное доказательство существования воды». Он имел в виду, что человек никоим образом не мог бы испытывать жажду, если бы в мире не существовала вода. И не забывайте слова Блеза Паскаля: “Le coeur a ses raisons, que la raison ne connait point.” [У сердца свои резоны, уму невнятные.] Я готов утверждать, что ваше сердце изначально верило и верит в смысл бытия, raison d’etre. Иногда мудрость сердца оказывается глубже, чем прозрения нашего разума. И порой самое разумное – не стараться быть слишком разумным.
ПАЦИЕНТ: Именно это я и сам обнаружил. Чтобы получить облегчение, только и требуется заняться теми задачами, что непосредственно стоят передо мной.
Ранее я заявил, что сексуальная активность может служить эскапистским выходом из экзистенциальной фрустрации. В тех случаях, когда воля к смыслу фрустрирована, воля к удовольствию оказывается не только производной воли к смыслу, но и ее заменой. Аналогичным и параллельным целям служит воля к власти. Лишь когда изначальное стремление к осуществлению смысла фрустрировано, человек склоняется к удовольствию или довольствуется властью.
Одну из форм воли к власти можно назвать волей к деньгам. Воля к деньгам отвечает за многие виды профессиональной гиперактивности, которая, как и сексуальная гиперактивность, служит ширмой, отгораживающей человека от осознания экзистенциального вакуума.
Когда верх берет воля к деньгам, поиск смысла подменяется поиском средств. Деньги перестают быть средством и становятся целью. Они уже не обслуживают какую-то задачу.
Так в чем же смысл денег или в чем смысл владения деньгами? Большинство людей, обладающих деньгами, на самом деле одержимы ими, одержимы потребностью приумножать свое состояние и тем самым обнуляют его смысл. Обладание деньгами, казалось бы, должно быть для человека определенным преимуществом: есть деньги – можно не сосредотачиваться на них, можно стремиться непосредственно к цели, именно к той цели, которую деньги должны обслуживать.
Однажды глава американского университета предложил мне девять тысяч долларов за несколько недель работы в его коллективе и никак не мог понять моего отказа. «Вы хотите больше денег?» – настаивал он. «Вовсе нет, – ответил я. – Но если бы я имел девять тысяч и размышлял, как наилучшим образом ими распорядиться, мне представляется лишь один достойный способ их вложить: приобрести себе время для работы. Сейчас у меня есть несколько свободных недель для работы, зачем же я стану продавать их, пусть и за девять тысяч долларов?»
Деньги сами по себе не цель. Я не должен удерживать в своем бумажнике доллар, который может лучше послужить цели и смыслу в других руках. Это не вопрос альтруизма. Оппозиция альтруизма и эгоизма давно устарела. Как я уже сказал, моралистический подход к ценностям должен уступить место онтологическому, в котором добро и зло определяются с точки зрения того, что способствует или препятствует осуществлению смысла, а моего смысла или чьего-то еще – это как раз не важно.
Люди, которые так одержимы деньгами, словно это и есть самоцель, говорят: «Время – деньги». Им кажется необходимым все время спешить. Мчаться на гоночной машине – для них тоже самоцель. Это защитный механизм, попытка избежать столкновения с экзистенциальным вакуумом. Чем менее ясна цель, тем скорее человек старается преодолеть расстояние до нее. Знаменитый венский комедиант Квалтингер в роли хулигана садился на мотоцикл и распевал: «Да-да, я не знаю, куда я стремлюсь, но теперь я доеду туда быстрее».
Это пример того, что я бы назвал центробежным досугом в противоположность досугу центростремительному. Ныне господствует центробежный досуг. Бегство от самого себя помогает избежать конфронтации с пустотой в себе. Центростремительный досуг позволяет решить проблемы – и для начала заглянуть им в лицо. Люди, колеблющиеся между профессиональной гиперактивностью и центробежным досугом, не оставляют себе времени на то, чтобы додумать мысль. Только начнут думать – входит секретарь и требует подпись на важной бумаге, или нужно ответить на телефонный звонок. То, что происходит при этом, описал псалмопевец: “Vel per noctem me monet cor meum[11].” Даже ночью предостерегает сердце. Сегодня уже не псалмопевец, а психолог сказал бы, что ночью всплывают на поверхность подавленные экзистенциальные проблемы. Совесть напоминает о них человеку. Отсюда то, что я бы назвал ноогенной бессонницей. Люди, страдающие от нее, часто принимают снотворное: они засыпают в итоге, что правда, то правда, но становятся при этом жертвой патогенного эффекта вытеснения – вытеснения не сексуальных, а экзистенциальных фактов жизни.
Нам требуются новые виды досуга, оставляющие возможность созерцания и медитации. Для этого понадобится отвага оставаться в одиночестве.
В конечном итоге экзистенциальный вакуум – парадокс. Стоит расширить свой горизонт зрения, и мы увидим, что мы наслаждаемся свободой, но пока еще не вполне осознали ответственность. Если бы мы ее осознали, то поняли бы, что у нас вполне достаточно смысла, который только и ждет осуществления – хотя бы по отношению к людям, которые пока остаются в непривилегированном положении, или по отношению к недостаточно развитым странам.
Разумеется, для начала придется расширить свои представления об исключительности человека. На кону стоит уже не только исключительность человека, но и исключительность человечества.
Тысячи лет прошли с тех пор, как человечество пришло к идее монотеизма. Сегодня нам предстоит новый шаг, я бы назвал его монантропизмом. Вера не в единого Бога, но осознание единого человечества, осознание человеческого единства, в свете которого померкнут различия в оттенках кожи{85}.
Логотерапевтические техники
Логотерапия – специфически показанная терапия для случаев ноогенного невроза. Иными словами, пациент, ставший жертвой экзистенциального отчаяния из-за очевидной бессмысленности жизни, нуждается скорее в логотерапии, чем в психотерапии. Однако к психогенным неврозам это не относится. Здесь логотерапия не должна противопоставляться психотерапии, она сама оказывается одной из психотерапевтических школ.
Обсудим теперь, как логотерапия может применяться к случаям психогенного невроза, хотя замечу, что должное знакомство с этим методом основано на материалах конкретных случаев и предполагает больничную обстановку. По сравнению с обучением на основе клинического разбора даже учебный анализ[12] не так важен.
Клиническое применение логотерапии вытекает из ее антропологических предпосылок. Логотерапевтические техники дерефлексии и парадоксальной интенции опираются на два важнейших свойства человеческого существования: на способность человека к самотрансцендентности и к отвлечению от себя{86}.
Обсуждая мотивационную теорию логотерапии, я указывал, что прямая интенция к удовольствию обманывает самое себя. Чем больше человек стремится к удовольствию, тем дальше промахивается мимо цели. В логотерапии мы в такой ситуации говорим о гиперинтенции. Наряду с этим патологическим феноменом наблюдается и другой, который в логотерапии называется гиперрефлексией. Гиперрефлексия подразумевает избыточное внимание к себе.
Существует также феномен, который справедливо было бы назвать массовой гиперрефлексией. Он особенно отчетливо прослеживается в культуре Соединенных Штатов, где столь многие стараются все время следить за собой, анализировать себя, выявлять скрытые мотивы своего поведения, истолковывать его как проявление скрытой психодинамики. Профессор Эдит Вайсскопф-Джоэльсон из Университета Джорджии обнаружила, что среди американских студентов самоистолкование и наряду с ним самоактуализация возводятся в ранг высших ценностей– статистически намного более важных, чем все прочие. Вырастающих в таком климате людей часто преследует фаталистическое ожидание, что прошлое непременно нагонит их, и они действительно становятся инвалидами, потому что ожидают травмы. Однажды человек, прочитавший мою книгу, написал мне и сделал такое признание: «Я больше страдал от мысли, что у меня должны быть комплексы, чем от самих комплексов. Вообще-то я бы ни на что не променял свой личный опыт и думаю, что из него вышло много блага для меня».
Спонтанность и деятельность обрываются, когда попадают в фокус чрезмерного внимания. Вспомните анекдот о сороконожке, которую недруг спросил, в какой последовательности она ставит ноги при ходьбе: стоило сороконожке об этом задуматься – и она не смогла тронуться с места. Говорят, она так и умерла от истощения. Наверное, можно сказать, что бедняжка умерла от фатальной гиперрефлексии?
В логотерапии гиперрефлексию отражают дерефлексией. Эта техника применяется в том числе к сексуальным неврозам, фригидности и импотенции. Сексуальное поведение или переживание оказывается скованно в той мере, в какой оно становится предметом внимания или целью интенции{87}. В случае импотенции пациенты часто подходят к половому акту как к некой задаче, словно им предъявляются определенные требования. Я уже в другом месте обсуждал этот аспект этиологии импотенции.{88} Логотерапия развивает специальные техники для устранения этого «требования», которое пациент приписывает половому акту{89}. Логотерапевтическое лечение сексуального невроза уместно вне зависимости от того, признается сама логотерапевтическая теория или нет. В неврологическом отделении Венской поликлиники я поручил амбулаторное ведение пациентов с сексуальными неврозами строгому последователю Фрейда – в данной ситуации, когда показаны лишь краткосрочные формы лечения, он охотнее прибегает к логотерапевтической, чем к психоаналитической технике.
В то время как дерефлексия представляет собой часть логотерапевтического лечения сексуального невроза, парадоксальная интенция используется для краткосрочного лечения пациентов, страдающих неврозами навязчивости и фобиями{90}.
Парадоксальная интенция – это поощрение пациента делать то или желать именно того, перед чем он испытывает страх. Чтобы понять терапевтический эффект этой техники, нужно принять во внимание феномен «тревожного ожидания». Этим словосочетанием я обозначаю страх пациента перед повторением некоего события. Однако зачастую страх как раз и вызывает к жизни то самое, чего мы боимся, и так же действует тревожное ожидание. Таким образом складывается порочный круг. Симптом вызывает фобию, а фобия провоцирует проявление симптома. Повторение симптома закрепляет фобию. Пациент словно попадает в прочный кокон. Складывается механизм обратной связи.
Как разорвать порочный круг? Это можно сделать либо фармакологическими, либо психотерапевтическими средствами или же пустив в ход и то и другое. При тяжелом течении болезни такая комбинация необходима{91}.
С лекарств лучше всего начинать в тех случаях агорафобии, основным фактором которой служит гипертиреоидит{92}, в случаях клаустрофобии, которой проявляется скрытая тетания{93}. Следует помнить, однако, что органический фактор, участвующий в подобных заболеваниях, обеспечивает лишь склонность к тревоге, а полноценный невроз развивается лишь при условии, что в игру вступает механизм тревожного ожидания. Следовательно, чтобы разомкнуть круг, за него нужно взяться не только с органического полюса, но и с психического. И как раз эту задачу выполняет парадоксальная интенция.
Что происходит при применении парадоксальной интенции? Мы поощряем пациента сделать именно то или пожелать именно того, чего он боится, то есть переворачиваем интенцию. Патогенный страх вытесняется парадоксальным желанием. И таким образом тревожное ожидание сникает и утрачивает силу.
Я предлагаю перевернуть интенцию. Какова же интенция у человека с фобией? Его интенция – избегать ситуаций, которые порождают тревогу. В логотерапии мы это называем бегством от страха. Мы наблюдаем его в тех случаях, например, когда сама тревожность становится объектом страха, то есть пациент говорит о «страхе перед страхом». Он действительно боится потенциальных последствий испуга – упасть в обморок, заработать инфаркт или инсульт.
В логотерапевтическом учении бегство от страха рассматривается как патогенный паттерн{94}. Более конкретно – это паттерн фобии. Но развитию фобии можно воспрепятствовать, поставив человека лицом к лицу с ситуацией, которую он начинает бояться. Чтобы проиллюстрировать эту мысль, я хочу сослаться на собственный опыт. Взбираясь на скалу в дождливый, туманный день, я увидел, как неподалеку сорвался другой альпинист. Его нашли в двухстах метрах ниже, он выжил. Две недели спустя я поднимался по той же тропе на отвесную скалу. Снова было пасмурно и дождливо. И все же, несмотря на пережитое душевное потрясение, я бросил этой ситуации вызов и таким образом преодолел душевную травму.
Наряду с бегством от страха существует еще два патогенных паттерна, а именно погоня за удовольствием и борьба с навязчивыми состояниями. Погоня за удовольствием – то же самое, что и гиперинтенция, направленная на удовольствие, то есть это один из главных факторов сексуального невроза. Борьба с навязчивостями – патогенный фактор, лежащий в основе неврозов навязчивости. Таких невротических пациентов преследует мысль, что они могут убить себя или другого человека или что неотступные странные мысли – признак надвигающегося, а то уже и наставшего психоза. Иными словами, эти пациенты страшатся потенциального следствия или вероятной причины своих странных мыслей. Фобический паттерн бегства от страха аналогичен паттерну невроза навязчивости. Пациенты с неврозом навязчивости часто также испытывают страх, только это не «страх перед страхом», скорее они боятся самих себя и поэтому борются со своими навязчивыми мыслями и состояниями. Иными словами, наряду с порочным кругом, который тревожное ожидание провоцирует в случаях фобии, действует и еще один механизм обратной связи, наблюдаемый у страдающих неврозом навязчивости. Давление вызывает сопротивление, а сопротивление, в свою очередь, усиливает давление. Если удастся остановить пациента, чтобы он прекратил бороться с обсессиями и навязчивыми мыслями – а парадоксальная интенция как раз этого часто достигает, – такие симптомы пойдут на спад и постепенно исчезнут.
Обсудив теорию, обратимся теперь к практике парадоксальной интенции. Возьмем разобранный случай. Эдит Вайсскопф-Джоэльсон{95}, сотрудница факультета психологии Университета Джорджии, сделала следующее заявление:
«Я применяла парадоксальную интенцию ко многим пациентам, в том числе к самой себе, и убедилась в ее высокой эффективности. Например, студент нашего университета жаловался на тревогу в связи с предстоявшим ему устным выступлением. Скажем, этот доклад приходился на пятницу. Я посоветовала ему взять свой дневник и на каждой странице той недели крупными буквами написать: ТРЕВОГА. Фактически я попросила его запланировать неделю тревожных переживаний. После этого студент почувствовал большое облегчение, потому что теперь он страдал только от тревожности, но не от тревожности по поводу тревожности».
Вот еще один пример парадоксальной интенции: пациент отказывался выходить из дома, потому что испытывал сильнейший страх свалиться с сердечным приступом. Если он отваживался высунуть нос на улицу, то через несколько минут возвращался. Он бежал от своего страха. Пациента приняли в моем отделении поликлиники. Мои сотрудники тщательно его осмотрели и убедились, что с сердцем у него все в порядке. Один из врачей ему это сказал. Затем этот врач предложил пациенту выйти на улицу и попытаться заработать инфаркт. Врач сказал ему: «Скажите себе, что вчера у вас было два инфаркта, а сегодня найдется время для трех, ведь еще утро. Скажите себе, что у вас будет отличный, мощный инфаркт и инсульт в придачу» – и пациент впервые сумел вырваться из кокона, в который себя запечатал.
Есть данные, подтверждающие, что парадоксальная интенция помогает даже при хронических заболеваниях{96}. Например, в Немецкой энциклопедии психотерапии (German Encyclopaedia of Psychotherapy){97} рассматривается случай шестидесятипятилетней женщины, которая шестьдесят лет страдала от настойчивой потребности постоянно мыть руки. Мой сотрудник успешно применил к ней технику парадоксальной интенции.
В American Journal of Psychotherapy Ральф Виктор и Кэролайн Круг{98} с кафедры психиатрии Вашингтонского университета в Сиэтле опубликовали случай, в котором они решились применить технику парадоксальной интенции к заядлому игроку. Пациент, тридцати шести лет, играл в азартные игры с четырнадцати. После того как ему предписали играть ежедневно в три специально отведенных для этого часа, пациент отметил, что, «по его глубокому убеждению, после двадцати лет лечения и пяти разных психиатров впервые ему предложили креативный подход». Пациент проигрался и за три недели остался совсем без денег. Но «терапевт посоветовал ему продать часы». В результате «после лечения парадоксальной интенцией у пациента впервые за двадцать с лишним лет произошла ремиссия».
Ж. Леембр испытал парадоксальную интенцию на детях в голландских университетах Утрехта и Неймегена (в первом на кафедре психиатрии, а во втором на кафедре педиатрии). В большинстве случаев лечение прошло успешно. В отчете, опубликованном в Acta Neurologica et Psychiatrica Belgica{99}, он подчеркивает, что только в одном случае наблюдалось замещение симптома.
В России, согласно заявлению профессора А. М. Свядоща, парадоксальная интенция применяется в его больнице «с большим успехом при лечении фобий и неврозов тревожного ожидания» (личный разговор).
Максиму Карла Ясперса «в философии новое воспринимается как неистинное» вполне можно распространить и на психотерапию. Парадоксальная интенция существовала всегда, пусть ее применяли, не ведая того или даже вопреки собственным планам. Пример, когда парадоксальная интенция была использована безо всякого на то желания, привел мне глава кафедры психиатрии Университета Майнца (Германия). Еще когда он учился в школе, его класс ставил пьесу, и один из персонажей заикался. Эту роль отдали парню, который действительно заикался, но вскоре актер вынужден был отказаться от этой роли, потому что на сцене он совершенно разучился заикаться. Пришлось искать ему замену.
А вот еще один случай нечаянного применения парадоксальной интенции.
Один американский студент, сдавая мне экзамен, чтобы объяснить действие парадоксальной интенции, привел автобиографический пример: «У меня в компании часто начинал урчать желудок. Чем больше я старался этого избежать, тем громче урчание. И тогда я смирился с тем, что этот звук будет сопровождать меня по жизни. Я стал жить с этим – смеялся над собой и призывал к этому друзей. Вскоре урчание прекратилось».
В связи с этим я бы хотел подчеркнуть, что мой студент выбрал юмористический подход к симптому. И действительно, парадоксальную интенцию желательно всегда подавать как можно смешнее. Юмор – отчетливо человеческий феномен{100}. В конце концов, ни одно животное не способно смеяться. И что важнее, юмор позволяет человеку создать перспективу, установить дистанцию между собой и тем, что ему противостоит. По той же логике юмор позволяет человеку отвлечься от себя и таким образом обрести максимально возможный контроль над собой. Именно в этом состоит главное достижение парадоксальной интенции – использовать способность человека отрешаться от себя. Так что Конрад Лоренц{101} не вполне справедливо упрекает психологов в том, что «мы до сих пор не принимали юмор всерьез», он не учитывает парадоксальную интенцию.
После моего доклада в Гарвардском университете Гордон Олпорт задал важный вопрос о юморе. Вопрос заключается в том, всем ли пациентам в равной мере доступно то здоровое чувство юмора, которое лежит в основе парадоксальной интенции. Я отвечал, что в принципе каждый человек в силу своей человеческой природы способен отрешиться от себя и смеяться над собой. Но, разумеется, существуют определенные отличия в степени той самоотрешенности, на которую способны конкретные люди, в количестве здорового юмора, который мы сможем мобилизовать.
Вот пример низкой степени самоотрешенности. В моем отделении лечили сторожа из музея, который не мог работать, поскольку его преследовал ужасный страх, что какая-нибудь картина будет непременно похищена. Во время обхода я попробовал применить к нему технику парадоксальной интенции: «Скажите себе, что вчера украли Рембрандта, а сегодня украдут еще одного Рембрандта и Ван Гога». Он попросту уставился на меня и пролепетал: «Господин профессор, это же против закона!» Этому человеку недоставало ума, чтобы понять смысл парадоксальной интенции.
В этом смысле парадоксальная интенция и логотерапия в целом не представляют собой нечто исключительное. Это общее правило – психотерапия, то есть любой ее метод, не может применяться к каждому пациенту с одинаковым успехом. Более того, не каждый врач одинаково умело применяет разные методы психотерапии. В каждом конкретном случае приходится выбирать подходящий метод, решая уравнение с двумя неизвестными:
ψ = x + y.
Первое неизвестное обозначает уникальную личность пациента, а второе неизвестное – уникальную личность врача. Когда подбирается метод лечения, нужно принять во внимание личности обоих. И это относится как ко всем прочим методам психотерапии, так и к логотерапии.
Логотерапия не панацея, опять же как и любой другой метод психотерапии. Один психоаналитик отозвался о собственном подходе так: «Эта техника оказалась единственным методом, подходящим моей индивидуальности. Я не осмелюсь отрицать, что врач с иным душевным устройством может почувствовать потребность использовать иной подход к своим пациентам и к стоящей перед ним задаче». Это признание сделал не кто иной, как Зигмунд Фрейд.
Поскольку логотерапия не панацея, нет причин возражать против объединения ее с другими методами, что предлагают такие психиатры, как Ледерманн (с гипнозом){102}, Бацци (с тренингом релаксации по Шульцу){103}, Квильхоуг (поведенческая терапия){104}, Форбуш{105} и Герц (фармакотерапия){106}.
С другой стороны, замечательные результаты парадоксальной интенции невозможно списать только на самовнушение. Многие наши пациенты приступали к лечению парадоксальной интенцией с твердой уверенностью, что это сработать не может, и все же достигли благоприятного результата. Иными словами, они преуспели не столько благодаря самовнушению, сколько вопреки ему. Бенедикт{107} подвергал своих пациентов проверке c помощью набора тестов, чтобы оценить их восприимчивость к внушению. Их внушаемость оказалась ниже средней, но парадоксальная интенция вполне сработала и с этими пациентами.
Герц{108},{109}, Лебцелтерн и Твиди{110},{111} доказали, что парадоксальную интенцию не следует путать с убеждением. Однако я хочу доказать, что в некоторых случаях невозможно перейти к парадоксальной интенции, не поработав сначала с убеждением. Это особенно верно применительно к навязчивой брани, для лечения которой была разработана специальная логотерапевтическая техника{112}.
Большинство авторов, практикующих парадоксальную интенцию, в своих публикациях определяют ее как краткосрочную процедуру, однако Эмиль Гутхейль{113}, покойный издатель American Journal of Psychotherapy, писал: «Мнение, будто устойчивость результатов соответствует продолжительности терапии, – одна из иллюзий ортодоксального фрейдизма». И как писал великий старейшина немецкой психотерапии И. Шульц{114}, это «совершенно безосновательное утверждение, будто после устранения симптома непременно появляется замещающий симптом». Психоаналитик Эдит Вайсскопф-Джоэльсон{115},{116} выразила то же мнение в статье по логотерапии: «Терапевты, ориентирующиеся на психоанализ, – пишет она, – склонны утверждать, будто такими методами, как логотерапия, нельзя достичь существенного улучшения, поскольку патология в “глубинных” слоях останется незатронутой, раз терапевт ограничивается лишь возведением или укреплением защиты. Такие выводы небезопасны. Они могут лишить нас доступа к важнейшим источникам душевного здоровья лишь потому, что эти источники не вписываются в специфические рамки теории. Не следует забывать, что и сами концепции “защиты”, “глубинных слоев”, “адекватного функционирования на поверхности при скрытой патологии” – это теоретические построения, а не эмпирические наблюдения». Результаты, полученные при лечении парадоксальной интенцией, напротив, можно квалифицировать как эмпирические наблюдения.
Другой психоаналитик, Гленн Голлоуэй из государственной больницы Ипсиланти, утверждает, что парадоксальная интенция не разрешает «лежащий в глубине конфликт». Но, говорит он, «это не отменяет возможность использовать парадоксальную интенцию как действенную технику. Мы же не упрекаем хирурга в том, что он не лечит тот самый желчный пузырь, который извлек из больного, – главное, чтобы пациент оправился».
«Так что же в таком случае делает парадоксальная интенция?» – задает самому себе вопрос Лестон Хейвенс{117} с кафедры психиатрии Гарвардской медицинской школы и отвечает «на знакомом языке», то есть в терминах психодинамики: «Пациента поощряют в разрядке запретного импульса, он получает разрешение. Точнее, сдерживающие механизмы упраздняются… То, что рекомендует нам Франкл, безусловно подпадает под старое понятие “модификации «Cверх-Я»”… Врач вмешивается с тем, чтобы обеспечить пациенту более снисходительную совесть. При этом оказываются затронуты стандарты и идеалы пациента. Вместо недостающих идеалов Франкл помогает пациенту обрести новые. Если симптомы пациента связаны с его жесткими и наказующими идеалами, Франкл пытается их модифицировать».
Вот почему многим психоаналитикам удается успешно применять парадоксальную интенцию. Некоторые специалисты в данной области пытаются объяснить этот успех в терминах психодинамики{118}. Другие, как Д. Мюллер-Хегеманн{119}, описывают парадоксальную интенцию как «нейрофизиологически ориентированный подход». Мюллер-Хегеманн пишет, что он «наблюдал в последние годы благоприятные результаты у пациентов, страдающих от фобий, и потому признает большие достоинства парадоксальной интенции». Опять-таки следует заметить, что даже те врачи, кто придерживается иной теории, нежели основные положения логотерапии, включают в свой арсенал парадоксальную интенцию.
Предпринимались попытки прояснить показания для логотерапии. Например, Герц, заместитель главного врача больницы Коннектикут Вэлли, считает парадоксальную интенцию специфическим и эффективным методом лечения фобий и обсессивных состояний. Она «предназначена для краткосрочной терапии острых случаев»{120}. Герц приводит такую статистику: «88,2 % пациентов излечились или продемонстрировали существенное улучшение. Большинство из них были больны длительный срок, вплоть до 24 лет… те, кто проболел несколько лет, нуждаются в годичном курсе c сессиями дважды в неделю, чтобы обеспечить излечение. Более острые случаи, когда симптомы обнаружились несколько недель или месяцев тому назад, отвечают на лечение парадоксальной интенцией за 4–12 встреч с врачом»{121}.
Доктор Герц добавляет: «Понятно, что психиатр после многолетней психоаналитической подготовки склонен относиться к парадоксальной интенции с предубеждением и отвергает ее, даже не испытав»{122}. Несомненно, оппозиция парадоксальной интенции и логотерапии в целом в значительной степени проистекает из эмоциональных источников, таких как верность и послушание секте. Но сектанту следует помнить предостережение самого Фрейда: «Преклонение перед величием гения, несомненно, благое дело, но превыше его должно быть наше преклонение перед фактами»{123}.
И хотя очень важно определить показания для логотерапии и парадоксальной интенции, еще важнее определить противопоказания. Парадоксальная интенция строго противопоказана при психотической депрессии. Для таких пациентов предусматривается специальная логотерапевтическая техника: ее основным принципом является смягчение чувства вины, которым мучается пациент из-за своей тенденции во всем упрекать себя самого{124}. Было бы извращением экзистенциальной психиатрии истолковывать эти самообвинения как признак подлинной вины пациента, «экзистенциальной вины», которая-де и привела к депрессии: это означало бы перепутать причину и следствие. Более того, подобное истолкование доведет в пациенте чувство вины до такого обострения, что возникнет опасность самоубийства. Кстати говоря, логотерапия предлагает специальный тест для оценки риска самоубийства в индивидуальном случае{125}.
Также логотерапия не может предложить этиотропное лечение шизофрении. Но таким пациентам в поддержку психотерапевтических методов рекомендуется логотерапевтическая техника дерефлексии (см. часть I: «В чем смысл «смысла»?»){126}. Том «Современной психотерапевтической практики» (Modern Psychotherapeutic Practice{127}) включает несколько записанных на магнитофон сессий с пациентами, страдающими шизофренией: эти записи демонстрируют использование дерефлексии.
Бертон{128} недавно подтвердил, что «последние пятьдесят лет терапевтическая медицина превращала в фетиш глубинную личную историю пациента. Поразительные исцеления считавшейся необоримой истерии, которые удавались Фрейду, побудили нас искать сходный травматический опыт у любого пациента и превращать инсайты в основное средство исцеления – и мы только-только оправляемся от этого подхода». Но, даже если исходить из предпосылки, что неврозы или даже психозы вызываются той причиной, которую предполагает гипотеза психодинамики, логотерапия все равно будет показана хотя бы как неэтиотропное лечение{129}. Пока в пациенте существует экзистенциальный вакуум, в него будут устремляться симптомы. Вот почему «логотерапевтическая встреча», как считает Крамбо{130}, «продолжается там, где прекращается большинство терапий, в особенности методики, ориентированные на анализ: она утверждает, что, если не установить разумные цели и не добиться приверженности им, вся терапия пойдет насмарку, поскольку патологическая этиология сохранится и симптомы впоследствии возобновятся».
Некоторые авторы{131} утверждают, что внутри экзистенциальной психиатрии логотерапия – единственная школа, развивающая психотерапевтические техники. Более того, высказывалось мнение, что логотерапия добавляет психотерапии новое измерение, а именно измерение специфически человеческих феноменов. На самом деле два специфически человеческих феномена, способность к самотрансцендентности и способность абстрагироваться от себя, мобилизуются логотерапевтическими техниками дерефлексии и парадоксальной интенции соответственно. Профессор Петрилович с кафедры психиатрии Майнцского университета (Германия) приписывает неожиданные результаты, достигаемые этими двумя логотерапевтическими техниками, тому факту, что логотерапия не удерживается в рамках невроза, то есть в измерении динамики или процессов обусловливания. В противоположность поведенческой терапии, например, логотерапия не удовлетворяется подкреплением, но открывает измерение собственно человеческого в человеке и черпает из тех ресурсов, что доступны в humanitas, то есть в человеческой природе, Homo patiens.
Вероятно, именно это имел в виду Пол Джонсон{132}, когда сказал, что «логотерапия не соперничает с другими терапиями, но обладает особым положительным фактором, который бросает им вызов».
Медицинское служение
Медицинское служение – тот аспект логотерапевтической системы, который относится более к лечению соматогенных случаев, чем ноогенных или психогенных неврозов. Само собой разумеется, что к соматогенным заболеваниям логотерапия применяется лишь постольку, поскольку они не поддаются терапии в строгом смысле слова, то есть постольку, поскольку нет возможности устранить соматическую причину болезни. В этом случае наиболее важна позиция пациента перед лицом судьбы, выбор определенного отношения к страданию, иными словами, важно осуществить потенциальный смысл страдания. Само собой разумеется, мы отдаем предпочтение этиотропной терапии болезни и прибегаем к служению лишь тогда, когда лечение причин оказывается невозможным. Тогда единственным доступным и необходимым подходом становится работа с позицией пациента по отношению к болезни.
Следует отдать должное Джойс Трэвелби из Нью-Йоркского университета, исследовавшей возможности и обязанности не только врача в этой ситуации, но также медсестер. В книге, основанной на концепции логотерапии, она успешно систематизирует методику, «предназначенную для того, чтобы помочь пациенту достичь смысла»{133}. Она пишет, что «глубоко убеждена, что люди движимы поисками смысла на протяжении всего жизненного пути и смысл можно найти даже в опыте болезни, страдания и боли»{134}. Чтобы стала понятнее линия рассуждений профессора Трэвелби, позвольте процитировать ее слова об одном из методов, который она описывает, а именно о «методе притчи»{135}:
«Метод притчи, по-видимому, особенно подходит некоторым пациентам. Используя этот метод, медсестра в общении с пациентом рассказывает притчу, некую историю, которая напоминает, что ни один человек не может избежать болезни и боли. Особенно подходит для этой цели притча о горчичном зерне. Готами родилась в Индии. Она вышла замуж и переехала в дом к мужу и его родне. У нее родился сын, но вскоре он умер. Готами оплакивала своего ребенка. Она стала бродить с ним по разным местам и просить у людей средства, чтобы воскресить малыша. Над ней смеялись, и ее ругали, но один человек пожалел Готами и посоветовал ей просить помощи у самого выдающегося мудреца. Она принесла к нему труп сына и попросила великого учителя дать ему какое-то лекарство. Учитель сказал, что она правильно сделала, обратившись за помощью к нему, и велел ей обойти город и найти дом, где никто никогда не страдал и не умирал. В этом доме ей следовало выпросить зернышко горчицы. Женщина ходила от дома к дому, но так и не нашла такого, где бы никто никогда не страдал. Тогда она осознала, что ее ребенок не единственный, кому пришлось страдать, что страдание – общий закон человеческой жизни».
Пример осмысленного страдания из моей собственной практики: это история старого врача-терапевта, обратившегося ко мне в связи с депрессией после смерти жены. Прибегнув к сократическому диалогу, я стал его спрашивать, как бы обернулось дело, если бы первым умер он, а не жена. «Она бы очень горевала», – ответил он. «Вот видите, доктор, – сказал я, – значит, она была избавлена от великого страдания, и это вы спасли ее от такой участи, но должны за это расплатиться: вы пережили ее и будете оплакивать»{136}. Наш диалог открыл ему смысл собственного страдания, оно оказалось жертвой ради любимой жены.
Я рассказал эту историю американской аудитории, и американский психоаналитик сделал замечание, типичное для редукционистского подхода к смыслу и ценностям. Прозвучало оно так: «Я понимаю вашу мысль, доктор Франкл, но если бы мы начали с того факта, что ваш пациент, несомненно, так глубоко переживал смерть жены лишь потому, что бессознательно всегда ее ненавидел…» На это я возразил: «Вполне возможно, что после примерно пятисот часов у вас на психоаналитической койке пациент, как те коммунисты за железным занавесом, натренировавшиеся в так называемой самокритике, признался бы: “Да, доктор, вы совершенно правы, я всегда ненавидел свою жену…” Но попутно вы лишили бы пациента единственного достояния, какое у него оставалось: веры в уникальную любовь и в брак, который он выстроил вместе с женой».
В своей книге{137} я описал логотерапевтическую процедуру, направленную на выявление смыслов и ценностей. Это техника общего знаменателя, как я ее называю. Согласно Максу Шелеру, процесс оценивания подразумевает предпочтение более высокой ценности вместо другой, низшего уровня. Я утверждаю, что уровень ценностей нетрудно сопоставить, если удается задать общий знаменатель.
Быстротечность нашей жизни принадлежит, как я уже сказал, к «трагической» триаде человеческого существования. Отсюда и проблема, которая мучает пациента с неизлечимой болезнью: он стоит перед лицом не только страдания, но и неизбежной смерти. В таких случаях вопрос заключается в том, как сообщить пациенту наше убеждение, что ничто из прошлого не утрачено, все сохранено и надежно сберегается словно в сейфе, в хранилище. Прошлое – самый надежный из модусов бытия. Что прошло, то сохранено и спасено нами в прошлом. Том «Современной психотерапевтической практики»{138} включает мое интервью с пациенткой восьмидесяти лет. Она заболела раком и не могла надеяться на исцеление. Этот факт, о котором пациентка была осведомлена, вызвал у нее депрессию. Я продемонстрировал этот случай студентам, присутствовавшим на моей клинической лекции по логотерапии. Наш диалог, в котором мои реплики были в чистом виде импровизацией, проходил так:
ФРАНКЛ: Что вы думаете о своей жизни сейчас, когда вы на нее оглядываетесь? Она стоила того, чтобы жить?
ПАЦИЕНТ: Да, доктор, честно скажу: жизнь была хорошая. Жизнь так прекрасна! И я благодарю Господа за все, что Он мне дал. Я бывала в театре, слушала концерты и так далее. Знаете, семейство, у которого я служила в Праге, а потом в Вене, много десятилетий, брало меня порой с собой на концерты. За всю эту красоту я благодарю Бога.
(Но я чувствовал, что она сомневается в конечной цели своей жизни как таковой, и хотел преодолеть эти сомнения. Для этого я должен был сначала спровоцировать их, а потом бороться с ними, как Иаков боролся с ангелом, пока не вырвал у него благословение. Так я намеревался бороться с подавленным и неосознаваемым экзистенциальным отчаянием моей пациентки, чтобы она смогла в итоге «благословить» свою жизнь, сказать, несмотря ни на что, «да» своей жизни. Итак, моя задача заключалась в том, чтобы вынудить ее на сознательном уровне вопросить о смысле своей жизни, а не в том, чтобы подавить ее сомнения.)
ФРАНКЛ: Вы вспоминаете о замечательных переживаниях, но ведь теперь всему этому наступит конец?
ПАЦИЕНТ: (вдумчиво): Да, теперь все закончится.
ФРАНКЛ: Как вы полагаете, теперь исчезнет и все прекрасное, что было в вашей жизни?
ПАЦИЕНТ (еще задумчивее): Все прекрасное, что было…
ФРАНКЛ: Но скажите, способен ли кто-то отменить счастье, которое вы пережили, сделать так, словно его и не было?
ПАЦИЕНТ: Нет, доктор, этого никто отменить не в силах!
ФРАНКЛ: Может ли кто-нибудь уничтожить то добро, что вам встретилось в жизни?
ПАЦИЕНТ: (все более эмоционально): Нет, этого никто не может отменить!
ФРАНКЛ: Может ли кто-нибудь уничтожить то, что вы успели сделать, чего достигли?
ПАЦИЕНТ: Никто не может этого отменить!
ФРАНКЛ: А может кто-нибудь устранить из мира то, что вы терпеливо и мужественно выстрадали? Может ли кто-нибудь устранить это из прошлого? Из того прошлого, куда вы все сохранили, спасли? Где все это сложено и сохранно?
ПАЦИЕНТ: (взволнованная до слез): Никто не может этого сделать! Никто! (После паузы): Правда, мне пришлось немало страдать, но я старалась быть мужественной и вынести все, что должна. Видите ли, доктор, я верю, что страдания – это кара. Ведь я верю в Бога.
(Сама по себе логотерапия является секулярным подходом к клиническим проблемам. Но если пациент твердо стоит на позициях религиозной веры, ничто не препятствует использовать терапевтический эффект его религиозных убеждений и таким образом обратиться к духовному ресурсу человека. С этой целью логотерапевту следует попытаться встать на позицию пациента. Именно это я теперь попытался сделать.)
ФРАНКЛ: Но не является ли страдание также испытанием? Не может ли быть так, что Бог желал увидеть, как Анастасия Котек справится со страданием? И в итоге он, наверное, признал: да, она справляется с ним отважно. А теперь скажите, может ли кто-нибудь уничтожить эти ваши достижения, фрау Котек?
ПАЦИЕНТ: Уж конечно, этого никто не может.
ФРАНКЛ: Это пребудет всегда, правда?
ПАЦИЕНТ: Да!
ФРАНКЛ: Кстати говоря, у вас же нет детей?
ПАЦИЕНТ: Никогда не было.
ФРАНКЛ: Считаете ли вы, что смысл жизни придают только дети?
ПАЦИЕНТ: Если дети хорошие, это же благословение, ведь так?
ФРАНКЛ: Согласен, но не стоит забывать, что у великого философа Иммануила Канта, к примеру, детей не было. Но разве кто-нибудь усомнится в том, что его жизнь имела огромный смысл? Если б дети были единственным смыслом жизни, жизнь лишилась бы смысла, ведь трудно представить себе нечто более бессмысленное, чем умножать то, что не имеет смысла в самом себе. Скорее смысл жизни в том, чтобы чего-то достичь. А именно это вы и сделали. Вы примирились со своими страданиями. Вы послужили примером для наших пациентов – тем, как вы претерпеваете страдания. Я поздравляю вас с этим достижением и поздравляю также других пациентов, которым довелось стать свидетелями такого примера. (Затем я обратился к студентам): Ecce homo![13] (Аудитория спонтанно разразилась овацией.) Эти аплодисменты адресованы вам, госпожа Котек. (Она заплакала.) Это аплодисменты вашей жизни, состоявшемуся великому достижению. Вы можете гордиться своей жизнью, госпожа Котек. А ведь очень немногие люди могут гордиться своей жизнью. Ваша жизнь – это памятник, который ничто не может уничтожить.
ПАЦИЕНТ: (совладав с собой): То, что вы сказали, профессор Франкл, – это большое утешение. Меня это ободряет. Действительно, я никогда ничего подобного не слышала… (Медленно, тихо она вышла из аудитории.)
Очевидно, нам удалось укрепить дух этой пожилой женщины. Неделю спустя она умерла – можно сказать, как Иов, «насыщена днями». И в последнюю неделю своей жизни она уже не была угнетена, а, напротив, была преисполнена веры и гордости! До того она признавалась доктору Герде Беккер, своему палатному врачу, что ее терзает тревога и более всего мучает мысль о собственной бесполезности. Однако наш разговор открыл этой пациентке полноту смысла ее собственной жизни, и она поняла, что даже ее страдания не были напрасными. Ее последние слова непосредственно перед смертью: «Моя жизнь – памятник. Так сказал профессор Франкл целому залу, всем студентам, кто слушал лекцию. Моя жизнь не была напрасной».
Эти ее слова зафиксированы в отчете доктора Беккер. И мы вправе предположить, что госпожа Котек подобна Иову и в том, что вошла «во гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время»[14].
Я сказал, что в данном случае задействовал духовные ресурсы пациентки. Иными словами, я вышел из психологического измерения и вошел в ноологическое, в измерение поиска смысла, озабоченности человека окончательным смыслом. Это был единственно правильный подход к тому случаю, и я хотел знать, какой результат мы бы получили, если бы пригласили поведенческого терапевта, чтобы вынудить пациентку заменить одни условные рефлексы на другие, с новым подкреплением… Я хотел знать, каков был бы итог, если бы ортодоксальный фрейдист ограничил интерпретацию этого случая лежащей в основе динамикой. В итоге мы бы упустили из виду подлинную проблему и усилили эскапизм пациентки.
Несомненный факт: учебный анализ в традиционной форме не снабжает психоаналитика средствами для помощи таким пациентам, как фрау Котек. «Те, кто должен был помогать больным людям, – пишет профессор Трэвелби{139}, – либо не в состоянии это сделать, либо не знают как. А что может сильнее деморализовать больного человека, чем мысль о бессмысленности своей болезни и своего страдания? Трагедия не в том, что работникам здравоохранения порой не хватает мудрости для того, чтобы помочь больному. Трагедия в том, что проблемы даже не распознаются теми, чья обязанность – помогать и утешать».
Другая пациентка, с которой я проводил беседу на одной из лекций, выразила озабоченность бренностью жизни. «Рано или поздно все будет кончено, – сказала она, – и ничего не останется». Я попытался подвести ее к осознанию, что сама по себе кратковечность жизни не умаляет ее значимости. В этом я не преуспел и прибег к сократическому диалогу:
– Случалось ли вам общаться с человеком, – спросил я, – чьи качества и достижения внушают вам безусловное уважение?
– Конечно, – ответила она. – Наш семейный врач был уникальным человеком. Как он заботился о своих пациентах, он посвятил им всю свою жизнь…
– Он умер? – уточнила я.
– Да, – ответила она.
– Но его жизнь имела безусловный смысл, не правда ли? – продолжал я.
– Если хоть о ком-то можно сказать, что его жизнь имеет смысл, то о нем, несомненно, – подтвердила моя пациентка.
– И что же, этот смысл пропал в тот момент, когда закончилась жизнь этого доктора? – спросил я.
– Ни в коем случае! – возмутилась она. – Ничто не может отменить сам факт, что его жизнь была полна смысла.
Но я продолжал ее испытывать:
– А если бы ни один пациент не вспомнил, чем обязан этому врачу, ведь люди бывают неблагодарны?
– Все равно смысл останется, – пробормотала она.
– Или забудут о нем, память непрочна.
– Останется.
– Или потому, что наступит день, когда умрет последний его пациент.
– Останется…
Этот аспект логотерапии, который я называю медицинским служением, не следует путать со служением пастырским. О принципиальной разнице между двумя служениями мы подробнее поговорим в следующей главе. Пока достаточно будет задать вопрос, является ли медицинское служение медицинским. Входит ли в обязанности медицинской профессии еще и утешать пациента? Император Иосиф II посвятил огромную Главную больницу Вены, где и поныне располагается основная часть университетских клиник, saluti et solatio aegrorum – здравию и утешению больных.
Лично я считаю, что слова «утешайте, утешайте народ Мой» (Исаия. 40:1) и поныне столь же значимы, как тогда, когда они были написаны, и адресованы в том числе врачам{140}. Хорошие врачи всегда именно так и осознавали свою ответственность. На подсознательном уровне даже психоаналитики пытаются дать пациенту утешение. Вспомните случаи, в которых, как указывал Артур Бертон{141}, страх смерти без лишнего вникания либо убирается вовсе анализом, либо сводится к тревоге по поводу кастрации.
В конечном счете это означает, что ноогенную депрессию ошибочно принимают за психогенную. Столь же частое заблуждение – подмена соматогенной депрессии психогенной. В таких случаях пациенту не предлагается утешение, его чувство вины и склонность к самоосуждению еще более обостряются, ибо он слышит, что сам отвечает за свое несчастье. Иными словами, к соматогенной депрессии добавляется психогенная.
И наоборот, пациент может получить существенное облегчение, если его информируют о соматогенной природе его несчастья. Убедительный материал по этому вопросу приводит в одной из недавних публикаций Шульте, глава кафедры психиатрии Тюбингенского университета.
Техника дерефлексии, отвлекая пациента от борьбы с неврозом или психозом, в результате которой невроз или психоз только усиливался бы, спасает человека от лишних терзаний. Как это делается, можно проиллюстрировать отрывком из записанного на магнитофон интервью с девятнадцатилетней девушкой, страдающей шизофренией{142}. Эта студентка поступила в мое отделение поликлиники с острыми симптомами начинающейся шизофрении, включая слуховые галлюцинации и корругатор-феномен, который я описал в 1935 году{143}. Эти мышечные подергивания, сморщивающие брови, являются типичным признаком начинающейся шизофрении.
Вначале пациентка жаловалась на апатию, потом упомянула, что «запуталась», и попросила помощи. Тогда я приступил к дерефлексии.
ФРАНКЛ: Вы переживаете кризис. Не следует заботиться о конкретном диагнозе, скажем просто, у вас некий кризис. Вас осаждают странные мысли и чувства, я понимаю, но мы предприняли попытку унять бурное море эмоций. С помощью современных успокоительных мы помогли вам постепенно выровнять эмоциональный баланс. Теперь вас ждет главная задача – восстановить, реконструировать свою жизнь! Но реконструкция невозможна без жизненной цели, без какого-то вызова.
ПАЦИЕНТ: Я понимаю, о чем вы говорите, доктор, но меня вот что интересует: что происходит во мне?
ФРАНКЛ: Не сосредотачивайтесь на себе. Не вникайте в источник своей проблемы. Предоставьте это врачам. Мы проведем вас через кризис. Разве никакая цель не призывает вас – например, художественные свершения? Разве не зреет в вас множество вещей – невоплощенные произведения искусства, ненаписанные картины, которые ждут, чтобы вы их создали, ждут, чтобы вы их породили? Думайте об этих вещах.
ПАЦИЕНТ: Но это внутреннее смятение…
ФРАНКЛ: Не всматривайтесь в свое внутреннее смятение, сосредоточьте взгляд на том, что вас ждет. Важно не то, что таится в глубинах, а то, что ждет в будущем, хочет быть актуализовано. Я понимаю, что вас тревожит ваш нервный кризис, но давайте мы выльем масло на разгулявшиеся воды. Это профессиональное дело врачей. Предоставьте эту проблему психиатрам. А сами не присматривайтесь к себе, не задавайтесь вопросом, что там внутри происходит. Не будем обсуждать, что мы у вас лечим – невроз тревожности или невроз навязчивости, что бы то ни было, давайте помнить, что вы – Анна и вам еще многое предстоит в жизни. Думайте не о себе, отдайтесь той еще нерожденной работе, которую вы должны сотворить. Лишь когда вы ее сотворите, вы начнете понимать себя. Анна станет тем художником, который сотворил эти произведения. Идентичность возникает не из сосредоточенности на себе, а из преданности какому-то делу, человек обретает себя, осуществляя свою конкретную работу. Если не ошибаюсь, это слова Гёльдерлина: «Что мы такое – ничто, важно, куда мы идем». Можно также сказать: смысл превыше бытия.
ПАЦИЕНТ: Но каков источник моих проблем?
ФРАНКЛ: Не сосредотачивайтесь на таких вопросах. Каков бы ни был патологический процесс, вызывающий у вас такие психологические симптомы, мы вас вылечим. Поэтому не думайте о преследующих вас странных ощущениях. Игнорируйте их, и постепенно мы поможем вам от них избавиться. Не отслеживайте их. Не боритесь с ними.
(Я стараюсь пробудить в пациентке волю к смыслу и не подкреплять шизофреническую склонность к аутизму и погружению в психодинамические истолкования.)
ФРАНКЛ: Вообразите, существует, наверное, дюжина шедевров, которые ждут, пока Анна сотворит их, никто не может сделать этого, совершить это, никто, кроме Анны. В этом она незаменима. Это будут ваши творения, а если вы их не создадите, они навсегда останутся несотворенными. Но если вы их создадите, то сам дьявол не сумеет их уничтожить. Вы спасете их, перенеся в реальность. Даже если потом их кто-то разобьет, разорвет в клочья, в музее прошлого, как я люблю говорить, они останутся навсегда. Из этого музея ничто не может быть украдено, ведь нельзя отменить то, что мы сделали в прошлом.
ПАЦИЕНТ: Доктор, я верю вашим словам. Я услышала, что вы пытаетесь до меня донести, и я счастлива. (С просветлевшим лицом она поднялась с кушетки и вышла из кабинета.)
За несколько недель психиатрического и фармакологического лечения пациентка избавилась от шизофренической симптоматики и смогла вернуться к работе и учебе.
Другой пациент-шизофреник – семнадцатилетний еврейский юноша{144}. Его опекун обратился за консультацией. Он спас этого мальчика во время Второй мировой войны, когда нацисты убивали группу евреев. Позднее, в Израиле, мальчик провел два с половиной года в больнице из-за острой шизофренической симптоматики. Теперь он обсуждает со мной свои проблемы, в том числе проблему отчуждения от еврейской религии, от мира, в котором прошло его детство.
ФРАНКЛ: Когда у вас появились сомнения?
ПАЦИЕНТ: Я начал сомневаться, когда оказался взаперти в израильской больнице. Понимаете, доктор, полицейские меня схватили и привезли в больницу. И я обвинял Бога в том, что Он создал меня не таким, как нормальные люди.
ФРАНКЛ: Но нельзя ли предположить, что и это в том или ином смысле было целесообразно? Вспомните Иону, пророка, проглоченного китом. Ведь он тоже оказался «взаперти». А почему?
ПАЦИЕНТ: Потому что Бог так устроил, разумеется.
ФРАНКЛ: И конечно же, Иона совсем не обрадовался, оказавшись во чреве кита, но лишь там он сумел признать свою жизненную задачу, от которой до тех пор уклонялся. По нынешним временам трудно было бы организовать человеку заключение внутри кита, верно? И вам же не пришлось отбывать срок внутри кита, вы были в больнице. Нельзя ли предположить, что в эти два с половиной года пребывания в больнице Бог тоже пожелал дать вам какую-то задачу? Возможно, пребывание в больнице было вашей задачей на конкретный период жизни. И разве вы не сумели принять эту задачу как должно?
ПАЦИЕНТ: (впервые проявляя эмоциональный интерес): Видите, доктор, потому-то я и сохранил до сих пор веру в Бога.
ФРАНКЛ: Поясните.
ПАЦИЕНТ: Может быть, все это было угодно Богу. Может быть, Он хотел, чтобы я исцелился.
ФРАНКЛ: Не только чтобы вы исцелились, думается мне. Вылечиться – это еще не достижение. От вас требуется больше, чем просто выздоровление. Ваш духовный уровень должен стать выше, чем до болезни. Разве вы не провели во чреве кита два с половиной года, юный Иона? Теперь вы освободились от тех испытаний, которые проходили там. Иона, пока не попал во чрево кита, отказывался идти в Ниневию и проповедовать Бога, а после этого он повиновался. Что же касается вас – вероятно, теперь вы погрузитесь по-настоящему в мудрость Талмуда. Я не хочу сказать, что вам следует учиться больше, чем прежде, но, вероятно, ваша учеба станет более осмысленной и плодотворной. Вы очистились, как очищается в печи золото и серебро, так ведь говорится в псалмах (или в другой книге?).
ПАЦИЕНТ: Доктор, я понимаю, о чем вы.
ФРАНКЛ: Вы ведь плакали порой во время пребывания в больнице?
ПАЦИЕНТ: О, сколько я плакал!
ФРАНКЛ: Что ж, с этим слезами из вас, вероятно, выходили все примеси, весь шлак…
Благодаря этой единственной консультации существенно снизилась агрессивность пациента по отношению к приемному отцу и повысился его интерес к изучению Талмуда. Некоторое время пациент получал по предписанию фенотиазины, впоследствии ему уже не требовалось медикаментозное лечение, за исключением этих препаратов в малых дозах. Он сделался вполне общителен и смог вернуться к своему ремеслу. Его поведение и манера держаться вполне адекватны, если не считать несколько сниженной инициативы. За эту единственную беседу, конспект которой приводится выше, я помог пациенту переоценить свою тяжелую судьбу с точки зрения смысла и цели, доступных ему не вопреки психозу, но даже благодаря ему. Кто усомнится в законном праве терапевта прибегнуть к доступным в данном случае религиозным ресурсам? И я намеренно отказался анализировать те стены, которые отгораживали пациента от мира. Мне безразлично происхождение этих стен, соматическое или психическое. Зато я постарался выманить пациента из этих стен. Иными словами, я постарался предоставить ему территорию, на которой он мог стоять.
Иногда пациент таким способом не только избавляется от лишнего страдания, но и находит дополнительный смысл в том страдании, которого не может избежать. Он может даже превратить страдание в торжество. Однако тут опять-таки смысл определяется позицией, которую пациент занимает по отношению к страданию. Вот пример, который поможет нам это проиллюстрировать.
Сестра-кармелитка страдала от депрессии, которая, как выяснилось, была соматогенной. Она поступила в неврологическое отделение поликлиники. Прежде чем удалось смягчить эту депрессию направленным медикаментозным лечением, болезнь усугубила душевная травма: католический священник заявил монахине, что, будь она настоящей кармелиткой, она бы давно сама справилась с депрессией. Разумеется, это чепуха, и его слова лишь добавили к соматогенной депрессии психогенную (конкретно, «экклезиогенный невроз», как это называет Шетцинг). Но я смог избавить пациентку от последствий этого травматического переживания и тем самым от подавленности, вызванной тем, что она страдает депрессией. Священник сказал ей, что сестра-кармелитка не может болеть депрессией. Я ей сказал: пожалуй, только сестра-кармелитка способна справляться с депрессией так отважно, как это делала она. И действительно, я никогда не забуду строки из ее дневника, в которых монахиня формулировала свою позицию по отношению к депрессии:
Депрессия – мой постоянный спутник. Она гнет мою душу к земле. Где мои идеалы, где величие, красота и благо, которым я некогда присягала? Нет ничего, кроме скуки, и я ее пленница. Я живу, словно в вакууме. В иные моменты мне недоступно даже ощущение боли. И даже Бог молчит. Тогда я мечтаю умереть. Как можно скорее. И если бы я не верила твердо, что моя жизнь не принадлежит мне, я бы ее уничтожила. Однако по моей вере страдание обернулось даром. Люди, которые думают, будто жизнь непременно должна быть успешной, подобны человеку, который смотрит на строителей собора и не понимает, зачем же они копают котлован. Бог строит собор в каждой душе. В моей душе он пока что копает котлован. Мое дело – выдержать удары его заступа.
По-моему, это больше, чем отчет о медицинском случае. Это document humain[15].
В любом случае неверно думать, будто невроз или психоз уничтожает религиозную жизнь пациента: болезнь вполне может оказаться не препятствием для веры, а вызовом и стимулом, вызывающим религиозную реакцию. Даже если невроз «загоняет» человека в религию, вера в итоге может стать подлинной и в конечном счете поможет преодолеть невроз. Вот почему неверно априори отстранять людей с невротическими проявлениями от богословской профессии. Библейское обещание, согласно которому истина сделает нас свободными, не подразумевает, что истинно религиозный человек заведомо имеет возможность освободиться от невроза. Но и обратное нельзя считать за истину, то есть свобода от невроза сама по себе вовсе не есть гарантия религиозной жизни. Эта свобода не представляет собой необходимое или же достаточное условие религии.
Лишь недавно у меня появилась возможность обсудить эту проблему с настоятелем монастыря бенедиктинцев, который прославился тем, что к послушникам предъявляет два требования: во-первых, новичок должен посвятить себя поискам Бога, а во-вторых, он должен пройти курс психоанализа. В разговоре со мной настоятель сообщил, что не читал ни строки из работ Фрейда, Адлера и Юнга. Он лишь прошел сам курс психоанализа, целых пять лет. Сомневаюсь, что так уж оправданно настаивать ортодоксально и догматически на индоктринации в рамках одного конкретного подхода в психиатрии, если такая настойчивость основана лишь на личном опыте, а не на медицинской практике. Первый может быть дополнением ко второй, но не в силах ее заменить. Что еще важнее: недостаток психиатрического образования, то есть возможности сравнить одну школу с другой, разжигает прозелитизм среди психиатрических «сект».
В интервью американскому журналу этот настоятель сказал: «С 1962 года, когда у нас началась эра психоанализа, и до 1965-го к нам обратилось сорок пять кандидатов. Одиннадцать из них стали послушниками, то есть чуть более 20 %»{145}. Эти цифры вынуждают меня задать вопрос, сколько человек (а может быть, вовсе ни одного) сумели бы получить профессию психиатра, если бы их вот так подвергали проверке на невротические изъяны. Лично я уверен, что, если бы мы не обнаруживали хоть сколько-то невротизма в самих себе, мы бы не становились психиатрами, потому что у нас не появился бы первоначальный интерес к этой науке. И мы бы не остались в этой профессии, потому что не обладали бы эмпатией, необходимой хорошему психиатру.
Недавнее исследование показало, что «врачи более склонны к суициду, чем люди других профессий» и, что особенно важно, «этот список возглавляют психиатры»{146}. Комментируя высокий риск суицида среди врачей, автор статьи в английском журнале приходит к выводу{147}: «Среди различных специальностей непропорционально большое количество самоубийств приходится на психиатрию. Объяснение может заключается в выборе такой профессии и невозможности соответствовать ее требованиям, если человек становится психиатром по каким-то болезненным причинам». Казалось бы, отсюда следует, что в личном курсе психоанализа наставник должен отговорить такого ученика от выбора психиатрической профессии или по крайней мере помочь ему преодолеть болезненные тенденции. Но увы, все обстоит с точностью до наоборот: «Зловещий прирост самоубийств среди психиатров, скорее всего, связан с господствующим представлением, будто основным требованием является курс личного психоанализа»{148}. И опять-таки процитируем Уолтера Фримана: «Нынешний акцент на личном психоанализе как на условии для карьеры молодого психиатра влечет за собой еще не до конца распознанные угрозы. Есть предположение, что эта попытка заглянуть в бездны собственной личности под силу не каждому, кто ее вынужденно предпринимает».
У меня нет априорных возражений против психометрического подхода к религии или к любым профессиям. Например, исследовательский проект, осуществляемый Джеймсом Крамбо, научным руководителем психологической службы больницы для ветеранов в Галфпорте, Миссисипи, и сестрой Мэри Рафаэль, замдекана по делам студентов доминиканского колледжа Св. Марии в Новом Орлеане (Луизиана). При планировании исследования предполагалось, что воля к смыслу должна быть одним из самых действенных факторов, влияющих на членов монашеского ордена. Для проверки гипотезы выборку сестер Доминиканского ордена, которые, как считается, по самому своему призванию относятся к числу людей с наиболее выраженной волей к смыслу, планируется изучать методом контрастов. Исследователи хотят измерять личностные показатели, изучить структуру ценностей, целеустремленность проверять тестом «Цели в жизни»{149}, а затем группу лучших монахинь сравнить с группой плохо справляющихся послушниц. Ожидается, что лучшая группа проявит в своем поведении те признаки, которые рационально будет истолковать как проявление воли к смыслу, в то время как слабая группа покажет заметный недостаток таких признаков. Предполагается также, что показатели воли к смыслу обнаружат большее расхождение между группами, чем другие личностные переменные, и что включение самого параметра эффективности послушниц приведет к более высокой корреляции между показателями воли к смыслу и показателями эффективности послушниц, нежели корреляция между личностными переменными и показателями эффективности. Доктор Крамбо и сестра Мэри Рафаэль убеждены, что мотив поиска смысла жизни существует независимо или хотя бы в существенной мере независимо от личностных переменных. Если этот исследовательский проект осуществится, они рассчитывают далее измерять волю к смыслу в различных процедурах отбора, а также в психодиагностическом тестировании.
Да, такой логотерапевтически ориентированный подход также и психометрически ориентирован, то есть это количественный подход. Иными словами, он учитывает различные детерминанты. В некоторой степени он основывается на детерминистской концепции человека. Но детерминистская концепция человека не обязательно является пандетерминистской.
В контексте пандетерминистской концепции человека высказывалась гипотеза, что религиозная жизнь в общем и целом определяется фигурой отца. Однако атеизм не всегда удается объяснить как искажение образа отца. Я использовал в одной своей книге{150} соответствующие статистические данные, собранные моими сотрудниками. Наши данные указывают, что религия – вопрос не только воспитания, но и решения.
Мы применили очень простую технику. Я поручил своим сотрудникам скрининг пациентов, явившихся в течение дня на амбулаторный прием. Скрининг выявил у двадцати трех пациентов позитивный образ отца, у тринадцати – негативный. Но лишь шестнадцать человек с позитивной фигурой отца и только двое из числа пациентов с негативным образом допустили, чтобы их религиозное развитие полностью определялось этими представлениями. Половина от общего числа пациентов развивала свои религиозные представления независимо от образа отца. Мы знаем, что сын пьяницы не обречен на алкоголизм. Аналогично скудная религиозная жизнь не всегда указывает на присутствие негативной фигуры отца: даже самый скверный образ отца не может полностью воспрепятствовать здоровым отношениям с Богом (см. одиннадцать человек из нашей группы). Таким образом, половина проверенных в этот день пациентов обнаруживала то, что сделало из них воспитание, а другая половина – то, что в силу собственного решения они сами сделали из себя{151}.
Факты не фатальны. Важна позиция, которую мы занимаем по отношению к ним. Люди не обязаны становиться плохими монахами или монахинями из-за невроза, они могут стать хорошими монахами и монахинями вопреки неврозу. Иногда они даже становятся хорошими монахами и монахинями из-за невроза. И то, что верно применительно к монахам и монахиням, верно и для психиатров. Говорят, такие творческие психиатры, как основоположники новых школ, развивали системы, которые в конечном счете отражают их собственные неврозы. Это я бы назвал достижением, ибо люди не только преодолели собственный невроз, но и научили врачей, как помочь пациентам в преодолении невроза. Несчастье отдельного человека превратилось в жертву ради блага человечества. Единственный вопрос – насколько невроз данного психиатра соответствует неврозам его эпохи. Если этот невроз типичен, то страдание психиатра отражает страдание всего человечества. Он должен пройти через собственное экзистенциальное отчаяние, чтобы понять, как бороться с тем же недугом своих пациентов.
Позвольте вернуться к высказанной ранее мысли, что религиозность или нерелигиозность невротика не обуславливается его неврозом. Невроз сам по себе не вредит вере. Невротик может быть верующим и вопреки неврозу, и как раз из-за него. Этот факт отражает независимость и аутентичность религии. По всей видимости, религия неуничтожима и неотрицаема. Даже психоз не в силах ее разрушить.
Ко мне привели мужчину примерно шестидесяти лет, у которого уже много лет продолжались слуховые галлюцинации. Передо мной сидел сломленный человек. Все близкие считали его идиотом. И все же от него исходило какое-то удивительное обаяние! В детстве он мечтал стать священником, но ему пришлось довольствоваться единственной радостью, которая ему доступна, – петь в церковном хоре по воскресеньям. Сестра, которая сопровождала его при визите к врачу, сообщила, что, хотя ее брат был очень возбудим, он всегда в итоге справлялся с собой. Меня заинтересовала психодинамика, лежавшая в основе такого поведения, потому что я предположил у пациента сильную фиксацию на сестре, и я спросил его, каким образом он справляется с собой.
– Ради кого вы это делаете?
После краткой паузы пациент ответил:
– Ради Бога.
Он сказал: «Ради Бога». То есть он делал это, чтобы угодить Богу. В этом контексте хотелось бы процитировать Кьеркегора, который однажды сказал: «Даже если безумие протягивает мне шутовской колпак, я могу спасти свою душу, если хочу угодить Богу». Иными словами, даже страдая психозом, я могу выбрать позицию по отношению к своей судьбе и таким образом превратить несчастье в достижение.
Для разнообразия опишу случай не шизофрении, а маниакально-депрессивного психоза. Никогда не забуду эту девушку: одна из самых красивых, каких я встречал в жизни. Она тоже была еврейка, но оставалась некоторое время в Вене и при Гитлере, потому что ее отец занимал официальную должность в еврейской общине. Ее отец и обратился ко мне, потому что в маниакальный период девушка вела себя распущенно. Я указал ей, что помимо двух обычных опасностей, сопряженных с таким маниакальным периодом, то есть заразиться венерическим заболеванием и забеременеть, теперь появилась и угроза жизни. Моя пациентка посещала ночные клубы в сопровождении эсэсовцев. Она танцевала с ними и спала с ними, подвергая тем самым опасности и их, и себя. Наконец ее отправили в концлагерь, и там мы встретились вновь. Никогда не забуду эту сцену. Сравнить ее я могу только с финалом первой части «Фауста» Гёте. Словно Гретхен, она стояла на коленях в жалком подвале, среди множества тяжело больных людей, валявшихся в испражнениях. Сложив руки, она смотрела вверх и молилась: «Шма, Израэль!» Завидев меня, она вцепилась в меня обеими руками и просила о прощении. Я с трудом ее успокоил, и она продолжала молиться на древнееврейском – единственное, что отличало ее от Гретхен. Через час она умерла. Физически она была истощена, душа ее была в смятении, разум дезориентирован. Она не знала, где находится и почему. Она могла только молиться.
Перед лицом таких пациентов, как старик, страдавший шизофренией, и эта маниакально-депрессивная девушка, хочется заново прочесть стих псалма: «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает»[16]. Как еще определить кривую развития шизофреников? Они «сокрушены». Что более характерно для пациентов, страдающих маниакально-депрессивным психозом, если не «смирение»? И разве больные шизофренией и страдающие маниакально-депрессивным психозом не оказываются часто ближе к вере, чем среднестатистический человек?
Даже отстающий в развитии ребенок сохраняет человеческую природу. Священник Карл Роте, постоянно работающий в государственном интернате, где содержатся 4300 умственно отсталых пациентов, заслуживает того, чтобы мы к нему прислушались. «Люди с умственной отсталостью научили меня большему, чем я сумею выразить. Из их мира изгнано лицемерие, это царство, где они улыбкой стяжают ваше расположение, и свет в их глазах растопит самое холодное сердце. Может быть, так Господь напоминает нам, что миру пора возвращать те качества, которых умственно отсталые никогда не теряли!»{152}
Остается лишь поддержать высказывание У. Миллара, профессора психогигиены Абердинского университета (Шотландия): «Явно что-то не так с идеей уравнивать цельность личности и душевное здоровье и предполагать, что человек пребудет несовершенным в глазах Господа, покуда не получит справку от психиатра. Как насчет умственно отсталого ребенка, или ушедшего в себя шизофреника, или старика с возрастной деменцией? Какое утешение остается им, если мы применим и здесь понятие о физическом и душевном здоровье? Должна же быть какая-то возможность придать целостность этим творениям Божьим, пусть и нет надежды на их выздоровление с медицинской точки зрения»{153}.
В свете логотерапии это не требует от нас занять какую-то сторону в противопоставлении теизма и гуманизма, поскольку в свете логотерапии религия остается человеческим феноменом и должна восприниматься всерьез именно как человеческий феномен. Ее нужно принимать как она есть, а не сводить методами редукционизма к недочеловеческим феноменам.
Если мы принимаем религию всерьез, то можем обратиться к духовным ресурсам пациента. В таком контексте «духовный» означает «уникально и истинно человеческий». И в такой ситуации медицинское служение становится вполне закономерной задачей врача.
Разумеется, мы можем справиться и без этого и остаться врачами, но – воспользуемся остротой Поля Дюбуа – надо понимать, что от ветеринаров нас отличает только специфика пациентов.
Заключение Измерения смысла
Нужно сделать поправку на то, что не все мои высказывания в этой главе принадлежат к аксиомам логотерапии. Сама природа этой темы вынуждает меня добавлять множество личных убеждений на грани между психиатрией и богословием.
Слишком много существует психиатров, заглядывающих в сферу действия богословия, и слишком много богословов, заступающих за границу психиатрии. Фредерик Проэлс, капеллан тюрьмы города Нью-Йорка, упоминает «недопеченных полусвященников-полупсихологов, отбрасывающих свое религиозное оружие». Таких священников, продолжает он, «посрамят доктора медицины, достигающие замечательных результатов с теми самыми религиозными средствами, которые эти полубогословы отбросили, а они подобрали»{154}. Однако я бы сказал, что психиатрам следует побороть в себе соблазн в свою очередь проникнуть в сферу богословия. Вновь и вновь мне задают вопрос: «Где в логотерапии отводится место благодати?» И я отвечаю, что врач, выписывающий рецепт или проводящий операцию, должен делать это с максимальной сосредоточенностью и не заигрывать с благодатью. Чем больше он сосредоточен на своем деле и чем меньше думает о благодати, тем лучшим посредником благодати он будет. Чем больше врач похож на человека, тем лучшим инструментом он будет для Божьих целей.
Логотерапия не переходит границу между психотерапией и религией. Но она оставляет открытой дверь религии и оставляет на усмотрение пациента, входить ли в эту дверь. Только пациент вправе решать, понимает ли он ответственность как ответственность перед человечеством, обществом, совестью или Богом. Только он сам решает, перед кем, перед чем и за что он ответственен.
Многие авторы, работающие в сфере логотерапии, указывали, что она совместима с религией. Тем не менее логотерапия не может быть протестантской, католической или еврейской психотерапией{155}. Религиозная психотерапия в собственном смысле слова невозможна из-за принципиальной разницы между психотерапией и религией: они находятся в разных измерениях. Прежде всего, у них разные цели. Цель психотерапии – душевное здоровье. Цель религии – спасение души. Правда, как отмечает Говард Чендлер Роббинс, «богослужение успокаивает ум, но его нельзя использовать с этой целью, поскольку тем самым будет скомпрометирована сама цель. Мы поем Te Deum или Gloria in Excelsis не в расчете избавиться от бессонницы или хронического несварения желудка. Мы поем Te Deum и Gloria in Excelsis[17] во славу Божью».
Более того, логотерапия должна быть доступна каждому пациенту и должна работать в руках любого врача, будь он по мировоззрению теистом или агностиком. Эта доступность обеспечивается уже клятвой Гиппократа. С другой стороны, хотя терапевт не может и не должен вникать в религиозную жизнь пациента, он вполне может внести в нее свой вклад в качестве непредумышленного побочного эффекта. Примеры такой работы с пациентами приводятся в томе «Психотерапия и экзистенциализм»{156}.
Такого же рода побочным продуктом будет неоценимый вклад религии в душевное здоровье. В конце концов, религия снабжает человека духовным якорем, чувством уверенности, какого он нигде больше не обретет{157}. Слияние психотерапии с религией неизбежно приводит к путанице, поскольку смешивает два разных измерения – измерение богословия и антропологии. По сравнению с измерением антропологии богословие выше – оно больше в себя включает.
Так как же сделать, чтобы человек осознал разницу между человеческим миром и Божественным, разницу между двумя измерениями? Чтобы осмыслить эту разницу, достаточно присмотреться к отношениям между человеком и животными. Мир животного включен в мир человека. Человек может отчасти понять животное, но животное не в состоянии постичь человека. И я утверждаю, что пропорция человек – животное примерно соответствует пропорции Бог – человек.
В одной своей книге{158} я приводил такую аналогию: сыворотка против полиомиелита опробовалась на обезьянах, и с этой целью подопытное животное подвергалось уколам и другим процедурам, не имея возможности понять смысл своего страдания, поскольку ее ограниченный разум не проникает в мир человека, в то измерение, где ее страдание может быть понято. Так нельзя ли предположить существование еще одного измерения, мира за пределом человеческого, где и найдется ответ на вопрос о смысле человеческого страдания, о его итоговом смысле?
Рассмотрим теперь другой пример: собаку. Если я укажу на что-то пальцем, пес не посмотрит в ту сторону, куда я указываю, он посмотрит на мой палец, а может и цапнуть за него. Собака не воспринимает семантическую функцию «указывать на что-то». А что человек? Ведь он тоже порой не способен понять смысл чего-то, например страдания, и он тоже порой спорит со своей судьбой и кусает ее за пальцы.
Человек не может понять окончательный смысл человеческого страдания, потому что «мысль сама по себе не может открыть нам высшую цель», как сказал однажды Альберт Эйнштейн. Я бы сказал, что абсолютный смысл – или, как я предпочитаю его обозначать, «сверхсмысл» – составляет предмет не мысли, но веры. Мы не можем уловить его интеллектуально, мы ищем его экзистенциально, всем своим цельным бытием – то есть в вере.
Но я также убежден, что вере в абсолютный смысл предшествует вера в абсолютное бытие, вера в Бога. Представим себе собаку – еще одну. Эта собака больна, вы ее везете к ветеринару, и ветеринар причиняет ей боль. Собака поднимает голову, смотрит на вас и после этого разрешает ветеринару осматривать себя и лечить. Пес лежит тихо и терпит боль. Он не понимает смысла боли, не знает, зачем ему делают укол или перевязку, но его взгляд выражает безграничное доверие хозяину: доверяя хозяину, пес и от врача не ждет зла.
Человек не может прорвать границу между измерениями своего мира и Божественного, но он может тянуться к абсолютному смыслу верой, основа которой – доверие к высшему существу. Бог «превыше всех благословений и псалмов, молитв и утешений, произнесенных в мире», сказано в заупокойной еврейской молитве «кадиш». То есть мы опять-таки видим разрыв между измерениями, нечто подобное Мартин Хайдеггер назвал «онтологической разницей», сущностным различием между вещью и живым бытием. Хайдеггер утверждает, что живое существо не может быть вещью среди вещей. Несколько лет назад маленький мальчик сообщил моей жене, что определился с будущей профессией. «Так кем же ты хочешь быть?» – спросила она, и он ответил: «Или цирковым акробатом на трапеции, или Богом». Для него Бог был одной из профессий, доступных для выбора.
Онтологическая разница между живым существом и вещами или, если на то пошло, разница в измерениях между абсолютным существом и людьми препятствует подлинному разговору о Боге. Говоря о Боге, мы превращаем бытие в вещь. Неизбежно происходит объективация. В таком случае персонификация становится оправданной: человек не может говорить о Боге, но может говорить с Богом. Он может молиться.
Людвиг Витгенштейн завершает свою самую знаменитую книгу не менее прославленной фразой: «О чем не можешь говорить, о том надо молчать». Эту фразу переводили на много языков. Позвольте мне перевести ее с языка агностика на язык теиста. Тогда она будет звучать так: «К Тому, о ком невозможно говорить, нужно воссылать молитвы».
Однако, признавая разницу измерений между человеческим миром и миром Божественным, мы нисколько не убавляем от знания, наоборот, умножаем его и стремимся к мудрости. Если какая-то проблема не решается, мы по крайней мере начинаем понимать, что препятствует ее решению. Вспомните афоризм: Бог пишет прямо на кривых линиях. Это непостижимо на уровне страницы, если мы представляем, что Бог пишет прямо здесь. «Писать прямо» – значит выводить буквы параллельно друг другу и перпендикулярно строке. Но на кривых линиях буквы не будут параллельны.
Но если мы представим себе трехмерное пространство, а не двухмерную плоскость страницы, то вполне будет возможно ставить параллельные буквы на кривых линиях. Иными словами, благодаря разнице в измерениях между человеческим миром и Божественным мы сможем шагнуть чуть дальше Сократа, утверждавшего, что он знает лишь, что ничего не знает: мы теперь знаем также, почему мы не можем знать все. Мы понимаем, почему не можем все понять. И что еще важнее, мы понимаем: нечто, казавшееся невозможным на низшем уровне, вполне возможно на более высоком.
Разрыв между измерениями человеческого и Божественного мира невозможно устранить, ссылаясь на откровение. Откровение не может дать веру в Бога, ведь, чтобы признать откровение как источник информации, нужно заранее верить в Бога. Неверующий никогда не признает откровение как исторический факт.
Логическая аргументация поможет тут не больше, чем историческая. По окаменевшим следам мы судим о вероятном существовании динозавров, но из естественных вещей невозможно вывести сверхъестественное существо. Бог не окаменелость. И телеология не послужит надежным мостом между антропологией и богословием.
Для неверующего камнем преткновения окажется как исторический, так и логический способ аргументации. Но есть еще и третий путь – антропоморфизм. Его я бы определил как богословие с применением антропологии, или скажем легкомысленнее: Бог предстает в образе дедушки. В качестве примера приведем известный анекдот.
Учительница воскресной школы как-то рассказала ученикам о бедняке, чья жена умерла в родах. У бедняка не было денег на кормилицу, но Бог сотворил чудо: у мужчины выросла грудь, которую и сосал новорожденный. Один из мальчиков в классе заметил, что особой надобности в чуде не было. Пусть бы Господь подкинул бедняку тысячу долларов, чтобы тот мог нанять кормилицу. На это учительница ответила: «Вот глупый мальчишка! Когда у Бога есть возможность сотворить чудо, зачем же он станет тратить наличные?» Почему мы смеемся над этим анекдотом? Потому что Богу приписывается знакомый человеческий мотив, в данном случае – экономность.
Три камня преткновения – авторитаризм, рационализм и антропоморфизм – главным образом и отвечают за вытеснение в религиозной сфере. Я имею возможность сослаться на случай, когда вытесненные религиозные чувства были обнаружены рентгеном. Это сообщение доктора Блюменталя из Еврейского университета Иерусалима: «Женщина среднего возраста была доставлена в больницу с острым колитом. В разговоре с рентгенологом она подчеркивала, что не является верующей, однако приступ у нее случился после того, как она поела свинину. Первый скрининг с барием показал, что кишечник в полном порядке. Затем женщине снова дали еду с барием и сказали, что в ней содержится свинина, – после снимка начался сильный приступ колита. В третий раз к еде в самом деле подмешали свинину, однако пациентке об этом не сообщили. На этот раз кишечник на снимке снова был спокойный, и после обследования не было приступа»{159}.
В книгу, которая пока не переводилась на английский{160}, я включил неосознанно религиозные сны пациентов, считающих себя атеистами. И я наблюдал агностиков на смертном одре: они знали, что скоро умрут, и все же у них появлялось некое чувство защищенности, которое невозможно объяснить с точки зрения их нерелигиозного мировоззрения{161}, однако вполне можно объяснить, если признать то, что я бы назвал фундаментальной верой в абсолютный смысл. Альберт Эйнштейн так и сформулировал: найти удовлетворительный ответ на вопрос о смысле жизни – значит стать верующим. Если мы разделяем его определение веры, мы вправе признать фундаментальную религиозность человека.
В строгом смысле трансцендентализма Канта{162} вера человека в смысл должна также считаться трансцендентной. Если дозволено дидактики ради упростить вопрос, я скажу, что человек не может умопостигать что-либо, иначе как в пространстве и времени и применяя категории причины и следствия. Это что касается Канта. Я же, со своей стороны, добавлю, что человек не может и рукой шелохнуть, если он весь не пронизан фундаментальной верой в абсолютный смысл – до самых оснований своего существа и из глубин бытия. Без этой веры сразу же пресекается дыхание. Даже самоубийца должен верить хотя бы в то, что суицид имеет смысл.
Итак, вера в смысл, вера в бытие, даже если она заглохла и впала в спячку, остается трансцендентальной, и без нее обойтись невозможно. Ее нельзя устранить. Мы обсуждали случаи, когда эта вера вытеснялась, потому что человек стыдился религиозных чувств. Такой человек сталкивается с неким образом религии без поправки на разрыв измерений между миром людей и Божественным миром. Бывает и так, что человек не слишком сильно, а, наоборот, слишком слабо ощущает этот разрыв. Я говорю о людях, для которых ничто не будет реальным, пока они это не пощупают. Такие люди даже не понимают разницу в измерениях между соматическими и психическими явлениями. Но до этих людей можно достучаться, обратившись к тем предпосылкам, которые они молчаливо подразумевают. Позвольте проиллюстрировать эту мысль.
В рамках дискуссии молодой человек задал вопрос: допустимо ли говорить о душе, которую мы не можем видеть? Даже если рассматривать ткань мозга под микроскопом, сказал этот молодой человек, ничего подобного душе мы не увидим. Модератор дискуссии попросил меня обсудить эту проблему. Для начала я спросил молодого человека, что побудило его задать такой вопрос. «Интеллектуальная честность», – ответил он. «Хорошо, – сказал я, бросая ему вызов, – а эта честность телесна? Ее можно пощупать? Мы увидим ее в микроскоп?» – «Разумеется, нет, – признал молодой человек. – Это душевное явление». – «Ага, – сказал я. – Иными словами, то, что мы бы напрасно искали под микроскопом, стало отправным пунктом вашего научного поиска, и вы заведомо предполагаете существование этого явления, верно?»
Впервые в жизни приехав в Вену, Мартин Хайдеггер предложил провести закрытый семинар для десятка ученых. Вечером того же дня профессор Г. с кафедры философии Венского университета и я повели Хайдеггера в «хойригер» – это типично венское местечко, где владелец виноградника продает собственноручно изготовленное вино. С нами были наши жены, и, поскольку жена профессора Г. не философ, а бывшая оперная дива, она попросила меня передать простыми словами основное содержание семинара. Я сымпровизировал примерно такую речь: «Давным-давно некий человек стоял у телескопа в полном отчаянии: он обрыскал все небо в поисках некой планеты Солнечной системы и так ее и не нашел. А именно, он искал планету под названием Земля. Друг подсказал ему обратиться к мудрецу, который звался Мартин Хайдеггер. «Чего вы ищете?» – спросил Хайдеггер астронома. «Землю, – ответил несчастный астроном, – и нигде в небесах не могу ее отыскать». – «А позвольте спросить, где установлен треножник вашего телескопа?» – продолжал Хайдеггер. «На Земле, разумеется», – немедленно последовал ответ. «Прекрасно, – завершил разговор Хайдеггер, – вот она тут и есть».
Еще раз: то, что человек ищет, с самого начала предполагалось. Буквально пред-положено, то есть положено до его поиска, еще до того, как он сделал первый шаг.
Мартин Хайдеггер попросил у меня разрешения использовать этот образ в своих лекциях. Хайдеггер обычно следует за этимологией – почему бы мне не следовать за аналогией?
Люди, сводящие реальность к тому, что видимо и ощутимо, и по этой причине априори отрицающие бытие абсолютного существа, также вытесняют религиозные чувства. Наряду с теми, кто слишком изощрен, чтобы принять наивные представления религии, существуют и люди слишком незрелые, чтобы преодолеть примитивную эпистемологию. Такие люди настаивают: Бог должен быть видимым. Но если бы они хоть раз постояли на сцене, они бы кое-что поняли: когда человек стоит на сцене, ослепленный софитами и подсветкой, он не видит аудиторию. Вместо зала – огромная черная дыра. Человек на сцене не видит зрителей, которые смотрят на него. Так и человек, стоящий на подмостках жизни, играющий свою роль, не видит, перед кем он ее играет. Он не знает, перед кем несет ответственность за то, чтобы сыграть эту роль как следует. В слепящем свете того, что происходит на первом плане в любой жизни, человек порой забывает о наблюдателе, о том, кто таится в темноте, в ложе, и наблюдает за ним, о том, кто «мрак сделал покровом Своим»[18], как сказано в псалме. А мы часто испытываем желание напомнить человеку, что занавес уже поднят и каждый его поступок на виду.
Во время Корейской войны военнопленным в концлагере говорили: если они не поддадутся коммунистической пропаганде, то умрут, и никто даже знать не будет про них и про их сопротивление. Человеку нерелигиозному может показаться бессмысленным проявлять героизм, который никак не вознаграждается, о котором никто знать не будет{163}.
Огромная черная дыра наполняется символами. Человек – существо, способное создавать символы и нуждающееся в символах. Его языки – системы символов, и его религии – тоже. А что верно применительно к языкам, верно и для религии. Иными словами, никто не вправе утверждать с чувством превосходства, будто один язык лучше другого. Любой язык дает нам средство достичь истины – единой истины, – и не менее возможна в любом языке ошибка и ложь.
Не думаю, что существует тенденция уйти от религии как таковой, но думаю, что есть тенденция уходить от тех религий или, точнее, вероисповеданий, представители которых увлечены борьбой друг с другом. Так я ответил местному репортеру журнала Time, который позвонил мне по телефону и спросил: «Так Бог умер?» Он сообщил мне, что эта статья будет гвоздем номера, и тогда я поинтересовался, не собирается ли редакция в итоге выбрать Бога «человеком года».
Когда я высказал журналисту свое мнение – ныне существует тенденция уходить не от религии как таковой, а от подчеркнутых различий между различными конфессиями, – он уточнил, считаю ли я, что движение прочь от враждующих конфессий направлено к какой-то универсальной религии. Такой вариант я решительно отрицал и отрицаю. Скорее происходит нечто противоположное: мы движемся к глубоко индивидуальным религиям, каждый человек придет в итоге к собственному языку, найдет собственные слова, с которыми будет обращаться к абсолютному существу.
Но что же нам делать с вопросом, умер ли Бог? Я бы сказал: Бог не умер, но он молчит. Он всегда молчал. «Живой» Бог – всегда «скрытый» Бог. Не следует ожидать от него ответа на свой призыв. Исследуя глубину моря, мы посылаем в толщу вод звуковые волны и ждем эхо, отражающееся от морского дна. Однако Бог (если он существует) бесконечен, и напрасно было бы ждать отзвука. Сам факт отсутствия ответа доказывает, что наш призыв достиг адресата – достиг бесконечности.
Когда мы смотрим на небо, мы его не видим, ведь все, что нам удается разглядеть на небе, – это не само небо, а, напротив, то, что его скрывает, например туча. С бесконечной высоты, именуемой небом, – ведь сказано же, что пути Господни настолько выше путей человеческих, насколько небо выше земли, – с той бесконечной высоты не отражается посланный туда свет, из бездны не возвращается посланный туда звук.
Гордон Олпорт в известной книге «Человек и его религия» (The Individual and His Religion) рассуждает о глубоко личной религии индусов: у них «разные люди, и даже один и тот же человек в разные периоды жизни может придерживаться разных представлений о Божестве. Когда нам нужна милость, Бог есть любовь, понадобятся знания – Он всеведущ, утешение – Он дарует мир, превосходящий человеческое понимание. Когда мы согрешим, Он – искупитель, когда нуждаемся в руководстве – Святой Дух. И тут приходит на ум интересный обряд индуизма. Примерно в шестнадцать – восемнадцать лет молодой индус получает от своего наставника особое имя Бога, которое на всем протяжении жизни будет служить этому молодому человеку орудием молитвы и связи с божеством. Этот обычай явственно принимает во внимание тот факт, что подход к религиозным истинам во многом определяется темпераментом, потребностями и способностями самого инициируемого. Эта практика демонстрирует нам редкий пример институциональной религии, возводящей в абсолют индивидуальность религиозного чувства. Причем не довольствуясь тем, чтобы каждый человек получил особое имя божества, соответствующего его личным потребностям, – ему еще настоятельно советуют скрывать это имя от ближайших друзей и даже от супруги. В конечном счете каждый предстоит своему божеству в одиночестве: прекрасно продуманный обычай отображает это одиночество, особенно в тесноте индийских семей и общин, символизируя его печатью тайны»{164}.
Означает ли это, что отдельным вероисповеданиям или, если на то пошло, организациям и институциям религиозной сферы предстоит исчезнуть? Ни в коем случае. Как бы ни различались индивидуальные стили, в которых человек выражает себя и обращается к абсолютному существу, есть и общие символы, и общая история символов, которая пребудет всегда. Разве не пользуются самые разные языки одним и тем же алфавитом?
В заключение я хотел бы напомнить, что я в первую очередь врач. Я каждый день имею дело с неизлечимыми больными, с людьми, которых настиг старческий маразм, с женщинами, которые навеки бесплодны. Меня преследует их вопль: где же ответ на вопрос о смысле страдания?
Я сам прошел через чистилище, попав в концлагерь и утратив черновик моей первой книги. Позже, когда уже и смерть казалась неотвратимой, я спросил себя, для чего была вся моя жизнь. Ничего не оставалось, что пережило бы меня. Не было детей, даже плода моего разума, моей рукописи. Но после того как я часами сражался с собственным отчаянием, дрожа в тифозной лихорадке, я наконец задал себе вопрос: какого рода смысл определяется тем, будет ли моя рукопись опубликована? Лично я в тот момент гроша бы ломаного за это не дал. Если смысл существует, он должен быть безусловным, таким, что его не могут убавить ни страдание, ни смерть.
Вот это и нужно нашим пациентам – безусловная вера в безусловный смысл. Помните, что я говорил о бренности жизни: в прошлом ничто не является безвозвратно утраченным, все неотменимо и сохранено. Люди видят лишь скошенное поле мимолетности и забывают о богатых житницах прошлого, куда они сложили на хранение и тем самым навеки спасли урожай.
А как насчет тех бедолаг, чьи житницы пусты, как насчет одряхлевших мужчин, бесплодных женщин, тех художников и ученых, чьи столы и мольберты пусты, не заполнились картинами и рукописями? Что мы скажем о них? Безусловная вера в безусловный смысл способна обратить поражение в героический триумф. Такую возможность продемонстрировали не только множество пациентов в наше время, но и крестьянин, живший в библейские времена где-то в Палестине. У него были вполне реальные житницы, не метафорические. И они оказались пусты – буквально. И все же, безусловно веря в безусловный смысл, безусловно доверяя абсолютному существу, Аввакум воспел песнь торжества:
Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего[19].
Хотелось бы мне, чтобы именно такой урок несла моя книга.
Послесловие Дегуруфикация логотерапии
На основе обращения к Первому Всемирному конгрессу по логотерапии, Сан-Диего, 1980
Меня попросили обратиться со вступительным словом к Первому Всемирному конгрессу по логотерапии, который проходил в Сан-Диего в 1980 году. Организаторы мероприятия довольно придирчиво уточняли формат моего выступления. Меня просили объяснить – цитирую дословно, – «какой мне видится логотерапия после меня». Иными словами, меня пригласили спеть лебединую песню, сделать завещание. Но я не пророк и не могу провидеть будущее логотерапии, и тем более я не гуру, чтобы определять это будущее. Я так и озаглавил вступительное слово: «Логотерапия на пути к дегуруфикации», поскольку будущее логотерапии зависит от всех логотерапевтов.
Я потомок Махараля из Праги, легендарного рабби, прославленного романом «Голем» и фильмами по этому роману. Рабби состоял в задушевной дружбе с тогдашним австрийским императором и создал из глины робота-Голема. Однако меня от достопочтенного предка отделяет дюжина поколений, и за это время всякое желание создавать роботов испарилось и рассеялось. Я не чувствую желания создавать роботов или воспитывать попугаев, способных лишь воспроизводить голос хозяина. И я хочу, чтобы в будущем логотерапию подхватили и развивали независимые, творческие, изобретательные, новаторские умы. Логотерапия рассматривает человека в поиске смысла и возлагает на него ответственность за осуществление смысла. Свое назначение логотерапия видит в том, чтобы привести человека к осознанию «ответственности за свою готовность к ответственности». Это же верно и применительно к самому логотерапевту, он тоже обязан осознавать свою ответственность. Иными словами, ему требуется независимый дух.
Немалая заслуга Реувена Булки{165} – защита логотерапии от обвинения в «авторитаризме». Также и Элизабет Лукас в книге о логотерапии{166} утверждает, что за всю историю психотерапии еще не было столь недогматической и открытой школы, как логотерапия. Да, логотерапию можно назвать открытой системой. Однако при этом мы исповедуем не только открытость, но и системность. Как-никак, “el sistema es el honradez del pensador” – «мыслитель гордится своей системой», писал Ортега-и-Гассет. Х. Торелло{167} не усомнился даже заявить, что в истории психотерапии логотерапия – последняя школа, чье учение развивалось в рамках системно организованной структуры.
Это не уничтожает и не умаляет моего права зваться «отцом логотерапии», как титуловал меня журнал Existential Psychiatry. Латинская шуточка насчет того, что «отцовство нельзя установить с точностью» (pater semper incertus), неприменима к логотерапии. Но как отец или, попросту говоря, основатель логотерапии я всего лишь заложил ее основы, а основы, фундамент, – это, в свою очередь, всего лишь приглашение, обращенное ко всем желающим продолжать строительство на этой основе. Если они будут читать и перечитывать мою книгу, им не придется изобретать логотерапию с нуля, это сбережет время и позволит новым специалистам больше вложить в дальнейшее развитие системы. Логотерапия – система, открытая в двух аспектах: она открыта и для дальнейшей собственной эволюции, и для взаимодействия с другими школами. Такая двоякая открытость уже принесла плоды, о чем свидетельствуют пятьдесят семь книг по логотерапии, написанных на данный момент сорока авторами (свои я не учитываю). Эти книги опубликованы на пятнадцати языках. Добавим к ним сто двенадцать диссертаций. При этом охвачены разные уровни научной сложности – от популяризации (и даже вульгаризации) до публикаций, основанных на эмпирических данных и экспериментах. Эти работы намечают движение в разных направлениях. Поскольку расхождение в подходах порождает порой заметно отклоняющиеся друг от друга результаты, возникает вопрос: так что же мы относим к логотерапии, а что уже окажется за ее пределами? Я мог бы ответить на этот вопрос легко и просто, определив логотерапию в чистом и правильном смысле как исключительно то, что вы найдете в моих книгах. Однако для того, чтобы войти в сообщество логотерапевтов, вовсе не требуется подписываться подо всем, когда-либо написанным или сказанным доктором Франклом.
Читатель выбирает из всего этого и пускает в ход только то, что сочтет для себя убедительным. Ведь нельзя убедить других людей в том, в чем вы сами не убеждены! Это в особенности касается убеждения логотерапевта в том, что жизнь имеет смысл, что она безусловно значима, вплоть до последнего мгновения, до последнего вздоха, и что сама смерть может быть нагружена смыслом. Если читатель разделяет это убеждение, тогда он найдет в моих книгах все необходимые доводы в поддержку этой веры. Если мы стоим на том, что жизнь обладает безусловным смыслом, мы можем в свете этой позиции дать новое определение психиатрической и другим формам помощи: они, прежде всего, призваны помогать пациентам в фундаментальном и абсолютном человеческом устремлении – найти смысл своей жизни. Помогая пациентам, специалисты и сами в процессе обретают призвание и миссию, смысл собственной жизни. Когда издатель «Кто есть кто в Америке» (Who’s Who in America) попросил меня подытожить свою жизнь в нескольких строках, я ответил словами, которые вы можете уже предугадать: «Я обрел смысл жизни в том, чтобы помогать другим находить смысл в своей жизни».
Эволюция логотерапии охватывает не только ее применение в различных сферах, но и сами основы. Большая работа была проделана множеством авторов с целью объединить, подтвердить и укрепить те открытия, что слишком долго опирались на одну лишь интуицию, более того, на интуицию юноши по имени Виктор Франкл. Теперь логотерапия утвердилась научно благодаря исследованиям, включающим в себя: 1) тесты; 2) статистику; 3) эксперименты[20].
1. На данный момент мы располагаем десятью логотерапевтическими опросниками от Вальтера Бёкмана, Джеймса Крамбо, Бернара Дансара, Бруно Джорджи, Рут Хаблас, Р. Хутцеля, Джеральда Ковачича, Элизабет Лукас, Леонарда Махолика и Патрисии Старк.
2. Что касается статистики, можно указать на результаты исследований, которые проводили Браун, Дансар, Дурлак, Кашани, Крамбо, Кратохвил, Лукас, Лансфорд, Мейсон, Мейер, Мёрфи, Планова, Попильски, Ричмонд, Робертс, Рух, Сэлли, Смит, Янг и Ярнел. Их труд обеспечил нас эмпирическими доказательствами: да, человек может найти в своей жизни и осуществить смысл, независимо от возраста и пола, уровня интеллекта и образования, условий среды и особенностей характера и даже независимо от того, верующий ли он, а если верующий, то независимо от принадлежности к той или иной конфессии. Авторы этих трудов обработали на компьютере сотни тысяч данных, собранных от тысяч пациентов, и получили эмпирическое доказательство безусловного присутствия в жизни потенциального смысла. Статистика позволяет также многое понять в противоположном состоянии, в чувстве бессмысленности жизни или, вернее, в проистекающем из этого чувства ноогенном неврозе. Я имею в виду исследовательские проекты, которые проводились независимо друг от друга, но привели к общему выводу: примерно 20 % неврозов по своей природе и происхождению являются ноогенными. Это работы Фрэнка Бакли, Эрика Клингера, Дитриха Лангена, Элизабет Лукас, Евы Нибауэр-Коздера, Казимира Попильски, Ханса Иоакима Прилла, Нины Толл, Рут Волхард и Т. А. Вернера.
3. Что касается экспериментов, Л. Шойом, Ф. Гарса-Перес, Б. Ледвиджа и К. Шойом{168} первыми предложили экспериментальное свидетельство эффективности логотерапевтической техники парадоксальной интенции. Позднее Майкл Ашер{169} и Ральф Тернер{170} добились в контролируемом эксперименте подтверждения клинической эффективности парадоксальной интенции по сравнению с другими поведенческими стратегиями.
Но сколь бы высоко мы ни ценили подобные научные обоснования логотерапии, нельзя забывать и оборотную сторону: боюсь, логотерапия становится чересчур научной и из-за этого утрачивает подлинную популярность. Вместе с тем, как ни парадоксально, она слишком революционна, чтобы получить признание в академических кругах. И неудивительно. Концепция воли к смыслу как основной мотивации словно вызов, брошенный в лицо всем современным теориям мотивации, которые по-прежнему основываются на принципе гомеостаза и полагают, что человек занят исключительно удовлетворением своих инстинктов и побуждений, своих потребностей, и все это затем, чтобы достичь внутреннего равновесия или восстановить это состояние без напряжения. И все люди, которых он вроде бы любит, и любая миссия, которой он якобы служит, – все лишь орудия, помогающие ему избавиться от напряжений, вызванных инстинктами, побуждениями и потребностями, если те не удается как можно скорее удовлетворить. Иными словами, самотрансцендентность, которую логотерапия считает основой человеческого существования, полностью исключается из представления о человеке, лежащего в основе современных теорий мотивации. Однако человек не является ни существом, которое попросту повинуется инстинктам, ни существом, которое попросту реагирует на стимулы, он – существо, чьи действия размыкаются в мир, «бытие-в-мире» (воспользуюсь термином Хайдеггера, хотя это выражение чаще всего истолковывают неверно). Мир, в котором он пребывает, – это мир, где находятся также другие и существуют смыслы, устремляясь к которым человек выходит за пределы себя. Но как же нам разобраться с недугами и несчастьями нашего мира, проистекающими из фрустрации воли к смыслу, если наше представление о человеке не признает волю к смыслу как источник мотивации?
В логотерапии революционна не только концепция воли к смыслу, но и концепция смысла жизни. Логотерапевты нарушили давнее табу. Николас Мосли в одном из своих романов пишет: «Сегодня появилась новая тема, табуированная так же, как прежде была табуирована сексуальность: запрещено рассуждать о жизни так, словно она имеет какой-либо смысл»{171}. Логотерапевты осмелились заговорить о жизни так, словно она имеет смысл – причем всегда. Нет надобности даже обсуждать, насколько это важно для случаев ноогенного невроза и экзистенциальной фрустрации. Тут логотерапия предлагается в качестве основной показанной терапии, говоря на профессиональном медицинском языке, «преимущественным методом лечения».
Но в каждом конкретном случае приходится подбирать наилучший метод. Я не устаю повторять, что преимущественный метод лечения в каждом конкретном случае определяется уравнением с двумя переменными:
ψ = x + y,
где x обозначает уникальную личность пациента, а y – столь же уникальную личность терапевта. Иными словами, не каждый метод с равным успехом применяется к каждому пациенту, и не каждый терапевт может с равным успехом использовать любой метод. По поводу адаптации метода к пациенту великий психиатр Бирд однажды сказал: «Если вы одинаково лечите два случая неврастении, по крайней мере один из них вы лечите неправильно». Что касается адаптации метода к врачу, другой классик однажды, рассуждая о том методе, который он же сам и ввел в психиатрию, заметил: «Эта техника оказалась единственно подходящей для моей индивидуальности, и я не смею отрицать, что какой-то другой врач, скорее всего, будет склонен применять другой подход к своим пациентам и к стоящим перед ним задачам». Эти слова принадлежат Зигмунду Фрейду{172}.
Логотерапия не может не индивидуализироваться. Метод модифицируется и применительно к людям, и применительно к ситуациям. Логотерапевт должен не только индивидуализировать, но также импровизировать. Эти навыки терапевты могут освоить, желательно – благодаря клиническим разборам случаев, но также и читая публикации. Поверьте, среди лучших логотерапевтов во всех уголках мира есть и такие, с кем я никогда не встречался и даже не переписывался. Они тоже публикуют статьи и книги о личном успешном применении логотерапии, которой научились исключительно по моим книгам! Некоторые люди сумели даже самих себя излечить с помощью логотерапии, тоже после чтения книг на эту тему. Хотелось бы поздравить их с тем уникальным изобретением, которое мы могли бы назвать аутобиблиологотерапией.
Из того, что я говорил ранее, следует, что логотерапия не панацея. И из этого опять-таки следует, что логотерапия не только «открыта к сотрудничеству с другими школами», но и что нужно всячески поощрять и приветствовать ее сочетания с другими техниками. Таким образом ее эффективность возрастает и распространяется на новые случаи. Вероятно, Анатоль Бройяр{173} был прав, когда в рецензии на одну из моих книг заметил: «На сленге последователи Фрейда именуются “шринками”, то есть “сужающими”, так что логотерапевтов следует называть “стрейчами”, “растягивающими”». Так давайте же тянуться и расширять пределы логотерапии. Вернее, продолжим тянуться.
И не надо все сводить к методу. Психотерапия всегда представляет собой нечто большее, чем просто технику, потому что непременно включает в себя элемент мудрости. Искусство и мудрость образуют единство, цельность, в которой рассеиваются и исчезают дихотомии, в том числе противопоставление техники и личной встречи. Такие крайности становятся допустимой основой для психотерапевтического вмешательства лишь в исключительных ситуациях: обычно психотерапевтическое лечение включает оба компонента: с одной стороны – стратегию, с другой – отношения «Я» и «Ты».
Американская девушка{174}, изучающая музыку, приехала ко мне в Вену на консультацию. Она говорила на каком-то ужасном диалекте, которого я не понимал, и я попросил американского врача разобраться, что побудило эту пациентку обратиться ко мне. Однако девушка не стала консультироваться с этим врачом и при случайной встрече на улице сказала мне: «Вот видите, доктор, как только я рассказала вам о своей проблеме, я почувствовала такое облегчение, что больше ни в какой помощи не нуждалась». Я и поныне знать не знаю, с чем она тогда обратилась ко мне.
Противоположную крайность мы видим в следующей истории{175}. В 1941 году меня однажды утром вызвали в гестапо. Я, как было приказано, явился, ожидая, что меня тут же отправят в концлагерь. В кабинете меня ждал гестаповец, он приступил к допросу, но вскоре сменил тему и стал задавать мне такие примерно вопросы: «Что такое психотерапия? Что такое невроз? Как побороть фобию?» Далее он перешел к описанию конкретного случая – «своего друга», разумеется, но я догадался, что гестаповец пытается обсудить со мной собственную проблему. Я начал краткосрочную терапию (конкретно – применил логотерапевтическую технику парадоксальной интенции): посоветовал сказать «другу», чтобы тот поступил так-то, и тогда тревожность уменьшится. В этой терапевтической сессии не были задействованы отношения «Я» и «Ты», скорее «Я» и «Он». Гестаповец продержал меня в кабинете несколько часов, я лечил его в такой косвенной манере. У меня, конечно же, не было возможности узнать, каков был эффект этой краткосрочной терапии, но я сам и мои близкие получили в итоге спасительную отсрочку: мы смогли прожить в Вене еще год до того, как нас все-таки отправили в концлагерь.
Я хочу сказать, что технику не следует отвергать с порога. Однако по поводу логотерапевтической техники парадоксальной интенции Майкл Ашер, вероятно, справедливо говорит в первую очередь об уникальности: «Большинство терапевтических подходов пользуются специфическими техниками, и эти техники бесполезны и нерелевантны для других терапевтических систем. Но в этом правиле есть одно замечательное исключение, а именно парадоксальная интенция: многие специалисты, принадлежащие к самым разным и конфликтующим психотерапевтическим школам, интегрируют это открытие в свои системы – и в теорию, и в практику»{176}.
Я нисколько не возражаю против такой «интеграции». В конце концов, логотерапевты лечат пациентов не “ad maiorem gloriam logotherapiae,” не ради репутации логотерапии, а ради блага самих пациентов.
Но теперь заглянем не вперед, в будущее логотерапии, а в ее прошлое. Биогенетический закон Эрнеста Геккеля, согласно которому онтогенез в сокращенной версии повторяет филогенез, можно применить и к логотерапии, «Третьей школе венской психотерапии», как называют ее некоторые авторы. Я так или иначе был связан со школами Фрейда и Адлера. Учась в университете, я переписывался с Зигмундом Фрейдом, а когда занялся медициной, познакомился с ним лично. Уже в 1924 году он опубликовал мою статью у себя в журнале International Journal of Psychoanalysis, а через год, в 1925-м, другая статья была опубликована Альфредом Адлером в International Journal of Individual Psychology. Правда, еще через два года Адлер изгнал меня из своей школы – я оказался чересчур неортодоксальным.
Но как быть с утверждением, что каждый основатель психотерапевтической школы кладет в основу своей системы собственный невроз и описывает в своих книгах собственный случай? Разумеется, я не в праве рассуждать в таком контексте о Фрейде и Адлере, но, что касается логотерапии, я с готовностью признаю, что в молодости прошел через ад отчаяния из-за ощутимой бессмысленности жизни, прошел через полный и тотальный нигилизм, пока не выработал против него иммунитет. В итоге я создал логотерапию. Печально, что некоторые авторы, вместо того чтобы укреплять иммунитет читателей против нигилизма, прививают им собственный цинизм и разочарование, то есть тот защитный механизм, ту реакцию, которую они выработали против своего нигилизма{177}.
Это очень печально, потому что сегодня, более чем когда-либо прежде, отчаяние, вызванное ощущением бессмысленности жизни, превращается во всеобщую и неотложную проблему. Наше индустриальное общество пытается удовлетворить все потребности каждого, наше общество потребления еще и создает новые потребности, чтобы их удовлетворять. Но самая главная потребность – базовая потребность в смысле, чаще всего остается в пренебрежении. А это очень важно, потому что, когда потребность человека в смысле удовлетворена, у него появляется возможность и готовность страдать, справляться с фрустрациями и напряжениями и, если понадобится, он сможет даже пожертвовать жизнью. Только присмотритесь к различным политическим движениям прошлого и настоящего. С другой стороны, если воля к смыслу фрустрирована, человек столь же готов умереть, он совершит это и посреди благополучия, вопреки окружающему его изобилию. Присмотритесь к растущему уровню самоубийств в типичных государствах «общего благосостояния», таких как Швеция и Австрия.
Десять лет назад The American Journal of Psychiatry в рецензии на мою книгу так охарактеризовал основную идею логотерапии: «безусловная вера в безусловный смысл» – и задал вопрос: «Что может быть более актуальным, когда мы входим в 70-е?» Входя в 80-е, Артур Вирт{178} выразил убеждение, что «логотерапия приобретет особую роль в пору критического перехода» (он подразумевал переход к «постнефтяному обществу»). Я думаю, что такие кризисы, как недостаток энергетических ресурсов, станут для нас не только риском, но и шансом. Они побудят перенести акцент со средств на смысл, с материальных благ на экзистенциальное благо. Да, ресурсы ограниченны, однако никогда не бывает недостатка в смысле. Если существует нечто вроде «логотерапевтического движения», как утверждают некоторые авторы, то оно, безусловно, составляет часть движения за права человека. Оно сосредоточено на праве человека жить осмысленно, как можно более осмысленно.
Я завершил первую книгу словами, что логотерапия – «ничейная земля, и все же – земля обетованная!». То было много лет назад. За это время ничейную землю освоили и заселили, и труды нового населения этой земли подтверждают, что «обетование» может осуществиться.
Дополнительную информацию и постоянно обновляемые списки литературы по логотерапии вы можете найти на сайте /.
Другие книги Виктора Франкла:
Man’s Search for Meaning: An Introduction to Logotherapy
The Doctor and the Soul: From Psychotherapy to Logotherapy
The Unheard Cry for Meaning: Psychotherapy and Humanism
Recollections: An Autobiography
Man’s Search for Ultimate Meaning
On the Theory and Therapy of Mental Disorders: An Introduction to Logotherapy and Existential Analysis
The Feeling of Meaninglessness: A Challenge to Psychotherapy and Philosophy
Франкл В. Человек в поисках смысла – М.: Прогресс, 1990.
Франкл В. Доктор и душа. – СПб: Ювента, 1997.
Франкл В. Воля к смыслу. – М.: Эксмо-Пресс, 2000.
Франкл В. Психотерапия на практике. – СПб.: Речь, 2000.
Франкл В. Страдания от бессмысленности жизни. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2009.
Франкл В. Теория и терапия неврозов. – СПб.: Речь, 2000.
Франкл В. Основы логотерапии. Психотерапия и религия. – СПб.: Речь, 2000.
Франкл В. Воля к смыслу. Основы и применение логотерапии. – М.: Институт общегуманитарных исследований, 2015.
Франкл В. Психотерапия и экзистенциализм. Авторский сборник. – М.: Институт общегуманитарных исследований, 2015.
Франкл В. Сказать жизни «Да!». Психолог в концлагере. – М.: Альпина нон-фикшн, 2018.
Франкл В. Воспоминания. – М.: Альпина нон-фикшн, 2018.
Франкл В. Доктор и душа. – М.: Альпина нон-фикшн, 2017.
Франкл В. Логотерапия и экзистенциальный анализ. Статьи и лекции. – М.: Альпина нон-фикшн, 2018.
Сноски
1
Живущий на небесах посмеется (Пс. 2:1); Господь же посмеивается над ним (Пс. 36:13); Пс. 103 целиком о веселии Бога, творящего мир, в том числе такую забаву, как Левиафан (103:26). – Прим. пер.
(обратно)2
Ужасные упростители (фр.).
(обратно)3
Ужасные обобщатели (фр.).
(обратно)4
Препарат «Милтаун» (действующее вещество мепробамат) был запущен в 1955 г. как легкий транквилизатор и получил большую известность. В 1970 г. был запрещен, так как обнаружилось, что он вызывает психологическую и физиологическую зависимость. – Прим. ред.
(обратно)5
СМоды (англ. mods от modernism, modism) – британская молодежная субкультура 1950–1960-х годов. Эти молодые люди одевались с иголочки, ездили на скутерах и предпочитали «черную» музыку: соул, блюз, модерн-джаз, ска. Кумиром британских рокеров того времени был персонаж Марлона Брандо из фильма «Дикарь». Они предпочитали рок-н-ролл и разъезжали на мотоциклах в черных кожаных куртках. В 1964-м произошла серия жестоких стычек между представителями этих субкультур, которая вызвала моральную панику в британском обществе, обеспокоенность за судьбу молодого поколения. – Прим. ред.
(обратно)6
Regressus in infinitum (лат.) – бесконечное возвращение назад, постоянный поиск объяснения предшествующего объяснения. – Прим. ред.
(обратно)7
Ignoramus et ignorabimus (лат. буквально – «Не знаем и не узнаем») – фраза из доклада Эмиля Дю Буа-Реймона «О пределах познания природы» (1872). Автор имел в виду, что человек никогда не перейдет положенной ему границы познания природы. – Прим. ред.
(обратно)8
Мировоззрение (нем.). – Прим. ред.
(обратно)9
Бытие 3:5, Синодальный перевод. – Прим. ред.
(обратно)10
VISTA (Volunteers in Service to America, «Волонтеры на службе Америки») – национальная американская программа по борьбе с бедностью, аналог международного Корпуса мира, основана в 1965 г. – Прим. ред.
(обратно)11
БПс. 15:7. Даже и ночью учит меня внутренность моя. – Прим. пер.
(обратно)12
АУчебный анализ, или дидактический психоанализ, который должен проходить будущий психоаналитик во время обучения. – Прим. ред.
(обратно)13
Ecce homo (лат.) – «Вот человек!» – слова Понтия Пилата об Иисусе Христе. – Прим. ред.
(обратно)14
Иов. 5:26. – Прим. ред.
(обратно)15
Document humain (фр.) – свидетельство человека. – Прим. ред.
(обратно)16
Пс. 33:19. – Прим. ред.
(обратно)17
«Тебя, Бога, хвалим» и «Слава в вышних Богу» – христианские гимны. – Прим. ред.
(обратно)18
Пс. 17:12. – Прим. ред.
(обратно)19
Авв. 3:17 –18. – Прим. ред.
(обратно)20
С тех пор как эта книга была написана, объем эмпирических исследований по логотерапии заметно вырос. См.: Batthyany and David Guttmann, Empirical Research on Logotherapy and Meaning-Oriented Psycotherapy: An Annotated Bibliography, Zeig, Tucker & Theisen, Phoenix, AZ, 2005. (Комментарий издателя.)
(обратно)(обратно)Комментарии
1
Хуан Баттиста Торелло отметил это в предисловии к итальянскому изданию книги «Человек в поисках смысла» (Man’s Search for Meaning).
(обратно)2
Что касается принципа реальности, он обслуживает принцип удовольствия точно так же, как тот обслуживает принцип гомеостаза, вот почему мы должны внятно проговорить его в нашей теории.
(обратно)3
См.: Франкл В. Человек в поисках смысла – М.: Прогресс, 1990; Франкл В. Доктор и душа. – М.: Альпина нон-фикшн, 2016; Франкл В. Психотерапия и экзистенциализм. Авторский сборник. – М.: Институт общегуманитарных исследований, 2015.
(обратно)4
Paul Polak, “Frankl’s Existential Analysis,” American Journal of Psychotherapy 3: 517–522, 1949.
(обратно)5
Joseph B. Fabry, The Pursuit of Meaning: Logotherapy Applied to Life, Preface by Viktor E. Frankl, Beacon Press, Boston, 1968.
(обратно)6
Ludwig Binswanger, Reminiscences of a Friendship, Grune & Stratton, New York, 1957, p. 96.
(обратно)7
Sigmund Freud, “Über Forel: Der Hypnotismus, seine Bedeutung und seine Handhabung,” Wiener medizinische Wochenschrift 34: 1098, 1889.
(обратно)8
Rudolf Dreikurs, “The Current Dilemma in Psychotherapy,” Journal of Existential Psychiatry 1: 187–206, 1960.
(обратно)9
F. Gordon Pleune, “All Dis-Ease Is Not Disease: A Consideration of Psycho-Analysis, Psychotherapy, and Psycho-Social Engineering,” International 2464 Journal of Psycho-Analysis 46: 358, 1965. Цитируется по Digest of Neurology and Psychiatry 34: 148, 1966.
(обратно)10
Gordon W. Allport, Personality and Social Encounter, Beacon Press, Boston, 1960.
(обратно)11
Прежде чем ответить на вопрос Канта и псалмопевца, что есть человек, нужно превратить этот вопрос в другой: «Где находится человек?» В каком измерении мы находим человечность человеческого существа? Если мы прибегаем к редукционизму и априори заявляем, что человек всего лишь животное, ничего другого мы и не найдем. Эта процедура подобна той, которая описана в анекдоте: два человека обращаются к раввину, один из них утверждает, что соседская кошка украла и съела пять фунтов масла, а другой, хозяин этой кошки, возражает: мол, его кошка никогда не ела масла. Раввин взвешивает кошку: она весит ровно пять фунтов. «Итак, я нашел масло, – рассуждает раввин, – но где же кошка?» Соответственно: где же человек, если мы сводим исследование к биологическому измерению, ограничиваемся биологической проекцией?
(обратно)12
Bjarne Kvilhaug, Paper read before Austrian Medical Society of Psychotherapy on July 18, 1963.
(обратно)13
Я прекрасно помню, как настойчиво и въедливо задавал мне вопросы Пауль Тиллих на профессорском ланче после презентации многомерной онтологии в Гарвардской школе богословия. Он удовлетворился лишь тогда, когда я назвал высшее измерение инклюзивным.
(обратно)14
Charlotte Bühler, “Basic Tendencies in Human Life: Theoretical and Clinical Considerations,” in Sein und Sinn, edited by R. Wisser, Tьbingen, 1960.
(обратно)15
Олпорт Г. Становление личности: избранные труды. – М.: Смысл, 2002.
(обратно)16
Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб.: Питер, 2011.
(обратно)17
Charlotte Bühler, “Theoretical Observations about Life’s Basic Tendencies,” American Journal of Psychotherapy 13: 561, 1959.
(обратно)18
Charlotte Bühler, “The Human Course of Life in Its Goal Aspects,” Journal of Humanistic Psychology 4: 1, 1964.
(обратно)19
Charlotte Bühler, “Some Observations on the Psychology of the Third Force,” Journal of Humanistic Psychology 5: 54, 1965.
(обратно)20
Имя автора не было указано на обложке, когда это издание вышло в Германии.
(обратно)21
Charlotte Bühler, “Theoretical Observations about Life’s Basic Tendencies,” American Journal of Psychotherapy 13: 561, 1959.
(обратно)22
Abraham H. Maslow, Eupsychian Management: A Journal, R. Irwin, Homewood, Illinois, 1965, p. 136.
(обратно)23
Франкл В. Психотерапия и экзистенциализм. Авторский сборник. – М.: Институт общегуманитарных исследований, 2015.
(обратно)24
Abraham H. Maslow, “Lessons from the Peak-Experiences,” Journal of Humanistic Psychology 2: 9, 1962.
(обратно)25
Abraham H. Maslow, “Fusion of Facts and Values,” Lecture read before the Association for the Advancement of Psychoanalysis on March 28, 1963.
(обратно)26
Abraham H. Maslow, “Lessons from the Peak-Experiences,” Journal of Humanistic Psychology 2: 9, 1962.
(обратно)27
Gordon W. Allport, Personality and Social Encounter, Beacon Press, Boston, 1960, p. 60.
(обратно)28
Herbert Spiegelberg, The Phenomenological Movement, Nijhoff, The Hague, 1960, p. 719.
(обратно)29
Брентано Ф. Избранные работы. – М.: Дом интеллектуальной книги, Русское феноменологическое общество, 1996. С. 33.
(обратно)30
Abraham H. Maslow, Motivation and Personality, Harper & Brothers, New York, 1954, p. 60.
(обратно)31
Aaron J. Ungersma, The Search for Meaning: A New Approach to Psychotherapy and Pastoral Psychology, Foreword by Viktor E. Frankl, The Westminster Press, Philadelphia, 1961.
(обратно)32
«Я готов утверждать, – пишет Эдвард Бассис, – что “воля к смыслу” одинаково мотивирует и старых, и малых. Проблема лишь в том, что мы можем разве что предполагать ее существование до того возраста, когда ребенок достаточно овладеет языком, чтобы подтвердить нашу гипотезу. Но феноменологические доказательства присутствия “воли к смыслу” у ребенка мне представляются достаточно убедительными. С рождения ребенок находится в мире, который все время предлагает ему новые открытия, новые отношения для переживания, новые виды деятельности для освоения. Именно “воля к смыслу” побуждает младенца так ревностно искать новых впечатлений, экспериментировать с самим собой и с окружающей средой, побуждает к постоянному творчеству и новаторству, максимально развивать свой человеческий потенциал. Понаблюдайте за годовалым ребенком и попробуйте объяснить его целенаправленные действия и его жизнерадостность удовлетворением потребностей и разрядкой стимулов – вы лишь превратите юное человеческое существо в недочеловека». Неопубликованная статья.
(обратно)33
James C. Crumbaugh and Leonard T. Maholick, “The Case for Frankl’s ‘Will to Meaning,’” Journal of Existential Psychiatry 4: 43, 1963.
(обратно)34
Rollo May, “Will, Decision and Responsibility,” Review of Existential Psychology and Psychiatry 1: 249, 1961.
(обратно)35
Charlotte Bühler, “Basic Tendencies in Human Life: Theoretical and Clinical Considerations,” in Sein und Sinn, edited by R. Wisser, Tübingen, 1960.
(обратно)36
Arnold Gehlen, Anthropologische Forschung, Rowohlt, Hamburg, 1961.
(обратно)37
Louis Jolyon West, “Psychiatry, ‘Brainwashing,’ and the American Character,” American Journal of Psychiatry 120: 842, 1964.
(обратно)38
John H. Glenn, The Detroit News, February 20, 1963.
(обратно)39
Sigmund Freud, Gesammelte Werke, Vol. 10, p. 113.
(обратно)40
J. E. Nardini, “Survival Factors in American Prisoners of War,” American Journal of Psychiatry 109: 244, 1952.
(обратно)41
Robert J. Lifton, “Home by Ship: Reaction Patterns of American Prisoners of War Repatriated from North Korea,” American Journal of Psychiatry 110:732, 1954.
(обратно)42
Theodore A. Kotchen, “Existential Mental Health: An Empirical Approach,” Journal of Individual Psychology 16: 174, 1960.
(обратно)43
Это справедливо и для многих концепций, лежащих в основе протестных движений. Протест зачастую – антитест, борьба против чего-то, а не предложение позитивной альтернативы, за которую стоит бороться.
(обратно)44
Rudolf Allers, “The Meaning of Heidegger,” The New Scholasticism 26: 445, 1962.
(обратно)45
Rudolf Allers, “Ontoanalysis: A New Trend in Psychiatry,” Proceedings of the American Catholic Philosophical Association, 1961, p. 78.
(обратно)46
Франкл В. Психотерапия и экзистенциализм. Авторский сборник. – М.: Институт общегуманитарных исследований, 2015.
(обратно)47
Abraham H. Maslow, Eupsychian Management: A Journal, R. Irwin, Homewood, Illinois, 1965.
(обратно)48
Abraham H. Maslow, “Lessons from the Peak-Experiences,” Journal of Humanistic Psychology 2: 9, 1962.
(обратно)49
James S. Simkin, in Charlotte Bühler, Values in Psychotherapy, Free Press of Glencoe, New York, 1962.
(обратно)50
Gordon W. Allport, Personality and Social Encounter, Beacon Press, Boston, 1960.
(обратно)51
Julius Heuscher, “Book Review,” Journal of Existentialism 5: 229, 1964.
(обратно)52
William Irwin Thompson, “Anthropology and the Study of Values,” Main Currents in Modern Thought 19: 37, 1962.
(обратно)53
Lawrence John Hatterer, “Work Identity: A New Psychotherapeutic Dimension,” Annual Meeting, American Psychiatric Association. Цитируется по Psychiatric Spectator, Vol. II, 7: 12, 1965.
(обратно)54
Abraham H. Maslow, Motivation and Personality, Harper & Brothers, New York, 1954, p. 294.
(обратно)55
Viktor E. Frankl, “Luncheon Address to the Third Annual Meeting of the Academy of Religion and Mental Health,” Journal of Existential Psychiatry 4: 27, 1963.
(обратно)56
Ср.: Kai Nielsen, “Linguistic Philosophy and Beliefs,” Journal of Existentialism 6: 421, 1966: Нильсен утверждает, что «жизнь не имеет смысла, который можно было бы найти… но лишь тот, который мы ей придаем». Он опирается на схожее суждение Айера: A. J. Ayer, “Deistic Fallacies,” Polemic 1: 19, 1946.
(обратно)57
Rudolf Allers, “Ontoanalysis: A New Trend in Psychiatry,” Proceedings of the American Catholic Philosophical Association, p. 78, 1961.
(обратно)58
Впоследствии я использовал эту записку, сделал факсимиле и демонстрировал американским студентам Венского университета. Хотите верьте, хотите нет, девять студентов прочли «600», девять студентов прочли «GOD», а четверо никак не могли выбрать между этими двумя вариантами истолкования.
(обратно)59
James C. Crumbaugh and Leonard T. Maholick, “The Case for Frankl’s ‘Will to Meaning,’” Journal of Existential Psychiatry 4: 43, 1963.
(обратно)60
M. Wertheimer, “Some Problems in the Theory of Ethics,” in Documents of Gestalt Psychology, edited by M. Henle, University of California Press, Berkeley, 1961.
(обратно)61
Gordon W. Allport, “Psychological Models for Guidance,” Harvard Educational Review 3: 373, 1962.
(обратно)62
F. C. Redlich and Daniel X. Freedman, The Theory and Practice of Psychiatry, Basic Books, New York, 1966.
(обратно)63
Viktor E. Frankl, “The Concept of Man in Logotherapy,” Journal of Existentialism 6: 53, 1965.
(обратно)64
Viktor E. Frankl, “Logotherapy and Existential Analysis – A Review,” American Journal of Psychotherapy 20: 252, 1966.
(обратно)65
F. Gordon Pleune, “All Dis-Ease Is Not Disease: A Consideration of Psycho-Analysis, Psychotherapy, and Psycho-Social Engineering,” International Journal of Psycho-Analysis 46: 358, 1965. Цитируется по Digest of Neurology and Psychiatry 34: 148, 1966.
(обратно)66
Orlo Strunk, “Religious Maturity and Viktor E. Frankl,” in Mature Religion, Abingdon Press, New York, 1965; Earl A. Grollman, “Viktor E. Frankl: A Bridge Between Psychiatry and Religion,” Conservative Judaism 19: 19, 1964; D. Swan Haworth, “Viktor Frankl,” Judaism 14: 351, 1965.
(обратно)67
Richard Trautmann, “Book Review,” American Journal of Psychotherapy 5: 821, 1952.
(обратно)68
Viktor E. Frankl, Homo patiens: Versuch einer Pathodizee, Franz Deuticke, Wien, 1950.
(обратно)69
Max Scheler, On the Eternal in Man, Harper & Brothers, New York, 1960.
(обратно)70
Richard Trautmann, “Book Review,” American Journal of Psychotherapy 5: 821, 1952.
(обратно)71
«Попытка объяснить в терминах психодинамики изменения личности, вызванные экстремальным стрессом, – утверждает Ф. Хокинг, – лишь вредит уникальному вкладу Фрейда в понимание человеческого поведения». F. Hocking, “Extreme Environmental Stress and Its Significance for Psychopathology,” American Journal of Psychotherapy 24: 4, 1970.
(обратно)72
Jürg Zutt, “Book Review,” Jahrbuch fur Psychologie, Psychotherapie und medizinische Anthropologie 13: 362, 1965.
(обратно)73
S. Kratochvil, “K psychoterapii existencialni frustrace,” Cˇ eskoslovenska psychiatria 57: 186, 1961, and “K problemu existencialni frustrace,” Cˇ eskoslovenska psychiatria 62: 322, 1966.
(обратно)74
Ludwig Binswanger, Erinnerungen an Sigmund Freud, Francke, Bern, 1956.
(обратно)75
William Irwin Thompson, “Anthropology and the Study of Values,” Main Currents in Modern Thought 19: 37, 1962.
(обратно)76
Edward D. Eddy, The College Influence on Student Character, American Council on Education, Washington, D. C., 1959.
(обратно)77
См. с. 4.
(обратно)78
Sigmund Freud, Briefe 1873–1939, S. Fischer-Verlag, Frankfurt am Main, 1960.
(обратно)79
James C. Crumbaugh and Leonard T. Maholick, “An Experimental Study in Existentialism: The Psychometric Approach to Frankl’s Concept of Noogenic Neurosis,”] ournal of Clinical Psychology 20: 200, 1964.
(обратно)80
James C. Crumbaugh, “The Purpose-in-Life Test as a Measure of Frankl’s Noogenic Neurosis,” delivered before Division 24, American Psychological Association, New York City, September 3, 1966. Более подробная редакция этой статьи была опубликована в 1968 г. (James C. Crumbaugh, “Cross-Validation of Purpose-in-Life Test Based on Frankl’s Concepts,” Journal of Individual Psychology 24: 74, 1968).
(обратно)81
T. A. Werner, Opening paper read before the Symposium on Logotherapy, International Congress of Psychotherapy, Vienna, 1961.
(обратно)82
R. Volhard and D. Langen, “Mehrdimensionale Psychotherapie,” Zeitschrift fur Psychotherapie 3: 1, 1953.
(обратно)83
H. J. Prill, “Organneurose und Konstitution bei chronic-funktionellen Unterleibsbeschwerden der Frau,” Zeitschrift fur Psychotherapie 5: 215, 1955.
(обратно)84
K. Kocourek, E. Niebauer, and P. Polak, “Ergebnisse der klinischen Anwendung der Logotherapie,” in Handbuch der Neurosenlehre und Psychotherapie, Vol. 3, edited by V. E. Frankl, V. E. von Gebsattel, and J. H. Schultz, Urban & Schwarzenberg, Munich-Berlin, 1959.
(обратно)85
Я ни в коем случае не выступаю против дискриминации. Вернее, я предпочитаю расовой дискриминации радикальную дискриминацию, то есть хочу судить каждого в соответствии с уникальной «расой», состоящей из него одного. Иными словами, я сторонник личной, но не расовой дискриминации.
(обратно)86
Viktor E. Frankl, “Logotherapy and Existential Analysis – A Review,” American Journal of Psychotherapy 20: 252, 1966.
(обратно)87
Франкл В. Человек в поисках смысла. – М.: Прогресс, 1990. (Глава «Что такое психотерапия».)
(обратно)88
Франкл В. Доктор и душа. – М.: Альпина нон-фикшн, 2016. (Глава «О смысле любви».)
(обратно)89
Я обсуждал эту технику в докладе перед семинаром по логотерапии, проходившим в рамках Международного конгресса по психотерапии в Лондоне (Viktor E. Frankl, “Logotherapy and Existential Analysis – A Review,” American Journal of Psychotherapy 20: 252, 1966
(обратно)90
На немецком языке я описал парадоксальную интенцию уже в 1939 г. в статье «Zur medikamentösen Unterstützung der Psychotherapie bei Neurosen”, Schweizer Archiv fur Neurologie und Psychiatrie 43: 26–31; по-английски в 1955 году в книге «Доктор и душа» (The Doctor and the Soul: An Introduction to Logotherapy, Alfred A. Knopf, New York), а подробнее – в статье “Paradoxical Intention: A Logotherapeutic Technique,” American Journal of Psychotherapy 14: 520, 1960.
(обратно)91
Подобные тем, которые я описал в конце главы, посвященной парадоксальной интенции, в книге «Доктор и душа».
(обратно)92
Viktor E. Frankl, “Psychische Symptome und neurotische Reaktionen bei Hyperthyreose,” Medizinische Klinik 51: 1139, 1956.
(обратно)93
Физиологическое происхождение таких состояний я сам продемонстрировал в исследовании, проведенном в моем отделении Венской поликлиники. Так совпало, что первый европейский транквилизатор, который я изобрел в 1952 г. (Viktor E. Frankl, “Zur Behandlung der Angst,” Wiener medizinische Wochenschrift 102: 535, 1952), оказался вполне уместным и для медикаментозного лечения клаустрофобии (Viktor E. Frankl, “Über somatogene Pseudoneurosen,” Wiener Klinische Wochenschrift 68: 280, 1956).
(обратно)94
Viktor E. Frankl, “Angst und Zwang. Zur Kenntnis pathogener Reaktionsmuster,” Acta Psychotherapeutica 1: 111, 1953.
(обратно)95
Edith Weisskopf-Joelson, “The Present Crisis in Psychotherapy,” The Journal of Psychology 69: 107–115, 1968.
(обратно)96
H. O. Gerz, “The Treatment of the Phobic and the Obsessive-Compulsive Patient Using Paradoxical Intention Sec. Viktor E. Frankl,” Journal of Neuropsychiatry 3: 375, 1962.
(обратно)97
K. Kocourek, E. Niebauer, and P. Polak, “Ergebnisse der klinischen Anwendung der Logotherapie,” in Handbuch der Neurosenlehre und Psychotherapie, edited by V. E. Frankl, V. E. von Gebsattel, and J. H. Schultz, Urban & Schwarzenberg, Munich-Berlin, 1959, Vol. 3, p. 752.
(обратно)98
Ralph G. Victor and Carolyn M. Krug, “Paradoxical Intention in the Treatment of Compulsive Gambling,” American Journal of Psychotherapy 21: 808, 1967.
(обратно)99
J. Lehembre, “L’intention paradoxale, procédé de psychothérapie,” Acta Neurologica et Psychiatrica Belgica 64: 725, 1964.
(обратно)100
Кстати, о юморе: я охотно иллюстрирую парадоксальную интенцию с помощью анекдота. Ученик, опоздавший в школу, в свое оправдание объясняет учителю, что на улице было очень скользко и на каждый шаг вперед приходилось делать два шага назад. Учитель возмущается: «Это явная ложь, ведь если бы так было на самом деле, ты бы никогда не дошел до школы». На это мальчик преспокойно возражает: «Отчего же? Просто я повернулся и направился домой». Разве это не образец парадоксальной интенции? Мальчик достиг цели благодаря тому, что перевернул изначальную интенцию.
(обратно)101
Konrad Lorenz, On Aggression, Bantam Books, New York, 1967, p. 284.
(обратно)102
F. K. Ledermann, “Clinical Applications of Existential Psychotherapy,” Journal of Existential Psychiatry 3: 45, 1962.
(обратно)103
T. Bazzi, Paper read before the International Congress of Psychotherapy, Barcelona, 1958.
(обратно)104
B. Kvilhaug, “Klinische Erfahrungen mit der logotherapeutischen Technik der paradoxen Intention beziehungsweise deren Kombination mit anderen Behandlungsmethoden (Bericht über 40 Fälle),” Paper read before the Austrian Medical Society of Psychotherapy, Vienna, July 18, 1963.
(обратно)105
H. J. Vorbusch, “Die Behandlung schwerer Schlafstörungen mit der paradoxen Intention,” Paper read before the Austrian Medical Society of Psychotherapy, Vienna, June 1, 1965.
(обратно)106
H. O. Gerz, “Severe Depressive and Anxiety States,” Mind 1: 235, 1963.
(обратно)107
Fritz Benedikt, “Zur Therapie angst-undzwangsneurotischer Symptome mit Hilfe der ‘Paradoxen Intention’ und ‘Dereflexion’ nach V. E. Frankl,” Dissertation, University of Munich Medical School, 1966.
(обратно)108
H. O. Gerz, “The Treatment of the Phobic and the Obsessive-Compulsive Patient Using Paradoxical Intention Sec. Viktor E. Frankl,” Journal of Neuropsychiatry 3: 375, 1962.
(обратно)109
H. O. Gerz, “Experience with the Logotherapeutic Technique of Paradoxical Intention in the Treatment of Phobic and Obsessive-Compulsive Patients,” Paper read before the Symposium on Logotherapy at the Sixth International Congress of Psychotherapy, London, 1964. American Journal of Psychiatry 123: 548, 1966.
(обратно)110
D. F. Tweedie, Logotherapy and the Christian Faith: An Evaluation of Frankl’s Existential Approach to Psychotherapy, Baker Book House, Grand Rapids, Michigan, 1961.
(обратно)111
D. F. Tweedie, The Christian and the Couch: An Introduction to Christian Logotherapy, Baker Book House, Grand Rapids, Michigan, 1963.
(обратно)112
Франкл В. Доктор и душа. – М.: Альпина нон-фикшн, 2016.; см. главу, посвященную парадоксальной интенции.
(обратно)113
E. A. Gutheil, “Proceedings of the Association for the Advancement of Psychotherapy,” American Journal of Psychotherapy 10: 134, 1956.
(обратно)114
J. H. Schultz, “Analytische und organismische Psychotherapie,” Acta Psychotherapeutica 1: 33, 1953.
(обратно)115
Edith Weisskopf-Joelson,“Some Comments on a Viennese School of Psychiatry,” Journal of Abnormal and Social Psychology 51: 701, 1955.
(обратно)116
Edith Weisskopf-Joelson, “Logotherapy and Existential Analysis,” Acta Psychotherapeutica 17: 554, 1963.
(обратно)117
Leston L. Havens, “Paradoxical Intention,” Psychiatry & Socia1 Science Review 2: 2, 1968, pp. 16–19.
(обратно)118
Франкл В. Психотерапия и экзистенциализм. Авторский сборник. – М.: Институт общегуманитарных исследований, 2015; H. O. Gerz, “The Treatment of the Phobic and the Obsessive-Compulsive Patient Using Paradoxical Intention Sec. Viktor E. Frankl,” Journal of Neuropsychiatry 3: 375, 1962.
(обратно)119
Директор нейропсихиатрической клиники при университете им. Карла Маркса в Лейпциге, ГДР. См. его статью “Methodological Approaches in Psychotherapy,” American Journal of Psychotherapy 17: 554. 1963.
(обратно)120
H. O. Gerz, “Experience with the Logotherapeutic Technique of Paradoxical Intention in the Treatment of Phobic and Obsessive-Compulsive Patients,” доклад на симпозиуме по логотерапии VI Международного конгресса по психотерапии, Лондон, 1964. American Journal of Psychiatry 123: 548, 1966.
(обратно)121
H. O. Gerz, “The Treatment of the Phobic and the Obsessive-Compulsive Patient Using Paradoxical Intention Sec. Viktor E. Frankl,” Journal of Neuropsychiatry 3: 375, 1962.
(обратно)122
Там же.
(обратно)123
Sigmund Freud, “Book Review,” Wiener medizinische Wochenschrift, 1889.
(обратно)124
Франкл В. Доктор и душа. – М.: Альпина нон-фикшн, 2016; см. главу о логотерапии при психозах.
(обратно)125
Там же.
(обратно)126
Там же.
(обратно)127
Viktor E. Frankl, “Fragments from the Logotherapeutic Treatment of Four Cases,” in Modern Psychotherapeutic Practice: Innovations in Technique, edited by Arthur Burton, Science and Behavior Books, Palo Alto, California, 1965.
(обратно)128
Arthur Burton, “Beyond Transference,” Psychotherapy: Theory, Research and Practice 1: 49, 1964.
(обратно)129
Edith Weisskopf-Joelson, “Some Comments on a Viennese School of Psychiatry,” Journal of Abnormal and Social Psychology 51: 701, 1955; “Logotherapy and Existential Analysis,” Acta Psychotherapeutica 17: 554, 1963.
(обратно)130
J. C. Crumbaugh, “The Application of Logotherapy,” Journal of Existentialism 5: 403, 1965.
(обратно)131
См. в том числе Joseph Lyons, “Existential Psychotherapy: Fact, Hope, Fiction,” Journal of Abnormal and Social Psychology 62: 242, 1961.
(обратно)132
Paul E. Johnson, “The Challenge of Logotherapy,” Journal of Religion and Health 7: 122, 1968.
(обратно)133
Joyce Travelbee, Interpersonal Aspects of Nursing, F. A. Davis Company, Philadelphia, 1966, p. 171.
(обратно)134
Ibid., p. v.
(обратно)135
Ibid., p. 176.
(обратно)136
Viktor E. Frankl, Man’s Search for Meaning: An Introduction to Logotherapy, Washington Square Press, New York, 1963, p. 179.
(обратно)137
Франкл В. Доктор и душа. – М.: Альпина нон-фикшн, 2016; глава «От светской исповеди – к медицинскому душепопечению».
(обратно)138
Viktor E. Frankl, “Fragments from the Logotherapeutic Treatment of Four Cases,” in Modern Psychotherapeutic Practice: Innovations in Technique, edited by Arthur Burton, Science and Behavior Books, Palo Alto, California, 1965.
(обратно)139
Joyce Travelbee, Interpersonal Aspects of Nursing, F. A. Davis Company, Philadelphia, 1966, p. 170.
(обратно)140
«Мой народ» скорее звательный падеж, чем падеж объекта. «Его народ» не объект, а скорее субъект утешения.
(обратно)141
Arthur Burton, “Death as a Countertransference,” Psychoanalysis and the Psychoanalytic Review 49: 3, 1962–1963.
(обратно)142
Viktor E. Frankl, “Fragments from the Logotherapeutic Treatment of Four Cases,” in Modern Psychotherapeutic Practice: Innovations in Technique, edited by Arthur Burton, Science and Behavior Books, Palo Alto, California, 1965, pp. 368 ff.
(обратно)143
Viktor E. Frankl, “Ein häufiges Phänomen bei Schizophrenie,” Zeitschrift fur die gesamte Neurologie und Psychiatrie 152: 161, 1935.
(обратно)144
Viktor E. Frankl, “Fragments from the Logotherapeutic Treatment of Four Cases,” in Modern Psychotherapeutic Practice: Innovations in Technique, edited by Arthur Burton, Science and Behavior Books, Palo Alto, California, 1965, pp.370 ff.
(обратно)145
Robert Serron, “Monks in Analysis,” This Week, July 3, 1966, pp. 4–14.
(обратно)146
Walter Freeman, “Psychiatrists Who Kill Themselves: A Study in Suicide,” American Journal of Psychiatry 124: 154, 1967. Это сокращенный вариант доклада, прочитанного на 123-м ежегодном собрании Американской психиатрической ассоциации (Детройт, Мичиган, 8–12 мая 1967 г.).
(обратно)147
“Suicide Among Doctors,” British Medical Journal 1: 789, 1964.
(обратно)148
Ruth Norden Lowe, “Suicide by Psychiatrists,” American Journal of Psychotherapy 21: 839, 1967.
(обратно)149
James C. Crumbaugh and Leonard T. Maholick, “An Experimental Study in Existentialism: The Psychometric Approach to Frankl’s Concept of Noogenic Neurosis,” Journal of Clinical Psychology 20: 200, 1964.
(обратно)150
Viktor E. Frankl, Psychotherapy and Existentialism: Selected Papers on Logotherapy.
(обратно)151
Я готов к возражениям богословов, которые могли бы сказать, что выстроить религиозные убеждения вопреки неблагоприятным условиям воспитания невозможно без вмешательства Божественной благодати. Чтобы человек поверил в Бога, ему нужна помощь Благодати. Но нельзя забывать, что мое исследование работает в рамках психологии или, скорее, антропологии, то есть на человеческом уровне, а Благодать относится к сверхчеловеческому измерению и, соответственно, в человеческом измерении проявляется только в виде проекции. Иными словами, то, что на естественном уровне выглядит самостоятельным решением человека, на сверхъестественном вполне может быть понято как поддерживающая помощь Бога.
(обратно)152
Carl J. Rote, “Mental Retardation: The Cry of Why?” Association of Mental Hospital Chaplains Newsletter 2: 41, 1965.
(обратно)153
W. M. Millar, “Mental Health and Spiritual Wholeness,” Journal of Societal Issues 1: 7, 1964.
(обратно)154
E. Frederick Proells, “Reflections of the Social, Moral, Cultural, and Spiritual Aspects of the Prison Chaplain’s Ministry,” Journal of Pastoral Care 12: 69, 1958.
(обратно)155
Убеждение покойного Лео Бека, что логотерапия – это «главная» еврейская психотерапия, приобретает смысл в свете того факта, что он же переводил слово «тора» как «жизненная задача».
(обратно)156
Франкл В. Психотерапия и экзистенциализм. Авторский сборник. – М.: Институт общегуманитарных исследований, 2015.
(обратно)157
Франкл В. Доктор и душа. – М.: Альпина нон-фикшн, 2016.
(обратно)158
Франкл В. Человек в поисках смысла. – М.: Прогресс, 1990.
(обратно)159
H. E. Blumenthal, “Jewish Challenge to Freud,” Here and Now, 1: 24, 1955, p. 12.
(обратно)160
Viktor E. Frankl, Der unbewusste Gott, Amandus-Verlag, Wien, 1948.
(обратно)161
Обычно смерть сравнивают со сном. Вообще-то правильнее было бы сравнивать умирание с пробуждением, по крайней мере это сравнение помогло бы понять, что смерть находится за пределами понимания. Представьте себе, как любящий отец нежным прикосновением будит ребенка. Ребенок просыпается резко, с испугом, потому что во сне истинный смысл прикосновения не может быть постигнут. Так и человек просыпается от жизни к смерти с испугом. И если после клинической смерти его удается вернуть к жизни, неудивительно, что он ничего не помнит. Бодрствующий помнит сны, но спящий не знает даже, что он спит.
(обратно)162
По моему мнению, Кант с помощью трансцендентализма превратил quaestio iuris (вопрос права) в quaestio facti (вопрос факта), то есть на вопрос, вправе ли мы применять те или иные категории, он отвечает, что мы не можем без них обойтись и всегда их использовали. Нет никакого прока спрашивать, как нам следовало бы поступить.
(обратно)163
Joost A. M. Meerloo, “Pavlovian Strategy as a Weapon of Menticide,” American Journal of Psychiatry 110: 809, 1954.
(обратно)164
Gordon W. Allport, The Individual and His Religion, The Macmillan Company, New York, 1956, pp. 10 ff.
(обратно)165
Reuven P. Bulka, “Is Logotherapy Authoritarian?” Journal of Humanistic Psychology 18 (4), 1978, 45–54.
(обратно)166
Elisabeth S. Lukas, Auch dein Leben hat Sinn: Logotherapeutische Wege zur Gesundung, Freiburg, Herder, 1980.
(обратно)167
J. B. Torello, “Viktor E. Frankl, l’homme,” in Viktor E. Frankl, La psychotherapie et son image de 1’homme, Paris, Resma, 1970.
(обратно)168
L. Solyom, J. Garza-Perez, B. L. Ledwidge and C. Solyom, “Paradoxical Intention in the Treatment of Obsessive Thoughts: A Pilot Study,” Comprehensive Psychiatry 13 (3), 1972, 291–297.
(обратно)169
Ralph M. Turner and L. Michael Ascher, “Controlled Comparison of Progressive Relaxation, Stimulus Control, and Paradoxical Intention Therapies for Insomnia,” Journal of Consulting and Clinical Psychology 47 (3), 1979, 500–508.
(обратно)170
L. Michael Ascher and Ralph M. Turner, “A Comparison of Two Methods for the Administration of Paradoxical Intention,” Behav. Res. and Therapy 18, 1980, 121–126.
(обратно)171
Nicholas Mosley, Natalie Natalia, New York, Coward, McCann and Geoghegan.
(обратно)172
Sigmund Freud, цит. по Sandoz Psychiatric Spectator, 2 (1).
(обратно)173
Anatole Broyard, The New York Times, November 26, 1975.
(обратно)174
Франкл В. Психотерапия и экзистенциализм. Авторский сборник. – М.: Институт общегуманитарных исследований, 2015.
(обратно)175
Там же.
(обратно)176
L. Michael Ascher, “Paradoxical Intention,” Handbook of Behavior Interventions, A. Goldstein and E. B. Foa, eds., New York, Wiley, 1980.
(обратно)177
Viktor E. Frankl, The Unheard Cry for Meaning: Psychotherapy and Humanism, New York, Touchstone, 1979.
(обратно)178
Arthur G. Wirth, “Logotherapy and Education in a Post-Petroleum Society,” The International Forum for Logotherapy 2 (3), 1980, 29–32.
(обратно)(обратно)








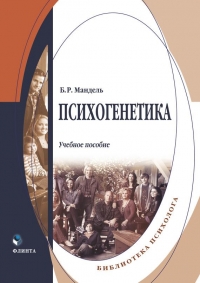
Комментарии к книге «Воля к смыслу», Виктор Эмиль Франкл
Всего 0 комментариев