Хайнц Кохут Восстановление самости
Г. и его поколению посвящается
Предисловие
Дойдя до конца главы, в которой детально рассматривается один из важнейших моментов в процессе анализа, читателю, возможно, покажется, что он держит в руках техническую монографию и диссертацию по клинической теории, в которой выделяются факторы, определяющие готовность анализанда закончить анализ, и представлены аргументы в поддержку нового психоаналитического определения психического здоровья и процесса психоаналитического лечения — в частности, при нарушениях самости. Отчасти это и в самом деле является целью данной работы, целью, которая обсуждается на разных уровнях и с разных позиций на протяжении всей книги. Но чтобы определить, что именно ведет к терапии патологии самости, необходимо было еще раз обратиться к широкому спектру общепризнанных теоретических концепций. Чтобы описать восстановление самости, надо обрисовать основы психологии самости.
Каким образом можно изменить теоретическую систему психоанализа так, чтобы согласовать множество различных феноменов, которые мы наблюдаем в отношении самости? Ответ на этот вопрос, который, как ни странно, напрашивается сам собой (хотя, если рассматривать ретроспективно, он не должен казаться удивительным), заключается в том, что мы должны научиться мыслить попеременно — или даже одновременно — в терминах двух теоретических построений, то есть в соответствии с психологическим принципом комплементарности мы должны признать, что постижение явлений, с которыми мы сталкиваемся в своей клинической работе — и не только в ней, — требует двух подходов: психологии, в которой самость рассматривается как центр психологической вселенной, и психологии, в которой самость рассматривается как содержание психического аппарата.
Акцент в данной работе делается на первом из этих двух подходов, то есть на психологии самости в более широком смысле — другими словами, на психологии, в которой самость помещается в центр, исследуется ее происхождение и развитие, а также ее составляющие как в норме, так и в патологии. Однако второй подход — подход, который представляет собой не более чем частичное расширение традиционной метапсихологии, — психология самости в более узком смысле, — в которой самость рассматривается как содержание психического аппарата, не оставляется в стороне, покуда объяснительная способность ее применения является адекватной. Если в данной работе акцент чаще делается на психологии самости в широком смысле, то это происходит не только по той очевидной причине, что развиваемые идеи по сравнению с прежними являются новыми и, следовательно, нуждаются в более детальном разъяснении, но также главным образом и потому, что основная моя цель при написании этой книги заключалась в том, чтобы продемонстрировать, что существуют обширные области в психологии, где значение эмпирических феноменов, с которыми нам приходится сталкиваться, поддается более полному объяснению, если они освещаются психологией самости в широком смысле.
Чтобы приблизиться к этой цели, то есть представить основы психологии самости[1] и создать теоретический базис, на котором можно было бы построить психологию самости, я должен был заново проанализировать множество общепризнанных психоаналитических концепций: как повлияет на психоаналитическую концепцию влечений смещение нами акцента на самость и каковы отношения между теорией влечений и психологией самости? Что будет с концепцией либидинозных влечений — в их эдиповых и доэдиповых проявлениях, — если мы пересмотрим ее в контексте психологии самости? Как повлияет на концепцию агрессивного влечения введение психологии самости и каково место агрессии в рамках психологии самости? И, наконец, переходя от оценки динамических концепций к оценке структурной теории, мы зададим вопрос, уместно ли в концептуальном отношении говорить в рамках психологии самости о составляющих самости, а не о компонентах психического аппарата, которые на первый взгляд могут казаться просто их дубликатами?
Хотя я и восхищаюсь элегантностью безупречной логики и четкой последовательностью использования терминологии, формирования понятий и теоретических формулировок, главная цель данной работы состоит не в том, чтобы достичь того же. Изменения в теории, предложенные в настоящем исследовании, не продиктованы чисто научными доводами — их правомерность проистекает из возможности применения нового подхода к эмпирическим данным. Другими словами, я не утверждаю, что новые теории более изящны, что новые определения более отшлифованы или что новые формулировки являются более удобными и последовательными, чем прежние. Однако я утверждаю, что, несмотря на всю их неотшлифованность и недостатки, они расширяют и углубляют наше понимание сферы психики внутри и вне клинической ситуации. Не концептуальное и терминологическое уточнение, а углубление понимания нами психологической сущности человека, повышение нашей способности объяснять мотивы и поведение человека подкрепляет наше решение попытаться подойти к эмоциональным проблемам, не прибегая к помощи знакомой концептуальной структуры, и посмотреть на некоторые эмпирические данные — или на некоторые аспекты этих эмпирических данных — с позиции психологии самости.
Исследования прошедшего десятилетия не привели к результатам, которые заставили бы меня выступать за отказ от классических теорий и психоаналитической клинической концепции человека, и я остаюсь сторонником того, чтобы продолжать их применять в пределах некоторой четко очерченной области. Вместе с тем я пришел к пониманию того, что некоторые основные аналитические формулировки можно применять лишь в определенных границах. Если говорить о классическом психоаналитическом осмыслении природы человека, то я также пришел к выводу, что каким бы убедительным и превосходным оно ни было, такой подход не является правомерным в отношении широкого спектра психопатологии человека и большого числа других психологических феноменов, с которыми мы сталкиваемся вне клинической ситуации.
Я полностью отдаю себе отчет в том, сколь велико влияние классических психоаналитических представлений о человеке на наше воображение; я знаю, каким важным инструментом стала эта концепция для современного человека, пытающегося понять себя. И я знаю поэтому, что идеи, которые не отвечают действительности или просто в некоторых отношениях ведут к неверному представлению о человеке, как правило, вызывают сопротивление. Действительно ли мы должны — спросят некоторые мои коллеги-психоаналитики — выйти за рамки теории влечений? Под влиянием Фрейда и следующего поколения его учеников такое смещение — от психологии Ид к психологии Эго — уже произошло. Но так ли нам нужно теперь добавить психологию самости к психологии влечений и психологии Эго? Какой смысл — предвосхитим аргумент с когнитивных позиций — вводить психологию самости, если психология Эго в принципе верна и позволяет объяснять самые разные феномены? И не является ли это — предвосхитим аргумент с моральных позиций — уловкой, чтобы увести от проблем, трусливой попыткой выхолостить анализ, отвергнуть инстинктивную природу человека, отрицать, что человек далеко еще не является цивилизованным существом? Именно ввиду наличия аргументов подобного рода я говорю о необходимости расширения психоаналитического подхода, дополнив его теорией самости, которая, с одной стороны, обогащает нашу концепцию неврозов, с другой стороны, нужна для объяснения нарушений самости. Я надеюсь, что эмпирические доказательства, которые приведу, и рациональные аргументы, которые представлю, окажутся убедительными.
Теперь я обращаюсь ко второй группе возможных критиков моей работы, а именно к тем, кто, быть может, будет упрекать меня за попытку найти новые решения в одиночку, не опираясь на труд других исследователей, которые также осознали ограничения классического подхода и уже внесли определенные корректировки, исправления и уточнения.
Некоторые комментаторы моей работы о нарциссизме обнаружили сходство между результатами моих исследований в области нарциссизма и результатами исследований других авторов. Один критик (Apfelbaum, 1972) счел меня представителем школы Гартманна; другой (James, 1973) увидел принципиальное сходство с идеями Винникотта; третий (Eissler, 1975), однако, полагал, что я следовал Айххорну; четвертый (Heinz, 1976) обнаружил в ней идеи философии Сартра; пятый (Kepecs, 1975) провел аналогии с теорией Альфреда Адлера; шестой (Stolorow, 1976) — с центрированной на клиенте терапией Роджерса; двое (Hanly, Masson, 1976) расценили мой труд как ответвление индийской философии; и, наконец, еще два автора (Stolorow, Atwood, 1976) указали на взаимосвязь с работами Отто Ранка.
Я знаю, что этот список неполон, и — что даже еще более важно — я знаю, что существует другая группа исследователей, имена которых нужно добавить к тем, что приведены выше. Я имею в виду здесь Балинта (Balint, 1968), Эриксона (Erikson, 1956), Якобсон (Jacobson, 1964), Кернберга (Kernberg, 1975), Лакана (Lacan, 1953), Лампль-де Гроот (Lampl-de Groot, 1965), Лихтенштейна (Lichtenstein, 1961), Малер (Mahler, 1968), Сандлера (Sandler et al., 1963), Шефера (Schafer, 1968) и других, область исследования которых, даже если их подходы и выводы отличаются, в той или иной степени совпадает с предметом моих собственных исследований.
В отношении представителей этой группы — то же самое с небольшими уточнениями можно сказать и про некоторых из тех, кто был упомянут в первой группе, в частности про Айххорна (Aichhorn, 1936), Гартманна (Hartmann, 1950) и Винникотта (Winnicott, 1960a) — позвольте мне прежде всего подчеркнуть: то, что я не пытаюсь соотнести их идеи с моими, объясняется не непочтительностью — напротив, я восхищаюсь большинством из них, — а характером задачи, которую я поставил перед собой. Данная книга не является монографией по теории или технике, написанной автором, который достиг мастерства в давно исследуемой и общепризнанной области знания. Эта книга представляет собой отчет о попытке аналитика добиться большей ясности в области, которую, несмотря на многие годы самых серьезных усилий, ему так и не удалось понять в рамках имевшейся психоаналитической модели — даже после корректив, внесенных современными авторами. Многими моими знаниями я обязан тем, чей труд фактически повлиял на мои методы и идеи. Но научная завершенность не является для меня главной задачей, мои интересы сфокусированы на другом.
Сначала я пытался самостоятельно сориентироваться в интересующей меня области с помощью имеющейся психоаналитической литературы. Но обнаружив, что я погряз в болоте противоречивых, плохо обоснованных и зачастую нечетких теоретических предположений, я решил, что есть единственный путь, который ведет к прогрессу, — путь назад к непосредственному наблюдению клинических феноменов и построение новых формулировок, которые обобщили бы мои наблюдения. Другими словами, я видел свою задачу в том, чтобы очертить психологию самости на фоне четкого и последовательного определения психологии комплексных психических состояний в целом и глубинной психоаналитической психологии в частности.
Я не ставил себе задачу объединения результатов моей работы с результатами работы других авторов, которые были получены при использовании подходов, отличных от моего, или которые были сформулированы в рамках неопределенной, неоднозначной или меняющейся теоретической модели. Я чувствовал: взяться за такую задачу в этот момент было бы не только нецелесообразно — это действительно создало бы непреодолимое препятствие на пути к моим целям. В частности, попытка разнообразить представление моих концепций и формулировок путем изложения концепций и формулировок других авторов, внесших свой вклад в психологию самости с различных позиций и в разных системах координат, привела бы к тому, что я запутался бы в дебрях сходных, совпадающих или идентичных терминов и понятий, которые, однако, не имели бы одного и того же значения и не использовались бы в одном и том же концептуальном контексте.
Таким образом, избавив себя от необходимости погружаться в различные концепции и теории, используемые другими исследователями, я полагаю, что моя собственная основная идея четко проявится в данной работе. Поскольку я детально определил ее в предыдущих работах, здесь лишь поясню вкратце, что она характеризуется приверженностью трем принципам: определению психологической области как аспекта реальности, которая доступна нам благодаря самоанализу и эмпатии; методологии длительного эмпатического погружения наблюдателя в психологическую область (в частности, если говорить о клинических проявлениях, его длительное эмпатическое погружение в перенос) и формулированию конструкций в терминах, которые соответствуют интроспективно-эмпатическому подходу. Выражаясь обыденным языком, я пытаюсь наблюдать и объяснять внутренний опыт, включая восприятие объектов, самости и их различных взаимоотношений. С точки зрения методологии и терминологии я не являюсь бихевиористом, социальным психологом или психобиологом, хотя и признаю ценность этих подходов.
Несколько слов в заключение. Тот факт, что я не мог предпринять попытку сравнения моих методов, результатов и формулировок с методами, результатами и формулировками других исследователей, которые изучали самость с различных точек зрения, используя разную методологию (и которые поэтому формулировали свои результаты в терминах различных теоретических систем), не означает, что такие сравнения не должны проводиться. Но чтобы успешно провести подобное научное исследование, сначала должно пройти какое-то время. Другими словами, прежде чем ученый, рассматривающий различные подходы к самости, сможет оценить их относительные достоинства и соотнести их друг с другом, он должен сначала занять по отношению к ним определенную дистанцию, то есть в известной степени от них отстраниться.
Глава 1 Завершение анализа нарциссических нарушений личности
Ответ на вопрос, была ли разрешена аналитическая задача в момент завершения терапии или завершение было преждевременным, зависит от разнообразных обстоятельств. Кроме того, существует множество конкретных проблем, связанных с завершением анализа нарциссических нарушений личности. Сложность этого вопроса возрастает из-за того, что представления аналитика в многочисленных областях теории и практики будут влиять на его суждения о том, как следует определять идеально завершенный анализ и насколько он приблизился к этому идеалу в реальности. Поэтому проблема завершения анализа необычайно сложна. В настоящем исследовании я оставлю в стороне многие аспекты данной проблемы и ограничусь попыткой прояснить некоторые теоретические, вопросы. Я приступаю к этой задаче, полагая, что изменение наших традиционных теоретических представлений позволит нам понять правомерность завершения анализа в определенных случаях, увидеть, что дальнейший анализ уже не нужен, что со стороны пациента не было попытки «бегства в здоровье», хотя оценка личности пациента, произведенная на основе традиционных теорий, могла бы привести нас к противоположному заключению.
Основная проблема касается центральной области психопатологии. Когда речь идет о структурных неврозах, мы привыкли формулировать наши ожидания в терминах анализа эдипова комплекса пациента, то есть мы ожидаем, что пациент должен осознать свою сохраняющуюся безнадежную (и приводящую к нарушениям) сексуальную любовь и сохраняющуюся бессильную (и приводящую к нарушениям), продиктованную соперничеством ненависть к родительским имаго и что благодаря этому осознанию он сможет избавиться от эмоциональных проблем детства и обратиться с любовью или гневом к объектам современной действительности. Разумеется, нам известно — если использовать метафору Фрейда (1917b, p. 456), — что решающие сражения при анализе эдиповой психопатологии не обязательно происходят в самом центре эдипова комплекса; какими бы ни были содержание и психическая локальность тактических столкновений, в конце достигается относительная свобода от объектно-инстинктивных затруднений эдипова периода, которая и определяет меру успеха или неудачи анализа.
Но когда мы обращаемся к нарциссическим нарушениям личности, мы уже имеем дело не с патологическими последствиями неуспешного разрешения конфликтов между структурами, которые в целом сохранны, а с формами психологического нарушения функционирования, возникающего из-за того, что центральные структуры личности — структуры самости — дефектны. Таким образом, при нарциссических нарушениях личности наше описание процесса и целей психоанализа, а также условий, определяющих правомерность его завершения (когда мы можем говорить, что аналитическая задача была решена), должно основываться на определении природы и локализации основных психологических дефектов и на определении того, что считать излечением.
Основная психопатология нарциссических нарушений личности (соответствующая вытесненным нерешенным конфликтам эдипова комплекса при структурных неврозах) представляет собой (1) приобретенные в детстве Дефекты психологической структуры самости и (2) вторичные структурные образования, то есть образования, возникшие в раннем детстве и связанные с первичным Дефектом одним из двух способов, которые сходны между собой, но отличаются друг от друга в некоторых важных аспектах. Я буду называть эти два типа вторичных структур, различая их по тому, как они связаны с первичным структурным дефектом самости, защитной и компенсаторной структурами.
Хотя определения защитной и компенсаторной структуры, которые выходят за рамки чисто описательного и метафорического определения, нельзя понять полностью, не познакомившись с концепцией биполярной природы самости и с двоякого рода возможностями ребенка создавать функционирующую самость (эти темы подробно обсуждаются позже), я все же попытаюсь сделать это сейчас. Я называю структуру защитной, если ее единственная или главная функция заключается в сокрытии первичного дефекта самости. Я называю структуру компенсаторной, когда она не просто скрывает дефект в самости, а его компенсирует. В процессе развития происходит функциональное восстановление самости благодаря компенсации слабости одного полюса самости через усиление другого. Чаще всего слабость в области эксгибиционизма и честолюбия компенсируется уважением к себе, которое обеспечивается стремлением к идеалам. Но может происходить и обратное.
Термины «защитная структура» и «компенсаторная структура» относятся к началу и концу спектра, который имеет широкую центральную область, содержащую множество различных промежуточных форм. Но более или менее чистые формы, равно как и переходные, обычно можно отнести к одному из этих двух классов.
Основываясь на их различии, я постулировал, что стадия завершения анализа нарциссического нарушения личности достигалась при решении нами одной из двух конкретных задач: (1) когда после аналитического преодоления защитных структур был раскрыт и благодаря переработке и преобразующей интернализации в достаточной мере восполнен первичный дефект самости, в результате чего дефектные прежде структуры самости стали теперь функционально надежными. (2) Когда после достижения пациентом когнитивного и эмоционального понимания защит, окружающих первичный дефект в самости, а также компенсаторных структур и связи между ними, — компенсаторные структуры становились функционально надежными, независимыми от области, в которой этот успех был достигнут. Подобного функционального восстановления удавалось достичь прежде всего благодаря перестройке в области первичного дефекта или благодаря анализу изменений компенсаторных структур (включая устранение их структурных дефицитов при помощи преобразующей интернализации), или благодаря возросшему (вследствие понимания взаимосвязи между первичным дефектом и компенсаторными структурами) самоконтролю пациента, или благодаря успеху в некоторых либо во всех этих областях.
Термин «защитная структура» вряд ли нужно иллюстрировать, ибо он относится к концепции, не только хорошо известной каждому аналитику, но и действительно необходимой для него, когда он упорядочивает свои клинические впечатления в соответствии с динамическим подходом. Каждый аналитик знает таких пациентов, которые, например, часто приводят в смущение окружающих людей, склонны проявлять чрезмерную восторженность, драматизировать и слишком бурно реагировать на повседневные события и которые, соответственно, романтизируют и сексуализируют свое отношение к аналитику, производя иногда впечатление людей, открыто проявляющих эдиповы страсти (ср. Kohut, 1972, р. 369–372). В случаях нарциссического нарушения личности нетрудно распознать защитную природу — псевдовитальность — внешнего возбуждения. За ним скрываются низкая самооценка и депрессия — глубокое чувство заброшенности, бесполезности и отверженности, постоянная необходимость в эмоциональном отклике, потребность в утешении. В целом такую гиперактивность пациента следует понимать как попытку противодействовать посредством самостимуляции чувству внутренней безжизненности и депрессии.
Будучи детьми, эти пациенты не ощущали эмоционального отклика и пытались преодолеть свое одиночество и депрессию с помощью эротических и грандиозных фантазий. Взрослое поведение в реальности и в мире фантазий у них обычно не является точным повторением исходной защиты в детстве, поскольку в период их бурной, слишком восторженной, идеалистической юности, лишенной важных межчеловеческих привязанностей, детские фантазии нередко трансформируются под влиянием сильного увлечения романтизированными культурными (эстетическими, религиозными, политическими и т. д.) целями. Однако романтические идеалы не отступают на задний план, когда индивид достигает взрослой жизни, текущей, так сказать, в обычном, ожидаемом русле; надлежащей интеграции с целями взрослой личности не происходит: привлекающие к себе внимание, ярко выраженные эксгибиционистские аспекты личности не оказываются надежно слитыми со зрелой продуктивностью, а эротизированная, бурная деятельность взрослой жизни продолжается, но всего в одном шаге от депрессии. Вкратце проиллюстрировав хорошо знакомую и простую роль, которую играют защитные структуры при нарциссических нарушениях личности, я представлю теперь клинический материал, чтобы осветить менее знакомую и вместе с тем более сложную роль, которую играют при этих нарушениях компенсаторные структуры психики.
Завершающая стадия анализа мистера М
Мистер М., занимавшийся писательской деятельностью и характеризовавший свою работу как надежную, но лимитирующую, обратился за помощью к аналитику, когда ему было чуть более тридцати лет, а его жена, прожив с ним шесть лет, его оставила[2]. Он хотел подвергнуть себя анализу, чтобы выяснить, насколько он повинен в том, что его брак распался. Однако не вызывало сомнений, что его главным мотивом не являлось желание обрести интеллектуальное знание; он нуждался в помощи, потому что страдал от серьезного нарушения самооценки и глубокого ощущения внутренней пустоты, проявления его первичного структурного дефекта — хронического ослабления самости с некоторой тенденцией к временной фрагментации этой структуры. Из-за своей апатии и недостатка инициативы он чувствовал себя только «наполовину живым» и пытался преодолеть это ощущение внутренней пустоты посредством эмоционально заряженных фантазий, в частности сексуальных фантазий с ярко выраженным садистским оттенком. Кроме того, эти фантазии о садистской власти над женщинами (связывании их) он иногда отыгрывал. Он проделал это с женой, расценившей его поведение как «нездоровое». (С теоретической точки зрения эти фантазии и их отыгрывание представляли собой попытку скрыть первичный дефект при помощи защитных структур.) Огромное значение в его личностной организации и особую важность в процессе его анализа имели неопределенно выраженные жалобы на внутреннее сопротивление работе. Писательская работа, которая должна была во многом способствовать повышению его самооценки, затруднялась целым рядом взаимосвязанных нарушений. Я рассмотрю здесь два из них. Первое нарушение представляло собой проявление у мистера М. первичного структурного дефекта, генетически связанного с нарушением функции объекта самости (его матери) — функции зеркального отражения здорового эксгибиционизма ребенка. Второе нарушение представляло собой проявление дефекта компенсаторных структур пациента; этот дефект был генетически связан с нарушением функции объекта самости (отца) как идеализированного образа.
Генетическая матрица первичного дефекта — слабое развитие грандиозных эксгибиционистских аспектов самости — представляла собой недостаточное зеркальное отражение со стороны матери. Если мать пациента с таким нарушением еще жива, то зачастую у нее можно выявить недостаток эмпатии или дефектные эмпатические ответы непосредственно в процессе анализа, когда пациент благодаря динамическим процессам взаимодействия реакций при зеркальном переносе осознает, что его самость уязвима со стороны недостаточной или дефектной эмпатии и начинает реконструировать важные в генетическом смысле условия своего раннего периода жизни; он не только вспомнит патогенные моменты из своего Детства, но и будет видеть недостаточную эмпатию матери к себе самому или другим людям, в частности к детям — например, ее внукам. В случае мистера М. такой прямой источник информации не был доступен, потому что мать пациента умерла, когда ему было двенадцать лет. Однако некоторые феномены переноса, а также детские воспоминания указывали на то, что он расценивал эмоциональные реакции матери на себя как недостаточные и дефектные. Он вспомнил, как в детстве не раз пытался неожиданно посмотреть на мать, чтобы у нее не было времени, изобразив на лице доброжелательность и заинтересованность, скрыть, что на самом деле он был ей безразличен. Он вспомнил также конкретный случай, когда он поранил себя и запачкал кровью одежду своего брата. После этого его мать, не разобравшись, что именно ему, а не брату было страшно и больно, оставив его, помчалась с братом в больницу.
В связи с первым воспоминанием необходимо ответить на один очень сложный вопрос: почему ребенок постоянно и активно пытался вызвать то самое представление, которого он боялся (возможно, это в чем-то напоминает то, как мы постоянно надавливаем на воспаленный зуб, чтобы проверить, по-прежнему ли он болит, — только ради того, чтобы удостовериться: конечно же, он болит)? Психологический «привкус» этих воспоминаний (тревожное, но вместе с тем исполненное надежд усердие, определявшее эмоциональное состояние ребенка), по всей видимости, исключает объяснение, что он стремился быть отвергнутым матерью, чтобы удовлетворить свое мазохистское желание. Я не думаю также, что он смотрел на лицо своей матери (преобразование пассивного в активное) прежде всего ради того, чтобы сохранить некоторый контроль над потенциально травмирующей ситуацией (активно убеждаясь в безразличии матери, он предотвращает возможную травму, если бы он пассивно и неожиданно для себя натолкнулся на ее безразличие в тот момент, когда был наиболее уязвим, — например, когда он ждал от нее позитивного зеркального отражения). Самый важный вывод, который, пожалуй, можно было бы сделать из его поведения, заключается в том, что он не оставил надежду на гармоничные отношения с матерью — это соответствует диагностической категории психопатологии пациента (нарциссическое нарушение личности, но не пограничная организация личности). Можно предположить, что в принципе мать проявляла эмпатию, и эта эмпатия не столько была поверхностной, сколько ущербной; когда он поранился, она все-таки отреагировала — и это иногда подкрепляло ощущение ребенком собственной ценности и, таким образом, реальность его самости.
Следствием неспособности матери вчувствоваться в состояние ребенка и отвечать адекватной эмпатической реакцией являлось специфическое неправильное развитие в эксгибиционистском секторе его личности: у него не были сформированы соответствующие сублимационные структуры в секторе эксгибиционизма, поскольку из-за недостаточности первичных зеркальных ответов матери не было создано адекватной основы для структурообразующих, все более селективных вторичных реакций с ее стороны (для оптимально возрастающей фрустрации ею его потребностей). Поэтому он зафиксировался на архаичных формах эксгибиционизма; и поскольку архаичный эксгибиционизм не мог найти надлежащего удовлетворения во взрослой жизни, у пациента развились хрупкие защитные структуры, действующие по принципу «все или ничего» — он либо подавлял свой эксгибиционизм в ущерб здоровым формам самооценки и получения удовольствия от самого себя и своих действий, либо его эксгибиционизм прорывался в виде бурной деятельности и необузданных сексуализированных фантазий (иногда воплощенных в реальном поведении), в которых зеркально отражающий объект самости (всякий раз женщина) находился под его полным, садистски принуждающим контролем, был рабом, который должен был исполнять все его прихоти и желания.
Что касается его писательской деятельности — здесь следует еще раз подчеркнуть, что его работа должна была внести наибольший вклад в повышение его взрослой самооценки и дать выход трансформированному грандиозно-эксгибиционистскому нарциссическому напряжению через творчество, — структурный дефект, обусловленный недостаточностью функций зеркального отражения у матери, вызывал переживания пугающей и парализующей гиперстимуляции. У него не было структур, достаточных для того, чтобы сдержать и нейтрализовать грандиозность и эксгибиционизм, которые активизировались при мобилизации его воображения. Поэтому он часто становился напряженным и возбужденным, когда писал, из-за чего ему приходилось либо подавлять свое воображение в ущерб оригинальности и живости произведения, либо полностью прекращать работать.
Препятствия, стоявшие на пути его творческой работы, нельзя было, однако, вначале объяснить через исследование его отношения к зеркально отражающему материнскому объекту самости и возникшего первичного структурного дефекта в его психическом оснащении, потому что способности, которые он использовал в своей профессиональной деятельности, основывались прежде всего не на первичных структурах, то есть не на врожденных качествах, развившихся в матрице его отношения к зеркально отражающему объекту самости, а на компенсаторных структурах, то есть на талантах, приобретенных или, по крайней мере, развившихся в его детстве в матрице отношения к идеализированному объекту самости — к отцу.
Прежде чем рассмотреть эти компенсаторные структуры и их специфические дефекты, имело бы смысл восстановить последовательность важных для развития мистера М. психологических событий его детства. Как я уже отмечал, структуры центральной самости мистера М., без сомнения, были серьезно повреждены из-за недостаточной эмпатии матери. Точно так же не подлежит сомнению, что затем он обратился к идеализированному отцу — этот психологический шаг является вполне типичным, — чтобы компенсировать в отношениях с идеализированным объектом самости тот ущерб, от которого он пострадал в отношениях с зеркально отражающим объектом[3]. В детстве мистер М. должен был попытаться сначала идеализировать, а затем обрести (то есть интегрировать в свою собственную самость) некоторые способности отца — способности, которые, по-видимому, были у него особенно развиты и которые отец, скорее всего, высоко ценил, — особенно лингвистические. Во всяком случае именно посредством слов пациент в своей юности и уже будучи взрослым человеком пытался удовлетворять — сдержанным в отношении цели, социально приемлемым способом — дериваты своих грандиозных и эксгибиционистских стремлений. Однако секторы его самости, из которых происходили эти стремления, остались без изменений (архаичными), потому что их дальнейшее развитие (если быть более точным — развитие модулирующих, модифицирующих психических структур, которые их окружают) не подкреплялось правильными реакциями (сначала реакциями радостного принятия, позднее — все более избирательными реакциями) его матери.
Для аналитика было весьма поучительно наблюдать, как пациент пытался найти выход из эмоционального тупика, заблокировавшего его развитие в нарциссическом секторе личности. Выбранная им профессиональная деятельность (она была связана с художественной критикой) предоставила в его распоряжение некоторые специфические средства, позволявшие ему выразить особые нарциссические потребности. В своих статьях, описывая и критикуя различные художественные произведения, он мог теперь использовать идеализированную силу отца переводить свою потребность в эмпатических реакциях матери в соответствующие слова и фразы; даже его неизменное первичное желание ощущать чуткое тело матери смогло найти символическое выражение в некоторых описаниях, которые ему приходилось делать, выполняя свою работу.
Его трагедия состояла в том — а это и был один из главных мотивов его обращения за помощью к аналитику, — что он не мог сформировать адекватно функционирующие компенсаторные структуры, полученные от своего коллекционирующего словари, интересующегося филологией и хорошо владеющего языком отца, потому что ему недоставало отца, как прежде недоставало матери. (Однако мы можем заключить, учитывая тот факт, что он уже занимался писательским трудом, когда приступил к анализу, что отсутствие отца как объекта самости было не столь серьезным, как отсутствие матери.) Другими словами, отец не мог позволить себе получать радость от того, что его идеализировал сын, и он не способствовал своими эмпатическими реакциями оптимальному развитию идеализированных отношений в общении с ним, к которым стремился и в которых нуждался сын. Таким образом, мальчик снова оказался фрустрированным в попытке усилить структуру самости, в попытке создать функциональный аппарат, который позволил бы ему продемонстрировать и выразить свою самость в доступной творческой деятельности, используя социально приемлемую форму.
Успешное, соответствующее возрасту слияние по типу «весь в отца» (или близнецовое отношение) с идеализированным отцом и последующее постепенное или соответствующее фазе развития разочарование в нем могло бы все же повысить самооценку мистера М., если бы он смог хотя бы временно разделить всемогущество идеализированного объекта самости, и в конечном счете это могло бы все же снабдить его соответствующими буферными структурами и паттернами разрядки в секторе его фантазий о величии и эксгибиционизма, устранив повреждение, возникшее в результате прежнего психологического взаимодействия с недостаточно зеркально отражающей матерью. Правда, нельзя сказать, что его компенсаторные действия в области филологии и творческой писательской деятельности были совсем неудачными, — он все же получал от них какое-то удовлетворение. Однако нет сомнений, что ни его идентификация с сочинениями, которые по форме были близки к художественным, ни получаемое от них удовлетворение — непосредственно через удовольствие от своего труда, косвенно через публичную реакцию на них — не были достаточными, чтобы поддерживать его нарциссическое равновесие. И прогресс в ходе его анализа можно было до некоторой степени оценивать по тем постепенным позитивным изменениям, которые происходили в этой сфере.
Какова была природа нарушения компенсаторных структур, которые мистер М. сформировал в сфере языка и творческой писательской деятельности? И как на это нарушение можно было повлиять терапевтически? Отвечу на эти два взаимосвязанных вопроса кратко. (1) По поводу нарушения функций компенсаторных структур можно сказать, что с давних пор у мистера М. была нарушена способность переводить фантазии, захлестывавшие его в форме визуальных образов, в соответствующие слова (профессор колледжа несколько загадочно говорил, что тот страдал от дефекта «логики», — это можно, пожалуй, расценивать как диагноз умеренных и ограниченных нарушений мышления, поставленный неспециалистом). (2) Что касается подхода к лечению нарушенных компенсаторных структур, то можно сказать, что позитивные изменения в ходе психоанализа достигались двумя путями: первый был связан с процессами переработки в области, имевшей непосредственное отношение к недостаточным зеркальным ответам материнских объектов самости, то есть был связан с постепенной интеграцией в личность его грандиозно-эксгибиционистских побуждений. Игра на скрипке стала важным предохранительным клапаном для снятия напряжения, возникавшего при переработке этого сектора (об аналогичной функции, которую выполняло занятие танцами в период анализа мисс Ф., см. Kohut, 1971, р. 287). Второй путь был связан с процессами переработки в области, имевшей непосредственное отношение к уходу отца, когда пациент хотел к нему присоединиться (в частности, чтобы заимствовать способности отца в сфере языка) после того, как он пришел к выводу, что бесполезно ожидать зеркальных ответов от матери. Это является примером «телескопии» аналогичного в генетическом отношении опыта (см. Kohut, 1971, p. 53–54) некоторая важная часть аналитической работы, проделанной в данном секторе личности пациента, была сфокусирована не на генетическом паттерне ранней жизни, который, по-видимому, в общих чертах впервые возник вследствие самых ранних отказов отца, а на аналогичном динамическом паттерне позднего доподросткового возраста, с психоэкономической точки зрения оказавшемся решающим в детерминации характерных особенностей нарушения во взрослой личности мистера М. В частности, он помнил, что после смерти матери попытался претендовать на внимание своего идеализированного отца, но был разочарован отсутствием отцовского интерес к нему, особенно повторным браком отца, который пациент воспринял как нарциссическую травму и личное отвержение.
Намеченное завершение — задачи, остающиеся у анализанда
При анализе неврозов переноса завершающая стадия часто характеризуется возвращением к структурным конфликтам, которые являлись главным объектом проработки на основной («средней») стадии анализа. Это вновь выглядит как необходимость окончательного разрыва существующих эдиповых связей, как неизбежное полное отделение от аналитика, которое можно сравнить с полным отказом от любимых и ненавистных объектов своего детства; еще раз ребенок в нем пытается утвердить свои старые требования, прежде чем он, наконец, решает навсегда оставить их в стороне или действительно от них отказывается.
При анализе нарциссических нарушений личности, где проработка касалась прежде всего первичного дефекта в структуре самости пациента и вела к постепенному устранению дефекта благодаря приобретению новых структур посредством преобразующей интернализации, завершающую стадию можно рассматривать по аналогии с таковой при обычных неврозах переноса. Анализанд понимает, что ему предстоит окончательно отделиться от аналитика как объекта самости. Под гнетом этой трудной эмоциональной задачи у него наступает временная регрессия; возникает ситуация, когда кажется, что вся проделанная работа по устранению структурного дефекта пошла насмарку. Другими словами, что излечение было только обманом, что улучшение функционирования пациента было достигнуто не благодаря приобретению новой психической структуры, а зависело от фактического присутствия объекта самости. Или, если опять-таки описать эту ситуацию иначе, вдруг начинает казаться, будто процессы переработки не вызвали тех оптимальных фрустраций, которые посредством моментальных интернализации формируют психическую структуру и делают пациента независимым от аналитика, и что состояние пациента улучшилось благодаря опоре на внешний объект самости или в лучшем случае благодаря заимствованию функций объекта самости (аналитика) через поверхностную и нестабильную идентификацию с ним. Поэтому среди проявлений завершающей стадии при анализе таких пациентов часто бросаются в глаза признаки, указывающие на временную реконкретизацию отношения к объекту самости. Пациент вновь ощущает, что аналитик замещает собой его психическую структуру, он снова рассматривает аналитика как «поставщика» его самооценки, как интегратора его стремлений, как человека, олицетворяющего собой силу и власть, от которого зависит, получит ли он одобрение и прочие формы нарциссической поддержки.
Ярким примером реконкретизации функций объекта самости в лице аналитика могут служить некоторые особенности завершающей стадии анализа мистера И. (см. Kohut, 1971, р. 167–168). В ряде сновидений, едва ли не комичных по своей откровенности, мистер И. инкорпорировал аналитика как объект самости или его атрибуты власти через различные отверстия своего тела. Но затем, когда завершающая стадия подошла к концу, он вновь вернулся от этих грубых символических идентификаций к результатам преобразующих интернализации, достигнутым благодаря процессам переработки на предыдущих стадиях анализа, — он с удовольствием предвкушал свое автономное функционирование в будущем.
Однако ситуация оказывается иной на стадии завершения анализа нарциссических нарушений личности, где, как в случае мистера М., спонтанно активизированный перенос и процессы переработки затрагивают не только первичный дефект и защитные структуры, которые его окружают, но и прежде всего компенсаторные структуры.
Мистер М. изъявил желание закончить анализ примерно за семь месяцев до того, как он завершился фактически. Призывая читателя проявить терпение, я изложу свои теоретические представления об эмоциональном состоянии анализанда в этот период в форме следующего воображаемого сообщения пациента.
«Господин аналитик, — говорит он, — я думаю, что наша работа в целом завершена. Мы в достаточной мере усилили мои компенсаторные психологические структуры, так что теперь я могу быть активным и творческим; и я теперь способен работать, ставя перед собой ясные цели. Преследование этих целей и сам акт творения укрепляет мою самость, дает мне ощущение жизни, ощущение того, что я реален и полезен. И эта позиция и поступки приносят мне достаточно радости, чтобы сделать жизнь заслуживающей того, чтобы жить; они не дают возникнуть чувству пустоты и депрессии. Я приобрел психологическую субстанцию, которая позволяет мне преследовать отдаленные от самости цели и тем не менее ощущать мою активную творческую самость в акте творения. Другими словами, я нашел психологическое равновесие между продуктом (продолжением себя), моей поглощенностью им, моей радостью от его совершенствования и самостью (центром продуктивной инициативы) — волнующим переживанием того, что я создаю произведение, что я создал его. Хотя, таким образом, я испытываю радость, осознавая себя, я уже не становлюсь гипоманиакально гиперстимулированным, когда я творю, и я не боюсь, как это обычно бывало, что моя самость перетечет в продукт моего творчества. Теперь моя самость как доставляющий радость центр инициативы и продукт, которым я горжусь, находится в ненарушенной психологической взаимосвязи.
Конечно, я доволен этими новыми достижениями; тем не менее я знаю слабые места и опасные точки в моей психологической организации. И я также понимаю, что, в сущности, я сумел достичь решающих позитивных изменений в этом секторе моей личности благодаря интеграции идеализированных целей, символизирующих моего отца, которого я хотел идеализировать в детстве и ранней юности. Но отец отверг мою идеализирующую попытку с ним сблизиться; этот отказ лишил меня опыта полного цикла идеализации, за которой следует деидеализация, и, таким образом, лишил возможности установления надежных психологических структур (руководящих идеалов) в этой области. Реактивация при переносе прежнего стремления идеализировать моего отца привела в движение определенные процессы переработки (повторное переживание последовательности идеализации, деидеализации и интернализации), усилившие мои руководящие идеалы. И, как я теперь стал понимать, обладание сильными идеалами крайне важно для сохранения моего эмоционального здоровья. Я думаю, что данный процесс, хотя, разумеется, он не завершен, к настоящему времени зашел достаточно далеко, чтобы эти идеалы отныне и навсегда оставались моими.
Но я также знаю, что не смог бы добиться такого прогресса в сфере мужских идеалов, работы и креативности, прорабатывая только разочарование в моем отце. Прежде чем я оказался способен заняться проработкой того, что отец не позволил мне себя идеализировать, в процессе анализа должно было быть достигнуто некоторое фундаментальное укрепление самости. И, без сомнения, это предварительное укрепление самости было связано скорее с базисными слабостями в ее структуре, а не с теми структурами, которые были задействованы при проработке моих руководящих идеалов. Другими словами, при решении этой промежуточной задачи мы фокусировались на более ранних стадиях развития и касались травм, нанесенных мне ответами моей матери, когда я был еще совсем маленьким ребенком, — принятия меня ею и ее одобрения. Здесь также работа не завершена. Но ее незавершенность отличается от незавершенности процессов переработки, связанных с идеализированным имаго отца. Что касается последней проблемы, все ее аспекты были проанализированы, и если чего не хватает, так это, пожалуй, дополнительных упражнений, чтобы упрочить достигнутое. Если же говорить о компенсации главного слабого звена моей личности — последствии травм, пережитых мною из-за недостаточной эмпатической способности моей матери, — то здесь и в самом деле имеются некоторые слои, до которых мы едва ли добрались; мне кажется, что этих слоев мы и не могли затронуть, потому что здоровый инстинкт самосохранения не позволил бы мне регрессировать к архаичным переживаниям, которые могли бы, вероятно, привести к необратимой дезинтеграции самости. И нам не нужно было затрагивать их, будь это даже возможно, потому что, учитывая надежно функционирующие теперь секторы моей личности, можно с уверенностью сказать, что сохранность моей самости теперь обеспечена».
Аналитик, реагируя на речь мистера М., разумеется, спросит себя, должен ли он, вопреки желанию пациента, настоять на продолжении работы, чтобы подкрепить то, что уже было достигнуто. Отвечая на этот вопрос, я опираюсь на следующий принцип: в некоторых ситуациях анализанд потенциально способен оценивать свое психологическое состояние гораздо более точно, чем аналитик. Однако необходимо добавить, что это утверждение отнюдь не означает, что аналитик не должен исследовать, не пытается ли пациент под влиянием определенных страхов уклониться от решения психологических задач, которые, будь они действительно решены, привели бы к стойким благоприятным последствиям. Однако по мере того, как обогащался мой аналитический опыт, я научился доверять желанию пациента завершить свой анализ, особенно если оно возникает не вдруг, а после многих лет упорной работы и, кроме того, если я могу сформулировать для себя (и в соответствующих терминах для своего пациента) структурно-динамическую ситуацию, образующую матрицу его желания.
Если мы признаем обоснованным желание пациента закончить анализ в этот момент, то есть считаем его основанным на правильной оценке того, что он приобрел психологические структуры, делающие дальнейший анализ излишним, мы должны теперь выяснить природу структур, усиление которых оказало решающее воздействие на улучшение его здоровья. Можно предположить, что они возникли в раннем детстве как реакция на серьезный первичный структурный дефект. Выражаясь более точно: сами по себе эти структуры возникли в процессе созревания, но их функциональное значение возросло в ответ на первичный дефект, и поэтому они развились гораздо сильнее, чем это можно было бы ожидать у маленького ребенка. Если перевести утверждение, что пациент сформировал эти компенсаторные структуры, в термины метапсихологии (ср. Freud, 1915, р. 203–204), то мы можем сказать, что у ребенка стали преждевременно преобладать вторичные процессы, что у него развился чрезмерный интерес к словам, чтобы восполнить первичный дефект, то есть пустоту и ненадежность довербальных первично-процессуальных переживаний его телесной самости и эмоций. Хотя это предположение не было подтверждено непосредственными воспоминаниями из раннего детства, в его пользу свидетельствуют две группы данных: косвенно полученные данные о том, что он действительно проявлял в раннем детстве необычайный интерес к словам, и данные о том, что он в ранней юности, несомненно, переключил свое внимание на отца (и его увлечение филологией) в ситуации (смерть его матери), в психологическом отношении сходной стой (эмоциональная дистанция матери), что преобладала в его раннем детстве[4].
Каковы бы ни были самые ранние психологические факторы, обусловившие направление развития личности мистера М., конечным результатом явилась организация личности, стремившаяся достичь нарциссического удовлетворения с помощью языка. До анализа мистер М. был неспособен на это; анализ же помог устранить специфические структурные дефекты, обрекавшие на неудачу подобные усилия.
Два психологических дефекта, препятствовавшие пациенту достичь нарциссического удовлетворения с помощью своих талантов в области языка и посредством активизации его интереса к писательской деятельности, были в достаточной степени проработаны и нивелированы, что позволяло пациенту закончить анализ. Сначала я опишу эти дефекты в терминах теоретической системы, которую, как правило, называют структурной моделью психики и Эго-психологией. Хотя я использую здесь модификацию структурной модели в соответствии с постулатом (Kohut, 1961; Kohut, Seitz, 1963), согласно которому психику следует понимать как состоящую из (а) области прогрессивной нейтрализации и (б) области переносов, то есть модификацию, особенно пригодную для данной задачи, детальное исследование психопатологии мистера М. позволит нам понять, что объяснительные формулировки, которые мы можем получить таким образом, не являются в полной мере удовлетворительными. Структурная модель психики, даже используемая в сочетании с самыми тонкими уточнениями, внесенными Эго-психологией в психологию влечений, не является достаточно пригодной для описания характера психологического нарушения, которое мы здесь исследуем. Чтобы понять главные особенности проблемы мистера М., мы должны ввести новую систему: психологию самости — психологию, занимающуюся изучением формирования и функций самости, ее распада и реинтеграции.
Два нарушения в психологической организации мистера М. мы попытаемся сейчас описать в рамках несколько модифицированной структурной модели и в терминах несколько модифицированной Эго-психологии. До анализа имелся структурный дефект в «области прогрессивной нейтрализации», то есть у пациента не было гладкого перехода от первичного процесса (от его архаичного эксгибиционизма, его слияния с материнским объектом самости и эмоций, связанных с двумя этими группами переживаний) ко вторичному процессу (к его словам, языку, писательской деятельности). Кроме того, существовал структурный дефект в сфере его целей и идеалов, вторично обусловивший недостаточный отвод его эксгибиционистских грандиозно-креативных стремлений в виде хорошо интегрированных, интернализированных целей. Отсутствие более или менее организованного потока грандиозно-эксгибиционистского либидо к интернализированным идеалам привело в свою очередь к недостаточному развитию тех исполнительных структур (Эго), которые позволяли бы ему посвятить себя своему профессиональному делу и получать от него подкрепляющее нарциссическое удовлетворение.
Поскольку меня интересует здесь прежде всего завершение, особенно завершение анализа нарциссических нарушений личности, я не буду детально рассматривать специфические процессы переработки, связанные с двумя структурными дефектами, которые объясняют нарушение в сфере профессиональной деятельности пациента, а только еще раз подчеркну, что дефект, проявляющийся в отсутствии гладкого перехода от первичных процессов к вторичным, если рассматривать его с генетической точки зрения, по-видимому, связан прежде всего с изъянами функции зеркального отражения матери пациента, тогда как дефект, проявлявшийся в неспособности пациента упорно заниматься своей профессиональной деятельностью, генетически был связан в первую очередь с изъянами ответа отца в его функции идеализированного имаго.
К тому моменту, когда пациент почувствовал, что анализ должен идти к завершению, процессы переработки действительно привели к некоторым позитивным изменениям в той и в другой сфере. Тем не менее, как я уже отмечал выше, в его личности имелся дефект, который, по существу, остался непроанализированным, не оказался в фокусе систематических процессов переработки, хотя пациент не только пришел к пониманию того, что его психологическая организация потенциально подвергалась опасности диффузной дезинтеграции, но и получил интеллектуальное знание об этиологии[5] этой потенциальной возможности регрессии. Таким образом, желание пациента двигаться к завершению анализа возникло независимо от его (по крайней мере предсознательного) понимания того, что центральный сектор его грандиозной самости, который был связан с недостаточно сформированным базисным слоем личности, не был проанализирован полностью. Он знал, однако, что анализ этого сектора не был необходимым условием его будущего психологического здоровья, и, кроме того, он ощущал, что этот сектор нельзя было проанализировать без серьезной опасности — без серьезного риска нанести непоправимый вред его психологическому равновесию. Я думаю, что он подспудно понимал, что активация определенных аспектов зеркального переноса подвергнет его опасности психологического разрушения из-за повторного переживания изначального гнева и жадности и что он косвенно выразил свое понимание этих потенциальных опасностей двумя способами: развив психосоматический симптом — сыпь на локте (такая интерпретация сыпи является гипотетической, хотя я анализировал другого пациента, мистера У., у которого при активизации его архаичного гнева и жадности появилась сыпь на правом локте) — и утверждая, что продолжение анализа могло бы вызвать у него «привыкание».
Большая часть из того, что я могу сказать о непроанализированных аспектах архаичных слоев зеркального переноса, является спекулятивным. Тем не менее я бы отметил, что пациент был оставлен его родной матерью и до трехмесячного возраста находился в приюте. Учитывая это, я думаю, что мы не очень ошибемся, если сделаем вывод, что разрушительное воздействие травм, которые он перенес из-за недостаточной эмпатии приемной матери в своем позднем детстве (травм, которые относятся к периоду после появления речи и о которых имеются вербализированные воспоминания), нельзя оценить полностью, если мы не рассмотрим также возможность того, что психика ребенка стала ранимой также вследствие травматизации в более раннем возрасте. Мало того, что он был травмирован постоянной неспособностью его приемной матери надлежащим образом отвечать на его потребности в довербальный период, — за этими слоями фрустрации всегда стояли невыразимая довербальная депрессия, апатия, чувство безжизненности и диффузный гнев, связанный с первоначальной травмой в его жизни. Однако такие первичные состояния нельзя ни воспроизвести через вербализированные воспоминания, как в случае травм, произошедших уже после появления речи, ни выразить посредством психосоматических симптомов, как в случае более организованного гнева в связи с поздними довербальными переживаниями (в случае мистера М., возможно, это сыпь на локте). Воздействие первоначальной травмы на психологическую организацию пациента (слабость базальных слоев его личности) подтверждается только его опасением, что дальнейший анализ мог бы вызвать у него «привыкание», — другими словами, смутным страхом регрессивного «вояжа», из которого он не сможет вернуться.
Здесь возникает теоретический вопрос: может ли уже в самом раннем младенчестве существовать рудиментарная самость, и если может, то в какой степени? (См. в этом контексте обсуждение вопроса о том, как следует понимать начальные формы самости.)
Если перевести этот вопрос в термины клинической практики, то мы должны были бы спросить: является ли страх необратимой регрессии у пациента страхом полной потери самости в форме постоянной глубокой апатии или страхом реактивации рудиментарной архаичной самости в форме сменяющихся переживаний сильной жадности, диффузного гнева и опустошающей депрессии?
Следующие связанные с этим вопросы касаются реакции матери на младенца — в данном случае реакции приемной матери. Какой бы ни была эндопсихическая реальность переживаний младенца, можно доказать, что с самого начала мать реагирует на младенца, по крайней мере время от времени, так, словно у него уже сформирована связная самость. (Более подробное обсуждение постепенного перехода матери от реагирования преимущественно на части ребенка к реакциям на ребенка в целом см.: Kohut, 1975b.) Если отношение приемной матери мистера М. к младенцу исследовать с учетом предшествующих рассуждений, то возникает вопрос: могло ли (и если да, то каким образом) пребывание младенца в приюте косвенным путем привести к последующим неправильным реакциям на него приемной матери?
Здесь следует рассмотреть две возможности. То, что у приемной матери не было отношений с младенцем в первые три месяца его жизни, означает, что она не прошла один из главных этапов в развитии материнских переживаний, связанных с появлением на свет ребенка. В обычной ситуации мать в своих реакциях предвосхищает консолидацию самости младенца — она думает, что его самость является более консолидированной, чем на самом деле; или, другими словами, мать опережает фактическое развитие ребенка и испытывает радость от содействия этому развитию своими собственными ожиданиями. То, что приемная мать мистера М. не участвовала в первых шагах к консолидации базисной самости младенца, могло иметь ряд последствий: это могло лишить ее дальнейшие реакции на него отзвуков воспоминаний о раннем слиянии с ним; подобная депривация могла привести к некоторой эмоциональной холодности в ее отношении к нему и помешать развитию той полной близости, которая обычно возникает между матерью и младенцем; и, как результат двух этих ограничений способности матери реагировать на ребенка, это могло привести к появлению порочного цикла в отношениях между матерью и ребенком, поскольку ограниченная способность матери давать зеркальные ответы, соответствующие стадии развития ребенка, в свою очередь вызывает у него эмоциональный уход.
Пребыванием младенца в приюте, возможно, объясняется и другое нарушение эмпатии матери в отношении своего ребенка. Учитывая, что психика младенца была серьезно травмирована в первые три месяца его жизни, вполне вероятно, что он отвечал на объекты самости (прежде всего на свою приемную мать) на поздней довербальной и ранней вербальной стадии развития разнообразными аномальными реакциями. Можно было бы ожидать, что у ребенка, перенесшего тяжелые травмы в раннем младенческом возрасте, в позднем младенчестве и в раннем детстве, разовьется чрезмерная требовательность к матери (как следствие сохраняющихся следов оральной жадности, усилившейся на ранней стадии), сопровождающаяся бурными вспышками ярости и/или немедленным эмоциональным уходом в ответ на незначительные задержки удовлетворения (реактивацией гнева и опустошающей депрессии, проявлявшихся на ранней стадии). Возможно было и снижение общей эмоциональной отзывчивости ребенка на материнский объект самости на более поздних стадиях как остаточное проявление апатии, возникшей на ранней стадии. Такое нарушение у младенца вполне могло превысить способность матери старательно пытаться понять потребности младенца и отвечать на них должным образом. Обремененная заботами об удовлетворении прожорливого младенца и фрустрированная его способностью мгновенно уходить в себя, гневливостью и/или апатией, она должна была бы избегать отношений, вызывавших у нее ощущение неудачи вместо того, чтобы давать ей приятное чувство нарциссического удовлетворения, которого она ждала.
Разумеется, повторение различных реакций младенца в такой ситуации можно наблюдать также и в ходе анализа пациентов с нарциссическими нарушениями личности. И, повторяя воздействие младенца на мать, эти переносы объекта самости могут превышать эмпатическую способность аналитика и вызывать у него желание эмоционально отгородиться от пациента или подвергнуть его резкой критике, демонстрируя открытое раздражение или, что бывает чаще, с помощью морализаторских увещеваний и псевдоинтерпретаций.
Практическую важность нарциссических фрустраций аналитика со стороны некоторых типов анализандов нельзя недооценивать. По опыту самонаблюдения и тщательного изучения поведения студентов, у которых я был супервизором, и коллег, которым я помогал как консультант, я знаю, что даже лучшие намерения аналитика, основанные на глубоком понимании психологии анализандов с нарциссическими нарушениями личности, не могут защитить его от реактивно возникающего желания отстраниться от пациента и, что еще хуже, от рационализации такого желания на первый взгляд объективным суждением, что пациент не доступен анализу. Но я полагаю, что не будет большого вреда — а возможно, отчасти это даже будет во благо, — если аналитик какое-то время почувствует себя эмоционально отдаленным от пациента, но осознает свой конфликт и не отвернется от пациента навсегда.
В случае мистера М. я был бы склонен экстраполировать конкретную реконструкцию из описания аналитиком переноса, а именно, что из-за пребывания в начале жизни в приюте у пациента сохранилась скорее чрезмерная готовность реагировать гневом и тенденция мгновенно замыкаться в себе в ответ на фрустрации со стороны матери, чем тенденция к распространяющейся апатии. Но какими бы ни были специфические отклонения от нормы, проявившиеся в личности младенца, не может быть сомнений в следующем выводе: о недостаточной эмпатии матери крайне редко можно судить вне контекста; в большинстве случаев, как и в случае приемной матери мистера М., ее следует расценивать как несостоятельность при столкновении с необычно трудной задачей.
Нужно подчеркнуть, что, если говорить о работе аналитика, эти рассуждения имеют только ограниченное значение. Аналитик интересуется детством своего анализанда прежде всего не потому, что он хочет раскопать этиологические факторы, объясняющие нарушение анализанда, а потому, что он хочет выяснить его главные генетические корни. Он сосредоточивает свое внимание в первую очередь на субъективных переживаниях анализанда при переносе и, основываясь на своем понимании их формы и содержания, реконструирует мир детских переживаний пациента в важных для его развития ситуациях в настоящем. Аналитик не фокусируется прежде всего — по крайней мере, при решении своей главной задачи — на данных объективной реальности и даже на субъективном психологическом состоянии родительских фигур, окружавших ребенка, которое можно установить объективно (хотя это нередко оказывается «полезным в тактическом отношении» [см. Kohut, 1971, р. 254]). В случае мистера М. основной психологический факт (реактивация главной генетической детерминанты важнейшего аспекта его психологического нарушения) заключался в том, что он воспринимал свою мать (и при переносе — аналитика) как травмирующую и неэмпатическую к его эмоциональным запросам, как безразличную к ним. Правда, аналитик мог бы при случае сказать (чтобы сохранить реалистические рамки, если, например, из-за тяжелых фрустраций, испытанных при переносе, пациент всерьез задумался о прекращении анализа), что ожидания и требования пациента относятся к его детству и в настоящее время нереалистичны. И в подходящий момент он мог бы также попытаться объяснить пациенту, что интенсивность его детских потребностей, возможно, привела к искажению его восприятия прошлого (в случае мистера М. — к искажению восприятия им личности своей приемной матери). Однако важные; структурные преобразования, вызываемые переработкой, происходят не в результате таких поддерживающих интеллектуальных инсайтов, а вследствие постепенных интернализаций, происходящих в результате того, что прежние переживания постоянно реактивируются более зрелой психикой.
Кроме того, я хочу подчеркнуть, что вышеупомянутое утверждение — а именно, что благоприятные структурные изменения, происходящие при успешном анализе, не являются результатом инсайтов, — относится не только к анализу пациентов с нарциссическими нарушениями личности, но и к анализу пациентов, страдающих структурными неврозами. Отнюдь не интерпретация исцеляет пациента. И хотя правильно будет сказать, что суть аналитической работы заключается в превращении бессознательного в сознательное, это утверждение является лишь подходящей метафорой для одного из аспектов очевидных психологических преобразований, которые действительно происходят в процессе анализа.
Я думаю, что мы описываем лечебный процесс более точно и убедительно, если сосредоточиваемся на изменениях в психологических «микроструктурах». (Я заимствую этот термин у доктора Дугласа К. Левина, сравнивающего развитие глубинной психологии — от стадии, когда исследователь фокусировал свое внимание на психологических «макроструктурах», к стадии, когда он стал концентрироваться на психологических «микроструктурах»[6], — с аналогичным развитием физики: от механической физики больших масс к физике субэлементарных частиц.) Опишем вкратце эти микроструктурные изменения при классических неврозах переноса: (1) интерпретация устраняет защиты; (2) архаичные желания вторгаются в Эго; (3) при реактивации архаичных стремлений в Эго формируются новые структуры, способные модулировать и преобразовывать архаичные стремления (отсроченная разрядка, нейтрализация, сдерживание влечений в отношении цели, замещающее удовлетворение, поглощение через формирование фантазий и т. д.). Анализанд, чтобы сохранять открытым доступ архаичных стремлений в Эго, несмотря на свою тревогу (при классических неврозах переноса — страх кастрации в связи с инцестуозными либидинозными и агрессивными стремлениями), использует аналитика как объект самости — даже при анализе структурных неврозов! — то есть как предварительную замену еще не существующих психологических структур. (См. в этой связи примечание об использовании отношений объекта самости на всех уровнях развития как в случае психологического здоровья, так и при психологической болезни.) Постепенно в результате бесчисленных процессов микроинтернализации различные реалистические аспекты образа аналитика, связанные с успокоением тревоги, терпимостью к отсрочке и т. д., становятся частью психологического арсенала анализанда, в сочетании с «микро»-фрустрацией потребности анализанда в постоянном присутствии аналитика и его безупречном функционировании в этом смысле. Словом, благодаря процессу преобразующей интернализации формируется новая психологическая структура. Необходимо добавить, что оптимальный результат анализа не только основывается на приобретении новых структур, непосредственно связанных с ранее вытесненными, а теперь высвобожденными архаичными влечениями-желаниями, но и на том, что ранее изолированный патологический сектор личности устанавливает широкий контакт с окружающими зрелыми секторами, в результате чего усиливаются и обогащаются те позитивные аспекты личности пациента, которые существовали у него еще до анализа.
Здесь я бы добавил, что параллель между развитием физики от теории Ньютона к квантовой теории (Бор, Гейзенберг) и развитием психоанализа от метапсихологии Фрейда к психологии самости не ограничивается тем, что внимание физиков сместилось от исследования больших масс и их взаимодействий к исследованию мельчайших единиц материи, а внимание психоаналитиков сместилось от исследования макроструктур (психических инстанций) и макроотношений с объектами (эдипова комплекса) к исследованию молекулярных единиц психической структуры. Опять-таки опираясь на идеи, сформулированные доктором Д. К. Левином, я также сказал бы, что акцент, который делает современная физика на тождественности материи и энергии, находит свою параллель в акценте, который психология самости делает на образовании структур благодаря микроотношениям с объектами самости. И, наконец, современная физика выдвигает фундаментальное положение, что средства наблюдения и объект наблюдения составляют единое целое, которое в определенных отношениях в принципе неделимо. Это положение имеет свой эквивалент в фундаментальном положении психологии самости, что именно присутствие эмпатического или интроспективного наблюдателя и определяет психологическую область исследования (ср. Kohut, 1959; Habermas, 1971).
Вернемся к вопросу о завершении. Я уже упоминал два разных синдрома в конце анализа — хорошо изученные психологические события, которые, как правило, происходят на завершающей стадии анализа классических неврозов переноса, и пока еще малоизученные психологические события, которые обычно происходят на завершающей стадии анализа нарциссических нарушений личности. Последние из них мы рассмотрим здесь более детально. Эти события выражаются в двух формах в зависимости от того, на чем прежде всего была сфокусирована работа — на первичном структурном дефекте или на восстановлении компенсаторных структур. В первой из этих подгрупп мы сталкиваемся, как я указывал выше, с реконкретизацией нарциссического переноса — возвращением настойчивого требования, чтобы внешний объект самости поддерживал нарциссическое равновесие пациента, — словно весь прогресс, достигнутый при преобразовании объекта самости в психологическую структуру, оказался обманом. Во второй из этих подгрупп, то есть в случаях, которыми я занимаюсь в настоящее время, где основная работа была сфокусирована на функциональном восстановлении компенсаторных структур, мы сталкиваемся, как я покажу на примере случая мистера М., с реэкстернализацией компенсаторных структур и конкретизацией работы структурообразования в этой области в форме явного «отыгрывания». В подобных случаях так же, как и на завершающей стадии анализа, в котором основной акцент делался на первичном структурном дефекте, некоторое время это выглядит так, словно все результаты, достигнутые благодаря процессам переработки, оказались обманом, словно компенсаторные структуры в действительности не стали более сильными. Словом, возникает впечатление, что лишь самые незрелые предшественники процессов переработки и интернализации только теперь едва начали активизироваться. Выражаясь несколько схематично: анализ мистера М. сначала достиг успеха в формировании определенных слоев (материнского) зеркального переноса, связанного с патогенными переживаниями в поздней стадии раннего детства, то есть с переживаниями в возрасте, когда уже возникла речь. Благодаря прогрессу, достигнутому в этом секторе, в ходе анализа удалось активизировать некоторые важные стороны идеализирующего (отцовского) переноса и — в результате процессов переработки в этом секторе — добиться усиления определенных структур, восстановление которых решающим образом повлияло на улучшение психологического состояния мистера М. Изучение трех на первый взгляд не связанных между собой событий, происшедших с пациентом в разное время на поздних стадиях анализа, продемонстрирует значение завершающей стадии анализа мистера М., — по моему мнению, истинной стадии завершения.
С мистером М. произошли три события, связанных с началом завершающей стадии его анализа, которые мы рассмотрим в такой последовательности: (1) пациент купил дорогую новую скрипку, но практически в это же время решил уделять меньше времени игре на этом инструменте; (2) у него установились отношения с подростком, которому он позволил себя идеализировать, и (3) он основал «писательскую школу», в которой представители самых разных профессий учились «подразделять свои идеи на управляемые фрагменты» и преобразовывать их в письменную речь посредством «развития их чувствительности к словесным образам».
Я рассмотрю три эти события в обратном порядке, а не так, как они происходили в период анализа: идея основать писательскую школу возникла у мистера М. поздней осенью года, предшествовавшего завершению анализа; его отношения с мальчиком начались в декабре того же года и достигли кульминации в марте следующего (в год завершения) в особого рода остром переживании на стадионе для игры в бейсбол; и вскоре после этого — в начале апреля — он купил скрипку. Однако порядок окончания трех этих событий более важен, чем порядок, в котором они происходили. Интерес мистера М. к дорогой скрипке оказался совсем недолгим; его отношения с мальчиком продолжались какое-то время в дальнейшем; и, наконец, его стремление создать писательскую школу сохранялось еще дольше, оно интенсифицировало его собственную деятельность как писателя и сделало ее более значимой для него самого. Важность хронологического порядка окончания трек этих событий объясняется тем, что он указывает на развертывание определенной эпигенетической последовательности: покупка и продажа скрипки свидетельствовали об эмоциональном изменении, являвшемся предварительным условием готовности мистера М. общаться с подростком; в свою очередь покупка и продажа скрипки и общение с мальчиком свидетельствовали о серьезном внутреннем изменении, позволившем ему осуществить последний и самый важный шаг к установлению функционирующей самости, — шаг, который был сделан благодаря его деятельности в писательской школе.
Я бы подчеркнул, что такие поступки — я назову их действием-мыслью, — на мой взгляд, не представляют собой «отыгрывание» в обычном смысле. Другими словами, их нельзя рассматривать как сопротивления, как защитные подмены воспоминаний или как инсайт, достигнутый в действии[7]. Они являются последними шагами, сделанными анализандом на пути к установлению психологического равновесия. Правда, действие-мысль является невербальным носителем сообщений, значение которых в конечном счете должно быть интерпретировано пациенту. Но в целом оно состоит из паттернов поведения, творчески инициированных пациентом на основе его действительных талантов, стремлений и идеалов, от которых нельзя было отказываться и которые нужно было продолжать изменять и совершенствовать, чтобы в конце концов обеспечить его надежными постаналитическими средствами поддержания устойчивого психоэкономического равновесия в нарциссическом секторе его личности. Хотя, как я уже отмечал, анализанду необходимо интерпретировать значение таких действий и объяснить их функции, аналитики не должны ожидать, что пациент откажется от них в ответ на инсайт. Если вернуться к упомянутой выше «подходящей метафоре», аналитик не должен ожидать, что они исчезнут из-за правильной интерпретации, словно симптомы психоневроза. Они не являются регрессивными шагами, а представляют собой «не совсем, но почти завершенный» шаг вперед, частичные достижения; от них нельзя и невозможно отказаться, если не считать того, что их можно заменить другими действиями, которые пациент начинает воспринимать как еще более соответствующие его самости, когда все больше проявляет силу своего нарциссизма, следуя долговременным целям[8].
Рассмотрим теперь каждое из этих трех действий, к которым мистер М. обратился перед сеансом, когда он впервые выразил мнение, что приблизился к завершению терапевтической работы.
Покупка мистером М. дорогой скрипки и одновременный отказ от своего доминирующего интереса к игре на этом инструменте были выражением важного шага — отхода от довербальной эмоциональности (музыки), выражением отказа от попытки удовлетворять свой эксгибиционизм через непосредственное обращение к чувствам. Как мы увидим из анализа других его проявлений, он перешел от музыки к вербальному мышлению, от более грубых (для него) форм эксгибиционизма к более сдержанным (для него) с точки зрения цели попыткам связать свое эксгибиционистское возбуждение посредством писательской деятельности. Если использовать интерперсональные термины, пациент обратился от зеркально отражающей матери к идеализированному отцу.
Игра на скрипке, которой мистер М. увлекся в период анализа, была составной частью проработки материнского зеркального переноса из позднего детства. Как я уже отмечал выше, подобно урокам танцев мисс Ф. (Kohut, 1971, р. 287), его игра на скрипке была формой психоаналитической домашней работы, он пытался научиться выражать свои эксгибиционистские стремления реалистическим способом, который вместе с тем приносил ему удовлетворение. Вновь приобретенные структуры пациента позволили ему наслаждаться выражением своих эксгибиционистских стремлений: в фантазиях, сопровождавших его игру, он позволял толпам людей, которых он воспринимал как «материнские», восхищаться его грандиозной самостью, не сдерживая себя страхом того, что он подвергнется уничтожающей фрустрации из-за незаинтересованности матери, и даже не особо тревожась, что станет гипоманиакально гиперстимулированным и в результате произойдет распад его выставляющей себя напоказ самости. Игра на скрипке и сопутствующие фантазии о восхищенно слушающих толпах людей позволили ему справиться с избытком эксгибиционистских потребностей, которые активизировались при переносе, но которые все же не могли быть полностью абсорбированы в рамках психоаналитической ситуации. Игра на скрипке позволила пациенту продолжить аналитическую работу, уменьшив психическое напряжение, возникшее у него вследствие переноса, и она внесла свой позитивный вклад в процесс переработки, создав важные предварительные структуры в секторе творческого использования его нарциссических стремлений.
Его решение не играть на новой дорогой скрипке после того, как он ее купил, явилось, однако, выражением другого важного события, связанного с достигнутой им стадией психологического развития. Он не был особо музыкально одарен; другими словами, использование музыки как средства преобразования и выражения его грандиозности и эксгибиционизма не было предопределено природными или приобретенными в детстве способностями. Это объясняется следующими фактами: (а) шаг от его несформированного архаичного эксгибиционизма к выражению себя через музыку был не столь велик, каким мог бы быть шаг от его несформированного архаичного эксгибиционизма к выражению себя с помощью речи[9]; (б) шаг к связыванию основной части его грандиозно-эксгибиционистских стремлений творческими целями в сфере вербального выражения посредством писательской деятельности — шаг, который в конечном счете действительно задействовал бы его врожденные способности и тем самым создал бы надежное равновесие в нарциссическом сфере, — требовал предварительного укрепления его идеалов как профессионального автора или, возможно, даже как литературного мастера. Другими словами, этот шаг мог быть сделан только после того, как пациент успешно проработал травмы, нанесенные ему идеализированным отцом, поскольку именно имаго отца выступало в качестве организующего идеала творческой деятельности пациента в сфере литературы. Иначе говоря, именно конечный результат анализа мистера М. позволил ему добиться в своей творческой работе взаимодействия трех основных элементов нарциссического сектора его личности и тем самым синтеза его самости. Анализ открыл путь к деятельности, позволившей ему испытывать радость от самореализации. Работа писателя дала ему возможность осуществить грандиозно-эксгибиционистские стремления: продемонстрировать себя своей матери, удовлетворить потребность в слиянии с идеализированным отцом и насладиться использованием истинных талантов, которыми он обладал.
Результат анализа мистера М., по-видимому, можно сформулировать в структурно-динамических терминах и в соответствии с принципом множественных функций (Waelder, 1936) как мирное взаимодействие между Ид (сексуальной любовью к матери) и Супер-Эго (идентификацией с соперником-отцом), осуществляемым Эго (талантами и умениями, необходимыми для реализации определенных функций Эго). Вместе с тем объектно-инстинктивные стремления играли в психологическом нарушении мистера М. и в процессе его лечения в лучшем случае подчиненную роль. В процессе лечения необходимо было прежде всего восстановить и усилить функционирующую самость путем анализа ее двух основных элементов. И не так важно, что это вторично привело к улучшению равновесия в объектно-инстинктивном секторе личности мистера М., который до этого был вынужден работать ради достижения нарциссических целей и не был свободен в преследовании своих собственных. Однако позитивные изменения в этой области не были непосредственным результатом анализа, их нельзя расценивать как результат преобразования нарциссических влечений в объектно-инстинктивные, то есть как смещение целей влечения с самости на объекты. Позитивные изменения в объектно-инстинктивной сфере следует, скорее, рассматривать как дополнительные дивиденды, вторично полученные в результате восстановления самости. Именно более прочная и достаточно катектированная самость, способная получать радость от нарциссического удовлетворения, могла теперь, в дополнение к своей приверженности этим первичным нарциссическим целям, спокойно и без напряжения стать центром и координатором направленной на объекты деятельности, освобождая последнюю от необходимости в защитных целях совершать действия, служащие потребности в повышении самооценки.
Второе событие, которым сопровождалось решение мистера М. закончить анализ, являлось еще одной промежуточной целью в лечебном процессе. На третьем году анализа у мистера М. установились тесные отношения с подростком, которому он позволил себя идеализировать. Хотя эта дружба начала развиваться еще до того, как мистер М. стал обдумывать, следует ли ему закончить анализ, она возникла в соответствующей психологической ситуации и сопровождала процессы переработки (относившиеся к области идеализированного имаго отца), которые были непосредственно связаны с тем, что он впоследствии начал думать о завершении анализа. Мой вывод о том, что интерес мистера М. к четырнадцатилетнему мальчику следует рассматривать в связи с динамикой завершения анализа, основывается прежде всего на исследовании внутреннего психологического содержания, проявившегося в их отношениях. Также и то, что самый необычный эпизод в их отношениях с мальчиком, на котором я вкратце остановлюсь, произошел непосредственно перед тем, как мистер М. впервые выразил свое ощущение, что анализ подошел к завершению, подтверждает гипотезу о причинно-следственной связи между этими двумя событиями. Иначе говоря, отношение к мальчику было внешним проявлением важного внутреннего события (отделения от отца как внешнего объекта самости, интернализации идеализированного родительского имаго), которое позволило пациенту заявить о своем желании прекратить анализ и жить своей жизнью.
Мистер М. подружился с семьей, которую он часто навещал, главным образом потому, что у него возник сильный интерес к младшему сыну. Он был очарован и отношением отца к мальчику, и личностью мальчика, которую он расценивал как результат отношения последнего к своему отцу. Согласно тому, что мистер М. рассказал своему аналитику, отец уважал сына, общался с ним как со взрослым, рассматривал сына как независимого от него, с одной стороны, и вместе с тем чувствовал близость к нему и не отдалялся от него — с другой. Мальчик же, по крайней мере в глазах пациента, был гордым, независимым, уверенным в себе, но при этом тепло и с уважением относился к отцу[10].
Обычно мистер М. общался с мальчиком в кругу его семьи, но он также несколько раз брал его с собой на бейсбол и рок-концерты, играя роль старшего друга, старшего брата или отца. Хотя мальчик открыто восхищался мистером М., а тот осознавал, что очарован сложившимися взаимоотношениями, у мистера М. не возникало каких-либо гомосексуальных чувств. Но однажды во время посещения спортивных соревнований чувства мистера М. к мальчику легко можно было бы превратно истолковать как гомосексуальные, особенно человеку, обучавшемуся психоанализу. Из того, что мистер М. рассказывал о своих чувствах, мыслях и поступках, можно было бы предположить — на основе проекции его собственных чувств, как счел бы традиционно мыслящий аналитик, — что мальчик был в него влюблен. Произошло следующее. Пациент заметил в толпе зрителей на стадионе свою прежнюю подругу, но сначала он решил избежать встречи с ней, боясь обидеть своего юного друга тем, что, заговорив с молодой женщиной, он прервет общение с ним. Однако после некоторых колебаний он в конце концов с ней поздоровался, внимательно и с явной тревогой наблюдая, как будет реагировать мальчик. (Это напоминает то, как мистер М., будучи ребенком, с тревогой следил за выражением лица своей матери.) Поняв, что мальчик ничуть не был обеспокоен, пациент испытал необъяснимую радость. Он знал, что в нем произошло что-то важное, что-то, чего он не мог понять, но хотел выяснить.
Аналитическое исследование действительно привело к удовлетворительному объяснению значения, которое имел для него этот случай. То, что он испытывал к мальчику, не было повторением пассивного эротического отношения к своему отцу, не было повторным отыгрыванием прежней ревности к его новой жене (в реактивированном негативном эдиповом комплексе). Это было выражением зрелого уровня развития — по отношению к мальчику как ведущему актеру и по отношению к себе, игравшему и роль актера вспомогательного состава, и роль зрителя. Это было отображением психологического уровня, которого пациент не мог достичь прежде, уровня, к которому он как раз подошел, уровня, который сначала нужно было осознать ему в объекте самости (от которого можно было бы отказаться — в своего рода близнеце, возможно, фигуре, возникшей из его отношений с братом), прежде чем он мог позволить себе признать, что именно он, а не мальчик фактически сделал теперь этот шаг. (Ср. описание процессов переработки, происходящих на основе близнецового переноса [Kohut, 1971, р. 193–196].) В этом эпизоде с мальчиком он действительно совершил шаг взросления, шаг, который он был неспособен завершить в своей собственной юности. Поэтому его переживания не были связаны с ситуацией треугольника. Мизансцена, которую он устроил, была связана с обретением независимости от идеализированного отца, достижением психологической самостоятельности благодаря преобразующей интернализации функций идеализированного отца. И он испытал глубокое чувство радости (но не чувственное удовольствие!) от сознания им того, что он достиг окончательного укрепления своей самости.
Я хочу здесь добавить, что не использую понятия «радость» и «удовольствие» случайным образом. Радость переживается как некая генерализованная эмоция, например, как эмоция, вызванная успехом, тогда как удовольствие, каким бы сильным оно ни было, относится к ограниченным переживаниям, таким, например, как чувственное удовлетворение. Кроме того, с точки зрения глубинной психологии мы можем сказать, что переживание радости и переживание удовольствия имеют разные генетические источники, что каждая из этих эмоций имеет собственную линию развития и что радость не является сублимированным удовольствием. Радость относится к переживаниям всей самости, тогда как удовольствие относится к переживанию частей и элементов самости (хотя часто бывает так, что и здесь тоже оказывается задействованной вся самость, и тогда к удовольствию примешивается чувство радости). Другими словами, существуют архаичные формы радости, относящиеся к архаичным стадиям развития целой самости, так же, как существуют архаичные стадии в развитии переживания частей и элементов самости. И о сублимированной радости можно говорить точно так же, как и сублимированном удовольствии.
Третьим поступком, который совершил мистер М., было основание им писательской школы. Идея об организации такой школы возникла у него давно; он говорил о ней еще на более ранних этапах анализа. Но то, что теперь он вернулся к ней с удвоенной энергией, было проявлением его намерения всерьез совершить последний из шагов, ведущих к восстановлению его самости. Внутренняя убежденность в том, что он вскоре выполнит эту задачу, была, следовательно, логическим предшественником его появившегося впоследствии чувства, что он готов закончить анализ. То, что идея пришла к нему с ощущением вдохновения (он проснулся с этой идеей однажды ночью, и она возродилась потом, наделенная мощной побуждавшей к действию силой), как мне кажется, можно считать свидетельством того, что он мобилизовал всю свою энергию для решения сложной психологической задачи[11].
Прежде чем перейти к исследованию проблемы, на которую мистер М. ответил возвращением к своему плану основать писательскую школу, рассмотрим вначале более детально его соответствующие реакции. Когда он впервые стал всерьез обдумывать эту идею, он боялся, что его план обречен на неудачу, окажется просто фантазией, что он потеряет к нему интерес и не реализует его. Это беспокойство является важным. Оно выражало его смутно осознаваемый страх, что чего-то в его психологической организации пока еще не хватало, что само по себе понимание не устранит этот дефект, что пустоту нужно еще чем-то заполнить, — или в психоаналитических терминах: что новая структура по-прежнему еще не сформирована. Когда пациенты высказывают опасение, что аналитическая работа окончится неудачей, когда, в частности, несмотря на полностью проработанное понимание всех причин некоторого затруднения (то есть несмотря на полное понимание возможных структурных конфликтов), они чувствуют себя неспособными изменить свое поведение, неспособными проявить конструктивную активность, аналитик должен рассмотреть не только влияние бессознательного чувства вины (негативную терапевтическую реакцию), но и прежде всего наличие устойчивого структурного дефекта — часто в области нераспознанного нарушения самости.
Мистер М. своим поведением в ситуации на стадионе еще раз продемонстрировал, что излечение структурного дефекта почти произошло — фактически оно уже произошло, но еще должно было быть упрочено — в отношениях между отцом и сыном. И он снова взял на себя роль отца. Но это не было идеализированным аспектом фигуры отца, который он предложил сыну. На сей раз он был учителем и, кроме того, частью учреждения (школы), то есть внешней структуры, которая должна была быть интернализирована сыном (студентами, учениками). И, разумеется, определенное значение имело также то, что предмет, который собирался преподавать мистер М. (специфическая структура, интернализации которой он способствовал, предпринимая проект), был связан с использованием языка, слов. Психологическая структура, которую должны были приобрести студенты, позволила бы им преобразовывать бесформенные образы в конкретные выражения. Правильно используемый язык стал бы структурой, которая выполняла бы психоэкономическую функцию «подразделения идей на управляемые фрагменты» в качестве промежуточной станции на пути к достижению окончательной цели школы: помогать студентам становиться писателями. Выражаясь метапсихологическими терминами, школа мистера М. предлагала его alter ego (студентам) сдерживание в отношении цели, отсрочку разрядки, обеспечение вербальными паттернами, преобразующими первично-процессуальное воображение во вторично-процессуальные вербальные содержания. Но он дал им даже больше. Чего мистер М. не сказал аналитику, когда впервые обрисовывал свои планы обучения, а затем описывал свою реальную преподавательскую работу, но о чем аналитик мог сделать однозначный вывод, читая взволнованные сообщения мистера М. о школе, было его воодушевление и энтузиазм в работе со студентами. Основав школу и с увлечением обучая студентов, он демонстрировал, что не только понял, что дефект существовал в важном секторе его собственной психики — стремясь к тому, чтобы студенты приобрели новый навык, — но и что заполнение этой пустоты новой структурой (и функциональное подкрепление этой новой структуры) зависело от наличия вдохновляющего отцовского идеала. Таким образом, ученики символизировали не только мистера М. как ребенка, который, несмотря на свои таланты, оставался косноязычным (умеренное нарушение мышления мистера М.), — они символизировали также М. как подростка, целеобразующие идеалы которого еще не вошли полностью в структуру самости и который по-прежнему нуждался в интернализации идеализированного учителя-отца. Именно благодаря организующему эффекту целеобразующих идеалов в сочетании с его особыми талантами и умениями мистер М. оказался обеспечен тем, что он сам описывал как «постоянный поток энергии», вместо прежних «порывов, которые всегда были дезорганизующими», на что он и жаловался аналитику.
Общая схема функционального восстановления самости посредством психоанализа
Предыдущие клинические данные представлены мною в поддержку моего положения, что анализ можно считать в принципе завершенным, даже если не все структурные дефекты были активизированы, проработаны и компенсированы посредством преобразующей интернализации. Я бы добавил здесь, что действительное завершение анализа нельзя вызвать внешней манипуляцией. Как и перенос, оно предопределено заранее; правильная психоаналитическая техника разве что может позволить его ускорить.
До анализа личность мистера М. характеризовалась следующими важными особенностями: (1) он страдал от дефектов в различных областях его ядерной самости, (2) у него развились защитные структуры, предназначенные для сокрытия дефектов его грандиозной самости и (3) у него сформировались компенсаторные структуры, предназначенные для усиления активности здоровых частей ядерной самости, а также для изоляции и обхода дефектных частей.
Повреждение его ядерной самости было обширным. Оно затронуло все три главных элемента этой структуры, а именно: две полярные области (грандиозно-эксгибиционистскую самость и идеализированные имаго родителей) и промежуточную область — исполнительные функции (таланты, умения), необходимые для реализации паттернов базисных стремлений и базисных идеалов, сформировавшихся в двух полярных областях. Однако повреждение не было ни одинаково тяжелым, ни одинаково распределенным в каждом из этих трех элементов самости. В области грандиозно-эксгибиционистской самости дефект был наиболее серьезным и затрагивал самые глубокие слои; в области идеализированных имаго родителей повреждение было не столь тяжелым и затрагивало только поверхностные слои; в области талантов и умений, необходимых для выражения самостью своих паттернов, повреждение, по всей видимости, было незначительным и ограниченным. Выражаясь более вольно, мы могли бы сказать, что до анализа личность мистера М. характеризовалась серьезным нарушением самооценки, умеренным нарушением его руководящих идеалов и незначительным, ограниченным изъяном его идеационных процессов.
Защитные структуры мистера М., несомненно, возникшие в раннем детстве, по всей видимости, представляли собой прочно укоренившуюся часть его личности. Эти структуры (а также их идеационные и поведенческие проявления) не были рассмотрены в деталях; они не являлись главным объектом нашего внимания, поскольку не были особо вовлечены в контекст психологических событий, связанных с желанием пациента закончить анализ, и эти защиты не были существенно интенсифицированы в период завершения, что в целом можно считать хорошим прогностическим признаком. Правда, они отчетливо проявились в начале лечения и были реактивированы в процессе переработки, когда некоторые аспекты первичного дефекта самости оказались вовлечены в перенос. Однако они отступили на задний план и, наконец, почти совсем исчезли из виду, когда перенос сместился от зеркально отражающей матери к идеализированному отцу, когда процессы переработки были сфокусированы уже не на эксгибиционистских потребностях и их фрустрации, а на интернализации идеалов и восстановлении компенсаторных структур.
Между низкой самооценкой мистера М. как следствием недостаточной эмпатии к нему его матери и появлением садистских фантазий в отношении женщин существовала генетическая и динамическая взаимосвязь. Хотя эти фантазии иногда проявлялись непосредственно при переносе, они вскоре отступили на задний план, когда в центре внимания в процессе анализа оказались отцовские идеалы, и уже не реактивировались на стадии завершения.
Почему защитные структуры играли сравнительно маловажную роль в личности мистера М. и почему с ними можно было достаточно легко справиться, когда был проработан первоначальный зеркальный перенос? И почему наиболее явные защитные конфигурации — садизм мистера М. в отношении женщин — выражались в основном через фантазии, а не в поведении? Чтобы ответить на эти конкретные вопросы, необходимо исследовать с ними связанную общую проблему: почему у одних людей происходит отыгрывание, тогда как у других возникают эндопсихические изменения? В области нашего главного интереса необходимо обсудить различие между нарциссическими нарушениями личности и нарциссическими нарушениями поведения. Эта проблема — включая ответ на конкретный вопрос, почему нарушение мистера М. относилось скорее к первой, чем ко второй категории, — будет рассмотрена позже. Здесь я только отмечу, что, несмотря на все недостатки, отношения мистера М. с отцом (и, следовательно, компенсаторные структуры его личности, возникшие из матрицы этих отношений) были, по крайней мере частично, удовлетворительными с точки зрения обеспечения его нарциссической поддержкой. Во всяком случае можно сказать, что отношения с идеализированным отцом, по-видимому, давали ему надежду, что он все же сумеет найти надежные способы получения нарциссического удовлетворения, даже если нельзя было рассчитывать на то, что имаго матери будет отвечать подкрепляющей самость радостью на его нарциссические проявления.
Хотя излечение нарциссического нарушения личности мистера М. не было вызвано исключительно (или в первую очередь) устранением первичного структурного дефекта его самости (после анализа защитных структур), на ранних этапах анализа аналитическая работа прежде всего была сосредоточена на этом секторе личности пациента. И на данной стадии мистер М. начал понимать, например, что его садистские фантазии служили защитным целям. Он стал осознавать, что они не были выражением автономных инстинктивных стремлений, а возникали как реакция на нарциссические травмы, от которых он пострадал, что они проявились при переносе в ответ на некоторые действия аналитика (например, на его несвоевременные или неточные интерпретации), которые он воспринимал как неэмпатические. С одной стороны, садистские фантазии были выражением его нарциссического гнева, с другой — они защищали его от болезненного осознания депрессии и низкой самооценки. Поэтому в области первичного дефекта мистера М. были достигнуты некоторые аналитические результаты: процессы переработки на этой стадии анализа (первичного зеркального переноса) привели к интернализации, то есть к обретению несколько более прочной самооценки и к самопринятию. Однако исследование этого сектора личности мистера М. было далеко от завершения — более глубокие слои его дефектной (депрессивной, апатичной, «омертвелой») самости (той самости, которая сформировалась у него, когда он находился в приюте) никогда не были полностью проявлены при переносе. Я думаю, что правомерно будет сделать следующий вывод: аналитической работой, проделанной в этом секторе, нельзя объяснить значительное улучшение психологического состояния, в конечном счете достигнутого мистером М. в процессе анализа, и согласие аналитика с желанием пациента закончить лечение в этом случае оправданно. Другими словами, результаты, достигнутые в области защитных структур мистера М. и первичного дефекта его самости не могли привести к осознанию им того, что состояние более или менее надежного внутреннего равновесия было не за горами — к осознанию, на котором, собственно, и основывалось его желание закончить лечение. Неправильность решения закончить лечение в этих условиях стала бы очевидной, потому что защитные действия — садистские фантазии о женщинах — возродились бы с новой силой, как только пациент понял бы, что конец анализа близок и что нужно было бы отказаться от трансферентных отношений (от зеркального переноса).
Здесь можно добавить: тот факт, что в случае мистера М. решающие позитивные изменения произошли в области компенсаторных структур, а не в области грандиозно-эксгибиционистской самости, подтверждает принцип, согласно которому надлежащее завершение анализа может быть достигнуто таким образом. Нет надобности говорить, что во многих других случаях решающие позитивные изменения касаются дефектов в источнике самовыражения — в ядерной грандиозно-эксгибиционистской самости.
Однако в случае мистера М. анализ привел к исключению дефектных глубинных слоев личности из организации грандиозно-эксгибиционистской самости, и это позволило стремлениям усилившихся и расширившихся теперь здоровых слоев грандиозно-эксгибиционистской самости выразиться посредством творчески продуманных действий. Такие действия могли быть теперь эффективными, потому что благодаря анализу была сформирована более надежно функционирующая структура идеализированных целей, служивших в качестве организаторов архаичных амбиций возрожденной грандиозной самости. Анализ привел также к усилению и к усовершенствованию уже существовавшего исполнительного аппарата. Давление эксгибиционизма и амбиций, с одной стороны, и руководящих идеалов совершенствования — с другой, теперь, можно надеяться, будет использоваться существовавшими прежде талантами и соответствующими частично развитыми умениями для достижения долговременных реалистических целей и, таким образом, приведет в движение и будет поддерживать продолжающийся процесс функционального совершенствования умений и навыков.
Переводя это резюме в общее утверждение, мы можем сказать, что момент завершения психоаналитического лечения пациента с нарциссическим нарушением личности определяется внутренними причинами (устранением нарушения), когда в процессе анализа удается восстановить один из секторов в сфере самости, в результате чего непрерывный поток нарциссических стремлений имеет возможность найти выражение в творчестве, каким бы ограниченным ни было социальное воздействие достижений данного человека и какой бы незначительной ни казалась другим его творческая активность. Такой сектор всегда включает в себя центральный паттерн эксгибиционизма и грандиозных амбиций, совокупность твердо усвоенных идеалов совершенствования и с ними связанную систему талантов и умений, которые служат посредниками между эксгибиционизмом, амбициями и грандиозностью, с одной стороны, и идеалами совершенствования — с другой. Возвращаясь к нашему клиническому примеру и приводя самую простую формулировку психологического здоровья в сфере нарциссизма, мы могли бы сказать, что подлинная стадия завершения была достигнута тогда, когда мистер М. отказался от бесплодной попытки усилить свою отверженную и ослабленную самость с помощью фантазий о вынуждаемом садистским путем восхищении и обратился к успешной попытке обеспечить здоровый сектор своей самости паттернами творческого выражения.
Другие клинические иллюстрации
Завершая свое обсуждение генетически-динамических констелляций, выявившихся при анализе мистера М. в связи с его решением закончить лечение, я приближаюсь к концу первой части данной работы, в которой я попытался продемонстрировать особое значение компенсаторных структур личности и, таким образом, дать конкретное клиническое обоснование более абстрактным общим рассуждениям в последующих главах. Позвольте мне подвести черту под этим разделом, коротко описав двух других пациентов, у которых психодинамические механизмы нарушений напоминают таковые у мистера М.
В первом случае речь идет об анализе мистера У., одинокого мужчины в возрасте пятидесяти с небольшим лет, весьма одаренного, но фактически неудачливого адъюнкт-профессора математики в небольшом колледже. Главный симптом пациента, фетишистская перверсия, не был устранен, несмотря на все усилия предыдущих аналитиков, которые, согласно анализанду, сосредоточили свое внимание на его эдиповых страхах и в соответствии с классической формулировкой (Freud, 1940, р. 277), по-видимому, интерпретировали значение фетиша как обусловленное страхом кастрации отрицание (расщепление Эго) того, что женщина (мать) не обладает пенисом (Freud, 1927а, р. 156–157). Однако в ходе его анализа, проведенного мной, ассоциативный материал, связанный с фетишем и его значением, выстроился иначе. Интерес пациента к фетишу возник как реакция на первичный структурный дефект в его грандиозной самости, обусловленный изъяном зеркального отражения со стороны его удивительно неэмпатической, непредсказуемой, эмоционально поверхностной матери. Как удалось реконструировать при переносе и в результате исследования последующего поведения его матери (по отношению к внукам, детям младшего брата пациента), она подвергала необычайно сильным и внезапным колебаниям ядерную самооценку пациента. В самых разных ситуациях она, казалось, была полностью поглощена ребенком — потакала ему во всем, реагировала на все нюансы его потребностей и желаний, — но затем совершенно неожиданно отстранялась от него либо целиком обращаясь к другим интересам, либо в грубой и даже в гротескной манере отвергая его потребности и желания.
В ответ на травмирующую непредсказуемость матери он замыкался и успокаивал себя прикосновением к предметам из определенной ткани (таким, как нейлоновые чулки, нейлоновое нижнее белье), которые не составляло труда найти в доме. Они были надежными и представляли собой дистиллят материнской доброты и отзывчивости. Материал, проявившийся при переносе, указывал также на наличие ранних (дофетишистских) замен ненадежного объекта самости: пациент имел обыкновение одновременно прикасаться к определенным мягким предметам, замещавшим объект самости (шелковистой кайме одеяла), и поглаживать собственную кожу (мочку уха) и волосы, таким образом создавая психологическую ситуацию слияния с нечеловеческим объектом самости, который он полностью контролировал, и тем самым лишал себя возможности переживать структурообразующие оптимальные фрустрации со стороны человеческого объекта самости.
Однако основная работа в процессе анализа не была связана с заменой материнского объекта самости, фетиша — она касалась идеализированного имаго, отца. Уже в раннем детстве пациент пытался обеспечить нарциссический баланс, отказавшись от попытки получить подкрепление своей самости через ненадежную эмпатию его матери и попытавшись слиться со своим идеализированным отцом, который (подобно отцу мистера М.) обладал великолепными способностями к счету (он был также прекрасным шахматистом) и интересовался абстрактной логикой. Однако отец мистера У., как и отец мистера М., не мог должным образом ответить на потребности своего сына. Он был замкнутым в себе, самодовольным человеком и отверг попытку сына с ним сблизиться, лишив его необходимого слияния с идеализированным объектом самости и, следовательно, возможности постепенного осознания недостатков объекта самости. Поэтому пациент остался фиксированным на двух типах ответов на идеалы — ответов, которые он снова и снова повторял как часть вторичного идеализирующего переноса, действительно существовавшего на протяжении основной части анализа. Он либо чувствовал себя подавленным и угнетенным по отношению к недостижимому идеалу, либо считал, что этот идеал никудышный и что он — в грандиозном высокомерии — значительно его превосходит. Эти колебания самооценки мистера У. были результатом того, что он не достиг постепенной и, таким образом, надежной интернализации идеализированного родительского имаго. Неспособность ребенка сформировать надежные идеалы, которые регулировали бы его самооценку, привела к тому, что усилилась его фиксация на фетише матери. Однако сам по себе перенос в течение довольно долгого времени так и не привел к восстановлению раннего интереса к успокаивающим объектам самости; поэтому полная проработка структурных дефектов самости, возникших в результате лишений со стороны матери, не была осуществлена. И тем не менее у пациента произошло важное позитивное изменение: он потерял интерес к фетишу, и после разочарований в реакциях на него со стороны идеализированного отца, которые прорабатывались в течение многих лет, он оказался способен полностью (и успешней, чем прежде) посвятить себя своей работе, которая обеспечивала его теперь надежно организованной структурой для переживания радости самовыражения. Здесь я должен добавить, что интерес мистера У. к фетишу не был устранен благодаря инсайту — просто фетиш стал менее важным. Это изменение произошло не только в результате того, что улучшилась его способность повышать самооценку благодаря ответам эмпатических женщин, но и прежде всего потому, что усилились его интернализированные идеалы, и поэтому он мог получать больше радости от творческого самовыражения в своей профессиональной деятельности.
Выражаясь в поведенческих терминах, фетишистская озабоченность мистера У. к моменту завершения анализа стала играть гораздо менее важную роль в его жизни, — фетиш, как выразился пациент, потерял свое волшебство, но не исчез полностью. Разумеется, я не могу этого доказать, но я полагаю, что анализ был бы намного успешнее, если бы пациенту еще не было пятидесяти лет, когда я приступил к его терапии[12].
Вторая клиническая иллюстрация, демонстрирующая важность восстановления компенсаторных структур в процессе терапии, касается анализа мисс В., сорокадвухлетней одинокой женщины, талантливой, но не добившейся успеха художницы, которая обратилась за помощью к аналитику из-за периодически повторяющихся эпизодов довольно серьезной, но непсихотической опустошающей депрессии. Лечение мисс В. завершилось более десяти лет назад, когда я только начал понимать, что у пациентов с нарциссическими нарушениями личности развивается множество особых, типичных для них переносов и, следовательно, они доступны анализу. В последние годы, накопив значительный клинический опыт в этой области, я анализировал двух других пациенток, личностная организация которых мало чем отличалась от организации мисс В., также страдавших от периодически повторявшейся непсихотической опустошающей депрессии, то есть депрессии, при которой чувства вины и/или самообвинения не играли существенной роли. Генезис нарушения у этих двух пациенток также был более или менее сходным. Однако в отношении генетических факторов я не могу говорить с абсолютной уверенностью, потому что в ходе лечения мы не достигли достаточно глубоких слоев, чтобы иметь возможность надежно реконструировать соответствующие констелляции в детстве.
Первичный дефект в структуре личности мисс В., динамически связанный с периодами длительного ослабления ее самости, когда она была апатичной, вялой, ощущала себя безжизненной, в генетическом отношении был обусловлен взаимодействием с матерью в детстве. Ее мать, как и пациентка, была склонной к депрессии, эмоционально поверхностной и непредсказуемой; помимо периодически возникавшего эмоционального нарушения, от которого она страдала на протяжении всей своей жизни, налицо были и шизоидные черты, проявившиеся, когда пациентка еще была ребенком. Она была склонна к неуместным поступкам, которые удивляли и раздражали окружающих и, несомненно, были проявлением умеренного «нарушения мыслительной и интеллектуальной сферы при сохранении ясного сознания» (Bleuler, 1911). Мать пациентки, когда мисс В. проходила анализ, была жива; они часто общались, и поэтому имелась возможность оценить личность матери, которая, по всей видимости, страдала пограничной шизофренией[13].
Какой бы точной ни была диагностическая категория, под которую подпадает нарушение матери, очевидно, что в раннем детстве пациентка подверглась травмирующим разочарованиям с ее стороны, поскольку зеркальные ответы ее чаще всего были не только недостаточными (поверхностными или отсутствовали вообще), но и дефектными (причудливыми и капризными) из-за того, что они были обусловлены неправильным восприятием матерью нужд ребенка или потребностями самой матери, которые для девочки были непонятны.
Впрочем, слово «непонятные» охватывает только часть патогенного влияния материнских требований. Хотя, когда мисс В. была подавлена, ее не угнетали чувства вины, которые имели бы конкретное, вербализируемое содержание; депрессия, возникавшая при переносе, позволила реконструировать, что в раннем детстве она, по-видимому, воспринимала весь мир как предъявляющий к ней требования, которые она не могла выполнить. Если бы я давал ей интерпретацию сегодня, я бы сказал, что положительные зеркальные ответы со стороны окружающих людей были бы получены ею только в случае, если бы она смогла сначала избавить от депрессии свою мать. То есть ее депрессия была отчасти выражением глубоко переживаемого ею чувства неспособности исполнять требования своей подавленной матери. Или, если рассмотреть это с несколько иной позиции, она была убеждена, что материнский объект самости не примет ее и тем самым не повысит ее самооценку, если маленький ребенок не удовлетворит сначала аналогичные потребности матери.
Таким образом, тенденция к периодическому ослаблению самости возникла у мисс В. в раннем детстве в патогенной матрице ее отношения к зеркально отражающей матери. Однако мисс В. была энергичным и одаренным ребенком, который не сдался в борьбе за эмоциональное выживание. Пытаясь освободиться от патогенных отношений с матерью, она сильно привязалась к отцу, преуспевающему бизнесмену с фрустрированными художественными талантами и амбициями, который в целом отвечал на потребности своей дочери. Таким образом, ее отношения с отцом стали матрицей, на основе которой у нее развились интересы и дарования (в терминах клинической теории — компенсаторные структуры), которые в конечном счете и позволили ей сделать карьеру. Из этой матрицы также произрастали идеализированные цели, стимулировавшие творческий потенциал ее самости. Другими словами, ее отношение к идеализированному отцу обеспечило ее основой интернализированной структуры — отцовским идеалом, который был потенциальным источником поддержания ее самости. Создавая произведения искусства, она не пыталась проживать эдиповы фантазии (родить ребенка отцу), как я думал вначале, а недостаток ее продуктивности, соответственно, не был обусловлен чувством вины (из-за инцестуозных желаний). Ее художественная деятельность представляла собой попытку соответствовать отцовскому идеалу совершенства; и то, что она потерпела неудачу в этих своих стараниях, не было обусловлено какими-либо парализующими структурными конфликтами; это произошло потому, что ее идеалы были недостаточно интернализированы и консолидированы. Поэтому перенос реактивировал не эдипову психопатологию, а нарушение самости. Кроме того, на протяжении наиболее важных стадий анализа проработка была направлена не на первичный структурный дефект ее самости (психопатологию, связанную с искаженными эмпатическими реакциями матери на ребенка), как это можно было бы ожидать, а (при возникновении вторичного идеализирующего переноса) на недостаточность компенсаторных структур (психопатологию, вызванную фрустрацией со стороны отца). Следовательно, частичный успех анализа — ее депрессивные реакции не исчезли совсем, но они стали менее выраженными и гораздо менее продолжительными — был связан не с устранением первичного дефекта самости, а, как я теперь понимаю ретроспективно, с восстановлением компенсаторных структур. В частности, важнейшие реактивированные эмоции при переносе касались событий в детстве, когда отец сам, по-видимому, был настолько фрустрирован эмоциональной отчужденностью жены и недостатком у нее эмпатии, что также, наверное, на некоторое время становился подавленным и, следовательно, эмоционально недоступным для своей дочери. Я не уверен, находился ли иногда он в угнетенном состоянии, когда пациентка была ребенком; однако на основе реакций пациентки при переносе нам удалось реконструировать, что он часто отдалялся от семьи — уходил из дома (сбегал от матери пациентки на работу или играл в гольф с друзьями). Вместе с тем его дочь нуждалась в нем больше всего, когда мать была подавлена, и дочь ожидала, что ее идеализированный отец, которым она восхищалась, будет защитой от апатии, исходившей от матери и угрожавшей поглотить личность ребенка.
Глава 2 Нужна ли психоанализу психология самости?
О научной объективности
В предыдущей главе я представил клинический материал в подтверждение тезиса, что мы можем рассматривать анализ как завершенный, если благодаря достижению успеха в области компенсаторных структур возникла функционирующая самость — психологический сектор, в котором стремления, умения и идеалы создают непрерывный континуум, позволяющий наслаждаться творческой деятельностью. Определение психоаналитической терапии, вытекающее из предыдущего утверждения, необходимо теперь оценить с учетом определений, которые принимались психоаналитиками традиционно.
Прежде чем перейти к деталям, позвольте мне подчеркнуть, что я делаю здесь акцент на следующем принципе: я не занимаюсь проблемами, связанными с такими понятиями, как аналитическая мудрость, разумная целесообразность и т. п., хотя я целиком признаю их клиническую релевантность, — и что я, наверное, избежал бы многих трудностей, если бы обратился в первую очередь к ним, поскольку ни один аналитик не будет нереалистично претендовать на то, что он когда-либо полностью проанализировал человека во всех секторах его личности или что он вообще должен пытаться достичь такого совершенства. Я занимаюсь здесь проблемой, возникающей по причине того, что я говорю о правомерном завершении анализа, который — в терминах структурной теории — не имел отношения ко всем слоям патологии анализанда и который — в терминах когнитивной теории — не вел к устранению всех детских амнезий, к расширению знания о всех событиях детства, генетически и динамически связанных с психопатологией пациента.
Фрейд, разумеется, был убежден, что психоанализ оказывает благотворное воздействие на анализанда, что он приводит в действие процесс, энергию которого необходимо поддерживать, и что его следует продвигать, насколько это возможно. Но хотя он и представил нам в общих чертах суть этого процесса, который, говоря кратко, можно определить либо в терминах когнитивной теории как осознание бессознательного, либо в терминах структурной теории как расширение сферы влияния Эго, он никогда не говорил — по крайней мере с научной серьезностью, то есть в теоретических терминах, — о своей убежденности в благотворном воздействии анализа в форме утверждения, что психоанализ излечивает психологические болезни, что он восстанавливает психическое здоровье. Ценность здоровья не являлась для Фрейда главной. Он верил в желательность максимально возможного знания: он был — благодаря совпадению и взаимному подкреплению господствовавшего мировоззрения того времени и некоторых его личных предпочтений (без сомнения, обусловленных его ранними детскими переживаниями), которые преобразовали это научное мировоззрение в его личный категорический императив, в его личную религию — беззаветно предан задаче познания истины, соприкосновения с истиной, ясного видения реальности.
Одна из самых расхожих историй о жизни Фрейда касается этого глубоко укорененного аспекта его личности. Узнав, что у врача были сомнения, стоит ли ему говорить, что у него злокачественная опухоль, он испытал сильнейшее раздражение. «По какому праву кто-то должен скрывать от меня это знание?» — спросил он, игнорируя возможность того, что краткий миг сомнений, надо ли ему говорить зловещую правду, объясняется добротой и заботой, а не покровительственным высокомерием (см. Jones, 1957, р. 93).
Сочинения Фрейда (1927b; 1933, гл. 25) дают множество доказательств того, что высшей ценностью для него была ценность мужественного реализма, безбоязненного столкновения с правдой. Разумеется, его гнев просто из-за того, что кто-то посмел даже подумать о том, чтобы утаить от него важную правду, можно интерпретировать разными способами. Я полагаю, что многие аналитически обученные наблюдатели склонны подозревать, что гнев, который он проявил, был всего лишь заменой гнева, который он испытывал из-за того, что страдал злокачественной опухолью и ему угрожала смерть, то есть что он мог теперь выразить этот гнев, поскольку мог оправдать его как реакцию на возможность того, что кто-то хотел скрыть от него истину. Я бы предложил другое объяснение. Я полагаю, что ядро самости Фрейда было скорее связано с функцией восприятия, мышления и понимания, чем с физическим выживанием, и что для его ядерной самости большую опасность представляло сокрытие от него знания, чем угроза физического разрушения.
Приверженность Фрейда истине восхищает и, если рассматривать ее обособленно, бесспорна. Кроме того, благодаря идентификации с ним она стала главной ценностью аналитиков. Однако влияние, оказываемое на теорию и терапевтические представления в психоанализе приматом ценностей, связанных с расширением знания, вынуждает нас, несмотря на все наше внутреннее сопротивление, перепроверить это, подвергнуть сомнению его власть над нашим мышлением, потому что он становится ограничивающим фактором, когда мы пытаемся постичь формы психопатологии и методы терапии, которые нельзя понять, если рассматривать их с классической точки зрения.
Какой бы привлекательной — и потенциально ценной при надлежащей проработке, sine ira et studio[14] — ни была эта задача, я оставляю в стороне исследование личного фактора, в частности поиск каких-либо генетических данных, которые объяснили бы, почему стремление Фрейда знать полную правду, какой бы болезненной она ни была, стало столь яркой особенностью его личности. Вместо этого я сосредоточусь на оценке позиции Фрейда как представителя науки XIX века, в частности на влиянии его «Научного мировоззрения» (1933) на форму, содержание и область приложения его теорий.
Показателен в этом смысле ответ, который Фрейд дал на высказывание Людвига Бинсвангера, будто его (Фрейда) личность характеризовало огромное стремление к власти: «Я не решаюсь спорить с Вами по поводу стремления к власти, но я его не осознаю. Я долго подозревал, что бессознательными являются не только вытесненные содержания психики, но и само внутреннее ядро нашего Я [das Ich, ego], хотя оно и может осознаваться. Я вывожу это из того, что сознание является прежде всего лишь сенсорным органом, направленным на внешний мир, то есть оно всегда прилагается к части Я [в современной терминологии: самости], которая саму себя не осознает» (Binswanger, 1957, р. 44).
Я рассматриваю это утверждение — утверждение человека, исследовавшего свою собственную внутреннюю жизнь, включая контрпереносы, которые могут затемнять или искажать видение психолога-наблюдателя, более широко и глубоко, чем это делал кто-либо до него, — как самое точное выражение базисной установки ученого его времени. Это — утверждение человека Ренессанса, эпохи Просвещения, науки XIX века. Это — утверждение человека, ставившего превыше всего мышление. Это — утверждение проницательного эмпирического наблюдателя, психические процессы которого служили его гордому реализму. Это — утверждение, которое находится в полной гармонии с базисной позицией классического ученого XIX века, проводившего четкое разграничение между наблюдателем и наблюдаемым, или, если выразить мою мысль более кратко, оно является выражением в теоретических терминах идеала научной объективности.
Если подходить с этих позиций, то Фрейд сделал решающий шаг, который мог быть сделан «объективной» наукой: он исследовал внутреннюю жизнь человека, включая — прежде всего — свою собственную. Но — и в этом заключена основная проблема — он рассматривал внутреннюю жизнь человека с объективностью внешнего наблюдателя, то есть с точки зрения, которую ученый его времени выработал в отношении внешней среды человека — в биологических науках и прежде всего в физике.
Принятие этой базисной позиции оказало глубокое влияние на формирование теоретической системы психоанализа. Подобно тому как великие физики и биологи его времени наблюдали физическую и биологическую сферу, суммируя и обобщая свои наблюдения, и формулировали взаимосвязь данных в терминах взаимодействия механических и химических сил, Фрейд, разработав теорию психического аппарата, черпающего энергию из влечений (то есть из сил, стремящихся к выражению, которому препятствуют встречные силы, и конфликтующих между собой) создал прекрасную объяснительную систему психоаналитической метапсихологии. Это было и по-прежнему является объяснительной моделью, которая охватывает разного рода уточнения и изменения (от топографической теории до структурной; от теории либидо до Эго-психологии). И эта модель особенно пригодна для объяснения определенных явлений, которые особенно часто представали перед наблюдателем на рубеже веков — для объяснения структурных неврозов и прежде всего истерии.
Однако какими бы верными ни оставались теоретические концептуализации Фрейда в отношении структурных неврозов и других аналогичных психологических явлений, они, как мы попытаемся показать в данной работе, недостаточно релевантны в отношении нарушений самости и других психологических явлений, которые принадлежат к области психологии самости — явлений, для изучения и объяснения которых требуется более фундаментальная научная объективность, чем объективность ученого XIX века, — объективность, которая включает в себя интроспективно-эмпатическое наблюдение и теоретическое осмысление роли самости.
Хотя я вижу, что современная физика тоже перешла от наблюдения мира в терминах больших масс и их взаимодействия к наблюдению частиц и от строгого разграничения наблюдателя и наблюдаемого к позиции, при которой наблюдатель и наблюдаемое рассматриваются как единство, в некоторых аспектах являющееся в принципе неделимым, я слишком мало знаю современную физику, чтобы позволить себе опираться на эту аналогию. Но я считаю, что смогу привести достаточно доказательств из психологической области, и приступлю к осуществлению моей задачи с того, что попытаюсь дать новую оценку концепции и теории влечений, чтобы подтвердить релевантность психологии самости.
Теория влечений и психология самости
Я начну со сравнения моего подхода с подходом Франца Александера, который, пожалуй, более четко и определенно, чем любой другой из современных аналитиков, опирался на классическую теорию влечений. Он рассматривал человеческую психику как область, в которой ведется борьба между мощными разнонаправленными силами (см., например, его векторную теорию [Alexander, 1935]), и он объяснял психопатологию как следствие конфликтов, связанных с влечениями и их требованиями. Во всех этих контекстах его особенно интересовали трансформации орального влечения, и он делал акцент на том (см. его статью 1956 года), что диадические доэдиповы установки при переносе, особенно оральное цепляние анализанда за аналитика, во многих случаях представляли собой регрессивные защитные маневры пациента с целью избежать столкновения с эмоциональными проблемами и тревогами, связанными с основным — триадическим эдиповым — переносом. В качестве теоретической гипотезы позитивный аспект утверждения Александера является неопровержимым — в его формулировке отмечается значение регрессивной оральности подобно тому, как в классической формулировке (см. Freud, 1909, р. 155; 1913а, р. 317; 1917b, p. 343–344; 1926, р. 113–116) утверждается значение регрессивной анальности в случае невроза навязчивых состояний. Однако клинический акцент Александера был ошибочным, поскольку его трактовка многочисленных явлений, которые он пытался объяснять в концептуальных рамках психологии влечений и структурной модели психики, была неудовлетворительной. Большинство случаев орального цепляния, которое Александер отвергал как инфантильную установку, предсознательно или сознательно принятую пациентом, чтобы избежать столкновения с эдиповым соперником из. — за страха перед местью с его стороны, на самом деле нельзя адекватно описать в концептуальных рамках структурной модели психики и в терминах психологии влечений. В большинстве случаев (разумеется, речь идет о случаях, которые я рассматриваю как нарциссические нарушения личности) это поведение является не манифестацией установки симулируемого инфантилизма, а выражением потребностей архаичного состояния; оно становится понятным, если в концептуальных рамках психологии самости рассматривать его как проявление архаичного нарциссизма, в частности как выражение переноса нарциссических потребностей. Даже там, где Александер признает, что сильная привязанность пациента к аналитику, возможно, не является исходно защитной, он объясняет ее как фиксацию влечения на оральных целях и задержку развития Эго, явно или косвенно выдвигая при этом требование к пациенту, чтобы эти цели влечения как можно быстрее были подавлены и оставлены, и побуждая пациента к развитию.
Попытку объяснить проявления переноса, активизированные при анализе нарциссических нарушений личности, с помощью психологии влечений и в концептуальных рамках структурной модели психических защит, противостоящих влечениям, Эго, противостоящего Ид, созревания влечений, противостоящего регрессии влечений (или фиксации влечений), развития Эго, противостоящего регрессии Эго (или задержке развития), можно сравнить с попыткой объяснения — если обратиться к сфере эстетики — красоты или уродства картины, исследовав типы и распределение красок, использованных художником, или — если обратиться к области литературной критики — с попыткой объяснения успеха или неудачи романа, определив словарь или структуру фраз, использованную автором. Безусловно, возможны случаи, когда подобная экспертиза приведет нас к важным открытиям; однако искушенный художественный критик скорее будет фокусироваться на более сложных аспектах произведения искусства, а не на простых элементах, которые я упомянул.
Для знакомого с медициной читателя подход к нарушениям самости с помощью классической метапсихологии, возможно, покажется более убедительным в сравнении с попыткой объяснить сложности физиологии человека в норме и патологии в рамках неорганической химии. Безусловно, встречаются редкие случаи (например, гипотиреоз вследствие дефицита йода), этиологию и лечение которых можно сформулировать в терминах неорганической химии, но даже в этих условиях подобный подход не отвечает сложности биохимического нарушения. Эти же аргументы можно также использовать и в исключительных случаях нарушений самости. Хотя я считаю, что психопатология диффузных нарушений у «орально зависимых» личностей в подавляющем большинстве случаев не укладывается в формулировку Александера эдиповых страхов и оральной защиты (даже в том случае, если мы усовершенствуем эту формулировку, снабдив ее концептуальным оружием самых последних достижений современной Эго-психологии) и что только применение психологии самости даст нам удовлетворительную концептуальную модель, вполне возможны исключительные случаи подобного рода, которые могут быть адекватно осмыслены в этих классических терминах. Другими словами, бывают случаи, когда терапевтическое воздействие является действительно правильным и успешным в точке эдипова комплекса и в результате которых остатки психопатологии, какими бы широко распространенными они ни были, будут устранены благодаря разрешению ядерного конфликта, на котором было сфокусировано лечение. Кроме того, возможно, существуют и другие случаи, когда первичное нарушение самости устраняется в ходе анализа, даже если концептуальная система аналитика не была адекватной, — другими словами, даже тогда, когда самость и ее патология остались вне поля зрения, а соответствующие структурообразующие процессы переработки не были специально задействованы. Я полагаю, что в таких случаях улучшение состояния пациента вызывается реакциями со стороны аналитика, которые он рассматривает как второстепенные и которые он считает, возможно, важными лишь в тактическом отношении, а в теоретическом отношении — несущественным сопровождением важных интерпретаций, которым он и приписывает успех терапии. Другими словами, я полагаю, что соответствующие реакции на первичную патологию самости давались в прошлом, иногда с неохотой и даже с чувством вины, многими интуитивными аналитиками — причем с хорошими результатами. Хотя аналитик расценивал эти аналитические действия как проявление аналитического «такта» или оправдывал их тем, что они поддерживали терапевтический рабочий альянс, однако восстановление самости он объяснял как результат интерпретаций, относившихся к структурным конфликтам анализанда.
Но чтобы вернуться к интерпретации Александером орально зависимой личности в соответствии с учением Фрейда о комплементарности отношений между регрессией и фиксацией влечений (Alexander 1917b, p. 340–341), мы должны теперь рассмотреть случаи, где, согласно представлениям Александера, адекватным объяснением серьезного нарушения у пациента прежде всего считается фиксация влечения, а не избегание тревоги, вызванной эдиповым комплексом. Чисто теоретически нельзя отвергать возможность того, что такие случаи действительно могут встречаться, то есть, другими словами, что бывают исключительные случаи, когда нарушение самости можно устранить в рамках аналитического подхода, при котором предполагается, что психопатология есть проявление (1) фиксации влечения на оральных точках и (2) соответствующей задержки развития Эго вследствие инфантильного удовлетворения, к которому привыкло ориентированное на удовольствие незрелое Эго анализанда. Но хотя я считаю, что бывают редкие случаи, когда излечения первичной патологии самости эмпатический аналитик может достичь в ходе анализа, проведенного в аспекте инфантилизма Эго из-за регрессии, обусловленной страхом кастрации, я не могу представить себе, что аналитически эффективного излечения первичного нарушения самости может достичь — даже случайно — аналитик, который работает с пациентом, основываясь на убеждении, что пациент остался фиксированным на оральном влечении. Такие случаи, я убежден, не встречаются в нашей работе[15], а аналитик, формулирующий патологию самости пациента в этих терминах, будет восприниматься анализандом как полностью лишенный эмпатии, и в лучшем случае он добьется воспитательного эффекта, то есть сформирует зрелые психологические слои (защитные структуры) на основе полной идентификации анализанда с терапевтом. Если такие случаи и бывали, их этиологию следовало бы искать в установках родителей, которые, с одной стороны, потворствовали догенитальным влечениям ребенка, а с другой стороны — блокировали требования фаллически-генитальных потребностей ребенка. Я не думаю, что такую явную блокировку формирующегося аппарата влечений ребенка могли бы создать родители, находящиеся хотя бы в минимальном эмпатическом контакте с созревающими стремлениями ребенка. Мой клинический опыт работы с пациентами, серьезные нарушения личности которых я объяснял фиксацией организации влечений на раннем этапе развития (оральном) и сопутствующим хроническим инфантилизмом их Эго, все больше убеждал меня в том, что фиксация влечений и широко распространенные дефекты Эго не являются ни первичными в генетическом отношении, ни центральными аспектами психопатологии со структурно-динамических позиций. Речь здесь идет о самости ребенка, которая не была достаточно сформирована вследствие серьезных нарушений эмпатических реакций родителей, а также об ослабленной и склонной к фрагментации самости, которая (пытаясь уверить себя в том, что жива или даже что она вообще существует) ради защиты направляется к доставляющим удовольствие целям посредством возбуждения эрогенных зон, а затем вторично вызывает оральную (и анальную) ориентацию влечений и заставляет Эго служить целям влечений, связанным с возбуждаемыми зонами тела.
Непросто описать напоминающее неискоренимую привычку использование эрогенных зон своего тела депрессивным ребенком (сопровождающееся или не сопровождающееся фантазиями, которые становятся точками кристаллизации для последующей психопатологии, например взрослой перверсии), который пытается противодействовать переживанию фрагментации или ослабления самости. Объяснения с позиции психологии влечений, структурной модели психики и Эго-психологии удовлетворительны лишь постольку, поскольку затрагивается ограниченная область психологии (и, в частности, психопатологии) конфликта. Они имеют дело с концептуальными единицами, слишком элементарными, чтобы охватить более сложные психические конфигурации, которые мы можем обнаружить в норме и в патологии, как только начинаем сосредоточиваться на роли самости и, разумеется, прежде всего тогда, когда самость и ее нарушения оказываются в самом центре нашего внимания. Огромное достижение, которого добились, например, Фрейд (Freud 1908) и Абрахам (Abraham 1921), соотнесшие определенные черты характера с сохраняющейся фиксацией на некоторых догенитальных влечениях (например, при осмыслении «анальной» скупости), дало нам блестящее объяснение ряда сложных психологических явлений. Однако само великолепие этого интеллектуального достижения не позволило нам увидеть его ограниченность и даже исказило нашу установку в отношении некоторых психологических состояний. Традиционный акцент на относящихся к психологии влечений элементах взаимодействия матери и ребенка (в данном примере — в анальный период) не дает удовлетворительного объяснения того, что ребенок стал анально фиксированным и что последующее возникновение защит от открытого проявления анальности стало отправной точкой развития психологических структур, которые затем проявились в форме характерологической установки скупости. Я считаю, что мы достигаем действительно более удовлетворительного объяснения, если, помимо влечений, рассматриваем самость анального периода, то есть рассматриваем самость на ранней стадии ее консолидации. Если мать с гордостью принимает фекальный «подарок» или если она отвергает его либо не проявляет к нему интереса, она реагирует не только на влечение. Она также реагирует на формирование у ребенка самости. Другими словами, ее установка влияет на совокупность внутренних переживаний, играющих важную роль в дальнейшем развитии ребенка. Она реагирует — принятием, отвержением, безразличием — на самость, которая, давая и предлагая, ищет подтверждения посредством зеркального отражения объекта самости. Поэтому ребенок переживает радость и гордость родителей или отсутствие интереса у них не только как принятие или отвержение влечения, но и — этот аспект взаимодействия родителей и ребенка часто является главным — как принятие или отвержение его сформированной опытным путем, но по-прежнему уязвимой креативной, продуктивной и активной самости. Если мать отвергает эту самость, как только она начинает утверждать себя в качестве центра креативной и продуктивной инициативы (особенно, разумеется, если ее отвержение или отсутствие интереса является лишь одним из звеньев в длинной цепи отказов и разочарований, исходящих от ее патологически лишенной эмпатии личности) или если из-за ее неспособности реагировать на всю самость ребенка у нее возникает порождающий фрагментацию интерес к его стулу в ущерб формирующему единство интересу к его процессам испражнения, к обучению, к управлению, к созреванию, к ребенку в целом, то в таком случае самость ребенка будет опустошена, и он откажется от попытки вкусить радость самоутверждения и, чтобы себя утешить, обратится к удовольствиям, которые он может получить от фрагментов своей телесной самости. Поэтому «анальный характер» взрослого человека, например его скупость, нельзя удовлетворительно объяснить, указав на его анальную фиксацию или на его анальную склонность к бережливости. Разумеется, анальная фиксация существует, но она раскрывает свое полное значение только на основе генетической реконструкции того, что чувствовал данный человек, будучи ребенком, — как рушилась и/или опустошалась его самость и как он пытался получать компенсирующее удовольствие от стимуляции фрагмента своей телесной самости.
В связи с предыдущим примером мы можем теперь утверждать, что применение теоретической системы психологии самости является необходимостью, если в своих описаниях и объяснениях мы хотим понять весь содержательный спектр переживаний ребенка на «анальной» стадии развития и оценить все значение этой стадии для психологического развития ребенка. Если, однако, более широкие эмпирические конфигурации были разрушены, то есть если самость ребенка была серьезно фрагментирована и ослаблена отсутствием эмпатических реакций со стороны объектов самости, то тогда формулировки с точки зрения психологии влечений, хотя и не объясняющие удовлетворительным образом важные психологические колебания между связной и фрагментированной самостью, могут вполне подходить для объяснения нового состояния в терминах, не имеющих отношения к психологии переживаний[16].
Именно в этом контексте мы можем найти оправдание тому, что феномены, подпадающие в первую очередь под объяснительную систему психологии самости, были описаны в терминах психологии влечений, например моему объяснению чувства стыда и нарциссического гнева в терминах классической метапсихологии (Kohut 1972, р. 394–396). Я мог бы добавить, что описать здоровую гордость и здоровое самоутверждение в терминах психологии влечений более сложно, чем продукты дезинтеграции этих полезных базисных переживаний — чувство стыда и гнев, — которые возникают после распада первичной психологической констелляции. На мой взгляд, и там и здесь можно использовать две разные теоретические системы, то есть по аналогии с принципом комплементарности в современной физике мы могли бы говорить о психологическом принципе комплементарности и утверждать, что глубинно-психологическое объяснение психологических явлений в норме и патологии нуждается в двух комплементарных подходах: в подходе психологии конфликта и в подходе психологии самости.
Основываясь на этих соображениях, мы можем также с пользой для себя поставить вопрос, который, возможно, возникает у тех, кто сомневается в правомерности генетических объяснений психопатологии, предлагаемых психоанализом. Вопрос связан с тем, что некоторые люди с серьезными формами взрослой психопатологии, похоже, в раннем детстве были чрезвычайно привязаны к матери, которая к тому же, казалось, была эмпатически настроена на желания своих детей и отвечала им любовью, удовлетворяя эти желания. Основываясь на важном метапсихологическом «принципе оптимальной фрустрации», мы, разумеется, тут же склонны утверждать — в терминах теории инстинктов, — что полное удовлетворение («избалованность») лишает ребенка возможности формирования психической структуры, то есть из-за отсутствия фрустрации влечений Эго остается незрелым (оказываются недостаточно развитыми его функции контроля над влечениями, сдерживания влечений и сублимации влечений), что материнская эмпатия может быть чрезмерной и что «материнская забота» должна иметь свои пределы, чтобы не причинить ребенку вреда. Но хотя я считаю принцип оптимальной фрустрации весьма ценным, я не думаю, что случаи, когда мать наносит ребенку вред, балуя его вследствие чрезмерной эмпатии и избыточной «материнской заботы», на самом деле столь многочисленны. Такие случаи, насколько я сумел их ретроспективно исследовать в процессе анализа нарушений у взрослых, оказывались детерминированными гораздо более сложным образом. Я думаю, что мы можем сразу достичь большей ясности, если рассмотрим вопрос о вреде чрезмерной материнской заботы или избалованности не только с позиции психологии влечений, но и — прежде всего — с позиции психологии самости. Например, некоторые аспекты тяжелой психопатологии мистера У., в частности его фиксация на фетише, на первый взгляд были обусловлены тем, что его в детском возрасте излишне баловали безмерно любящие мать и бабушка, которые исполняли любые его желания и, таким образом, внесли свой вклад в возникшее у него затем нежелание идти на компромиссы с реальностью. Именно это стремление к совершенной материнской заботе, как нам казалось вначале, и привело к формированию психологического анклава — фетиша, его приносящего удовлетворение совершенства, — в котором продолжило господствовать представление о совершенном материнском поведении в ущерб более реалистичным и зрелым способам получения удовольствия. Но по мере углубления анализа и особенно после того, как были систематически проработаны его потребности и желания, реактивированные при переносе, с большой ясностью проявился другой аспект удовлетворения матерью его желаний в детском возрасте. Мать и бабушка мистера У. своим отношением к мальчику образовали тандем и, очевидно, отыгрывали свои собственные бессознательные фантазии, удовлетворяя влечения-желания ребенка исходя из своих собственных целей. Будучи настроенными в унисон с любыми требованиями его влечений, они вместе с тем игнорировали созревание мальчика, изменение его самости, которая не могла жить без реакций поддержки, восхищения и одобрения со стороны матери (а затем и отца). Поэтому фиксация на фетише была, в сущности, следствием не чрезмерного удовлетворения, а специфического травмирующего отсутствия материнской эмпатии в отношении здоровой грандиозности и здорового эксгибиционизма его формирующейся независимой самости. Говоря кратко, результатом явилось формирование опустошенного, подавленного сектора его самости и предпринятого в состоянии депрессии возврата к удовлетворению влечения, то есть к достижению архаического удовольствия (с помощью удовлетворяющей влечения матери, фетиша), потому что постоянное; выставление напоказ одаренного ребенка — его самости как независимого центра инициативы — оставалось без ответа со стороны матери и без достаточного внимания со стороны отца.
Применение принципа, согласно которому либидинозное влечение, выражаясь в терминах психологии, не становится движущей силой ребенка, а переживание влечения с самого начала зависит от переживания ребенком отношений между самостью и объектами самости, имеет огромное значение в двух аспектах. Оно меняет нашу оценку значения теории либидо на всех уровнях психологического развития в детстве и, следовательно, меняет нашу оценку некоторых форм психопатологии, которые классическая теория рассматривает как обусловленные фиксацией личности на данной стадии развития инстинкта или регрессией к ней.
Позвольте мне здесь привести еще одну иллюстрацию в дополнение к той, что уже представлена: триаду оральной фиксации, патологического обжорства и ожирения. Этот синдром можно попытаться рассмотреть исходя из гипотезы, что мы имеем дело с регрессивной и/или первичной фиксацией влечения на оральном уровне (избеганием страхов кастрации и/или оральным потворством), и цель психоаналитической терапии, формулируемая с этих позиций, в конечном счете состояла бы (за исключением теоретически в принципе возможных, но практически никогда не встречающихся случаев чистой регрессии) в достижении глубокого осознания влечений вместе с побочно достигнутым усилением способности их контролировать (посредством подавления, сублимации, сдерживания влечений в отношении цели, смещения или нейтрализации). Однако я вновь утверждаю, что эта теоретическая позиция является неудовлетворительной. В противоположность ей я заявляю, что мы приблизимся к истине и дадим более аргументированное объяснение успешно разворачивающегося психоаналитического процесса в большинстве этих случаев, если используем следующую формулировку: потребность ребенка в пище не является первичной психологической конфигурацией. С позиции психологии самости мы вместо этого утверждаем, что с самого начала ребенок отстаивает свою потребность в дающем пищу объекте самости, как бы смутно он ни осознавался. (В терминах поведения мы могли бы сказать, что ребенок нуждается в эмпатически модулируемом предложении пищи, а не в пище.) Если эта потребность остается неудовлетворенной (до травмирующей степени), то тогда базисная психологическая конфигурация — радостное переживание целостности, соответствующих реакций на самость — распадается, и ребенок обращается к фрагменту крупной эмпирической единицы, то есть к оральной стимуляции, нацеленной на получение удовольствия (к эрогенной зоне), или, выражаясь клинически, к депрессивной булимии. Именно этот фрагмент психологического опыта становится точкой кристаллизации возникающего впоследствии пристрастия к еде. И именно все большее осознание депрессивно-дезинтегрированной реакции на неэмпатический объект самости, а не влечения (и, по существу, воспитательный акцент на овладении влечениями) становится основой, на которой может возобновиться движение к психологическому здоровью.
Если подвести итоги в более общих терминах, то можно сказать, что фиксация влечений и соответствующие действия Эго возникают вследствие слабости самости. Оставленная без ответа самость не смогла преобразовать свою архаичную грандиозность и свое архаичное желание слиться со всемогущим объектом самости в устойчивую самооценку, реалистические стремления, достижимые идеалы. Патология влечений и патология Эго являются симптоматическим выражением этого центрального дефекта самости.
То же самое относится и к общему вопросу о системе понятий, в рамках которых мы можем рассматривать компенсаторные структуры. Должны ли мы осмыслять их в терминах Эго-психологии как защиты, достигшие «вторичной автономии» от влечений, первоначально стимулировавших их развитие? Или мы должны рассматривать их в терминах психологии самости как элемент самости, который консолидировался под влиянием определенных отношений между самостью и ее объектами? Я думаю, что в наших теоретических формулировках, если мы имеем дело с нарушениями самости, использовать понятия первичной или вторичной автономии будет неправильно. Эти концепции относятся, по существу, к психологической модели структурного конфликта, то есть к модели, в которой психологическая болезнь осмысляется как следствие конфликта между силами (влечениями и защитами), противодействующими друг другу. Поэтому я бы сказал, что понятие вторичной автономии имеет смысл использовать в отношении защитных структур, по своим функциям ставших в ходе развития независимыми от требований влечения, которым они вначале противодействовали. Несмотря на то, что компенсаторные структуры могут стать автономными (например, те из них, которые были восстановлены в результате анализа нарциссических нарушений личности), термины «первичная» и «вторичная автономия» в значении Эго-психологии к ним неприменимы. Правда, на выбор определенных компенсаторных функций, становящихся важными для ребенка в качестве замены других, остановившихся в развитии функций (в области первичного дефекта), могут отчасти влиять наследственные факторы (таланты), и поэтому мы могли бы говорить об их «первичной автономии». Однако выбор ребенком определенных функций из множества тех, что имеются в его распоряжении (а также развитие им этих функций в навыки и таланты), и направленность его основных устремлений, постоянно откладывающихся в психике в виде амбиций и идеалов (то есть обретение ребенком компенсаторных структур) лучше объясняется с точки зрения его способности перемещаться от фрустрирующего объекта самости к нефрустрирующему или менее фрустрирующему. Другими словами, основная проблема состоит не в том, что функции, выражающие паттерн самости, автономны, а в том, что самость, связность и функционирование которой подверглись угрозе в одном секторе, сумела выжить, переместив свой психологический «центр тяжести» в другой сектор.
Интерпретации сопротивления
Объяснительную ценность постулатов психологии влечений, согласно которым при нормальном развитии нарциссизм трансформируется в любовь к объекту, а сами влечения постепенно «приручаются», и объяснительную ценность постулатов психологии самости, согласно которым при нормальном развитии отношения между самостью и объектами самости являются предшественниками психологических структур, а преобразующая интернализация объектов самости постепенно ведет к консолидации самости, можно сравнить, применив эти комплементарные подходы к конкретным психологическим конфигурациям, проявляющимся в ходе аналитического процесса. Обратимся, например, к тонкому и искусному обсуждению Гартманном (Hartmann, 1950) приручения влечений посредством контркатексисов, в частности к его утверждению, что Эго использует нейтрализованную агрессивную энергию для того, чтобы удерживать влечения под контролем. Здесь можно было бы добавить, что контркатексисы, о которых говорит Гартманн, возможно, были приобретены психическим аппаратом в результате взаимодействия с инстинктивно катектированным родительским объектом в раннем возрасте. Гартманн утверждает: то, что Фрейд (Freud, 1937) называл «сопротивлением раскрытию сопротивлений» в психоаналитической ситуации, является, «выражаясь метапсихологически… реагрессивизированной энергией контркатексисов, мобилизованных вследствие нашего наступления на сопротивление пациента» (Hartmann, 1950, р. 134). Теория Гартманна, как и вся метапсихология, когда она применяется к отношениям ребенка с его родителями или пациента с аналитиком, вращается между двумя, по сути, несовместимыми понятийными системами — системой понятий психического аппарата и системой понятий социальной психологии. Это простительно и в данном контексте является несущественной погрешностью, которую я уже обсуждал (Kohut, 1959) и не буду на этом здесь останавливаться. Другими словами, я не буду заниматься здесь теми или иными недостатками теории и формирования понятий, не стремлюсь доказать, что теория Гартманна ошибочна, но я хочу продемонстрировать, что психология самости — психология, в которой проводится различие между объектами, воспринимающимися как часть самости (объекты самости), и объектами, воспринимающимися как независимые от самости центры инициативы (истинные объекты), — способна объяснить исследуемые феномены (агрессивную реакцию анализанда на наступление на его сопротивления) в целом более убедительно, чем используемый Гартманном метод, относящийся к психологии влечений.
Чтобы создать основание для моего подхода, я должен исследовать сначала детскую ситуацию, которая в некоторых важных отношениях является прототипом аналитической ситуации: слияние ребенка с эмпатическим всемогущим идеализированным объектом самости (см. Kohut, 1971, р. 278; ср. Freud, 1921, р. 111–116).
Чтобы выжить психологически, ребенок должен родиться в эмпатической и отзывчивой среде людей (объектов самости), подобно тому как он должен родиться в атмосфере, содержащей оптимальное количество кислорода, чтобы выжить физически. И его формирующаяся самость «ожидает» — если использовать не совсем подходящее антропоморфическое, но уместное в данном контексте образное понятие[17], — что эмпатическое окружение будет надежно настроено в унисон с его психологическими потребностями-желаниями, подобно тому как дыхательный аппарат новорожденного младенца «ожидает», что в окружающей атмосфере содержится кислород. Когда психологический баланс ребенка нарушается, напряжение, испытываемое им, в обычных условиях эмпатически воспринимается объектом самости, который на него реагирует. Объект самости, оснащенный зрелой психологической организацией, которая может реалистично оценивать потребность ребенка и то, как с ней поступать, включит ребенка в свою собственную психологическую организацию и устранит гомеостатический дисбаланс ребенка с помощью действия. Следует подчеркнуть, что первый из этих шагов имеет гораздо большее психологическое значение для ребенка, чем второй, особенно в отношении способности ребенка к построению психологических структур (для консолидации его ядерной самости) посредством преобразующей интернализации. Формулировка, в соответствии с которой мать приручает агрессивное влечение ребенка, нейтрализуя его своей любовью или противопоставляя ему нейтрализованную агрессию (твердость), основывается на простой и привлекательной аналогии с механическими событиями в физическом мире. Однако она не является приемлемой для событий в психологической сфере. Я считаю, что мы оказываемся ближе к истине, когда говорим, что тревога ребенка, его инстинктивные потребности и его гнев (то есть переживание им дезинтеграции предшествовавшего более широкого и более сложного психологического единства — безусловного утверждения себя) вызывают эмпатический резонанс у материнского объекта самости. В таком случае объект самости устанавливает осязательный и/или вербальный контакт с ребенком (мать берет ребенка на руки, разговаривает с ним и т. д.) и таким образом создает условия, которые ребенок в соответствии со стадией своего развития воспринимает как слияние со всемогущим объектом самости. Зачаточная психика ребенка задействована в высокоразвитой психической организации объекта самости; ребенок воспринимает эмоциональные состояния объекта самости — они передаются ребенку через прикосновение, интонацию и, возможно, также какими-то другими способами, словно они являются его собственными. Соответствующими эмоциональными состояниями — либо состояниями самого ребенка, либо состояниями объекта самости, в которые он включен, — в том порядке, в котором они воспринимаются единицей, состоящей из самости и объекта самости, являются: возрастающая тревога (самости), за ней следует стабилизирующая умеренная тревога, «сигнальная», не паническая (объекта самости), затем спокойствие, отсутствие тревоги (у объекта самости). В конечном счете продукты психологической дезинтеграции, которую ощущал ребенок, исчезают (зачаточная самость восстанавливается) по мере того, как мать (если рассматривать с позиций бихевиоризма и социальной психологии) готовит еду, улучшает температурную регуляцию, меняет пеленки и т. д. Именно переживание этой последовательности психологических событий посредством слияния с эмпатическим всемогущим объектом самости закладывает основу, благодаря которой оптимальная (нетравматическая, соответствующая стадии развития) фрустрация со стороны объекта самости ведет при обычных условиях к формированию психической структуры посредством преобразующей интернализации. Эта оптимальная фрустрация может выражаться в кратковременной отсрочке эмпатической реакции со стороны объекта самости, в умеренных отклонениях от желательной нормы переживаний объекта самости, в которые включен ребенок, или в несоответствии между переживаниями, возникающими при слиянии с эмпатическим объектом самости, и фактическим удовлетворением потребностей. Я бы хотел добавить, что, по моему опыту, для формирования психологической структуры в детстве последний случай гораздо менее важен, чем психологическая фрустрация со стороны объекта самости. Другими словами, я полагаю, что дефекты в самости возникают прежде всего в результате недостатка эмпатии со стороны объектов самости, обусловленного их нарциссическими нарушениями, в частности — причем, на мой взгляд, значительно чаще, чем считают аналитики, — скрытым психозом объекта самости, и что даже серьезные реальные лишения (которые можно было бы классифицировать как фрустрацию «влечений» [или потребностей]) в психологическом отношении не являются вредными, если психологическая среда реагирует на ребенка всем спектром неискаженных эмпатических ответов. Не хлебом единым жив человек.
Важность двухступенчатой последовательности — эмпатического слияния со зрелой психической организацией объекта самости и участия в переживании объектом самости аффективного сигнала вместо распространения аффекта (первая ступень) и удовлетворяющих потребность действий, совершаемых объектом самости (вторая ступень) — невозможно переоценить. Если она переживается в детстве оптимальным образом, то в течение всей жизни остается одной из опор психического здоровья. И наоборот, если объекты самости в детстве не оправдывают ожиданий, то тогда возникающие в результате этого психологические дефициты или искажения остаются тяжелым бременем на всю жизнь. То, что психоанализ является психологией, которая вначале понимает факты, а затем их объясняет, глубоко связано с двухступенчатым принципом, который определяет психологические функции человека ab initio[18]. И следует также подчеркнуть, что этот же принцип лежит в основе отношения аналитика к своему анализанду. Другими словами, любая интерпретация и любая реконструкция состоит из двух этапов: сначала анализанд должен осознать, что он был понят, и только затем, на втором этапе, аналитик будет демонстрировать анализанду определенные динамические и генетические факторы, объясняющие психологическое содержание, которое он вначале постиг эмпатически. Некоторые из наиболее стойких сопротивлений, с которыми сталкиваются в ходе анализа, не являются интерперсонально активизированными защитами от угрозы того, что некое вытесненное психологическое содержание станет сознательным в результате интерпретаций или реконструкций со стороны аналитика; они возникают в ответ на то, что стадия понимания — стадия эмпатического эха аналитика или слияния с пациентом — была пропущена. В некоторых случаях анализа — хотя отнюдь не во всех — аналитик даже не будет осознавать, что пациенту, чей объект самости в детстве травматическим образом разрушил его ожидания в этой области, потребуется длительный период «одного только» понимания, прежде чем можно будет с пользой приступить ко второму этапу — интерпретации, динамическим и генетическим объяснениям, даваемым аналитиком.
Здесь можно было бы привести еще некоторые идеи, позволяющие объяснить различные формы психопатологии, которые возникают вследствие нарушений эмпатического слияния самости и объекта самости на стадии психологического развития, предшествующей появлению устойчивой самости. Если эмпатический резонанс с ребенком у объекта самости отсутствует либо он является совершенно неопределенным или диффузным в отношении отдельных сфер его опыта, то ребенок лишается возможности слиться со всемогущим объектом самости и не будет задействован в вышеупомянутой последовательности переживаний (распространяющаяся тревога, сигнал тревоги, спокойствие), и поэтому будет лишен возможности сформировать психологические структуры, способные справляться с его тревогой аналогичным образом. Представим себе другой пример: если объект самости реагирует ипохондрически на умеренную тревогу ребенка, то слияние с объектом самости не приведет к благотворному переживанию умеренной тревоги, переходящей в спокойствие, а наоборот, создаст патогенную последовательность переживания умеренной тревоги, переходящей в панику. В случаях первого рода ребенку не предоставляется возможности установить благотворное слияние; в случаях второго рода ребенок или будет вовлечен в патогенное слияние, или будет активно пытаться избежать его, отгораживаясь от патогенного ответа со стороны объекта самости. Конечным результатом во всех этих случаях является или отсутствие нормальной структуры, регулирующей напряжение (недостаток способности приручать аффекты, обуздывать тревогу), или приобретение дефектных структур (склонности к активной интенсификации аффекта, к развитию панических состояний). Я полагаю, что не только патогенез склонности к тревоге, но и патогенез склонности к эмоциональным нарушениям должен быть исследован с точки зрения слияния зарождающейся самости с депрессивными и/или маниакальными реакциями объекта самости. Другими словами, я полагаю, что психологические аспекты эмоциональных нарушений нельзя адекватно сформулировать в терминах динамики влечений и структур (например, понимать депрессию как не нейтрализованную агрессию, направленную вместо объекта на самость или как результат садистского нападения Супер-Эго на Эго) и что исследование слияния со всемогущим объектом самости — предшественника психологической структуры — приведет нас к более адекватному пониманию.
Однако вернемся к гипотезе Гартманна о том, что «сопротивление раскрытию сопротивлений» есть проявление «реагриссивизированной энергии контркатексиса, мобилизованного вследствие нашего наступления на сопротивление пациента». В результате тщательного наблюдения в клинической ситуации и в процессе анализов, которые я проводил сам либо в которых я выступал в качестве супервизора или консультанта, я пришел к выводу, что эта формулировка ведет к неверному истолкованию клинических фактов. Несмотря на свою элегантность, модель психического функционирования (модель защиты от влечений), к которой относится формулировка Гартманна, при внимательном рассмотрении не отвечает эмпирическим фактам. Когда анализанд приходит в ярость из-за нашего наступления на его сопротивление, он делает это не потому, что правильная интерпретация ослабила защиты и активизировала агрессивную энергию, которая в них содержалась, а потому, что определенная важная в генетическом отношении травмирующая ситуация из его раннего детства была воспроизведена в аналитической ситуации и представляла собой переживание неправильного, неэмпатического ответа со стороны объекта самости. Гнев пациента не есть проявление агрессии, направленной вовне против аналитика, который своими правильными интерпретациями якобы принимает сторону опасных влечений и тем самым вынуждает от него защищаться. Гнев пациента — это «нарциссический гнев». И поэтому я полагаю, что интерпретация, сформулированная в рамках понятийной системы метапсихологии самости в целом и в аспекте отношения самости к объекту самости в частности, гораздо больше соответствует эмпирическим фактам, чем объяснения, относящиеся к психологии психического аппарата, его влечений и защит, даже если они даются тепло или доброжелательно и излагаются в терминах поведения. Правильная в целом интерпретация такова: сформированная с изъянами самость ребенка (активизирующаяся в аналитической ситуации) рассчитывает на сохранение своей связности благодаря близким к совершенству эмпатическим ответам со стороны объекта самости. В соответствии со стадией развития самости ребенок нуждается в тотальном контроле над ответами объекта самости; он нуждается в полной эмпатии как в отношении внешне проявляемого понимания, так и в отношении полной дисгармонии с травматическим воздействием, порождаемым отклонениями от оптимума, который для самости маленького ребенка является ожидаемой нормой. Говоря конкретно, всякий раз, когда пациент реагирует гневом на интерпретации аналитика, он воспринимает его с позиции архаичной самости, которая была активизирована в процессе анализа, как неэмпатического агрессора, покушающегося на целостность его самости. Аналитик не становится свидетелем проявления первичного примитивно-агрессивного влечения, он становится свидетелем дезинтеграции предшествующей первичной конфигурации, распада первичного переживания самости, при котором — в восприятии ребенка — ребенок и эмпатический объект самости едины.
Пожалуй, здесь следует подчеркнуть, что эти представления не должны обременять аналитика требовательностью к себе, что он должен быть готов к совершению сверхчеловеческих подвигов безошибочного и идеального эмпатического понимания своих пациентов. Хотя наши анализанды вправе ожидать от нас незаурядных эмпатических реакций и хотя я принципиально считаю, что функциональной основой аналитической ситуации является эмпатическая отзывчивость, наши неизбежные промахи не должны порождать у нас чрезмерное чувство вины. Однако то, как мы понимаем значение гнева пациента, во многом определяет направление наших интерпретаций. Если пациент возмущен интерпретацией, мы не будем продолжать фокусироваться на психопатологических проявлениях, к которым относилась интерпретация, не будем, например, фокусироваться на вытесненной или защитной стороне структурного конфликта, на который была нацелена интерпретация, а переключим наше внимание на нарциссический дисбаланс пациента. А в случае анализандов, страдающих не столько вследствие структурного невроза, сколько вследствие нарциссических нарушений личности или поведения, мы не будем фокусироваться исключительно на динамических факторах нарциссического дисбаланса, который может возникнуть при любых формах психопатологии в ответ на интерпретацию, воспринятую как недостаточно эмпатическую, но мы также постепенно сместим наше внимание на то, что предшествовало переживаниям пациента при переносе, — на напряженные отношения, возникшие между самостью и объектами самости в детстве. Другими словами, конкретные, нередко возникающие эмпатические ошибки со стороны аналитика касаются не психического содержания коммуникаций анализанда, а прорывающейся иногда потребности анализанда придерживаться первой из двух стадий интерпретации (стадии понимания) перед сосредоточением его внимания на второй (на стадии объяснения). Можно утверждать, что большинство аналитиков всегда отвечали тактично и по-человечески тепло на нарциссическую уязвимость своих анализандов, когда им давались интерпретации; и даже если они считали, что теория Гартманна в сущности является верной, они не всегда поступали в соответствии со своим теоретическим убеждением, а позволяли анализандам восстанавливать свое нарциссическое равновесие, если они реагировали на интерпретацию гневом. Вместе с тем я считаю, что применение предыдущих теоретических рассуждений к клинической ситуации дает весьма полезные результаты. Даже небольшое изменение установки аналитика, возникающее в результате его продиктованного теоретическими убеждениями ответа на требования важной задачи (тогда как прежде с некоторыми основанными на теории опасениями он поклонялся требованиям практической целесообразности), уменьшит ненужную напряженность, порой встречающуюся в аналитической ситуации, и, устранив артефакты, он с большей ясностью сможет понять эндогенную психопатологию анализанда.
Происхождение самости
Теории эмпирической науки возникли прежде всего из обобщений и абстрактного осмысления данных, полученных при наблюдении. В психоанализе они появились в результате осмысления данных, полученных благодаря интроспекции и эмпатии. Задавая себе вопрос, нуждается ли психоанализ в психологии самости в дополнение к Эго-психологии, к структурной модели психики и к психологии влечений, мы можем сделать свой первый шаг к утвердительному ответу, добавив новое измерение к давнему принципу (ср. A. Freud, 1936, гл. I), согласно которому нашему интроспективному пониманию доступны содержания конфликтующих друг с другом структур, но не содержания структур, находящихся друг с другом в гармонии. И если мы скажем, несколько изменив максиму Анны Фрейд, что слабая, фрагментированная самость доступна нашему пониманию, а оптимально прочная и связная самость — нет, то мы можем тут же добавить три следующих утверждения. (1) Психология самости будет неважной, ненужной, иррелевантной или даже неприменимой в отношении психологических состояний, в которых самости либо вообще нет, либо она существует только в зачаточной или остаточной форме (как, например, в самом раннем младенчестве и при некоторых состояниях серьезной психологической дезорганизации и регрессии). (2) Психология самости будет относительно маловажной и ненужной, если мы имеем дело с психологическими состояниями, при которых целостность самости является прочной и произошло оптимальное самопринятие (например, в эдипов период развития ребенка, самость которого развивалась благоприятно, или при соответствующих психологических состояниях взрослого — в случае классических структурных неврозов, — когда целостность самости не нарушена, а колебания самопринятия и самооценки не выходят за пределы нормы). (3) Психология самости будет наиболее важной и наиболее релевантной всякий раз, когда мы исследуем состояния, при которых переживания нарушенного самопринятия и/или фрагментации самости находятся в центре психологической проблематики (как, например, в случае нарциссических нарушений личности).
Первое и второе из приведенных утверждений нуждаются в уточнении.
На первый взгляд кажется очевидным, что психология самости не должна применяться к состояниям, включая состояния завышенной или сниженной самооценки, при которых самость (либо потому, что она еще не была достаточно сформирована, либо потому, что она была серьезно повреждена или даже разрушена) не может функционировать в качестве эффективного независимого центра инициативы, а также центра восприятия и переживания. Поскольку в отсутствие самости влечения окажутся в центре психологической проблематики, мы можем ожидать, что психология влечений будет вполне пригодной, если мы эмпатически исследуем поведение младенца и мир переживаний психотического больного, пребывающего в тяжелой регрессии. Но даже в этих двух случаях объекты самости (ожидания которых в отношении младенца, как это будет показано мною позже, нельзя игнорировать) заполняют место самости, а потому адекватность психологии, которая фокусируется на влечениях и зачаточном Эго, вызывает сомнения. Учитывая также, что в случае регрессии психотического больного фрагменты самости пациента реагируют способами, которые адекватно объясняются при помощи теории конфликта, наше внимание должно фокусироваться не на этих конфликтах, а на изменениях состояния самости (на степени ее фрагментации) и на трансформациях отношений между самостью и объектами самости у психотических больных, которыми эти изменения и объясняются. Например, конфликты, порождаемые защитами от открыто выраженных инцестуозных желаний, проявляются в виде продуктов психологической дезинтеграции всякий раз, когда случается реальное провоцирующее событие, связанное с архаичными отношениями к объектам самости, то есть всякий раз, когда окружение воспринималось как неэмпатическое.
В отношении тех стадий психической жизни, на которых самость является надежно сформированной, независимо от того, с чем мы имеем дело — со здоровой психикой или психическими нарушениями (в частности, со структурными нарушениями), предыдущее утверждение, что здесь также в принципе можно обойтись без психологии самости, следует уточнить. Пожалуй, при обсуждении этой проблемы лучше всего задать конкретный вопрос: почему до сих пор психоаналитики, использующие модель защиты от влечений и не обращающиеся к психологии самости, фактически занимаются психологическими процессами, характерными для более поздних стадий детства, и с аналогичными процессами, встречающимися в формах взрослой психопатологии, которые приводят к реактивации нерешенных конфликтов этих стадий развития? Не должны ли мы ожидать, что ввиду сложности таких зрелых состояний психического развития применение психологии самости, которая доказала бы неадекватность модели защиты от влечений и структурной модели для этих стадий, было бы особенно необходимым? (При сравнении классических психоаналитических моделей с психологией самости структурную модель можно рассматривать как расширенный вариант модели защиты от влечений.)
Отвечая на этот вопрос, я не утверждаю, что применение психологии самости не обогатило бы наше понимание и не придало бы большую глубину нашим объяснениям соответствующих психических процессов в норме и патологии. Но я действительно считаю, что модель защиты от влечений и структурная модель психики являются адекватной понятийной системой для объяснения сути процессов, которым подвержена устойчивая самость, или процессов, инициированных устойчивой самостью, или тех, в которые включена устойчивая самость, например, обусловленных постепенной аккультурацией взрослеющего ребенка, включая также процессы, связанные с эдиповым комплексом[19], в том виде, как они развертываются первоначально и реактивируются при классических неврозах в жизни взрослого.
Нетрудно понять, почему классические объяснения, в которых самость и формы ее развития игнорируются, в отношении этих состояний являлись удовлетворительными. Классическая модель была успешной потому, что (если мне будет позволительно привести простую алгебраическую аналогию) ненарушенная самость задействована и со стороны влечений, и со стороны защит в структурных психологических конфликтах и, таким образом, может быть исключена из психологического уравнения. Как я уже указывал, когда мы изучаем психические процессы, не относящиеся к раннему младенчеству, мы никогда не наблюдаем изолированные влечения или защиты. Всякий раз, когда мы наблюдаем человека, стремящегося к удовольствию или преследующего мстительные или разрушительные цели (или находящегося в конфликте в связи с этими целями, или выступающего против них), можно различить самость, которая, хотя и включает в свою организацию влечения (и/или защиты), превратилась в конфигурацию более высокого уровня, значение которой превышает значение суммы ее частей. Однако если самость является здоровой, связной и сильной, то она не становится спонтанно центром нашего эмпатического (или интроспективного) внимания; наше внимание будет привлекать не уравновешенная конфигурация более высокого уровня, но подчиненные ей содержания (нарциссические цели, цели влечения, защиты, конфликты).
Предыдущее утверждение настолько же верно, насколько верна модель психики, в которой последняя рассматривается в аспекте защиты от влечений, в рамках интерпретационного подхода к состояниям психического конфликта. Однако в самых разных условиях вторичные изменения в состоянии самости произойдут даже тогда, когда самость здорова, и они могут привлечь (и часто привлекают) наше внимание. Само по себе преследование либидинозных и агрессивных целей, например, если человек ими сильно увлечен, может привести к изменениям самооценки, которые заставят обратить на себя наше внимание, а успех или неудача преследования нами либидинозных и агрессивных целей может увенчаться изменениями самооценки, которые, проявляясь как радость победы (повышение самооценки) или как горечь поражения (снижение самооценки), в свою очередь могут стать важными вторичными силами на психической сцене. Поэтому, когда психоаналитик фокусирует свое внимание на самости, понимание им исследуемых состояний станет богаче даже в том случае, если он имеет дело со здоровой самостью. Однако остается бесспорным, что некоторые важные динамические отношения действительно можно сформулировать, не обращаясь к классической теории, несомненно, способной объяснить структурные неврозы и самые разные аспекты прогрессирующей аккультурации развивающегося ребенка (понимаемые как нейтрализация, сублимация и прочие преобразования влечений).
Признавая объяснительную ценность структурной модели, я не буду скрывать моего убеждения в том, что психология самости в конечном счете окажется не только ценной, но и необходимой даже в отношении областей, которыми в настоящее время занимается психология влечений и защит. Другими словами, у меня нет сомнений в том, что при помощи психологии самости — изучения происхождения и развития самости, ее элементов, ее целей и ее нарушений — мы научимся понимать новые аспекты психической жизни и проникать в психологические глубины, даже когда речь идет об обычном процессе аккультурации и структурных конфликтах при классических неврозах.
Может ли быть иначе? Сложно организованное эмпатически-отзывчивое человеческое окружение реагирует на ребенка ab initio, и мы можем обнаружить, исследуя ранние состояния младенчества с помощью все более совершенных психологических методов, что рудиментарная самость существует уже в самом раннем детстве. Но как нам подтвердить это предположение, как доказать гипотезу о наличии рудиментарной самости в младенческом возрасте? Психологическое проникновение в архаичные психические состояния, в частности в переживания, которые обозначают самое начало определенной линии развития, всегда является ненадежным — нет сомнения в том, что здесь наши реконструкции особенно подвержены опасности адультоморфического искажения. Эти рассуждения, наверное, должны были бы убедить нас воздержаться даже от попытки пойти по этому пути, не будь некоторых обстоятельств, обеспечивающих нас неожиданной помощью.
Я предлагаю подвергнуть проверке вопрос о существовании рудиментарной самости в самом раннем младенческом возрасте, возможно, с несколько неожиданной точки зрения, а именно делая акцент на том, что человеческое окружение даже на самого маленького ребенка реагирует так, словно такая самость у него уже сформирована. Мысль о том, что подтверждение определенного аспекта первичного эмпатического слияния между младенцем и объектом самости младенца следует считать свидетельством в поддержку гипотезы о существовании самости в младенческом возрасте, на первый взгляд может показаться не более чем ненаучной софистикой. Главный вопрос, конечно, касается определения времени, когда в рамках матрицы взаимной эмпатии между младенцем и его объектом самости врожденные потенциальные возможности младенца и ожидания объекта самости по отношению к младенцу сходятся. Можно ли считать эту точку схождения моментом возникновения первичной, рудиментарной самости младенца?
Я полагаю, что мы не должны отбрасывать эту идею. Правда, можно предположить — на основе информации, доступной нам благодаря труду нейрофизиологов, — что новорожденный младенец не может обладать каким-либо рефлексивным пониманием себя, что он не способен воспринимать себя, даже смутно, как нечто единое в пространстве и протяженное во времени, которое является центром инициативы и реципиентом впечатлений. И все же он с самого начала слит благодаря взаимной эмпатии с окружением, которое воспринимает его как уже обладающего самостью, — с окружением, которое не только ожидает появления в дальнейшем самосознания у ребенка, но уже самой формой и содержанием своих ожиданий начинает направлять его в определенное русло. В момент, когда мать впервые видит своего ребенка и вступает с ним в контакт (через осязательные, обонятельные и проприоцептивные каналы, кормя, переодевая, купая его), фактически начинается процесс, формирующий человеческую самость, — он продолжается на протяжении всего детства и в меньшей степени в последующей жизни. Я имею в виду определенные взаимодействия ребенка и объектов его самости, в которых в бесчисленных повторениях объекты самости эмпатически реагируют на определенные потенциальные возможности ребенка (аспекты грандиозной самости, которые он демонстрирует, аспекты идеализированного образа, которым он восхищается, различные врожденные таланты, которые он творчески использует как посредников между стремлениями и идеалами), но оставляют без внимания остальные. В этом заключается наиболее важный способ, которым избирательно подкрепляются или подавляются врожденные потенциальные возможности ребенка. Ядерная самость, например, формируется не благодаря сознательному поощрению и подкреплению или сознательным уговорам и упрекам, а благодаря глубоко укорененной готовности к определенным ответам со стороны объектов самости, которая в конечном счете является функцией их собственной ядерной самости.
Если эти представления верны, не можем ли мы тогда говорить о самости, находящейся в стадии становления даже в то время, когда самого по себе младенца (что, впрочем, представляет собой психологический артефакт) можно рассматривать всего лишь как биологическую единицу? Другими словами — как единицу, чье поведение должно изучаться методами исследователя-биолога, потому что незрелость ее биологического оснащения не допускает существования у нее эндопсихических процессов, которые мы могли бы понять, усилив нашу эмпатию?
Необходимо добавить, что такое понимание самости, существующей в начале жизни, не обременено заблуждением Кляйн, считавшей, что уже в самом раннем детском возрасте имеются определенные фантазии, которые можно вербализировать. Можно сказать — чтобы продемонстрировать отличие моего подхода от теоретических построений Кляйн, — что самость новорожденного младенца (существование которой я хочу рассмотреть ab initio) является виртуальной самостью, соответствую щей той геометрической точке в бесконечности, где встречаются две параллельные линии. Я в самом деле считаю, что состояния, существующие до того, как в достаточной мере созрел аппарат центральной системы, и до того, как установились вторичные процессы, должны описываться в терминах напряжения — увеличения и снижения напряжения, — а не в терминах фантазий, доступных вербализации (ср. Kohut, 1959, р. 468–469).
Представления аналитика о состояниях, существующих в младенческом возрасте, часто во многом определяются его представлениями о состояниях, с которыми он сталкивается у взрослых, особенно в терапевтической ситуации. Из истории психоанализа нам хорошо известно, что некоторые концептуальные изменения, касающиеся природы детской психики, привели к кардинальным изменениям терапевтического подхода. В некоторых случаях изменение представлений о состояниях в ранней жизни обедняет восприятие аналитиком разнообразия важных человеческих переживаний и приводит к узкой фокусировке его внимания на единственной нити в сложной ткани психопатологии пациента. Эта ошибка была, например, совершена Ранком, чья теория «травмы рождения» (1929) привела, по мнению Фрейда (Freud, 1937, р. 216–217), к тому, что как терапевта его стали занимать только проблемы, связанные со страхом сепарации. Однако подход, предлагаемый мною, не сужает диапазона нашей эмпатической способности — он его расширяет.
Позвольте мне в поддержку моего утверждения обратиться к исследованию аналитиком тревог анализанда, которые возникают в клинических условиях. Если аналитик исследует тревогу своего пациента с выгодной позиции психологии самости, он существенно обогатит свое восприятие, поскольку ему будет известно, что по существу имеются два разных класса переживания тревоги, а не один. Первый включает тревоги, переживаемые человеком, самость которого является более или менее Целостной; эти тревоги представляют собой страхи перед определенными ситуациями угрозы (Freud, 1926); акцент переживания делается, по существу, на определенной угрозе, а не на состоянии самости. Второй класс включает в себя тревоги, воспринимаемые человеком, который осознает, что его самость начинает распадаться; каким бы ни был пусковой механизм, вызвавший или усиливший прогрессирующую дезинтеграцию самости, акцент переживания делается, по существу, на небезопасном состоянии самости, а не на факторах, которые, возможно, привели процесс дезинтеграции в действие.
Хотя знакомство аналитика с двумя типами переживания тревоги является предварительным условием его точной оценки характера тревоги анализанда, ему также должно быть известно, что начальные проявления каждого из двух типов тревоги могут сбить его с толку, что только длительное эмпатическое погружение в общее психологическое состояние пациента позволит ему достичь необычайно важного разграничения между ним и собой. Выражение определенных страхов, связанных с угрозой отказа или неодобрения, или физического нападения (страх потери объекта любви, страх потери любви к объекту любви, страх кастрации), проявляющихся в социальной сфере («Realangst»[20]) пли обусловленный Супер-Эго («Gewissensangst»[21]), вначале бывает скрытым; анализанд может первоначально продуцировать ассоциации, относящиеся к разного рода состояниям смутного напряжения, и лишь постепенно и вопреки сопротивлениям он будет приближаться к главному содержанию своих актуальных страхов, которые он способен вербализировать. А выражение неопредмеченной, но тем не менее интенсивной и всеобъемлющей тревоги, которой сопровождается зарождающееся осознание пациентом проблемы и которая дезинтегрирует его самость (выраженная фрагментация, утрата инициативы, резкое снижение самооценки, чувство полной бессмысленности жизни) вначале также может быть скрыто. Анализанд может попытаться выразить осознание внушающих страх изменений состояния своей самости через вербализацию определенных страхов (и то лишь постепенно и вопреки сопротивлениям), начинающих связываться в ассоциациях с основным содержанием его тревоги, которую он тем не менее способен описать только при помощи метафор и аналогий.
Первый случай — попытка анализанда уклониться от непосредственной конфронтации с некоторыми своими страхами — известен всем аналитикам, и поэтому я не буду на нем здесь останавливаться. Достаточно будет упомянуть в качестве иллюстрации защитные маневры, которые нередко встречаются, когда в контексте проявляющихся при переносе эдиповых фантазий о соперничестве активизируются страхи пациента-мужчины о мести со стороны человека, представляющего собой отца. Вместо непосредственной конфронтации со своим страхом кастрации анализанд может сначала говорить о переживании какого-то неопределенного страха. Затем он может говорить о множестве различных более или менее конкретных страхов, «расстояние» которых от основного страха, а именно от страха кастрации, постепенно уменьшится, если анализ будет проводиться должным образом.
Второй класс переживаний тревоги, встречающийся в клинической ситуации, требует более детального обсуждения, поскольку он не был ясно описан в нашей научной литературе. Правда, Фрейд (Freud 1923b, p. 57) говорит о «либидинозной опасности», которая переживается как страх «быть разрушенным или уничтоженным»; в дальнейшем (Freud 1926, р. 94), обсуждая первичное вытеснение, он упоминает «самые ранние вспышки тревоги», связанные с «количественными факторами, такими, как чрезмерное возбуждение и разрушение защитного барьера от стимулов». Анна Фрейд (A. Freud 1936, р. 58–59) также указывает на «страх сильных инстинктов», то есть, если можно перефразировать, на недостаточность психического аппарата, осмысляемую в количественных терминах. Я полагаю, что мы имеем здесь дело с попыткой рассмотреть страх дезинтеграции в рамках понятийной системы классической психологии психического аппарата. Но мне кажется, что эти страхи нельзя верно осмыслить вне понятийной системы психологии самости.
Другими словами, тревога пациента в сущности связана с тем, что его самость подвергается угрожающему изменению и интенсивность влечения является не причиной основной патологии (недостаточной связности самости), а ее результатом. Источником страха дезинтеграции является предвосхищение распада самости, а не страх перед влечением.
Как в таком случае мы распознаем появление страха дезинтеграции? Как мы отличаем его от определенных страхов первой группы, в частности от страха кастрации? Если страх дезинтеграции возникает в ходе должным образом проводимого анализа нарушения самости, то течение ассоциаций пациента, включая последовательное развертывание соответствующих образов сновидений, следует обычно в направлении, противоположном последовательности, описанной для первого класса страхов. Другими словами, ассоциации обычно движутся от описания определенных страхов к осознанию наличия диффузной тревоги из-за угрозы распада самости.
Вначале страхи таких пациентов часто имеют ярко выраженный ипохондрический и фобический оттенок. Для иллюстрации здесь можно привести ряд примеров, взятых наугад из моей клинической практики: незначительная трещина штукатурки в комнате может означать наличие серьезного структурного дефекта в доме пациента; малейшая инфекция кожи у пациента или у кого-то, кого он воспринимает как продолжение себя, является первым признаком опасного сепсиса; или — в сновидении — заражение жилых кварталов паразитами; или зловещее обнаружение морских водорослей в плавательном бассейне. Многие подобные страхи способны завладевать мыслями пациента, но вместе с тем, вызывая состояния бесконечных раздумий, волнения или паники, эти страхи не составляют ядра нарушения, а возникли в результате стремления пациента придать определенное содержание более глубокому, не имеющему названия страху, испытываемому человеком, когда он чувствует, что его самость становится серьезно ослабленной или распадается. Способность аналитика понять психические состояния, которые нельзя описать в терминах вербализируемого значения, позволяет ему увидеть важную полосу в спектре возможностей, тщательно исследуя тревогу анализанда: страх потери им своей самости — фрагментацию и отчуждение от своего тела и психики в пространстве, распад чувства собственной непрерывности во времени.
Нельзя упускать из виду, что проблема дифференциации страхов, связанных с предвосхищением не поддающихся описанию состояний распада самости, и определенных, вербализируемых страхов осложняется тем, что ошибочные интерпретации могут иногда давать положительные результаты (ср. Glover, 1931), поскольку они усиливают защиты. Как ни парадоксально, позитивный эффект неверной интерпретации, проявляющийся, например, в снижении тревоги, проистекает в первом случае из нежелания пациента оказаться перед лицом конкретного страха (например страха кастрации) — ему привычнее уклоняться от этого и придавать особое значение переживанию неопределенной тревоги и напряжения. Во втором случае ошибочная интерпретация — фокусировка аналитика, соответствующая стремлению пациента, на вербализируемых страхах (например, на страхе кастрации), которая, однако, скрывает более глубокий, не имеющий названия страх (страх дезинтеграции самости), также может некоторое время восприниматься пациентом как облегчение. В ситуациях кризиса, например, когда он имеет дело с тяжелыми травматическими состояниями в ходе анализа нарциссических нарушений личности, аналитик нередко считает целесообразным не возражать против ошибочных интерпретаций пациентом самого себя. То же самое относится и к позитивному эффекту, достигнутому в противоположном случае (подтверждению аналитиком наличия невыразимого напряжения, тогда как тревога анализанда в действительности обусловлена определенным, вербализируемым страхом), — позитивный эффект не является продолжительным; стойких результатов можно достичь только тогда, когда интерпретации относятся к актуальному уровню нарушения.
Однако когда мы имеем дело с предпсихотическими состояниями или с неустойчивым постпсихотическим равновесием, или с другими пограничными состояниями[22], то, что интерпретация заставляет пациента сфокусироваться на более высоком уровне психической деятельности, чем уровень, который был на самом деле затронут, может действительно иметь важный лечебный эффект. Снабжая пациента вербализируемым содержанием, идеализированный терапевт подкрепляет попытку самого пациента остановить поток дезинтеграции путем предпринятого в защитных целях переключения внимания на вербализируемые конфликты и страхи, то есть при помощи рационализации. Тем самым процесс дезинтеграции самости удается порой замедлить или даже предотвратить. Нет надобности говорить, что терапевтическую эффективность обеспечения вторичными процессами психики, которой угрожает дезинтеграция, нельзя считать доказательством того, что в идеационном содержании этих вторичных процессов (информации, заключенной в интерпретации) действительно были правильно определены патогенные силы. Терапевт здесь не помогает пациенту повысить его умение справляться с эндопсихическими процессами, делая бессознательное сознательным (как в случае структурных нарушений), а пытается предотвратить дезинтеграцию самости, стимулируя и подкрепляя у пациента мыслительные функции, усиливающие связность самости.
Из того, о чем говорилось выше, становится ясно, почему аналитикам, придерживающимся мнения, что психопатология нарциссических нарушений личности, а также пограничных случаев и психозов охватывается понятиями структурной модели психики и мира переживаний эдипова комплекса, и считающим, что их интерпретации согласуются с этими представлениями, иногда удается улучшить состояние таких пациентов. Но какими бы полезными ни были эти маневры, мой клинический опыт научил меня, что значительно лучше поддерживать распадающуюся самость объясняя события, из-за которых возникла угроза ее разрушения, чем снабжая пациента рационализациями. В частности, не может быть сомнений в том, что аналитику, имеющему дело с травматическим состоянием в ходе анализа нарциссических нарушений личности, не следует активно обеспечивать пациента рационализациями, связанными с эдиповой психопатологией, — в подходящий момент он должен сосредоточиться на событии, послужившем пусковым механизмом и отяготившем психику анализанда; в противном случае анализанд вскоре поймет, что подвергся тактической манипуляции. Он и в самом деле будет реагировать на намеренно предложенную ошибочную интерпретацию в худшем случае как на своеобразную ложь, в лучшем случае — как на снисходительное лицемерие со стороны аналитика. Я считаю, что то же самое относится к самости, подвергающейся реальной угрозе психотического распада. Однако с пациентами, достигшими устойчивого постпсихотического равновесия, или с теми, у кого никогда не было явных психотических проявлений, но самость которых подвергается опасности затяжного распада и которые поэтому сформировали защитный слой из жестко отстаиваемых убеждений и беспокойств, отвлекающих их внимание от уязвимых мест самости, терапевтическая стратегия не является такой четкой. Иногда бывает полезнее не настаивать на подходе, предполагающем отвлечение внимания пациента от его серьезной озабоченности некоторыми бесконечно описываемыми конфликтами и от беспокойств, которые защищают его от осознания потенциального разрушения самости. А часто бывает лучше не пытаться изменить его представление, будто мир полон врагов — презренных объектов его справедливой ненависти. Какими бы вредными в социальном отношении ни были эти установки, они защищают его, позволяя хоть как-то контролировать диффузные и невербализируемые архаичные стимулы (затрагивая вторично их идеационные содержания), которые угрожают связности его самости.
Как я уже указывал выше, все это относится и к сновидениям, и к анализу сновидений. В принципе существуют два типа сновидений: сновидения, выражающие доступные вербализации скрытые содержания (желания-влечения, конфликты и попытки решения конфликта), и сновидения, пытающиеся при помощи вербализируемых образов связать невербальное напряжение травматических состояний (страх гиперстимуляции или дезинтеграции самости [психоза]). Сновидения этого второго типа отображают страх сновидца по поводу некоторого усиления неконтролируемой напряженности или его страх распада личности. Сам акт отображения этих проблем в сновидении представляет собой попытку справиться с психологической угрозой, скрывая пугающие невербализируемые процессы с помощью вербализируемых зрительных образов. По аналогии с предыдущими рассуждениями в случае первого типа сновидений задача аналитика заключается в том, чтобы следовать за свободными ассоциациями пациента в глубины психики, пока не будет раскрыто бессознательное значение сновидения. При втором типе сновидений свободные ассоциации не ведут к скрытым бессознательным слоям психики; в лучшем случае они снабжают нас дальнейшими образами, остающимися на том же уровне, что и явное содержание сновидения. Исследование явного содержания сновидения и его ассоциативных связей позволяет нам увидеть, что здоровые секторы психики пациента реагируют тревогой на доставляющие беспокойство изменения в состоянии самости — на маниакальную гиперстимуляцию или серьезное депрессивное снижение самооценки — или на угрозу распада самости. Я называю эти сновидения «сновидениями о состоянии самости», в некотором отношении они подобны детским сновидениям (Freud, 1900), сновидениям при травматических неврозах (Freud, 1920) и галлюцинаторным сновидениям, возникающим в состоянии отравления или при высокой температуре тела. Примеры этого второго типа сновидений можно найти в моих предыдущих работах (например, Kohut, 1971, р. 4–5, 149). Ассоциации по поводу таких сновидений не вели к более глубокому пониманию, не раскрывали более глубокого скрытого значения, а имели тенденцию все более фокусироваться на диффузной тревоге, являвшейся неотъемлемой частью сновидения. И правильная интерпретация (речь идет не о поддерживающем психотерапевтическом маневре) объясняет сновидение на основе знания аналитика об уязвимости пациента в целом, включая знание им специфической ситуации, которая в сочетании со специфической уязвимостью привела к вторжению едва завуалированного архаичного материала. Например, в случае сновидения мистера К. о «Боге» (Kohut, 1971, p. 149) аналитик, терпеливо и внимательно выслушав ассоциативный материал, сказал, что недавние события — ожидание пациентом публичных почестей и одновременный страх того, что в перспективе придется расстаться с аналитиком — оживили его старые грандиозные иллюзорные представления, что он был напуган их появлением, но что даже в сновидении он, похоже, привел доказательства своего умения владеть ситуацией с помощью юмора. Следствием этой интерпретации явилось существенное снижение тревоги и — что гораздо важнее — появление ранее скрытого материала, относящегося к детской жизни, которому теперь могло противостоять усилившееся Эго пациента. Я завершаю мой краткий экскурс в психологию сновидений утверждением, что приведенные выше сны являются сравнительно чистыми примерами того второго типа сновидений, в которых архаичные состояния самости представлены в явной (или только в минимально завуалированной) форме. Также встречаются переходные и смешанные формы, например сновидения, в которых определенные элементы (нередко вся сцена сновидения, его атмосфера) отображают аспекты проявившейся архаичной самости, тогда как другие элементы являются следствием структурного конфликта и их можно понять через анализ свободных ассоциаций, которые постепенно выявляют ранее скрытые желания и побуждения.
Теория агрессии и анализ самости
За исключением обсуждавшейся уже теории Гартманна, согласно которой сопротивление вызывается агрессией, в предыдущих своих рассуждениях, где я касался психологии влечений и структурной модели психики (влечений и защит), противопоставляя их психологии самости и модели отношения самости к своему объекту, я говорил прежде всего о либидинозных стремлениях. Поэтому, чтобы завершить свое изложение, я должен теперь обратиться к анализу агрессии.
Вначале я должен сказать, что, как и в случае феноменов в сфере любви, привязанности и интереса, явления, связанные с настойчивостью, ненавистью и деструктивностью, можно рассматривать в рамках влечений. Другими словами, деструктивность человека можно рассматривать как то, что изначально является частью его психологического оснащения, а его способность преодолевать свой инстинкт убивать можно рассматривать как вторичную и определить с точки зрения его способности приручать влечения. Этот подход к человеку и с ним связанная теоретическая система понятий были весьма плодотворными в прошлом, и они остаются важным объяснительным инструментом в клинической ситуации и за ее пределами.
Приведем пример объяснения агрессии человека в рамках классической теории влечений. Можно утверждать, что человек, раз он использует столовую посуду и потребляет приготовленную пищу, должен отказаться от значительной части орально-садистского удовлетворения влечений или, выражаясь иначе, он должен уметь в значительной степени приручать свои орально-садистские влечения, чтобы быть способным питаться цивилизованным способом и отказаться от удовольствия разрывать сырое мясо с помощью зубов и ногтей.
Я хочу еще раз подчеркнуть, что данное утверждение, касающееся гипотетического шага в истории цивилизации, можно было сделать в терминах психологии влечений, не обращаясь к психологии самости. Однако мы можем увидеть некоторые ограничения объяснительной ценности такого подхода, если зададим себе вопрос, почему приобретение цивилизованных привычек способствует повышению самооценки. Я полагаю, что ответ на него нельзя найти ни при помощи психологической модели защиты от влечений, ни даже при помощи структурной психологии (то есть на основе понятия Супер-Эго) — к нему следует подходить путем сравнительного исследования участия самости и ее элементов. Правда, родительское одобрение способствует передаче культурных ценностей, и ребенок, так сказать, меняет непосредственное удовлетворение влечений на родительское одобрение (а позже на одобрение со стороны Супер-Эго). Но эта формулировка остается неудовлетворительной для человека, эмпатически наблюдающего за культурным прогрессом и индивидуальным поведением, — даже будучи правильной, она остается неполной, если ограничивается влечениями и психическим аппаратом. В чем, например, состоят грандиозные фантазии самости, когда человек разрывает пищу на части и ее пожирает? И — для сравнения — в чем состоят грандиозные фантазии самости, когда человек умело использует столовые приборы и горделиво сохраняет вертикальное положение, поднося ко рту пищу?[23]
Представленные в виде вопросов некоторые корректировки постулатов классической теории влечений, сделанные нами с позиции психологии самости, отнюдь не являются маловажными. Но я знаю, что сами по себе они не имели бы большого значения и что потребность в них едва ли можно было бы обосновать утверждением, что теория агрессивного влечения неадекватна, а потому в дополнение к ней необходима другая теория, в которой феномены агрессии рассматривались бы в рамках психологии самости.
Классическое положение психоанализа, согласно которому агрессивные тенденции (включая тенденцию убивать) глубоко укоренены в биологической структуре человека, а потому агрессию следует рассматривать как влечение, имеет под собой прочное основание. Человек не только обладает биологически сформированным аппаратом, позволяющим ему совершать деструктивные действия (например, он оснащен зубами и ногтями, другими словами, инструментами, предназначенными для разрывания и уничтожения), он также использует свои агрессивные потенциальные возможности. Действительно, доказательств, подтверждающих правильность понимания нами человека как агрессивного животного, потерпевшего неудачу в приручении своих разрушительных импульсов, то есть данных о реальном деструктивном поведении человека как индивида и как члена группы, предостаточно. Поэтому и неудивительно, что глубинного психолога, не удовлетворенного адекватностью классической формулировки, его коллеги будут подозревать в том, что он — идеалист, пытающийся уйти от проблем и скрыть неприятную часть реальности. То, что я стал рассматривать классическую формулировку как неадекватную и, в частности, полагаю, что осмысление деструктивности как первичного инстинкта, который стремится к своей цели и ищет выхода, не принесет пользы аналитику, желающему аналитическими средствами предоставить своим пациентам возможность справляться с агрессией, не означает, что я отрицаю деструктивность человека или что я хочу представить ее проявления как относительно редкие, а ее последствия — как не особо существенные. Распространенность и важность деструктивности человека не ставится под сомнение — под сомнение ставится только ее значение, то есть ее динамическая и генетическая сущность.
Как ученый-эмпирик и психоаналитик-клиницист я не пришел к моим представлениям о природе человеческой деструктивности посредством умозрительных рассуждений; мои теоретические формулировки основываются на эмпирических данных, полученных благодаря исследованию сообщений анализандов по поводу своих переживаний, в частности переживаний, возникавших при переносе. Именно благодаря изучению тех аспектов переноса у пациентов, которые имели непосредственное отношение к деструктивности — особенно их «сопротивлений» и «негативных переносов», — я стал рассматривать их деструктивность с иных позиций, то есть не как проявление первичного влечения, которое постепенно обнаруживается в ходе аналитического процесса, а как продукт дезинтеграции, который, будучи примитивным, все же не является первичным в психологическом отношении. Агрессия, с которой мы сталкиваемся при переносе, не является первопричиной в психологическом смысле — ни тогда, когда она проявляется в виде «сопротивления», ни тогда, когда она проявляется в виде «негативного переноса». В первом случае она чаще всего является результатом действий со стороны аналитика (прежде всего, разумеется, интерпретации), которые пациент воспринимает как проявление недостаточной эмпатии (как отсутствие настроенности в унисон с ним)[24], при этом основная мотивация приходится на поведение аналитика в настоящем. Во втором случае она представляет собой оживление реакций на недостаток эмпатии со стороны объектов самости в детстве (на отсутствие их настроенности в унисон с ребенком), а основная мотивация приходится на прошлое (часто она связана с психопатологией объектов самости в детстве).
Имеем ли мы право делать общие выводы о психологической сущности одного из важнейших атрибутов человека, наблюдая за ним in vitro[25], в частности, наблюдая и интерпретируя такие вроде бы ограниченные образцы поведения, как сопротивление анализанда и негативный перенос? Я не думаю, что ученый, изучающий поведение вне сферы психоанализа, с легкостью даст утвердительный ответ на этот вопрос. Однако я смею утверждать, что подход к пониманию мира переживаний человека и, следовательно, к пониманию его поведения, открытого нам благодаря наблюдению (динамически) широко и (генетически) глубоко понятых феноменов в психоаналитической ситуации, является непревзойденным и что выводы, к которым мы приходим на основе этих наблюдений, и в самом деле заслуживают того, чтобы их широко применяли[26].
В принципе я считаю, что деструктивность человека как психологический феномен является вторичной, что исходно она возникает из-за неспособности окружающих объектов самости удовлетворить потребность ребенка в оптимальных — но, следует подчеркнуть, не максимальных — эмпатических ответах. Кроме того, агрессия как психологический феномен не является элементарной. Подобно неорганическим строительным блокам органической молекулы она с самого начала является компонентом самоутверждения ребенка, и в обычных условиях она остается слитой с утверждением себя в жизни зрелой самости взрослого человека.
Разрушительный гнев, в частности, всегда мотивирован повреждением самости. Самый глубокий уровень, на который может проникнуть психоанализ, прослеживая деструктивность (независимо от того, связана она в симптоме или в черте характера или выражается в сублимированной или сдержанной в отношении цели форме), еще не достигнут, если удалось обнаружить деструктивное биологическое влечение; он не достигнут, если анализанд стал осознавать, что ему хочется (или хотелось) убить. Это осознание — всего лишь промежуточная станция на пути к психологической «первопричине»: к осознанию анализандом наличия серьезной нарциссической травмы — травмы, поставившей под угрозу целостность самости, прежде всего нарциссической травмы, нанесенной в детстве объектом самости.
Читателю, знакомому с психоанализом, разумеется, очевидно, что я использовал здесь термин «психологическая первопричина», чтобы противопоставить мои взгляды взглядам Фрейда, высказанным им (Freud 1937, р. 252–253) в завершение своих глубоких рассуждений о терапевтическом воздействии психоанализа. Я не думаю, что угроза кастрации (отказ мужчины от пассивности в отношении другого мужчины; отказ женщины от своей женственности) является той «первопричиной», дальше которой не может проникнуть анализ. «Первопричиной» является то, что угроза психике серьезнее, чем угроза физическому выживанию, пенису или мужскому господству: речь идет об угрозе разрушения ядерной самости[27]. Правда, почти для всех людей потребность сохранять связность телесной самости является доминирующим содержанием ядерной самости. То же самое относится к инициативности и самоутверждению индивида, но совершенно не обязательно и не без исключений. Если селективные ответы объектов самости не сформировали нормальную ядерную самость у мальчика или у девочки, а привели к возникновению ядерных целей и идеалов, которые не характеризуются приматом фаллически-эксгибиционистского физического выживания и триумфального активного превосходства, то даже смерть и мученическая пассивность становятся терпимыми и желанными. И наоборот, выживание и социальное господство могут быть приобретены ценой отказа от ядра самости и ведут, несмотря на кажущуюся победу, к ощущению бессмысленности и отчаяния.
Как бы ни было важно признать — не только в теории, но и особенно в клинической практике — генетически-динамическое главенство нарциссической травмы, остановимся теперь на приоритете в развитии сложных психологических конфигураций, которые с самого начала содержат агрессию — понимается ли агрессия как влечение или как паттерн реакции — только в качестве подчиненного элемента подобно тому, как даже самые примитивные биологические задатки образованы сложными органическими молекулами, а не просто неорганическими. (Первые представляют собой первичные конфигурации; последние, хотя и более примитивны, являются вторичными — фрагментами первых, продуктами их распада.) Гнев и деструктивность ребенка нельзя понимать как выражение первичного инстинкта, стремящегося к своей цели или к отводу. Они должны быть определены как продукты регрессии, как фрагменты более широких психологических конфигураций, составляющих ядерную самость. Иными словами, агрессия ab initio выступает в качестве элемента этих более широких конфигураций, какими бы рудиментарными они ни были в начале жизни. Если говорить в описательных терминах об агрессивности, то базисная линия поведения не является линией поведения разгневанного и деструктивного ребенка — с самого начала она представляет собой линию поведения утверждающего себя ребенка, чья агрессия является элементом настойчивости и уверенности, с которыми он предъявляет требования в отношении объектов самости, создающих вокруг него обстановку (средней) эмпатической отзывчивости. Хотя, разумеется, каждый младенец неизбежно сталкивается с наносящими травму задержками проявления эмпатии (запаздываниями), гнев, демонстрируемый ребенком, не является первичным[28]. Первичная психологическая конфигурация, какой бы недолговечной она ни была, содержит не деструктивный гнев, а утверждение индивидом себя в чистом виде; последующий разрыв крупной психической конфигурации изолирует компонент самоутверждения и тем самым вторично преобразует его в гнев. (Возможно ли обратное — после успешного выживания в период пребывания в утробе?) Я не оспариваю в этом контексте поведенческую формулировку (Benedek, 1938; см. также мои замечания по поводу особой теоретической позиции, занимаемой Бенедек и другими [Kohut, 1971, р. 219, прим. 1]), что у младенца развивается доверие к своему окружению. Но хотя эта, в сущности, социально-психологическая формулировка описывает генетическую последовательность правильно, она неточна, поскольку оставляет без внимания тот важный факт, что доверие младенца является врожденным, то есть имеется с самого начала. Младенец не развивает доверие, он восстанавливает его. Другими словами: базисная линия психологической жизни не проявляется ни в состояниях полного психического равновесия (спящий без сновидений младенец), ни в состояниях серьезно нарушенного равновесия, то есть в травматических состояниях (гневливый, голодный младенец) — она проявляется в эмпирическом содержании первых импульсов к восстановлению психического равновесия в тот момент, когда оно нарушается (утверждающий себя здоровый младенец, заявляющий о своих желаниях).
В связи с тем, что агрессия является элементом недеструктивных первичных конфигураций и что изолированная деструктивность — «влечение», — появляющаяся после распада этих конфигураций, с позиций психологии представляет собой продукт дезинтеграции, необходимо подчеркнуть два момента.
(1) В начале жизни эти недеструктивные первичные психологические конфигурации очень просты и не имеют идеационного содержания; тем не менее следует еще раз подчеркнуть: они не являются изолированными влечениями. Если теоретик в области глубинной психологии будет настаивать, что мы говорим здесь о допсихологическом состоянии, которое надо исследовать методами биологии или бихевиоризма, он не станет отвергать положения, что изолированная агрессия, выражаясь психологически, является продуктом дезинтеграции. Если же он настаивает на биологическом подходе, вопрос о психологической сущности деструктивного на первый взгляд поведения младенца будет просто отложен, а мои выводы следовало бы тогда отнести к моменту, когда начинается, так сказать, психологическая жизнь. Если, однако, на основе нейрофизиологических данных простая бихевиористская позиция отстаивается в качестве единственно правомерного научного подхода в отношении маленького ребенка, то мы должны спросить, допускает или не допускает бихевиорист, оценивая поведение младенца, примесь эмпатии. Если он ее допускает, то мои выводы применимы, если же не допускает, то они снова откладываются.
(2) Роль, которую играет изначальная агрессия в контексте более широких конфигураций, существующих, по моим представлениям, с самого начала — какими бы примитивными они ни были у младенца, — следует рассматривать вначале с точки зрения установления рудиментарной самости, а затем с точки зрения ее сохранения[29]. Другими словами, недеструктивная агрессивность является составной частью утверждения требований рудиментарной самости, и она мобилизуется (отграничивая самость от окружения) всякий раз, когда переживаются оптимальные фрустрации (не травмирующие задержки эмпатических ответов со стороны объекта самости). Здесь надо добавить, что недеструктивная агрессивность имеет свою собственную линию развития — она развивается не из примитивной деструктивности под влиянием воспитания, а трансформируется в обычных условиях из примитивных форм недеструктивного самоутверждения в зрелые формы самоутверждения, в которых агрессия подчинена выполнению определенных задач. Нормальная, первичная, недеструктивная агрессия в своей примитивной, равно как и в своей развитой форме, исчезает, как только цели, к которым стремился индивид, достигнуты (независимо от того, относились ли эти цели в основном к объектам, воспринимавшимся как отдельные от самости — как независимые центры инициативы, — или же к самости и к объектам самости). Если, однако, соответствующая стадии потребность во всемогущем контроле над объектом самости была хронически и травматически фрустрирована в детстве, то возникнет хронический нарциссический гнев со всеми его пагубными последствиями. Поэтому деструктивность (гнев) и его последующий идеационный компонент (убеждение в том, что окружение является, в сущности, недружелюбным — «паранойяльная позиция», по М. Кляйн) не приводят к появлению элементарных, первичных психологических данностей и, несмотря на то, что на протяжении всей жизни они могут влиять на восприятие индивидом мира и определять его поведение, они представляют собой продукты распада — реакции на достигающие степени травматизации перебои в эмпатических реакциях объекта самости, которые ребенок начинает воспринимать по крайней мере в самых первых, смутных очертаниях. Здесь уместно повторить, что принципы, изложенные мной в отношении переживания агрессии и гнева применимы также и к либидинозным влечениям. Изолированное сексуальное влечение ребенка не является первичной психологической конфигурацией — будь то на оральном, анальном, уретральном или фаллическом уровне. Первичная психологическая конфигурация (в которой влечение является лишь элементом) представляет собой переживание отношений между самостью и эмпатическим объектом самости. (См. описание воображаемого взаимодействия между матерью и ребенком.) Изолированные проявления влечения возникают только после травмирующего и/или продолжительного недостатка эмпатии со стороны окружения. С другой стороны, здоровое переживание влечений всегда включает в себя самость и объект самости — если, как я указывал выше, самость не является серьезно нарушенной, мы даже можем без большого вреда убрать это понятие из наших психодинамических формулировок[30]. Но если самость серьезно повреждена или разрушена, то влечения сами собой становятся важнейшими констелляциями[31]. Чтобы избежать депрессии, ребенок обращается от неэмпатического или отсутствующего объекта самости к оральным, анальным и фаллическим ощущениям, которые он переживает с большой интенсивностью. И эти детские переживания гиперкатектированных влечений становятся точками кристаллизации для форм взрослой психопатологии, являющихся, по сути, болезнями самости. Таким образом, и здесь самые глубокие уровни, которые будут достигнуты при анализе, скажем, определенных перверсий, не относятся к переживанию влечений (например, если говорить в поведенческих терминах, оральных, анальных влечений, фаллической мастурбации ребенка). И цель анализа заключается не в том, чтобы продемонстрировать пациенту, быть может, теперь уже полностью выявленные влечения и помочь ему научиться подавлять их, сублимировать или интегрировать их какими-то другими способами в свою личность. Самый глубокий уровень, который будет достигнут, представляет собой не влечение, а угрозу организации самости (в поведенческих терминах — депрессивный ребенок, ипохондрический ребенок, ребенок, ощущающий себя мертвым), переживание отсутствия поддерживающей жизнь матрицы, то есть эмпатической отзывчивости со стороны объекта самости.
Еще раз возвращаясь к обсуждению роли агрессии в человеческой психологии, позвольте мне опять подчеркнуть, что гнев и деструктивность — я включаю сюда также важные в генетическом отношении предшествующие переживания в детском возрасте, объясняющие склонность к нарциссическому гневу, который может вновь оживляться при переносе и вспоминаться нашими анализандами, страдающими нарциссическими нарушениями личности, — не являются первичными данностями, а возникают при реакции на недостаточные эмпатические ответы со стороны объекта самости. Правда, небольшая степень фрустрации веры ребенка в эмпатическое совершенство объекта самости является необходимой — не только для того, чтобы возникли преобразующие интернализации, формирующие структуры, без которых невозможна толерантность к отсрочке ответов, но также и для того, чтобы стимулировать приобретение ответов, согласующихся с тем фактом, что в мире есть и реальные враги, то есть другие самости, нарциссические требования которых вступают в противоречие с выживанием собственной самости. Если такой небольшой степени фрустрации не существует, то есть если объект самости из-за недостатка эмпатии в течение слишком долгого времени остается в запутанных отношениях с ребенком, — то могут возникнуть условия, которые я иногда в клинической ситуации называл в шутку «патологическим отсутствием паранойи». Однако изолированное стремление искать выход для гнева и деструктивности не является элементом первичной психологической организации человека, чувство вины в связи с бессознательным гневом, которое мы часто встречаем в клинической ситуации, нельзя расценивать как реакцию пациента на первичную инфантильную злость.
Противоположное — и, на мой взгляд, ошибочное представление — отстаивается кляйнианской школой. В другой работе (Kohut, 1972) я обсуждал терапевтическую установку, которая соотносится с отстаиваемыми здесь мною базисными теоретическими представлениями. В частности (опять-таки в отличие от тех представлений, которые испытали на себе влияние кляйнианских идей), она ведет (если говорить об общей стратегии аналитической работы) к смещению акцента от совокупности психологических проявлений, лежащих ближе к психологической поверхности (содержание гнева, чувство вины пациента из-за своих деструктивных целей), к более глубокой психологической матрице, из которой возникли гнев и — вторично — обусловленное им чувство вины. Другими словами, гнев следует рассматривать не как первично данный — как «первородный грех», требующий искупления, чувственное влечение, которое должно быть «приручено», — а как специфический регрессивный феномен — как психологический фрагмент, ставший изолированным в результате распада более сложной психологической конфигурации и, таким образом, дегуманизированным и искаженным, — как возникший вследствие (патологического и патогенного) недостатка эмпатии со стороны объекта самости. Хотя по тактическим соображениям ограничение гнева и динамика цикла чувства вины и гнева часто на какое-то время занимают особое место на аналитической сцене — анализанд, который не сознает свой гнев, должен сначала его почувствовать, прежде чем он сможет плодотворно исследовать более широкий контекст, в котором он возникает, — в конечном счете задача анализа состоит в том, чтобы помочь анализанду стать достаточно эмпатическим в отношении самого себя и понять генетический контекст, в котором возник гнев и закрепилось чувство вины (вследствие обвинения ребенка объектами самости из-за их собственной неспособности адекватно реагировать на эмоциональные требования ребенка). Если, таким образом, гнев и чувство вины проработаны при переносе с учетом матрицы патогенных нарциссических фрустраций, которым в детстве подвергся индивид, страдающий нарциссическими нарушениями личности (включая также вторичный гнев и вторичное чувство вины), то гнев и чувство вины постепенно исчезают, пациент начинает относиться к родительским недостаткам с терпимостью зрелого человека и более снисходительно (возможно, как к последствиям детского восприятия родителей) и будет учиться справляться с неизбежными фрустрациями своих потребностей в эмпатической отзывчивости окружения с помощью все более разнообразных и нюансированных реакций.
Структурно-динамические отношения между патологией самости, с одной стороны, и фиксацией влечений и инфантилизмом Эго — с другой, становятся особенно очевидными при определенном типе сексуальной перверсии, где нарушение самости является центром психологического заболевания.
Мистер А. (см. Kohut, 1971, p. 67–73), мать которого, страдавшая тяжелой патологией (скрытой шизофренией?), давала ему в детстве крайне неадекватное зеркальное отображение и у которого идеализированный образ отца был травматически разрушен, на ранних этапах своего анализа вспомнил, как, будучи ребенком, рисовал людей с огромной головой, поддерживаемой телом, состоящим из туловища толщиной в карандашную линию и точно такими же конечностями. На протяжении всей жизни ему снились сны, в которых он воспринимал себя в виде мозга, находившегося наверху не имевшего субстанции тела. По мере продвижения анализа он стал способен описывать причинную (мотивационную) связь между ужасным ощущением пустоты доставлявшего ему страдания и некоторыми сексуализированными фантазиями, к которым он прибегал, чувствуя себя подавленным, — он воображал, что с помощью своего «мозга» подчинял себе некоего огромного человека, сковав его цепью благодаря какой-то умной уловке, чтобы впитать — посредством предсознательной фантазии о фелляции — всю мощь великана. Вначале он чувствовал себя нереальным, поскольку воспринимал свою телесную самость как фрагментированную и бессильную (из-за отсутствия адекватных доставляющих радость ответов со стороны материнского объекта самости) и поскольку едва сформированная структура его руководящих идеалов была серьезно ослаблена (из-за травмирующего разрушения отцовского всемогущего объекта самости). Только один фрагмент его грандиозно-эксгибиционистской самости сохранил хоть немного силы и твердости: его мыслительные процессы, его «мозг», его ум. Именно на этом фоне мы и должны понимать несексуальное значение извращенной сексуальной фантазии, сопровождавшей его занятия мастурбацией. Фантазия выражала попытку использовать последний остаток его грандиозной самости (всемогущее мышление — уловку), чтобы вновь обладать идеализированным всемогущим объектом самости (чтобы проявить абсолютный контроль над ним — сковать цепью), а затем интернализировать его посредством фелляции. Хотя акт мастурбации сразу давал пациенту ощущение силы и повышал самооценку, он, разумеется, не мог восполнить структурный дефект, от которого страдал пациент, и поэтому должен был повторяться снова и снова — пациент действительно был от него зависим. Однако успешного заполнения структурного вакуума удалось в конечном счете достигнуть несексуальным способом — благодаря переработке в процессе анализа. Это произошло не в результате инкорпорации магической силы, а благодаря преобразующей интернализации идеализированных целей, оказавших самости нарциссическую поддержку.
Садистские фантазии этого пациента — сковывание цепью объекта самости, чтобы отнять его силу, — стали понятными, когда они были исследованы с точки зрения отношения самости к объекту самости, а не с точки зрения психологии влечений. Загадочная природа сексуального мазохизма также во многом проясняется, при условии ее исследования в таком аспекте: если здоровые желания ребенка слиться с идеализированным объектом самости остались без ответа, то идеализированное имаго разбивается на фрагменты, а потребность в слиянии сексуализируется и направляется на эти фрагменты. Мазохист пытается восполнить дефект в той части самости, которая должна обеспечить его обогащающими идеалами посредством сексуализированного слияния с отвергающими (наказывающими, унижающими, умаляющими) частями всемогущего родительского имаго.
Прежде чем оставить тему перверсий, я полноты ради мимоходом добавлю, что вполне может существовать и другой тип сексуального отклонения, при котором самость, по сути, является сохранной. В этих случаях аномальные сексуальные цели возникают из-за регрессии влечений, обусловленной избеганием эдиповых конфликтов, в частности под давлением страха кастрации. Однако подобного рода случаи, в которых в поиске специфического догенитального удовольствия активно участвует устойчивая самость, — а не самость, пытающаяся добиться связности и прочности при помощи извращенных действий, — редко встречаются в клинической практике аналитика; я бы предположил, что такие индивиды не будут испытывать потребности в терапии столь сильно, как те, у кого основной психопатологией является фрагментированная или ослабленная самость.
В большинстве перверсий, с которыми сталкивается аналитик в своей клинической работе, поведенческие проявления, которые кажутся выражением первичного влечения, оказываются вторичными феноменами. Сущностью садизма и мазохизма не является, например, выражение первичной деструктивной или саморазрушительной тенденции, первичного биологического влечения, которое только вторично может удерживаться под контролем посредством слияния, нейтрализации и прочих средств; это — процесс двухступенчатый: после разрушения первичного психологического единства (необходимого для достижения ребенком эмпатического слияния с объектом самости) влечение появляется в качестве продукта дезинтеграции; в таком случае влечение служит стремлению воссоздать утраченное слияние (и тем самым восстановить самость) патологическими средствами, то есть как это обычно бывает в фантазиях и поступках извращенного человека.
Но это является лишь концептуализацией примата агрессивного влечения в частности и «влечения» в целом, которое является неадекватным в отношении широких областей во вселенной комплексных психических состояний, которыми занимается глубинный психолог; осмысление пути, которым «следуют» влечения, особенно таких понятий, как вытеснение, сублимация или разрядка, созданных по аналогии с механическими моделями действия (запруживание реки, прохождение электричества через трансформатор или дренаж нарыва) оказываются неправомерными в отношении многочисленных важных, удостоверяемых опытным путем психологических фактов. Такие на первый взгляд абстрактные проблемы, как те, что были затронуты нами при обсуждении понятий вытеснения, сублимации, разрядки влечения, имеют важные практические выводы; или — если сформулировать иначе — понятийные изменения, привнесенные психологией самости, влияют не только на наши теоретические представления, но и прежде всего на наши профессиональные представления — терапевтов, педагогов и социальных работников. Если, например, восприятие аналитиком некоторых поведенческих проявлений анализанда обусловлено образом, который отображает вытесненную агрессию в форме силы, удерживаемой под контролем противоположной силой (например, защитной чрезмерной идеализацией), то тогда его цель будет состоять в том, чтобы сделать агрессию осознанной, чтобы благодаря этому можно было ее подавить, сублимировать в твердость как черту характера или разрядить посредством реалистического действия. Или, если обратиться к примеру из социальной сферы, реформатор, основывающийся в своих советах на классической психоаналитической теории влечений, возможно, будет выступать за разрядку агрессии у живущих в трущобах подростков посредством институциализированных, социально безопасных видов деятельности, например посредством занятия спортом, а их агрессивных фантазий — посредством кино и телевидения и т. п. Но какими бы изящно простыми и убедительными ни были эти идеи, они не всегда являются приемлемыми. Я считаю, что по крайней мере в некоторых важных случаях агрессию невозможно дренировать, как нарыв, или разрядить и освободить, как сперму мужчины при половом акте; сильный и постоянный нарциссический гнев, например, может сохраняться у индивида всю жизнь, не ослабляясь никакой разрядкой, и то же самое относится к некоторым наиболее деструктивным наклонностям группы. «Михаэль Кольхаас» Клейста и «Моби Дик» Мелвилла являются художественными иллюстрациями этого явления в области психологии индивида; последователи Гитлера с их мстительной деструктивностью служат историческим примером в области психологии групп (ср. Kohut, 1972).
Мы приближаемся к концептуальной ясности в этих случаях и, кроме того, усиливаем рычаги для возможного управления, если смещаем акцент с переработки влечений психическим аппаратом на идею об отношениях между самостью и ее объектом. Именно потеря контроля самости над своим объектом и ведет к фрагментации доставляющего радость самоутверждения, а в дальнейшем развитии — к доминированию и закреплению хронического нарциссического гнева. Из-за неспособности родительского объекта самости выступать в качестве доставляющего радость зеркала для здорового самоутверждения ребенка у него на всю жизнь могут остаться обида, чувство горечи и садизм, от которых невозможно избавиться, — и только посредством терапевтической реактивации изначальной потребности в ответах со стороны объекта самости действительно удается уменьшить гнев и садистский контроль, вернуться к здоровому самоутверждению. И то же самое относится к возможному коррективному воздействию на агрессию группы. Как я уже отмечал, социальный реформатор под влиянием концепции неприручённых агрессивных влечений, возможно, будет выступать за содействие развитию спорта, чтобы уменьшить враждебное напряжение среди живущих в трущобах подростков посредством сублимированной и сдержанной в отношении цели разрядки влечений. Однако социальный реформатор, руководствующийся представлениями о фрагментированной самости, сосредоточится не на агрессивно-деструктивном влечении, а на недостаточной целостности самости у молодых людей, живущих в трущобах; и он попытается вызвать коррективное воздействие через повышение самооценки и обеспечение доступных идеализации объектов самости. Вместе с тем нам должен дать пищу для размышлений тот факт, что подход, ориентированный на влечения, может оказаться успешным, хотя он и основывается на менее релевантной теории. Если говорить в терминах только что приведенного примера: введение институциализированных спортивных состязаний может действительно привести к снижению агрессивно-деструктивных наклонностей у живущих в трущобах подростков, но не потому, что тем самым обеспечивается отвод влечений, а благодаря повышению самооценки в результате того, что родительский объект самости (правительственный орган) проявляет интерес к молодым людям, благодаря усилению связности самости в результате умелого использования тела и благодаря тому, что предлагаются фигуры (герои спорта), которые могут быть идеализированы. Другими словами, все эти социальные реформы являются эффективными потому, что ведут к укреплению самости подростков и тем самым вторично к уменьшению диффузного гнева, проистекавшего прежде из матрицы фрагментации.
Завершение анализа и психология самости
Как я отмечал в начале этой главы, наши теоретические представления оказывают значительное влияние на оценку нами того, достиг ли анализ момента своего завершения. Однако, вопреки ожиданиям, представления структурной психологии в вопросе о завершении анализа даже с уточнениями Эго-психологии в принципе не отличаются от представлений в рамках топографического подхода, предшествовавшего структурной психологии. Более того, если рассматривать с позиции психологии самости, две эти точки зрения тесно с друг другом связаны. Правда, при «структурном подходе» оценивается степень автономии и влияния Эго, независимости от влечений или приручения строптивых влечений человека, тогда как при «топографическом» — степень увеличения знания (исчезновение детской амнезии, припоминание основных событий в детстве и понимание динамических взаимосвязей). Но два этих подхода едины в одном: в них состояние человека рассматривается, по существу, сквозь призму конфликта между его стремлением к удовольствию и деструктивными тенденциями (влечениями), с одной стороны, и структурами, перерабатывающими и обуздывающими влечения (функциями Эго и Супер-Эго), — с другой.
И как же тогда в сравнении с ними оценивается готовность анализанда завершить свой анализ в рамках психологии самости?
Мне кажется, что в широком смысле функционирование человека следует рассматривать как имеющее два направления. Я определяю их, говоря о Виновном Человеке, когда цели направлены на реализацию его влечений, и о Трагическом Человеке, когда цели направлены на осуществление самости. Попытаюсь вкратце развить эту мысль: Виновный Человек живет в рамках принципа удовольствия; он пытается удовлетворять свои ищущие удовольствия влечения[32], чтобы уменьшить напряжение, возникающее в эрогенных зонах. То, что человек зачастую неспособен достичь своих целей в этой сфере — не только из-за давления со стороны окружения, но и прежде всего в результате внутреннего конфликта, — побудило меня назвать его Виновным Человеком, если рассматривать его в этом контексте. Концепция человеческой психики как психического аппарата и теории, сгруппировавшиеся вокруг структурной модели психики (классический пример — конфликт Супер-Эго в связи с инцестуозными желаниями удовольствия) составляют основу формулировок, используемых аналитиками для описания и объяснения стремлений человека в этом направлении. С другой стороны, Трагический Человек стремится выразить структуру своей ядерной самости; его усилия находятся по ту сторону принципа удовольствия. Здесь также является неопровержимым фактом то, что неудачи[33] человека затмевают его успехи, и это побудило меня обозначить данный факт негативно термином «Трагический Человек», а не «самовыражающийся» или «творческий». Психология самости — в частности, концепция самости как биполярной структуры и постулат о наличии градиента напряжения между двумя полюсами — составляет теоретическую основу формулировок, которые могут использоваться для описания и объяснения стремлений человека в этом втором направлении.
Представив только в самых общих чертах два основных аспекта психологической природы человека, которые я сумел выделить, и два глубинно-психологических подхода, необходимых для того, чтобы к ним подступиться, я завершаю мои рассуждения и возвращаюсь к нашим первоначальным вопросам: какой критерий должны мы использовать, чтобы решить, достаточный ли лечебный эффект был достигнут посредством анализа? И какой критерий должны мы использовать, чтобы решить, действительно ли анализ достиг своего завершения? Хотя мы осветили уже эти вопросы с различных сторон, теперь следует обратиться к другим их аспектам и проанализировать их в свете предыдущих рассуждений.
В случае структурного невроза мы можем определить прогресс и успешность анализа, оценив, сколько знания пациент приобрел о себе, прежде всего с точки зрения происхождения и психодинамики своих симптомов и патологических черт характера, и оценив, какую степень контроля он приобрел над своими инфантильными сексуальными и агрессивными стремлениями, особенно над теми, которые генетически и динамически связаны с его симптомами и патологическими чертами характера, и насколько устойчивы и надежны приобретенные формы контроля.
Однако, если мы имеем дело с нарциссическим нарушением личности или нарциссическим нарушением поведения, успешность анализа следует оценивать в первую очередь с точки зрения связности и прочности самости пациента и прежде всего с позиции того, стал ли один из секторов самости непрерывным — от одного его полюса до другого — и стал ли он надежным инициатором и исполнителем доставляющих радость действий. Выражаясь иначе, в случаях нарциссического нарушения личности аналитический процесс приводит к излечению, восполняя дефекты в структуре самости посредством самостно-объектного переноса и преобразующей интернализации. Нередко — как в случае мистера М. — излечение достигается не через полную компенсацию первичного дефекта, а через восстановление компенсаторных структур. Основной вопрос состоит не в том, все ли структуры стали функциональными, а в том, может ли теперь пациент благодаря использованию функций восстановленных структур наслаждаться переживанием своей эффективно функционирующей и креативной самости. И я только добавлю к этой простой формулировке однонаправленных причинно-следственных отношений (восполнение структурных дефектов ведет к повышению функциональной витальности), что в результате возникает повторяющийся благотворный цикл: укрепившаяся самость становится центром организации умений и талантов личности и тем самым способствует осуществлению этих функций; в свою очередь успешная реализация умений и талантов повышает связность и тем самым силу самости.
Предыдущий ответ на взаимосвязанные вопросы о том, в чем состоит психоаналитическая терапия нарциссических нарушений личности и что такое правомерное завершение анализа, требует дальнейшего обсуждения. Например, его можно критиковать, ибо в таком случае, кажется, игнорируется когнитивный аспект, то есть оставляется в стороне содержание и степень знания, которое приобрел анализанд в процессе анализа, ибо в таком случае недостаточно учитывается — недостаточно оценивается и измеряется — достигнутое понимание. На мой взгляд, критерий расширения знания не выглядит сегодня таким важным, каким он казался на заре психоанализа — даже если речь идет о неврозах, возникших в результате конфликта. Поэтому я считаю, что это изменение не объясняется в первую очередь тем, что в ранний период аналитики делали акцент на структурных нарушениях, а сегодня они направляют свое основное внимание на нарушения самости. Другими словами, главное изменение касается установки наблюдателя — свидетельство перехода от топографической модели с ее акцентом на расширении знания (сделать бессознательное сознательным) к структурной модели с ее акцентом на расширении области Эго, — а не природы предмета, то есть не связано с тем, что вместо классических неврозов переноса стали преобладать нарциссические нарушения личности. На самом деле точно так же легко применить критерий расширения знания (достижения понимания) как для оценки аналитической терапии нарциссических нарушений личности, так и для оценки аналитической терапии классических неврозов переноса; разве что содержание того, что должно стать известным, и сопротивления, противостоящие приобретению знания, при неврозах, возникших в результате конфликта, и при нарциссических нарушениях личности различаются. При неврозах, возникающих в результате конфликта, скрытое знание касается, если мы хотим оставить в стороне участие самости, влечений-желаний. И сопротивления, проистекающие из бессознательных инфантильных слоев Эго, стремятся защитить личность от переживания детских страхов, связанных с этими влечениями-желаниями, например, от переживания страха кастрации. При нарциссических нарушениях личности скрытое знание касается стремлений ядерной самости — потребности подтвердить реальность самости посредством соответствующих ответов зеркально отражающего и идеализированного объекта самости. А сами сопротивления своими корнями уходят в глубочайшие бессознательные слои личности: сопротивления являются следствием деятельности архаичной ядерной самости, которая не желает более подвергаться разрушительной нарциссической травме, обнаружив, что ее базальные потребности в зеркальном отражении и идеализации остаются без ответа, то есть сопротивления обусловливаются страхом дезинтеграции.
Представленное в этих терминах различие между моделями психоаналитического процесса при неврозах переноса и при нарциссических нарушениях личности является вполне очевидным, но не очень большим: в первом случае мы имеем дело с конфликтом между психологическими структурами, в последнем — с конфликтом между архаичной самостью и архаичным окружением, предшественником психологической структуры (ср. Kohut, 1971, р. 19, 50–53), которое воспринимается как часть самости. Рассмотренные в рамках этой понятийной системы критерии, которые должны использоваться при оценке успехов и неудач наших психоаналитических усилий в случае структурных неврозов и нарциссических нарушений личности, а также с позиции того, действительно ли пришло время для завершения анализа, будут, по существу, одинаковыми. Однако с точки зрения вытесненного содержания эти два класса нарушений не являются одинаковыми: инцестуозные влечения-желания или страх наказания (страх кастрации) в одном случае; потребности дефектной самости или желание избежать унижения, заново подвергаясь нарциссическим травмам детства (страх дезинтеграции) — в другом; эти критерии должны применяться по-разному. Хотя нарциссические нарушения личности столь же доступны анализу, как и классические неврозы переноса, переносы объекта самости, которые развиваются у этих пациентов, и с ними связанные процессы переработки, приводящие к их разрешению, не укладываются в схему классической модели. Основная психопатология при нарциссических нарушениях личности определяется тем, что самость не была надежно сформирована, что ее связность и устойчивость зависят от наличия объекта самости (или от развития переноса объекта самости) и что она отвечает на потерю объекта самости ослаблением, разного рода регрессией и фрагментацией. (Как я указывал прежде [Kohut, 1972, р. 370, прим. 2; 1975b, прим. 1], обратимость этих неблагоприятных изменений является признаком, отличающим нарциссические нарушения личности от пограничных состояний и психозов.) Поэтому завершение анализа нарциссических нарушений личности должно оцениваться с помощью понятийных критериев, по которым можно определить степень исправления дефектов самости, лежащих в основе психопатологии. Другими словами, анализ пациента с нарциссическим нарушением личности достигает стадии завершения, если самость анализанда стала устойчивой, если она перестала реагировать на потерю объектов самости фрагментацией, серьезным ослаблением или неконтролируемым гневом.
Но какой бы критерий ни использовался для оценки — расширение знания (понимания) или достигнутая степень связности и стабильности самости (гораздо более релевантный подход), — я бы хотел еще раз сказать, что придаю большое значение внутреннему ощущению пациента (часто едва различимому, но четко проявляющемуся в его сновидениях), что аналитическая задача выполнена. Разумеется, позиция пациента должна быть тщательно исследована, и должна быть рассмотрена возможность защитного бегства в здоровье. Тем не менее я все более убеждался, что при нарциссических нарушениях личности — эти же наблюдения относятся и к классическим неврозам — по аналогии со спонтанным возникновением переноса (начало аналитического процесса) осознание пациентом того, что было достигнуто успешное преобразование объекта самости в психологическую структуру, является неотъемлемой частью процесса, в который мы не должны вмешиваться; этому процессу мы можем содействовать, но развертывание его, в сущности, мы не контролируем.
Эти идеи подводят меня к следующему предварительному заключению. Успешное окончание анализа нарциссических нарушений личности достигнуто тогда, когда после наступления и проработки действительной стадии завершения прежде ослабленная или фрагментированная ядерная самость анализанда — его ядерные амбиции и идеалы в сочетании с определенными умениями и талантами — стала достаточно сильной и прочной, чтобы функционировать как более или менее самодвижущаяся, самоуправляющаяся и самоподдерживающаяся единица, которая определяет главные цели личности пациента и придает осмысленность его жизни. Чтобы подчеркнуть, что такой терапевтический успех достигается благодаря устойчивому изменению психических функций, для этого конечного результата процесса восстановления самости я ввожу термин «функциональное восстановление». Другими словами, я полагаю, что проявления, характеризующие стадию завершения анализа пациента с нарциссическим нарушением личности, выразятся в свободных ассоциациях анализанда в тот момент, когда объекты самости (и их функции) окажутся в достаточной мере преобразованы в психологические структуры, в результате чего они будут функционировать в известной степени независимо (см. Kohut, 1971, р. 278 etc.), в соответствии с самостоятельно генерируемыми паттернами инициативы (амбициями) и внутренним руководством (идеалами).
Глава 3 Размышления о природе доказательств в психоанализе
К проблеме завершения анализа и излечения нельзя подойти, не описав вначале характер нарушения, подвергшегося терапии. И невозможно никого убедить в правильности определения тех или иных психических нарушений, которые будут ослаблены или устранены посредством анализа, если вначале не показать, что система понятий, в которую включены эти определения — в данном контексте система понятий психологии самости, — является валидной и релевантной. Но утверждение, что психология самости действительно отвечает этим критериям, нельзя удовлетворительным образом доказать с помощью одних только логических аргументов. Без эмпирических данных можно продемонстрировать лишь внутреннюю логичность ее положений.
Прежде чем приступить к обсуждению случая, основываясь на проверке эмпирических данных о том, что психоанализ действительно нуждается в психологии самости, я бы попросил любого желающего попытаться всерьез оценить объяснительные возможности этого нового шага в теории, оставив в стороне свои сформировавшиеся убеждения, что все психологические заболевания можно адекватно объяснить в рамках понятийной системы психологии психического аппарата в целом и современной структурной модели (Эго-психологии) в частности или даже на уровне развития, характеризующемся эдиповым комплексом. Другими словами, объяснительные возможности и эвристическую ценность новой теории, нового способа рассмотрения эмпирических данных в сфере сложных психических состояний можно оценить только в том случае, если такой эксперт сумеет справиться со сложной задачей — временно оставить свои прежние убеждения и стать открытым для новых идей. (Я опускаю здесь проблему определенного эмоционального сопротивления и имею в виду лишь нежелание поступиться чувством уверенности, которое вселяет привычный способ мышления.) Оценивающий эксперт должен уметь достаточно часто и на долгое время оставлять в стороне традиционные способы рассмотрения данных, чтобы иметь возможность ознакомиться с новой теорией.
Разумеется, любой новичок мог бы сказать ex cathedra[34], например, что мистер М. прервал свой анализ в момент, когда он на самом деле должен был только начаться, то есть в момент, когда стремление к слиянию с идеализированным отцом превратилось бы в эдипово соперничество, сопровождающееся страхом кастрации. Конечно, я не могу с полной уверенностью отрицать, что за нарциссическим нарушением у мистера М. скрывалась эдипова патология. Я могу только утверждать, что хотя я и остаюсь открытым для рассмотрения подобной возможности, богатый клинический опыт не позволяет мне считать ее вероятной; впрочем, иногда действительно с удивлением обнаруживаешь, что центральная эдипова патология была скрыта тем, что вначале казалось первичным нарушением самости.
Разумеется, должны быть предприняты дальнейшие исследования различных взаимосвязей, существующих между структурной патологией и патологией самости. Но они смогут пролить новый и, возможно, неожиданный свет на психологию человека лишь при условии, что разум исследователя будет открыт идее, что целый сектор человеческой психологии, в сущности, независим от эдиповых переживаний ребенка и что эдипов комплекс является не только центром психологических нарушений определенного типа, но и центром психологического здоровья, что он приобретается в процессе развития.
Оценка сравнительного значения — с точки зрения нормального развития и психопатологии — переживаний ребенка по поводу объектов, связанных с эдиповой драмой, с одной стороны, и переживаний ребенка по поводу объектов самости, связанных с драмой формирования самости, — с другой, служит основанием для возвращения к сфокусированному, беспристрастному клиническому наблюдению. Однако клинические описания, представленные в эссе и книгах, даже в форме подробных историй болезни, лишь в редких случаях могут служить убедительными доказательствами правильности конкретных интерпретаций конкретных психологических данных, и они никогда не могут служить достаточными доказательствами того, что один подход является более адекватным, более емким, более проницательным, чем другой. Огромное число переменных в психологической области обрекает чисто когнитивный подход на неудачу. Однако развитая эмпатия обученного наблюдателя создает потенциально адекватный инструмент для осуществления первого этапа (понимания) в двухступенчатой процедуре (понимания и объяснения), характеризующей глубинную психологию. То, что я считаю эмпатию обученного наблюдателя незаменимым этапом, который ведет к поддающемуся интерпретации пониманию психологической области[35], должно пролить свет на две взаимосвязанные особенности данной работы (и некоторых других моих сочинений): использование личных высказываний, таких, как: «Я все более убеждался», и акцент в моих клинических описаниях на реакциях аналитика на материал — различные выводы, к которым он приходит, постепенное убеждение в том, что один из них скорее является верным, чем другой[36]. Мои клинические данные должны побуждать к размышлению. Я хочу продемонстрировать свой подход и предложить его моим коллегам для экспериментального применения в их собственной практике. Аналитики смогут приобрести твердое убеждение в релевантности и жизнеспособности психологии самости только при том условии, что будут использовать его в собственной работе. Если описание случая помогло рассеять сомнения читателя в правильности тезиса автора, то это является свидетельством умения и интеллекта автора, но не подтверждением правильности его тезиса. Анализанд может дать полсотни подходящих ассоциаций, идеационное содержание которых привело бы к определенной интерпретации материала, однако его интонации, слова, продиктованные настроением, которое выдают его жесты и поза, укажут аналитику, что смысл материала заключается в чем-то другом.
Как же тогда аналитики приходят к правильному пониманию материала, который они наблюдают? Прежде всего глубинная психология не может подкреплять свои утверждения доказательствами, доступными таким наукам, как физика и биология, изучающим внешний мир посредством наблюдения с помощью органов чувств. Однако настоящее научное исследование в психоанализе возможно, потому что (1) эмпатическое понимание переживаний других людей является такой же фундаментальной способностью человека, как его зрение, слух, осязание, вкус и обоняние; и (2) психоанализ может справляться с препятствиями, стоящими на пути эмпатического понимания, точно так же, как другие науки научились справляться с препятствиями, стоящими на пути освоения используемых средств наблюдения — органов чувств, включая их расширение и усовершенствование с помощью различных приборов.
Возможность достижения надежных результатов в нашей области должна оцениваться с учетом двух принципов: первый относится к эмоциональному состоянию эмпатического наблюдателя, другой — к когнитивному аспекту его задачи. Первый из них можно было бы назвать принципом «нового платья короля»; он воплощает представление о том, что установление фактов в психоанализе иногда требует не столько высокоразвитого когнитивного аппарата, сколько простого бесстрашия наблюдателя. Второй принцип — назовем его принципом «розетского камня» — воплощает в себе представление, что валидность недавно выявленных значений (или их важность) должна устанавливаться по аналогии с процедурой валидизации, используемой при расшифровке иероглифов.
Если наблюдатель-расшифровщик видит, что многие явления можно объединить и тем самым прояснить многозначительное сообщение, посмотрев на них с других позиций, если он видит, что широкий спектр данных можно теперь понять и интерпретировать, то тогда действительно можно сказать, что его убежденность в новом способе интерпретации стала более сильной.
Кроме того, психоаналитик должен в основном интересоваться не столько причинно-следственными отношениями, сколько смыслом и значением исследуемого материала. То есть понимание им человеческих переживаний доступно для рассмотрения причины и следствия во времени и в пространстве не более, чем правомерность утверждений человека, занимающегося расшифровкой иероглифов. Выражаясь другими словами, глубинный психолог выясняет психологическую истину тремя способами: постоянно исследуя с самых разных позиций, которые он может выявить, эмпирические данные посредством эмпатии; выделяя определенные эмпатические позиции, которые позволяют ему рассматривать данные наиболее понятным образом, и, наконец, с одной стороны, устраняя препятствия для эмпатии — прежде всего в себе, но также используя примеры и находя поддержку у своих коллег, и, с другой, постоянно демонстрируя им, что новая эмпатическая позиция позволит увидеть дотоле не замечаемые психологические паттерны[37].
Следующие иллюстративные эпизоды из клинической практики — цели их представления и форма, в которой они излагаются, — должны оцениваться с учетом предыдущих замечаний. Они должны показать, что смысл и значение некоторых клинических феноменов можно понять более широко и глубоко, если рассматривать их в рамках психологии самости, а не в рамках психологии влечений, структурной модели психики и Эго-психологии.
Клинические иллюстрации
Ребенок психоаналитика
В моей практике, особенно в последние годы, мне приходилось иметь дело с несколькими пациентами, которые являлись детьми психоаналитиков[38]. Они консультировались со мной по поводу повторного анализа, поскольку считали, что их предыдущий анализ был неудачным. Они страдали от смутного ощущения того, что не живут в реальности (нередко в форме неспособности переживать эмоции), и они переживали сильную (но вместе с тем сопровождавшуюся внутренним конфликтом) потребность в привязанности к авторитетным людям из их окружения, чтобы чувствовать, что их жизнь осмысленна, более того, чтобы чувствовать себя живыми. Их нарушение, как я выяснил, генетически было связано с тем, что их родители с самого раннего возраста сообщали им — часто во всех деталях — о своем эмпатическом понимании того, что они, то есть дети, думали, желали и чувствовали. Насколько я мог судить — а в отдельных случаях у меня были веские причины на то, чтобы прийти к этому заключению, — их родители не были в целом ни холодными, ни отвергающими. Другими словами, они не прикрывали внутреннее отвержение ребенка с помощью враждебных, по сути, интерпретаций. Эти постоянные интерпретации не вызывали у ребенка чувства отверженности. При этом у ребенка не возникало и чувства того, что на него чрезмерно реагировали. Патогенный эффект родительского поведения состоял в том, что участие родителей в жизни своих детей, их требование (часто выражавшееся вполне корректно), чтобы дети знали как можно больше о том, что они думали, желали и чувствовали, в определенной степени препятствовало консолидации их самости, в результате чего дети становились скрытными и отгораживались стеной от родителей. Однако основная проблема в данном контексте заключалась в следующем. В ходе предшествовавшего анализа аналитики расценивали их явное нежелание раскрыться и их неспособность отдаться свободному ассоциированию либо как возникшее в отсутствие переноса препятствие установлению терапевтического альянса, либо как обусловленное переносом сопротивление, препятствовавшее проявлению инцестуозных либидинозных желаний, либо как проявление объектно-инстинктивного негативного переноса — как способ фрустрации (сокрушения) родителя, воспринимавшегося как соперник. В первом случае аналитики, по-видимому, реагировали, оказывая — в более или менее деликатной форме — определенное моральное давление на пациентов, призывая их проникнуться аналитической задачей; во втором и третьем случаях они пытались справиться с проблемой в том виде, как они ее видели, с помощью соответствующих интерпретаций.
Вполне можно предположить: убеждение в том, что их предыдущий аналитик ошибался, к которому в конечном счете пришли эти пациенты, есть не что иное, как проявление позитивного переноса на следующего аналитика. Однако то, как проявлялся соответствующий материал, противоречит этому выводу. На самом деле в течение всей продолжительной аналитической работы со мной эти пациенты никогда не жаловались на своего предыдущего аналитика и даже были склонны считать его подход обоснованным подобно тому, как они никогда не подвергали сомнению правомерность вмешательств со стороны родителей. Таков был их стиль жизни с ними, когда они были детьми, а потому давление и/или интерпретации аналитика, насколько они их понимали, точно так же принимались ими как обоснованные. Фактически вопреки значительному сопротивлению пациенты начали понимать — без какого-либо давления с моей стороны и даже вначале к моему удивлению, — что именно глубокий страх распада самости и побуждал их отгородиться стеной от опасности быть понятыми.
Во всех случаях, с которыми я столкнулся, предыдущие аналитики этих пациентов были компетентными, опытными и авторитетными представителями своей профессии, без сомнения, понимавшими конструктивный аспект сопротивлений, на которых я здесь фокусируюсь, или во всяком случае осознававшими, что сопротивления неизбежны и что к ним нужно относиться с уважением. Я думаю, однако, что большинство даже этих аналитиков были склонны рассматривать сопротивление, проявляемое этими пациентами, как реакцию на дефицит Эго, которое оказалось поврежденным из-за чрезмерной нагрузки в детском возрасте. Между этим воззрением и тем, которое отстаиваю я, существует, однако, важное и принципиальное различие. Понимание дефектного Эго (границы которого не были прочно установлены) заставляет аналитика занять достойную похвалы осторожную позицию (чтобы сохранить границы Эго, пока еще существующие), сопровождающуюся воспитательным подходом (попыткой сформировать когнитивное умение регулировать отношения между объектом и Эго [ср. Federn, 1947]).
Другими словами, понимание дефекта Эго ведет к необходимости применения не столько психоаналитического, сколько воспитательного подхода, каким бы психоаналитически ориентированным этот воспитательный подход ни был. Учитывая, что психический аппарат как таковой не имеет для анализанда эмпирического содержания, аналитик, осмысляющий болезнь пациента как обусловленную дефектом Эго, может разве что научить пациента осознавать перебои в работе своего дефектного психического аппарата. В свою очередь пациент может разве что попытаться с помощью сознательных усилий сопротивляться некоторым существующим патологическим тенденциям (таким, как склонность считать, что другим известны его мысли), активизируя противоположные силы (делая акцент на своем сознательном знании, что другим неизвестны его мысли).
С другой стороны, понимание специфической психопатологии самости ведет скорее к психоаналитическому, нежели к воспитательному подходу. Оно ведет к проявлению патогномического содержания опыта, в частности, к переживанию заново требований прежних психических констелляций — требований, оказавшихся скрытыми, поскольку они неэмпатически были проигнорированы объектами самости, — и он позволяет этим констелляциям быть заново пережитыми при переносе, фактически оказаться в самом центре психоаналитического процесса. Понимание патологии самости ведет в этих случаях к осознанию того, что сопротивление пациента аналитическому проникновению является здоровой силой, поддерживающей рудиментарную ядерную самость, которая была сформирована, несмотря на искаженную эмпатию родителей; оно ведет также к осознанию того, что эта ядерная самость становится все более реактивированной, то есть аналитик является свидетелем возрождения архаичной убежденности анализанда в величии своей самости — убежденности, которая осталась без ответа в детстве и, таким образом, не была доступна для постепенной модификации и интеграции с остальной частью личности; и, наконец, оно ведет к осознанию того, что был мобилизован процесс переработки требований реактивированной ядерной самости при переносе в той или иной форме (или даже в нескольких формах) объекта самости. В большинстве случаев этот процесс переработки начинается с мобилизации архаичных потребностей в зеркальном отражении и в слиянии; когда процесс переработки продолжается, он постепенно преобразует представления пациента об архаичном величии и его желание слиться со всемогущими объектами в здоровую самооценку и благотворную преданность идеалам.
У меня нет сомнений, что центральная психопатология в рассматриваемых случаях была связана с недостаточной связностью самости (или другими формами патологии самости). Именно это центральное нарушение и сформировало ядро переноса объекта самости («зеркальный перенос в узком смысле» [см. Kohut, 1971, p. 115–125]), который спонтанно возник в психоаналитической ситуации. То, что родители этих пациентов продолжали воздействовать благодаря селективному эмпатическому восприятию на психику своих детей на последующих, вербальных стадиях их развития — то есть гораздо позже довербальной стадии, когда близкая к совершенству гармония родителей с содержанием детской психики (потребностями и желаниями младенца) действительно является предпосылкой формирования рудиментарной самости младенца, — без сомнения, доказывает, что они не были настроены в унисон со зрелыми потребностями своих детей (то есть с требованиями всей самости ребенка), хотя эмпатическое понимание ими отдельных аспектов умственных процессов у их детей часто оказывалось верным. Поэтому развитие самости ребенка — ее четких контуров — было затруднено. Ребенок нуждался не в приводящих к фрагментации интерпретациях, связанных с определенными мыслительными и[39] эмоциональными содержаниями его психики, а в интерпретациях, ведущих к более полному осознанию его постоянной потребности в повышающих связность реакциях на всю его самость. Именно детская потребность в таких реакциях (фрустрированная в детстве и поэтому усилившаяся) и возродилась при переносе объекта самости; и именно эта потребность нуждалась в интерпретации. Аналитик должен был не отвергать сопротивление самораскрытию как неблагоприятную установку, которую по возможности скорее надо преодолеть в интересах анализа (или — как пациенты начинали воспринимать это ретроспективно, — для повышения самооценки родителя-аналитика), а интерпретировать его без осуждения как важный заслон проникновению интерпретаций, заслон, с помощью которого пациент пытался защитить небольшой целостный сектор собственной самости. И именно с трудом поддерживаемый, втайне оберегаемый, сравнительно сохранный сектор самости, а не инцестуозные желания-влечения, теперь, когда его существование было подтверждено интерпретацией аналитика, оказался реактивированным при переносе объекта самости. Постепенно и вопреки сильному сопротивлению он попал в поле зрения аналитика: потребность в восхищении и признании, чтобы обрести ощущение его реальности и — вторично — стремление довести до конца незавершенный этап в развитии, подвергнуться процессам переработки (оптимальной фрустрации), которые бы обеспечили его интеграцию в зрелую личность пациента.
Из анализа мистера В
Теперь перейдем к другим более детальным иллюстрациям, доказывающим утверждение, что расширение наших представлений — отказ от веры исключительно в психологию конфликтов и структурную модель психики, — включая систему понятий психологии самости, в некоторых случаях позволит нам увидеть психологические данные в новом свете и повысит нашу способность приводить в действие и поддерживать определенные благотворные процессы переработки в сфере нарциссических нарушений наших пациентов.
Мистер В.[40], холостой мужчина в возрасте около тридцати лет, поменяв несколько мест работы, в последние годы весьма успешно проявил себя как журналист. Он уже до этого прошел анализ, но захотел подвергнуться терапии еще раз. Он сказал, что его первый анализ (который закончился примерно три года назад) немного ему помог, сделав его менее беспокойным. Он чувствовал, однако, что его состояние улучшилось прежде всего не из-за инсайтов, достигнутых в ходе предыдущей терапии, а благодаря стабилизирующему влиянию его прежнего аналитика — предсказуемого, заботливого и доброжелательного пожилого человека.
Хотя, когда он решился на прохождение повторного анализа, его жалобы были весьма расплывчатыми, — он испытывал общую неудовлетворенность жизнью и говорил, что чувствовал себя беспокойным и «нервным» лишь иногда — я могу ретроспективно сказать, основываясь на понимании, постепенно достигнутом в процессе его анализа, что он страдал от чувства внутренней неуверенности и бесцельности собственной жизни, характерного для диффузных нарушений самости. А более определенная жалоба на случающееся иногда усиление его беспокойства и нервозности можно ретроспективно также рассматривать в связи с эпизодическим ослаблением связности его самости. Наиболее характерным проявлением психологического нарушения у мистера В. являлись рецидивы синдрома раздражительности, ипохондрии и замешательства.
Основываясь на том, что мы узнали в ходе анализа о значении эпизодически усиливавшегося у мистера В. беспокойства, особенно если он разлучался с аналитиком, — не может быть сомнений, что эти реакции всегда возникали до, во время и после его предыдущего анализа, — в ответ на события, вызывавшие у него ощущение, что его покинули. Однако в начале повторного анализа и на протяжении почти всего первого года пациент совершенно не испытывал каких-либо эмоциональных реакций в ответ на реальную или предстоящую разлуку с аналитиком и, насколько это можно было установить, никогда прежде не осознавал таких реакций: ни во время предыдущего анализа, ни в обыденной жизни. Постепенно, однако, удалось установить, что он действительно испытывал такие сильные переживания, кроме того, психологическое значение его реакций становилось все более ясным.
Первый ключ к пониманию дало сновидение, возникшее к концу первого года анализа, за несколько дней до того, как аналитик должен был уехать на неделю в Нью-Йорк, о чем случайно стало известно пациенту. Пациенту приснилось, что он летит в самолете из Чикаго в Нью-Йорк. Как он упомянул, он сидел у окна по левому борту самолета, глядя на юг. Когда аналитик указал на несоответствие в его сновидении, то есть, что, летя из Чикаго в Нью-Йорк и сидя с левой стороны самолета, он смотрел бы на север, а не на юг, пациент пришел в крайнее замешательство и настолько перестал ориентироваться в пространстве, что даже какое-то время не мог сказать, где правая сторона, а где левая. (От себя я мог бы добавить, что пространственная дезориентация, от которой он страдал в такие периоды, не всегда была столь безопасной, как в этот раз. Однажды, на втором году анализа, опять-таки предвидя разлуку с аналитиком, он подверг себя серьезной опасности, сделав неправильный поворот и оказавшись на встречной полосе оживленной автострады; этот поворот, следует подчеркнуть, он сотни раз делал правильно прежде.) По ассоциации с пространственной дезориентацией, проявившейся в его сновидении, он вспомнил о часто повторявшихся случаях в его взрослой жизни и позднем детстве (о которых он никогда не говорил раньше, хотя эти воспоминания, совершенно очевидно, не были вытеснены), когда он терял ориентацию в незнакомых местах с ужасным ощущением того, что он никогда не найдет обратную дорогу к знакомым местам.
Анализ сновидения мистера В. дал первый важный ключ к генетически-динамическому пониманию ядра его личностного нарушения. Когда пациенту было примерно три с половиной года, его родителям пришлось покинуть его, своего единственного ребенка, больше чем на год. В течение этого времени пациент, знавший дотоле лишь окрестности Чикаго, жил на ферме в Южном Иллинойсе с незнакомыми людьми, дальними родственниками его матери. Они, по-видимому, были порядочными людьми, заботились о его физических нуждах, но в остальном не обращали на него почти никакого внимания. Он вообще не видел отца в течение года, а мать всего несколько раз приезжала на короткое время. По мере продвижения анализа каждый из основных симптомов, которыми он реагировал на разлуку при переносе, вел к воспоминанию о важных предшествовавших переживаниях, связанных с тем неблагополучным периодом в его раннем детстве.
Перед разлукой, а на ранних этапах анализа также в ответ на ситуации и события, которые он эмоционально воспринимал как аналогичные разлуке, особенно когда аналитик (занимавший эмоциональную позицию приемной семьи на ферме) казался отстраненным или неэмпатическим[41] — мистер В. заполнял время сеансов в той или иной степени тревожными описаниями различных физических ощущений, которые он испытывал, и разных болезней, которые, как он считал, у него развивались. Среди его беспокойств особое место занимала его озабоченность проблемами зрения (ему казалось, что его глаза не фокусировались должным образом) и тревога по поводу геморроя. В такие периоды на ранних стадиях анализа он консультировался с офтальмологами и проктологами и даже рассматривал возможность хирургического вмешательства. На самом деле он так и не подвергся операции, а сумел экстериоризировать свои навязчивые сомнения, обратившись к экспертам, которые посоветовали ему другой способ лечения. Постепенно на более поздних этапах анализа, когда пациент стал все больше понимать отношения, существовавшие между его ипохондрическими тревогами и психологическими последствиями предстоящего расставания с аналитиком, у него стали возникать важные воспоминания о психических состояниях в детстве, которые являлись предшественниками нынешних.
Потеряв объект самости в лице аналитика, мистер В. оказался лишен психологического цемента нарциссического переноса, сохранявшего связность его самости. И, как следствие, он испытывал тревогу, которую вызывали у него ощущение того, что различные части его тела обособляются и начинают восприниматься как чужие и странные, а также потеря надежного ощущения себя единицей в пространстве, континуумом во времени, центром инициации действий и получения впечатлений.
Выбор симптомов был обусловлен не специфическими бессознательными фантазиями-желаниями, как в случае соматических симптомов при конверсионной истерии, а существовавшими ранее незначительными физическими дефектами, которым пациент не придавал большого значения, когда связность его самости не подвергалась угрозе, и которые оказывались в центре внимания, когда его самость начинала распадаться. Основная психопатология в таких случаях заключается не в проявлении усилившихся определенных сексуальных и агрессивных фантазий в соматической форме, а в ослаблении связности телесной самости в отсутствие зеркально отражающего объекта самости. Переживание тотальной самости ослабевает, и наоборот, переживание фрагментов самости усиливается — болезненный процесс, который сопровождается состоянием диффузной тревоги. Но хотя соматические симптомы не имеют какого-либо определенного значения, которое можно было вербализировать и интерпретировать, выбор симптомов не совсем случаен: некоторые части тела становятся трансмиттерами регрессивного развития от сильнейшей потребности пациента в отсутствующем объекте самости к состояниям фрагментации самости и поэтому особенно пригодны для того, чтобы становиться точками кристаллизации для ипохондрического беспокойства. Например, фантазии, выражающие желание принять отсутствующий объект самости через глаза и анус, вначале могли временно переживаться пока еще связной самостью на предшествующей стадии в детстве, когда впервые проявилась ипохондрия. Но крайне важно понимать, что глаза и анус вскоре прекращают служить исполнительными органами связной самости, стремящейся увидеть утраченный объект самости или нуждающейся в утраченном объекте самости, ухаживавшем за анальной областью. После того как самость распалась на фрагменты, оставшейся части самости, воспринимающей свою собственную фрагментацию, не остается ничего другого, как в беспокойстве искать помощь в своих попытках воссоздать себя, но при этом привязывать свои тревоги и жалобы к тому или иному фрагменту тела.
Обратимся теперь к снижению (и временной потере) некоторых основных умственных способностей мистера В.: его способности ориентироваться в пространстве, отличать правую сторону от левой, точно думать и ясно выражаться. Как объяснить эти сбои, случавшиеся в клинической ситуации и в реальной жизни и происходившие в критический период его детства, когда в его личности формировались базисные патогенные центры? При беглом рассмотрении и в терминах социальной психологии мы могли бы сказать, что в клинической ситуации эти дефекты были обусловлены лишением его символических отношений с заботливым человеком (аналитиком), который до сих пор выступал в качестве вспомогательной личности. Сходное утверждение можно было бы также сделать в отношении других ситуаций в его взрослой жизни, в которых он подвергался аналогичным лишениям, и в отношении его переживаний в четырехлетнем возрасте, когда он лишился родителей, помогавших ему в то время в осуществлении некоторых его психических функций. Однако эмпатическая позиция специалиста в области глубинной психологии, наблюдающего за проявлениями переноса, позволяет нам добавить важный новый параметр, чтобы объяснить поведение пациента. Тщательный анализ регрессий, происходивших при переносе объекта самости, показал, что ипохондрическое состояние всегда предшествовало тенденции к дезориентации и замешательству; что ипохондрическая озабоченность фрагментами телесной самости должна была достигнуть определенной интенсивности, прежде чем пациент становился склонным терять ориентацию в пространстве и испытывал трудности в вербальной экспрессии. Фрагментация самости предшествовала ухудшению функций Эго. И эта же последовательность, по всей видимости, проявлялась в детстве пациента: потеря определенных психических способностей, которая также отмечалась в то время, требовала предшествующего шага — фрагментации самости. Эти дефекты не являлись прямым следствием разлуки, они косвенно вызывались временной и частичной фрагментацией его самости. Как проявилось при переносе, сначала отсутствовал объект самости, затем наступала фрагментация (телесно-психической) самости (в форме ипохондрии и прочих симптомов, которые будут обсуждены вскоре) и, наконец, происходило снижение определенных умственных способностей, упомянутых выше. Эта последовательность в каузальной цепи соответствует принципу, согласно которому между связностью самости, с одной стороны, и оптимальной продуктивностью и креативностью личности — с другой, существует отношение взаимной поддержки, — принципу, который подтверждается, пусть даже в патологической и искаженной форме, попытками, предпринимаемыми некоторыми пациентами, столкнувшимися с серьезной фрагментацией самости, предотвратить полный распад самости путем временного, необычайного усиления в разных формах умственной и физической активности.
Именно в контексте стремления понять пессимистическую оценку пациентом себя и своего существования, когда аналитика не было рядом — его настроение не менялось резко (он не был подавлен), но его жизнь казалась обедненной, он не мог творчески мыслить, и он выполнял свою работу без желания[42], — он начал рассказывать о своей привычке часами лежать первую часть ночи без сна, чаще всего это случалось, когда аналитика не было в городе. И именно в контексте оценки изменения всего своего состояния лучшее понимание ипохондрического беспокойства и бессонницы привело к воспоминаниям о том времени, когда он оказался один в сельской местности и не мог заснуть, потому что чувствовал смутную угрозу со стороны окружения, которое он воспринимал как не оказывающее поддержки (неэмпатическое), а потому недружелюбное.
Не может быть сомнения в том, что недостаток эмпатического окружения мальчик воспринимал как угрозу вследствие начинавшейся фрагментации его телесной самости и что поэтому он не был способен отказаться от сознательного контроля (не мог заснуть) из страха, что, если он перестанет бодрствовать, то его телесно-психическая самость распадется и никогда больше не восстановится[43]. Игра в фантазии, в которую он часами играл в такие периоды, демонстрирует контрмеры, к которым он прибегал, чтобы ослабить свой страх фрагментации. Лежа без сна, он представлял себе, что совершает длительные экскурсии по своему телу. Он представлял себя разгуливающим по своему телу — от носа до пальцев ног, — а затем возвращающимся к пупку, плечу, уху и т. д., тем самым удостоверяясь, что его тело не распалось на части[44]. Его путешествия из одной части тела к другой убеждали его в том, что все части тела по-прежнему на месте и что они по-прежнему соединены и контролируются самостью. Ипохондрия воспроизводила эти ранние переживания: подробно рассказывая об анусе и глазах, он не только выражал свои потребности в анальной и визуальной инкорпорации и беспокойство, что эти и другие части его тела начали восприниматься не как часть самости, но и пытался сохранить контроль над всей телесной самостью, сосредотачивая свое внимание на тех частях тела, которые от него отчуждались.
Но какими бы важными ни были переживания на ферме, можно задать вопрос, привели бы они к сохранившемуся на всю жизнь нарушению связности самости, от которого страдал мистер В., если бы не было еще более ранних переживаний — переживаний, которые не вспомнились непосредственно во время анализа. Я имею в виду влияние на ребенка личности матери в те годы, когда еще не возникла критическая ситуации разлуки. Сам факт, что она могла оставить маленького мальчика на такое долгое время, может говорить об уплощенности ее материнских чувств, а ее поведение во время визитов — ее, по-видимому, неожиданные приезды и отъезды — можно было бы интерпретировать в этом же смысле. Однако я бы не стал придавать слишком большого значения надежности этих реконструкций на основе непосредственных воспоминаний пациента о своем детстве. И даже доказательства, полученные из переживаний при переносе — на некоторых стадиях зеркального переноса и переноса-слияния, когда аналитик воспринимался как неотзывчивый, непредсказуемый, бесчувственный и холодный, — только наводили на размышления, но не вели к заключениям. Однако поведение матери, когда она приходила на аналитический сеанс вместе с пациентом, и непоследовательность ее поведения по отношению к детям, которое наблюдал и о котором рассказывал аналитику пациент, позволило более точно оценить ее личность. Аналитик пришел к выводу, что хотя она была исполнена сознанием долга и настроена на исполнение своих обязанностей, она не могла относиться к ребенку с внушающей спокойствие эмоциональностью. Она вела себя как женщина, которая, будучи глубоко неуверенной в самой себе, особенно в отношении своего собственного тела, была также неуверенной и неумелой в общении с другими, в частности с детьми, и поэтому не могла обеспечить эмоциональную поддержку маленькому ребенку, у которого формирование центрального ядра самопринятия и уверенности зависит от того, насколько мать, принимающая себя и свободно проявляющая материнскую эмоциональность, способна привить эти качества своим детям.
Как отмечалось выше, беспокойство по поводу своих физических дефектов и обращение за помощью к врачам представляли собой воспроизведение детских тревог пациента и его потребности во внимании со стороны отсутствующих объектов самости. Однако попытка исцеления, проявившаяся в его игре в фантазии, не имела непосредственного аналога во взрослой жизни. Единственным поведением во взрослой жизни, которое, по мнению аналитика и пациента, было отдаленно связано с детской игрой с телом, являлась его склонность заниматься не доставлявшим удовольствия сексом и проявление компульсивного интереса к непристойным фотографиям, когда он чувствовал себя оставленным объектами самости. Смысл этих действий, по-видимому, заключался в попытке стимулировать себя эротически, чтобы восстановить ощущение жизни и реальности своей телесной самости. Я мог бы здесь добавить, хотя это и так, наверное, само собой разумеется, что во многих случаях сексуальные действия людей, которые находятся вдали от дома, не определяются в первую очередь временным ослаблением влияния Супер-Эго; они, скорее, как в случае мистера В., пытаются стимулировать и таким образом оживить страдающую от одиночества и подвергающуюся угрозе распада самость.
Вторым симптомом, которым мистер В. отвечал на разлуку с аналитиком, была раздражительность. Он, например, был склонен вступать в споры и устраивать склоки с незнакомыми и малознакомыми людьми — в ресторанах, во время поездки на автомобиле, с соседями. Сначала аналитик предположил, что раздражительность (мистер В. действительно провоцировал многочисленные ожесточенные споры и столкновения) была обусловлена повышенной агрессивностью (в частности желанием смерти аналитика). Однако повторное наблюдение за некоторыми особенностями его психического состояния и тщательное исследование его поведения в такие периоды, которые будут описаны далее, привели к заключению, что его настроение и его реакции (как при переносе, так и в аналогичных в эмоциональном отношении ситуациях в детстве, когда он был временно оставлен родителями) были проявлениями травматического состояния — психического состояния, очень часто встречающегося при анализе пациентов с нарциссическими нарушениями личности, в котором он ощущал себя оставленным без поддержки, «перегруженным» и, понимал, что его эмоциональные силы истощены. Две эти реакции действительно были весьма типичны для психологической перегрузки, составляющей суть травматического состояния. (На более поздних стадиях анализа мистер В. сам начал понимать их как признаки, указывающие на неизбежность травматического состояния.) Первое из этих поведенческих проявлений заключалось в том, что пациент чрезмерно реагировал на сильные сенсорные стимулы (в частности, он реагировал раздражительностью и гневом на шумы, запахи и яркий свет), второе заключалось в том, что он становился язвительным — не отказывал себе в колкостях и допекал других каламбурами[45]. Наиболее заметным поведенческим проявлением травматического состояния у мистера В. вне клинической ситуации была его раздражительность — склонность вовлекаться в споры.
Состояние психологической перегрузки мистера В. — неспособность его психического аппарата обходиться со стимулами, вторгающимися из внешнего мира, и справляться с внешними проблемами средней сложности — было обусловлено тем, что из-за потери объекта самости он не получал поддержки от переживания сильной центральной самости. Его агрессия не была (бессознательно или предсознательно) направлена на определенный объект, а выражала тенденцию без разбора набрасываться на все свое окружение, которое стало чужим и неблагосклонным (неэмпатическим) и которое он поэтому воспринимал как безличного потенциального агрессора. Среди продуктов фрагментации, проявлявшихся в этих условиях, была не только агрессивность в целом, но и агрессивность, связанная с определенными эрогенными зонами. Другими словами, его агрессия выражалась на различных уровнях влечения. Очень часто проявлялась анальная агрессия (например, импульс выпускать газы в общественных местах); но нередко была очевидной также оральная и фаллическая агрессия (первая — в форме резких словесных нападок; последняя — в виде провокационного эксгибиционизма, например, надпись «Пошел ты!» на стекле автомобиля, адресованная водителям, которые его раздражали). Поскольку его фрагментированная самость не функционировала эффективно, как прежде, в качестве центра организации его действий, не обеспечивала его в должной мере синтезом, необходимым для эффективного функционирования, пациент был зажат с двух сторон: он боролся с чуждым окружением, которое, оживляя важные детские переживания, не было эмпатически настроено в гармонии с ним и тем самым порождало тревогу; а его способность ладить с окружающими людьми была значительно редуцирована — психические механизмы, которые он обычно использовал, вышли из строя. Неуверенность пациента в своем окружении в дальнейшем уменьшилась, потому что эмоциональные силы, которые у него еще оставались, не направлялись теперь на задачу противостоять окружению, а должны были служить задаче сплочения самости. Таким образом, внешние требования вели к нежелательному расходу его энергии, и он реагировал на них, каким бы ни было их содержание, как на вражеское вторжение.
Помимо раздражительности, мистер В. в эти периоды разлуки проявлял также обсессивно-компульсивные черты. Когда в начале анализа аналитик впервые столкнулся с проявлением или усилением обсессивно-компульсивных особенностей в мышлении и поведении мистера В., он сформулировал предварительное объяснение в терминах объекта влечения. Он считал, что пациент в ситуации, когда аналитик его оставлял, злился на него и желал его смерти, но, чтобы сохранить жизнь аналитика, пытался переключить свой гнев на других и воздвигал защиты от магической власти, которую он бессознательно приписывал своим желаниям смерти, развивая обсессивные симптомы. Однако — аналогично динамике его раздражительности — обсессивно-компульсивные особенности мышления и поведения мистера В., проявлявшиеся при разлуке с аналитиком, не были выражением защитных психологических маневров, выработанных для того, чтобы остановить поток инстинктивной агрессии на объект, не были средством борьбы с магической силой его бессознательных желаний смерти неверному объекту любви, то есть аналитику.
Значение одного псевдообсессивно-компульсивного симптома почти случайно выявилось в ходе аналитического сеанса, проведенного через несколько месяцев после того, как аналитик впервые был свидетелем дезориентации мистера В. в пространстве. Предыдущий сеанс показался особенно бессодержательным, и аналитик, признавшийся, что ему было скучно, естественно, предположил, что пациент противился анализу или (типичный способ обходиться с травмой разлуки в рамках аналитической ситуации и вне ее) что он «закрыл магазин до истечения времени». Учитывая, что это опять был сеанс, проводившийся незадолго до перерыва в анализе, и что некоторая важная работа была проделана на предыдущих сеансах, не было ничего удивительного в том, что пациент, казалось, не желал заниматься новыми, тяжелыми в эмоциональном отношении аналитическими задачами. Однако его мышление приобрело обсессивные черты, о которых я говорил выше; и, несмотря на все понимание смысла своей ипохондрии, к которому он пришел раньше и которое еще раз подтвердилось на некоторых из последних сеансов, он продолжил размышлять о своем физическом здоровье. Правда, его тревога не была такой острой, а озабоченность столь интенсивной, как на первом году анализа. Тем не менее аналитик предположил, слушая, как он бубнит, рассказывая о внешне маловажных деталях, что нынешний застой объясняется эмоциональным воздействием предстоящего перерыва и/или потребностью в передышке после довольно трудной аналитической работы.
Во время этого скучного сеанса мистер В. начал перечислять предметы, которые он хранил в одном из карманов брюк. Аналитик (который проконсультировался у меня вскоре после этой встречи с мистером В.) красочно описал свои собственные реакции. Он слушал пациента со скучающим видом, так же, как он это делал в прошлом, когда в аналогичных ситуациях тот досаждал ему подобными перечислениями, которые, однако, почти не замечал или вскоре выбрасывал из головы. И в этот раз он снова подумал, что просто был свидетелем еще одного проявления сопротивления, связанного с предстоящим перерывом в анализе и/или достигнутым прогрессом. Кроме того, он сделал вывод, что детальное перечисление пациентом содержимого кармана вполне отвечало той общей навязчивости, которая всегда характеризовала его мышление в состоянии напряжения. Я помню, что, слушая сообщение аналитика, я задумался, не указывало ли место, представлявшее интерес для пациента и расположенное совсем близко к гениталиям, на наличие страха кастрации или защиты от него («пока еще все на месте»), и поэтому я спросил аналитика, не наводило ли поведение пациента или его интонации на мысль о наличии какой-то тревоги. Аналитик сказал, что он так не думал и добавил после некоторого размышления, что, наоборот, был поражен спокойным голосом пациента, когда тот демонстрировал содержимое своего кармана, а также тем, что спокойное перечисление пациентом предметов (точное число монет, кусок смятой почтовой бумаги, комочек шерсти, который он сохранил, и т. д.) составляло полную противоположность беспомощности, суетливости, беспокойству и неуверенности в себе, характеризовавших эмоциональное состояние мистера В. в это время.
Я помню, что после описания поведения мистера В. аналитик и я какое-то время сидели в молчаливом раздумье. Каким-то необъяснимым образом, хотя у меня не было каких-либо предположений по поводу конкретного значения поведения пациента, во мне стала расти уверенность, что мы были свидетелями не проявления негативизма пациента в отношении анализа, а выражения позитивной установки. Судя по тому, что рассказал аналитик, пациент говорил о содержимом своего кармана, как мне казалось, с непосредственностью ребенка, спокойно и неторопливо разговаривающего со взрослым о чем-то, что он знает, и довольного собой, когда он так поступает. Я поделился моими впечатлениями с аналитиком, который сказал, что не может привести каких-либо дополнительных сведений, способных пролить новый свет на симптом пациента. Однако он был склонен считать, что, возможно, я указал на важную проблему. К счастью, пациент продолжал вести себя так же в течение следующего сеанса, и аналитик относился к тому, что он говорил, не как к скучной тарабарщине, а как к потенциально важному сообщению. И в самом деле через какое-то время он почувствовал желание сказать пациенту, что, как ему показалось, он слышал отчет довольного собой ребенка перед взрослым — то, что было сформулировано во время предшествовавшей консультации. В ответ на это пациент поделился с аналитиком некоторыми неожиданными инсайтами и важными воспоминаниями. Если указать вкратце, то психологическое значение озабоченности мистера В. заключалось в том, что в мире, ставшем опасным, непредсказуемым, незнакомым — таким же фрагментированным, как его фрагментированная самость, — он нашел убежище в замкнутом пространстве, полным хозяином которого могла быть его психика, потому что он знал все о нем и потому что все, что находилось в его пределах, было знакомым и под его контролем. И в связи с этими инсайтами в ситуации сохранявшегося переноса стали возникать многочисленные детские воспоминания о том времени, когда он только оказался на ферме, когда никто не обращал на него внимания и когда он часто оставался один, пока все работали в поле. Это был период, когда его не получавшая поддержки детская самость стала восприниматься, вызывая страх, чужой для него и начала распадаться, а потому он и в самом деле окружал себя предметами, которые ему принадлежали, — игрушками и одеждой. Он сидел на полу, смотрел на них и проверял, все ли они были на месте. В то время у него был специальный ящик, в котором хранились все его вещи, — об этом ящике, чтобы успокоить себя, он иногда думал ночью, когда не мог заснуть. Его интерес к содержимому этого ящика, вполне возможно, был предшественником интереса к содержимому кармана брюк.
Как мы можем удостовериться, что наше объяснение данных из анализа мистера В. было верным? Нельзя ли интерпретировать эти же данные другим способом — например, рассматривая их в свете эдиповой психопатологии? Что может сделать аналитик, чтобы избежать ошибок в своем стремлении приблизиться к истине?
Все аналитики, наверное, осознают опасность возможного искажения своего эмпатического восприятия ожиданиями, проистекающими из приобретенных в процессе обучения (или иным путем) теоретических представлений. Но мы также знаем, что существует одна установка, которая, став неотъемлемой частью нашей клинической позиции, является надежной гарантией от ошибок, возникающих из-за нашей безотчетной приверженности установленным моделям мышления: наша решимость не отмахиваться ради комфортной определенности от «ага-переживания» интуитивного знания, а держать свой разум открытым и не отказываться от своих эмпатических попыток, чтобы собрать как можно больше альтернатив. Несмотря на то, что эмпатия является лучшим другом ученого-аналитика, иногда интуиция может быть одним из его злейших врагов; из этого следует, что, хотя аналитик не обязан, конечно, отказываться от спонтанности, он должен уметь не доверять объяснениям, которые вдруг возникают в нем с не вызывающей сомнений уверенностью.
Хотя аналитики и отдают себе отчет в существовании множества факторов, которые могут вести к улучшению состояния пациента, и поэтому не склонны приводить «излечение» в качестве доказательства корректности объяснительных формулировок, я могу сказать в подтверждение правильности нашего понимания и стратегии лечения, которой мы придерживались при анализе мистера В., что пациент извлек пользу из терапии. Правда, исчезновение симптомов и даже радикальное изменение неадаптивных паттернов поведения на адаптивные не служат доказательством того, что инсайты, достигнутые в процессе анализа, были верными и что оценка структуры личности анализанда была точна. Однако постепенное исчезновение симптомов и изменение паттернов поведения наряду с возрастающим пониманием и в самом деле наводят на мысль о правильности и релевантности интерпретации. Мистер В. стал более организованным человеком: он стал более вдумчивым и осмотрительным и менее склонным к опрометчивым действиям, основанным на импульсах и предчувствии. Для иллюстрации: одной из сфер, в которых он был склонен к скоропалительным поступкам, являлись его финансовые дела. Поскольку в течение долгого времени он иногда вкладывал деньги в рискованные акции, в процессе анализа имелась возможность исследовать подъемы и спады этого импульса. Склонность совершать рискованные сделки на рынке ценных бумаг усиливалась всякий раз, когда он чувствовал себя лишенным отношений с объектами самости (например, с аналитиком). В терминах психологии самости эти колебания генетически объяснялись угрозой переживанию непрерывности его самости вдоль оси времени, когда он терял объект самости, подобно тому, как прервалось в детстве ощущение непрерывности самости и, следовательно, базисное ощущение нормально развертывающегося времени, когда он оказался оставленным родителями и встречался с матерью только во время ее непредсказуемых визитов. Играя с рискованными акциями, он защитным образом утверждал магический контроль над будущим и вместе с тем ощущал, что его способность воспринимать свою непрерывность во времени, самость, у которой есть будущее, исчезла. Возрастающее понимание взаимосвязи между разрушительным воздействием потери объекта самости и защитного утверждения им всезнающего контроля над будущим вело к ослаблению этой потребности. (Если быть точным: уменьшилась не только его тенденция рисковать — менее выраженными стали и его навязчивые размышления о возможности участия в таких действиях, освободив его разум для занятия продуктивной деятельностью.)
Кроме того, в процессе анализа почти полностью исчезли также ипохондрические тревоги мистера В. Я бы снова сделал акцент не столько на том, что в конечном счете был устранен серьезный и надоедливый симптом, сколько на том, что он отступал постепенно благодаря процессам переработки и достигнутому пониманию значения потери объекта самости при переносе и в детстве.
Глава 4. Биполярность самости
Теоретические рассуждения
Я надеюсь, что мне удалось продемонстрировать (см. главу 2) релевантность и объяснительную ценность гипотезы, что влечения не являются первичными психологическими конфигурациями в мире переживаний ребенка, что влечения переживаются в качестве продуктов дезинтеграции, когда самость остается без поддержки. В этом контексте было бы полезно исследовать дезинтеграцию двух базисных психологических функций — здорового самоутверждения в отношении зеркально отражающего объекта самости и здорового восхищения идеализированным объектом самости, наличие которого в обычных, благоприятных условиях указывает на то, что из матрицы зеркального отражения и идеализированных объектов самости начинает развиваться независимая самость. Если самоутверждение ребенка остается без ответа со стороны зеркально отражающего объекта самости, то ребенок откажется от своего здорового эксгибиционизма — широкой в эмпирическом отношении психологической конфигурации, даже если в качестве репрезентантов тотальной самости внешне задействованы отдельные части тела или отдельные психические функции — и верх возьмут изолированные сексуализированные эксгибиционистские интересы, связанные с отдельными символами величия (струя мочи, фекалии, фаллос). И точно так же, если поиск ребенком идеализированного всемогущего объекта самости, с силой которого он хочет слиться, окажется неудачным либо из-за его слабости, либо по причине отказа с его стороны допустить слияние с его силой и величием, то и тогда опять-таки здоровое и безмятежное наивное восхищение ребенка исчезнет, широкая психологическая конфигурация разрушится, а наверху окажется изолированный сексуализированный вуайеристский интерес к изолированным символам власти взрослого человека (к пенису, груди). И, наконец, клинические проявления эксгибиционистской или вуайеристской[46] перверсии могут возникнуть из-за распада тех широких психологических конфигураций здорового самоутверждения в отношении отражающего объекта самости и здорового восхищения идеализированным объектом самости, на которые — в течение долгого времени, нанося травму и вопреки требованиям соответствующей стадии развития — не реагировал объект самости. То, что перверсия, то есть сексуализированная репродукция первоначальной здоровой конфигурации, по-прежнему содержит фрагменты грандиозной самости (эксгибиционизм частей собственного тела) и идеализированного объекта (вуайеристский интерес к частям тела других людей), следует понимать как остаток одного из аспектов первоначальной констелляции объекта самости: она была временно ориентированной на субъект (объект самости) в одном случае и временно ориентированной на объект (объект самости) — в другом. Однако самый глубокий анализ любого из этих двух клинических проявлений ведет не к влечениям как к первопричине, а к нарциссической травме и депрессии.
Показав, что ответы зеркально отражающего объекта самости и способность к идеализации всемогущего объекта самости нельзя рассматривать в контексте психологии влечений, мы можем теперь пролить новый свет на развитие самости в детстве, сосредоточившись на двух процессах, которые происходят в ходе психоанализа пациентов, страдающих патологией самости[47], — процессах, которые, я бы добавил, вносят решающий вклад в благоприятный исход анализа, то есть способствуют формированию прочной, консолидированной, надежной в функциональном отношении самости.
Первый из этих процессов способствует установлению прочной самости, приводя к отделению психологических структур, которые в конечном счете формируют самость, от тех, которые будут исключены. Чтобы проиллюстрировать действие этих процессов и иметь прочную эмпирическую основу для дальнейшего обсуждения их значения, вернемся к завершающей стадии анализа мистера М.
Вопросы, которые мы до этого задали сами себе по поводу анализа мистера М., таковы: действительно ли мы пришли к завершению психоаналитического процесса, достигнув функционального восстановления компенсаторных структур, то есть достигли того, что вследствие процессов переработки были компенсированы дефекты этих структур самости? Или, формулируя теперь этот вопрос более точно, мы могли бы спросить: не должны ли мы считать анализ скорее неполным и преждевременно завершенным из-за того, что существовала и другая часть самости — часть, которая не была полностью консолидирована из-за недостаточности ответов со стороны самого раннего зеркально отражающего объекта самости, — в отношении которой процессы переработки были неполными и которая поэтому осталась полностью не консолидированной. С практической точки зрения мы можем быть удовлетворены: мистер М. производит теперь впечатление нормально функционирующего человека, он чувствует, что его прежний недостаток творческой инициативы преодолен, и он выглядит счастливым и деятельным. Тем не менее — я еще раз хочу подчеркнуть этот момент — широкая психологическая область (область, которая, как мы могли бы ожидать, содержит питающую почву для самых глубоких корней эксгибиционизма и амбиций, исходящих из его ядерной самости) осталась недостаточно исследованной. В ходе аналитической работы эта область, по-видимому, спонтанно разделилась на два слоя. Более поверхностный слой (соответствующий поздней довербальной и ранней вербальной стадии развития) оказался задействованным в процессе переработки; другой, более глубокий, слой (соответствующий ранней довербальной стадии) — редуцированным.
Эти эндопсихические процессы внешне напоминают сходные процессы, которые произошли у Вольфсманна [человека-волка] после того, как Фрейд установил дату завершения анализа, особенно после того, как анализанд убедился «в полной серьезности» намерений своего аналитика. «Под неумолимым гнетом этого установленного срока, — писал Фрейд, — его сопротивление… исчезло, и… анализ произвел весь материал, позволивший прояснить его торможения и устранить симптомы. Кроме того, вся информация, позволившая мне понять его инфантильный невроз, — добавляет Фрейд, — была получена в этот последний период работы, когда сопротивление на время исчезло…» (Freud, 1918, р. 11). Примерно через двадцать лет Фрейд развил эту мысль, пояснив, что установление окончательной даты завершения при анализе, «этот шантажистский прием», как он теперь его называл, «не гарантирует выполнения задачи в полной мере. Напротив, — продолжает он, — можно быть уверенным, что если одна часть материала под давлением угрозы становится доступной, то другая часть удерживается и тем самым, так сказать, оказывается погребенной…» (Freud, 1937, р. 218).
На первый взгляд эндопсихическое расщепление у Вольфсманна и у мистера М. может показаться сходным. Однако при более тщательном рассмотрении становится очевидным, что в некоторых аспектах эти два процесса, в сущности, разные. Укажем сразу на основное отличие: крайне важно, что разделение на два слоя — один доступный, другой недоступный — произошло у Вольфсманна под давлением желания аналитика когнитивно проникнуть в психику анализанда, тогда как с мистером М. это произошло спонтанно, не только без давления со стороны аналитика, но и — важность этого факта не является здесь очевидной, однако я полагаю, мы убедимся, что это действительно важный момент — в аналитической атмосфере, которая едва заметно, но существенно отличается от той, что создавалась Фрейдом (или, точнее, от той, что создавалась Фрейдом в 1914 году, до появления Эго-психологии). В отличие от терапевтической атмосферы, в которой проводился анализ в 1914 году, терапевтическая атмосфера, в которой проходил анализ мистера М. (см. в этом контексте: Wolf, 1976), не находилась, если говорить негативно, под абсолютным диктатом системы ценности, связанной с моделью бессознательных и сознательных областей психики, то есть под диктатом системы Ценностей, в соответствии с которой знать (знать много) — «хорошо», а не знать (знать мало) — «плохо».
Но если настаивание Фрейда на когнитивном проникновении в установленный срок оказалось чрезмерным для недостаточно гибкой психики Вольфсманна и пробило в ней брешь — произошло, на мой взгляд, «вертикальное расщепление» в отличие от «горизонтального расщепления» у мистера М., — то что в таком случае заставило болезненную грандиозную самость мистера М. расщепиться на два слоя в процессе переработки? Почему один слой оказывается активно вовлеченным в терапевтическую работу, тогда как другой погружается в темноту и остается вне поля зрения?[48] Не является ли это горизонтальное расщепление просто следствием здоровой инерции со стороны пациента, созданием средства самозащиты ввиду потенциальной угрозы чересчур радикального психического вмешательства, которое, открывая область его глубочайшей депрессии, его тяжелейшей апатии и его сильнейшего гнева и недоверия, в прямолинейной и чересчур усердной попытке полностью восстановить психическое здоровье могло поставить под угрозу психологическое выживание?
Подобная предсознательная или сознательная мотивация со стороны анализанда вполне возможна. Но она не может быть единственной и даже не может быть самой важной. Для такого представления у меня есть свои причины. После того как я пытался снова и снова, анализ за анализом определить генетические корни самости моих анализандов, у меня создалось впечатление, что в ходе раннего психического развития происходит процесс, при котором определенные архаичные психические содержания, воспринимавшиеся как принадлежащие самости, уничтожаются или переходят в область не-самости, тогда как другие сохраняются в самости или добавляются к ней. В результате этого процесса формируется ядро самости — «ядерная самость». Эта структура является основой для нашего ощущения существования как независимого центра инициативы и восприятия, интегрированного с нашими главными устремлениями и идеалами и с переживанием нами того, что наше тело и психика представляют собой некую единицу в пространстве и континуум во времени. Эта связная и устойчивая психическая конфигурация в сочетании с соответствующим набором талантов и навыков, которые она привлекает к себе или которые развиваются в ответ на требования устремлений и идеалов ядерной самости, формирует центральный сектор личности. И я убедился, что правильно проведенный анализ пациентов, страдающих от нарушений формирования самости, по крайней мере отчасти, создает психологическую матрицу, стимулирующую реактивацию первоначальной тенденции развития. Другими словами, ядерная самость пациента консолидируется, таланты и навыки анализанда, связанные с ядерной самостью, оживляются, тогда как другие аспекты самости отвергаются или нивелируются.
Только сочетание дополнительного числа генетических реконструкций, полученных в результате тщательного эмпатического наблюдения последовательных переносов, возникающих в процессе анализа индивидов, страдающих нарциссическими нарушениями личности, и информации, полученной в результате анализа и непосредственного наблюдения за детьми, позволит нам дать надежный ответ на вопрос, действительно ли предыдущее описание процессов, посредством которых формируется самость, является в принципе верным. И только используя вышеупомянутое сочетание исследовательских подходов, мы сможем получить ответы на многочисленные вопросы «как и когда», на которые пока еще нельзя ответить определенно, например: (1) как накапливаются элементы ядерной самости и как они интегрируются, формируя определенную энергетическую дугу напряжения (от ядерных амбиций через ядерные таланты и навыки к идеализированным ядерным целям), сохраняющуюся в течение всей жизни у каждого человека? (2) Когда приобретаются некоторые элементы ядерной самости (когда, например, устанавливаются ядерные амбиции благодаря консолидации центральных грандиозных эксгибиционистских фантазий, когда создается ядерная структура определенных идеализированных целей, которая затем сохраняется постоянной, и т. д.)? и (3) когда, в сущности, возникает целый ряд процессов, посредством которых образуется ядерная самость, и когда они завершаются?
На многие из этих вопросов можно дать предварительные ответы, но, как я уже говорил, они должны получить подтверждение со стороны других исследователей, использующих экстраполятивно-реконструктивный метод, а также другими исследователями, использующими иные методологические подходы. Например, представляется вполне вероятным, что если следы амбиций и идеализированных целей начинают параллельно приобретаться в раннем младенчестве, то основная часть ядерной грандиозности объединяется в ядерные амбиции в раннем детстве (возможно, прежде всего на втором, третьем и четвертом году жизни), а основная часть ядерных идеализированных целевых структур приобретается в позднем детстве (возможно, прежде всего на четвертом, пятом и шестом году жизни). Более чем вероятно также, что ранние элементы самости в основном формируются в отношениях с материнским объектом самости (зеркально отражающее принятие матери подкрепляет ядерную грандиозность; материнская забота способствует переживанию слияния с идеализированным всемогуществом объекта самости), хотя приобретенные элементы в дальнейшем могут относиться к родительским фигурам любого пола[49].
Кроме того, вполне возможно, что чувство непрерывности самости, чувство того, что мы остаемся одним и тем же человеком на протяжении всей жизни, несмотря на изменения в нашем теле и психике, в структуре нашей личности, в окружении, в котором мы живем, возникает не только вследствие неизменного содержания элементов ядерной самости и действий, сформировавшихся в результате их подавления и контроля, но также вследствие неизменных специфических отношений, в которых находятся между собой элементы самости. Я попытался выразить эту гипотезу с помощью образной терминологии. Как известно, между двумя по-разному заряженными (+, -) электрическими полюсами, отделенными друг от друга в пространстве и создающими электрическую дугу, по которой электричество течет, так сказать, от более высокого уровня к более низкому, существует градиент напряжения; все это относится также к самости. Таким образом, термин «градиент напряжения» касается отношений, в которых элементы самости связаны между собой, — отношений, которые являются специфическими для самости индивида даже в отсутствие какой-либо специфической активности между двумя ее полюсами; он указывает на наличие стимулирующих действия условий, появляющихся «между» амбициями человека и его идеалами (ср. Kohut, 1966, р. 254–255). Вместе с тем термином «дуга напряжения» я обозначаю постоянный поток реальной психологической деятельности, возникающей между двумя полюсами самости, то есть базальные цели человека, к которым «влекут» его амбиции и «ведут» его идеалы (там же, р. 250). Если мы перейдем от теоретических формулировок к реальному опыту, то сможем сказать, что здоровый человек приобретает чувство своей неизменности и идентичности во времени из двух источников: одного — поверхностного, другого — глубокого. Поверхностный источник связан со способностью — важной и присущей только человеку интеллектуальной способностью — занимать историческую позицию: осознавать себя в своих воспоминаниях о прошлом и проецировать себя в воображаемое будущее. Но этого недостаточно. Понятно, что если другой, более глубокий источник нашего чувства неизменной идентичности высыхает, то все наши попытки воссоединить фрагменты самости при помощи воспоминаний о былых вещах потерпят неудачу. Мы можем спросить себя: сумел ли Пруст успешно справиться с этой задачей? Правда, его творческие усилия укрепили его спустя много лет после потери родительских объектов самости (особенно его матери), поддерживавших связность его самости. Тем не менее его монументальный роман содержит многочисленные доказательства сохраняющейся у него фрагментации, — свидетельства периодически повторяющегося проявления интереса писателя к таким изолированным деталям переживаний, как вкус печенья «Мадлен», восприятие темы Вентейля и описание встречи с красавицей-рыбачкой по дороге в Бальбек, свидетельства его постоянного интереса к процессам мышления и телесным функциям и свидетельства его интереса к названиям, особенно к названиям мест и к этимологии этих названий, — как он содержит и свидетельства его новой консолидации[50]. Более того, новая консолидация, достигнутая Прустом (и рассказчиком в «В поисках утраченного времени» — см. загадочное переживание рассказчика [Vol. II, р. 991–992] после того, как он потерял и восстановил свой физический баланс), основывалась на массивном смещении с себя как живого и взаимодействующего человека на созданное им произведение искусства. «Обретенное время», восстановление Прустом детских воспоминаний, является психологическим достижением, существенно отличающимся от восполнения инфантильной амнезии, которая, как учил нас Фрейд, представляет собой предварительное условие для разрешения структурных конфликтов и, таким образом, лечения психоневрозов. Восстановление прошлого Прустом служит исцелению от нарушения непрерывности самости. Достижение такого терапевтического эффекта является результатом интенсивной психологической работы — будь то в аналитической ситуации благодаря переработке переноса объекта самости или вне терапевтической ситуации благодаря переработке, совершенной гением художника. Однако ни периодически повторяющееся, но всего лишь временное нарушение непрерывности самости, встречающееся при нарциссических расстройствах личности, ни продолжительная потеря самостью ощущения своего прошлого или будущего, встречающееся при психозах, не поддаются попыткам страдающего человека применить исторический подход к своей жизни. В ходе анализа только переживание прочно связанной ядерной самости даст нам убеждение, что мы сумеем сохранить чувство своей устойчивой идентичности, какие бы изменения ни происходили.
Тем не менее, как я уже указывал выше, чувство устойчивой идентичности в рамках реальности, которая устанавливает нам пределы времени, меняет нас и в конечном счете определяет нашу недолговечность, не основано целиком на сохраняющихся всю жизнь наших базисных стремлениях и идеалах — даже они иногда меняются, не приводя к потере чувства непрерывности. В конце концов они могут быть содержанием не ядерной самости, а неменяющихся особенностей самовыражения, творческого напряжения, нацеленного на будущее, которое подсказывает нам, что наша недолговечная индивидуальность также обладает значением, простирающимся за пределы нашей жизни. «Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen» («Пламя священное! / Кто им охвачен, / К жизни блаженной / Добра предназначен» [Перевод Б. Пастернака]), — поет хор ангелов в конце «Фауста» Гёте (часть 2), вознося с земли на небеса бессмертную сущность Фауста.
Позвольте мне теперь восстановить мои шаги и суммировать выводы. Основываясь на определенных генетических реконструкциях, сделанных в процессе психоаналитического лечения пациентов, страдающих патологией самости, я выдвинул предположение, что зачатки ядерной самости формируются благодаря одновременно или последовательно происходящим процессам селективного включения и исключения психологических структур. Кроме того, я пришел к выводу, что чувство устойчивой идентичности по оси времени — отличительный признак здоровой самости — формируется в раннем возрасте благодаря наличию постоянного градиента напряжения, существующего между двумя главными элементами ядерной самости, которое подталкивает индивида к действиям. Если обе эти гипотезы, относящиеся к формированию самости, верны, то в свою очередь мы можем теперь сформулировать два принципа психоаналитического восстановления фрагментированной или сформированной с иными изъянами самости: (1) при определенных условиях прекращение процессов переработки некоторых плохо функционирующих структур указывает, что аналитическая работа приближается к завершению, что была сформирована функционирующая самость; это не означает бегства в здоровье из-за неполноты анализа — и даже не означает неполноты, которая была бы приемлема в качестве реалистического компромисса[51]. (2) То же самое можно сказать по поводу восстановления детских воспоминаний. В принципе восстановление прошлого приходит к своему завершению в процессе анализа некоторых случаев нарциссического нарушения личности, когда формируется чувство устойчивой идентичности самости по оси времени. При анализе нарушений самости цель воскрешения в памяти событий не состоит в том, чтобы «сделать сознательными» бессознательные компоненты структурных конфликтов и тем самым создать условия для разрешения этих конфликтов в сознании — перехода из системы Бсз в систему Прс, от первичного процесса к вторичному, от принципа удовольствия к принципу реальности, от Ид к Эго; цель этого — укрепить связность самости. «В поисках утраченного времени» Пруста отображает попытку создать надежную на уровне переживаний непрерывность самости[52] — Пруст художественными средствами демонстрирует то, что современная психология самости пытается дать человеку в научных формулировках.
Обратимся теперь ко второй группе процессов, которые, как мы можем реконструировать на основе наших наблюдений в терапевтической ситуации, определяют, окажется ли ядерная самость прочно сформированной в ранний период развития, и, если да, то в какой именно форме это произойдет.
Как только первой группой процессов — процессов селективного включения и исключения структур — были установлены рудименты самости, решение о том, будет ли, и если да, то в какой форме, сформирована действительно прочная самость, часто в значительной степени определяется второй группой процессов. Эта группа процессов вносит свой особый вклад в формирование связной самости, компенсируя нарушение в развитии одного из элементов самости за счет чрезвычайно сильного развития других. Иначе говоря, ребенок располагает двумя возможностями на пути к консолидации самости — патологические нарушения самости возникают лишь в результате того, что обе эти возможности развития не реализуются.
В целом две эти возможности связаны с установлением у ребенка связной грандиозно-эксгибиционистской самости (благодаря его взаимодействию с эмпатически реагирующим, зеркально отражающим и одобряющим объектом самости, с которым происходит слияние), с одной стороны, и с установлением у ребенка целостного идеализированного имаго родителей (благодаря его взаимодействию с эмпатически реагирующим родительским объектом самости, который допускает идеализацию его и слияние с ним ребенка и испытывает при этом настоящую радость), — с другой. Развитие часто протекает — особенно у мальчика — от матери как объекта самости (обладающей для ребенка прежде всего функцией зеркального отражения) к отцу как объекту самости (главная функция которого состоит в том, чтобы быть объектом идеализации со стороны ребенка). Однако нередко бывает, особенно у девочки, — что последовательно активизированные потребности ребенка в различных объектах самости, развивающиеся на пути к установлению ядерной самости, направлены на одного и того же родителя. И, наконец, в особых обстоятельствах ребенок вынужден иногда обращаться к родителям в обратном порядке (от зеркально отражающего отца к идеализированной матери). С позиции ребенка ход развития (в большинстве случаев) ведет от величия самости, являющегося зеркальным отражением, к активному слиянию самости с идеалом — от эксгибиционизма к вуайеризму (в широком смысле, о котором говорилось выше); то есть два основных элемента ядерной самости, которую пытается создать ребенок, по-видимому, имеют разнонаправленные цели. Однако, если говорить в целом о ядерной самости, которая окончательно сформирована, сила одного элемента часто способна возместить слабость другого. Или, если использовать термины развития, неудача, пережитая на первом этапе пути, может быть исправлена успехом на втором. В целом мы можем сказать, что если мать не сумела сформировать прочно связанную ядерную самость ребенка, то в этом все же может преуспеть отец; когда эксгибиционистский компонент ядерной самости (чувство собственной ценности ребенка, связанное с его амбициями) не может консолидироваться, ее вуайеристский компонент (чувство собственной ценности ребенка, связанное с его идеалами) может все же придать ей устойчивую форму и структуру.
Определение биполярности ядерной самости и соответствующих принципов ее развития является не более чем схемой. Тем не менее хотя это и абстракция — или, возможно, как раз потому, что это абстракция, — оно позволяет оценить сложность эмпирического материала, который психоаналитик наблюдает в своей клинической работе. С его помощью мы можем не только понять многие оттенки и разновидности или типы ядерной самости (амбициозная или идеалистическая, харизматическая или мессианская, ориентированная на задачу или гедонистическая), но и оценить их относительную прочность, слабость или уязвимость, а также понять значение разнообразных внешних факторов (опять-таки не только очевидные события и обращающие на себя внимание ситуации в ранней жизни ребенка, но также — и прежде всего — всеобъемлющее влияние личности родителей и атмосферы в семье), которыми по отдельности или в сочетании друг с другом объясняются определенные характеристики ядерной самости, ее прочность, слабость или уязвимость.
Я уверен, что психоанализ отойдет от своего интереса к очевидным событиям в ранней жизни ребенка. Без сомнения, что очевидные события — например рождение; болезни и смерть родных братьев или сестер, болезни и смерть родителей, распад семьи, длительная разлука ребенка со значимыми для него взрослыми, его тяжелые и продолжительные болезни и т. д., — могут играть важную роль в переплетении генетических факторов, которые ведут к последующему психологическому заболеванию. Однако клинический опыт показывает, что в подавляющем большинстве случаев неправильное развитие, фиксации и неразрешимые внутренние конфликты, характеризующие личность взрослого человека, объясняются специфической патогенной личностью родителя (родителей) и специфическими особенностями патогенной атмосферы, в которой растет ребенок. Другими словами, очевидные события детства, которые кажутся причиной последующих нарушений, часто оказываются не более чем точкой кристаллизации для промежуточных систем памяти, которые, если проследить далее, ведут к действительному пониманию причин возникновения расстройства. За кажущейся важностью сексуальной гиперстимуляции ребенка и конфликтов, связанных, например, с тем, что он являлся свидетелем полового акта родителей, часто скрывается гораздо более важное отсутствие эмпатических ответов родителей на потребность ребенка в зеркальном отражении и нахождении объекта для своей идеализации[53]. Другими словами, депривация сохраняющейся потребности в эмпатии, а не подавление любопытства ребенка (которое не является патогенным), через депрессию и другие формы патологии самости ведет его к чрезмерному (патологическому и патогенному) вовлечению в сексуальную жизнь родителей. Или, если затронуть связанную с этим проблему, соблазняющий родитель наносит вред ребенку прежде всего не тем, что его соблазняет; нарушенная у него эмпатическая способность (вульгарное сексуальное поведение является лишь одним из ее симптомов), лишая ребенка способствующих уровню его развития ответов, устанавливает цепь событий, которые и приводят к психологическому заболеванию. И наоборот, можно констатировать также, что, если ребенок растет в семье, в которой нет здорового секса между молодыми и любящими родителями, то он может быть навсегда лишен некоторых аспектов своей личности. В таком случае он может остаться на всю жизнь эмоционально холодным и обедненным — но не потому, что он заторможен, а прежде всего потому, что не подвергся тонкому влиянию проникающей здоровой атмосферы, придающей энергию тем счастливым детям, что растут в семьях, где молодые мать и отец получают радость от своих сексуальных отношений. Я также считаю, что некоторые сексуальные травмы раннего возраста (например, страхи кастрации у мальчика и открытие им того, что он интерпретирует как кастрацию женщины) не являются основой совокупности факторов, вызывающих некоторые психологические болезни, в частности нарциссические нарушения личности, и что за ними скрывается страх холодного, неэмпатического, зачастую скрыто психотического, во всяком случае искаженного в психологическом отношении объекта самости. Правда, за головой Медузы скрываются предположительно кастрированные гениталии женщины. Но за вселяющими ужас гениталиями женщины скрывается холодное, невосприимчивое, не дающее зеркальных ответов лицо матери (или психотического отца, узурпировавшего функции материнского объекта самости), не способной принять и тем самым поддержать своего ребенка, потому что она страдает депрессией или скрытой шизофренией или отягощена каким-либо другим нарушением личности[54]. Следовательно, реконструкция определенных особенностей патогенной личности родителей, патогенной атмосферы в семье ребенка и установление динамической связи между этими генетическими факторами и определенными нарушениями личности пациента чаще всего и составляет главную терапевтическую задачу анализа.
Самые разнообразные генетические констелляции могут мешать развитию прочной, связной и сильной самости у ребенка. Возможно, что отец серьезно болен, а влияние матери слабое (как в случае Шребера — см. Kohut, 1971, р. 255–256); или серьезная психопатология матери сочетается с травмирующим распадом идеализированного имаго отца (ср. обсуждение психопатологии больного A. [Kohut, 1971, p. 57–73]); или серьезное нарушение личности матери сочетается с травмирующей разлукой с обоими родителями (см. выше обсуждение случая мистера В.); возможны и многие другие комбинации разных факторов. Но как бы ни отличались друг от друга эти патогенные условия, все они, по-видимому, имеют нечто общее: ребенок был лишен обеих возможностей в последовательности связанных с развитием событий — либо идеализированный объект самости обманул ожидания ребенка после того, как обманул его ожидания зеркально отражающий объект самости, или зеркально отражающий объект самости вновь обманул ожидания ребенка, когда тот попытался вернуться к нему за целебной поддержкой после разрушения частично дифференцированной самости, получив травму из-за несостоятельности идеализированного объекта самости.
Данное утверждение нуждается в некотором уточнении. Когда мы говорим о несостоятельности обоих объектов самости или о несостоятельности того или другого, термин «несостоятельность» и противопоставление, подразумеваемое при употреблении слов «либо» и «или», не должны приниматься в абсолютном значении. Речь идет о большей или меньшей несостоятельности объекта самости в осуществлении потребностей ребенка, относительной несостоятельности одного по сравнению с несостоятельностью другого, которая, если не учитывать другие причинные факторы, определяет окончательное состояние самости ребенка и будет ли он страдать, и если да, то в какой степени, от нарушения, станет ли он больным. Эти условия мы тоже должны исследовать, изучая проблему специфичности, то есть, другими словами, когда мы ставим вопрос, почему пациент заболевает одним типом патологии самости, а не другим.
Касаясь только что упомянутых обстоятельств, здесь следует перечислить и описать различные формы патологии самости, насколько это позволяют сделать наши нынешние знания об этой новой области исследования.
Классификация патологии самости
Я предлагаю вначале разделить нарушения самости на две группы, существенно различающиеся по своему значению: первичные и вторичные (или реактивные) нарушения. Последние представляют собой острые и хронические реакции консолидированной, прочно установленной самости на различные события жизни, будь то в детстве, юности, зрелости или старости. В данном контексте они не являются важными. Полная гамма эмоций, отражающих состояние самости при победе и поражении, относится здесь, включая вторичные реакции самости (гнев, отчаяние, надежду), к ограничениям, которые налагают на нее симптомы и торможения при психоневрозах и первичных нарушениях самости. Но даже завышенная и приниженная самооценка, триумф и радость, уныние и гнев при фрустрации являются разновидностью состояний человека и сами по себе не являются патологическими; их можно понять только в рамках психологии самости — объяснение этих эмоциональных состояний, в которых игнорируются амбиции и цели, исходящие из паттерна самости, скорее всего будут упрощенными или иррелевантными.
Перейдем теперь к классификации первичных нарушений самости. Эта группа нарушений самости включает пять психопатологических единиц: (1) психозы (постоянный или длительный распад, ослабление или серьезное искажение самости), (2) пограничные состояния (постоянный или длительный распад, ослабление или серьезное искажение самости, скрытое более или менее эффективными защитными структурами), и (3) шизоидные и паранойяльные личности, две защитные организации, использующие дистанцирование, то есть находящиеся на безопасном эмоциональном расстоянии от других — в первом случае посредством эмоциональной холодности и эмоциональной уплощенности, во втором случае посредством враждебности и подозрительности, — что защищает самость больного от опасности подвергнуться постоянному или длительному распаду, ослаблению или серьезному искажению. Самые глубокие корни этих всеобъемлющих защитных позиций восходят ко времени, когда психика маленького ребенка должна была отгородиться от патогенного проникновения депрессии, ипохондрии, паники и т. д. объекта самости (см. выше, где обсуждается патогенная последовательность попытки ребенка слиться с успокаивающим объектом самости, патологическая реакция объекта самости на потребность ребенка и «захлестывание» ребенка патологическим эмоциональным состоянием объекта самости).
Предыдущие три формы психопатологии в принципе не поддаются анализу, то есть, хотя связь между пациентом и терапевтом может быть установлена, ограниченного слияния при переносе болезненного (или потенциально болезненного) сектора самости с имаго аналитика как объекта самости, которым можно было бы терапевтически управлять при помощи интерпретации и проработки, не происходит.
Вместе с тем две другие формы первичного нарушения самости в принципе поддаются анализу. Ими являются (4) нарциссические нарушения личности (временный распад, ослабление или серьезное искажение самости, проявляющиеся прежде всего в виде аутопластических симптомов [Ferenczi, 1930], таких, как повышенная чувствительность к пренебрежению, ипохондрия или депрессия), и (5) нарциссические нарушения поведения (временный распад, ослабление или серьезное искажение самости, проявляющиеся прежде всего в виде аллопластических симптомов [Ferenczi, 1930], таких, как перверсия, делинквентность или пагубные привычки). В этих двух последних формах психопатологии спонтанно происходит ограниченное слияние при переносе болезненного сектора самости с аналитиком как объектом самости; более того, проработка этих переносов оказывается в самом центре аналитического процесса.
Я полагаю, что только последнее из этих определений нуждается в дальнейшем объяснении. Чтобы выяснить причину того, почему в классификации нарушений самости отдельно от нарциссических нарушений личности специальное место отводится нарциссическим нарушениям поведения, позвольте мне обратиться к сравнительной оценке двух часто встречающихся у человека случаев патологии самости.
Я имею в виду сравнение между часто встречающимися у человека случаями патологии самости, когда первичный дефект — болезненная, не получившая зеркального отражения самость — скрыт беспорядочным и садистским поведением по отношению к женщинам, и столь же часто встречающимися случаями, при которых защитное укрытие состоит из фантазий.
Вот почему, например, если сосредоточить наше внимание на двух конкретных клинических случаях, мистер М. (см. главу 1), страдавший нарциссическим нарушением личности, ограничивался в основном садистскими фантазиями о женщинах, тогда как мистер И. (Kohut, 1971, р. 159–161; р. 167–168), страдавший нарциссическим нарушением поведения, действительно вступал в отношения со многими женщинами, которых он контролировал и подчинял себе и с которыми он обращался садистски[55]. Ответ на этот вопрос — каким бы неполным и предварительным он ни был — следует расценивать как попытку внести свой вклад в написание очень сложной главы в психоаналитической теории и практике, как попытку разрешить досаждающую проблему неврозогенеза: почему одни люди становятся невротиками или у них развиваются нарциссические нарушения невротического типа, тогда как у других происходит отыгрывание и они становятся извращенцами, преступниками или наркоманами.
Если сравнить мистера М. и мистера И. в этом отношении, то мы можем сразу сказать, что их защитные структуры имеют нечто общее: их садизм по отношению к женщинам обусловлен потребностью вынудить ответ зеркально отражающего объекта самости. Другими словами, мы можем определять функцию защитных структур этих двух пациентов, применив к ним формулу, сходную с той, что я предложил в другом контексте для объяснения феномена «нарциссического гнева» (Kohut, 1972, р. 394–396). Садистские фантазии мистера М. и донжуанское поведение мистера И. можно рассматривать как разновидность нарциссического гнева, при котором доминирующим мотивом является не столько месть, сколько желание повысить самооценку.
Но что является доказательством нашего вывода, что фантазии мистера М. и поведение мистера И. представляют собой психологические действия, подкрепляемые защитными, а не компенсаторными структурами? На этот вопрос ответить нетрудно: наш вывод основан на том, что в обоих случаях психологические действия одним только шагом удалены от основного дефекта в самооценке. Например, в динамике переноса легко можно было обнаружить, что фантазии мистера М. и беспорядочное половое поведение мистера И. всегда активизировались, когда пациенты чувствовали, что аналитик не отвечал им эмпатически; фантазии мистера М. и беспорядочное половое поведение мистера И. прекращались, как только они чувствовали, что аналитик восстановил эмпатический контакт, с пониманием отвечал на их чувство нарциссического лишения — другими словами, как только связность их самости укреплялась или их самость становилась более сильной благодаря правильной (эмпатической) интерпретации со стороны аналитика.
На фоне идентичных защитных структур этих двух пациентов я могу очертить теперь те структуры, которые различались. Говоря кратко, существенное сходство структур наводит на мысль о том, что различия в их проявлениях следует объяснять не в рамках динамического подхода классической метапсихологии, а в рамках психологии самости. В частности, я предполагаю, что требования, выдвигаемые болезненной самостью, были более интенсивными, более настойчивыми, более примитивными у мистера И., чем у мистера М. Но чем обусловлены эти различия? По крайней мере частично они объясняются тем, что у мистера И. отсутствовал даже минимум целеполагающих структур, оставшихся, однако, у мистера М. — хотя далеко не полностью — от идеализированного объекта самости, его отца. Оба родителя мистера И. не были способны эмпатически отвечать на его нарциссические потребности; он был не только беззащитен перед крайне неэмпатической матерью (которая, например, заводила разговор со своими друзьями о гениталиях его брата, причем в его присутствии), но также и перед поглощенным собой, жаждущим самоутвердиться отцом, который стремился затмить сына, сместить внимание с него на себя и не мог гордиться успехами мальчика. Поэтому у мистера И. не развились компенсаторные структуры (то есть система идеалов и соответствующих исполнительных функций Эго), которые хотя бы частично развились у мистера М.
Пожалуй, здесь будет уместно одно техническое замечание. Я думаю, что при клиническом лечении таких пациентов аналитик мало чего добьется неодобрением нацеленного на повышение самооценки поведения этих людей, для которых отыгрывание служит проявлением защитных структур. Вместо того чтобы оказывать моральное давление, аналитик должен объяснить пациенту, что его поведение обусловлено не либидинозными, а нарциссическими потребностями. Он должен, в частности, постоянно показывать пациенту, анализируя периоды активности или спада садистского беспорядочного полового поведения пациента, что его защитные действия связаны с усилением или ослаблением проявлений, проистекающих из первичного дефекта в нарциссической сфере (его апатии или депрессии, его низкой самооценки); и он должен прежде всего обеспечить проработку различных нарциссических переносов, чтобы постепенно ослабить потребность пациента в асоциальном поведении, скорректировав его первичный дефект и повысив эффективность его компенсаторных структур.
Я полагаю, что основой клинической установки аналитика должно быть понимание им того, что защитные действия анализанда неэффективны. Вместо неодобрения в силу этических причин терапевт должен продемонстрировать пациенту, что его поведение не ведет к результату, к которому тот стремится. Другими словами, аналитик может сказать пациенту в соответствующий момент, что его попытка повысить свою самооценку при помощи своего защитного промискуитета напоминает попытку человека с желудочной фистулой утолить ненасытный голод, постоянно принимая пищу[56]. Иначе говоря, именно неэффективностью защитных маневров и объясняется то, почему к ним непрестанно обращаются. Размеры списка Лепореллр (у мистера И. действительно была подобная записная книжка с телефонами номеров доступных женщин) является признаком интенсивных неудовлетворенных потребностей в сфере самооценки, переживаемых по крайней мере некоторыми донжуанами. (Но не Доном Жуаном Моцарта и Да Понте). Поведение этого бессмертного персонажа, скорее всего, обусловлено прочно связанной, непокорной и сильной самостью. (Ср. в данном контексте анализ «Дон Жуана» Моцарта у Моберли [Moberly, 1967].)
Анализ психопатологии у мистера М. и мистера И. был предпринят с целью объяснить динамические и экономические различия между нарциссическими нарушениями личности и нарциссическими нарушениями поведения. Однако, несмотря на все различия, эти случаи имеют много общего. Не только, как я уже говорил выше, динамическое значение их защитных психологических действий, в сущности, идентично, но они имеют также одинаковую генетическую подоплеку. В частности, оба они относятся к определенной генетической констелляции в сфере патологии самости — характерным особенностям и воспитанию, — с которой я часто встречался. Она включает в себя несколько взаимосвязанных факторов: серьезное нарушение грандиозно-эксгибиционистского компонента ядерной самости из-за значительно искаженного зеркального отражения со стороны матери, страдавшей серьезным нарциссическим нарушением личности или даже латентным психозом, и достаточно серьезное нарушение компонента ядерной самости, содержащего идеализированные направляющие ценности — это нарушение было более значительным у мистера И., чем у мистера М., — обусловленное тем, что отец, к которому пытался обратиться ребенок в своем стремлении найти поддержку через слияние с идеализированным родительским имаго, не был в достаточной мере доступен ребенку.
Подобные случаи часто встречаются в современной психоаналитической практике, особенно в тех патогенных семейных констелляциях, когда мать страдает серьезной патологией самости, а отец отказывается от семьи эмоционально (например, уходя в свои дела или в работу либо тратя все свое время на развлечения и хобби). Другими словами, отец, пытаясь спастись от деструктивного влияния жены, жертвует ребенком, который остается под патогенным влиянием матери. Основная причина, почему я выделяю эту констелляцию, связана не с ее распространенностью, а скорее с тем, что она с большой ясностью показывает, что нарушение самости возникает вследствие лишения ребенка благотворных отношений с объектами самости в двух важных сферах развития ядерной самости, — что благотворное взаимодействие с идеализированным объектом самости не устранило вреда, нанесенного патогенным взаимодействием с зеркально отражающим объектом.
Из анализа мистера Х. — клинические данные
Незадолго до того, как мистер X.[57], двадцатидвухлетний молодой человек, обратился за помощью к аналитику, он получил отказ из Корпуса мира, к которому хотел присоединиться, чтобы осуществить фантазию-желание своей жизни: помогать неимущим, страдающим людям. Он признался аналитику, что, хотя отказ и явился непосредственным поводом, чтобы обратиться за помощью к терапевту, он думал о том, чтобы пройти психотерапию, еще до своего обращения в Корпус мира, но тогда он решил, что сначала проведет несколько лет в этой организации. Реальным поводом для терапии явилось чувство стыда из-за своего сексуального нарушения[58] и, возможно, как следствие этого чувства стыда его социальная изоляция и постоянное чувство одиночества. Его половая жизнь — с ранней юности до начала терапии — ограничивалась мастурбацией (по нескольку раз в день с напоминающей аддикцию интенсивностью), сопровождавшейся гомосексуальными фантазиями. У него никогда не было реального сексуального опыта — ни гомо-, ни гетеросексуального.
Мать мистера X. идеализировала его и подкрепляла открытую демонстрацию им своей грандиозности, но только, как мы увидим, до тех пор, пока он эмоционально от нее не отдалился. Ее отношение к отцу мальчика было крайне уничижительным. Начиная с латентного периода пациент, лютеранин, испытывал желание стать священником, и это желание отчетливо проявилось в юности. Хотя я не уверен, что его мать внешне поддерживала этот профессиональный выбор, он, несомненно, был обусловлен ее влиянием на него. Во всяком случае в этом желании воплотились сознательно подкреплявшиеся грандиозные идеи (идентификация с Христом), которые, однако, полностью лишили его независимости и мужских целей. Мать пациента, когда он был ребенком, часто читала ему Библию, придавая особое значение отношениям между мальчиком Иисусом и Девой Марией. Одной из их любимых историй в Библии — впоследствии она стала предметом многих грез пациента — была история о мальчике Иисусе в храме (Евангелие от Луки 2:41–52); и особое значение, по-видимому, придавалось тому, что («сидящий в храме посреди учителей») Иисус даже ребенком превосходил фигуры, воплощавшие отца («все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его»)[59]. Хотя попытка пациента вступить в Корпус мира, несомненно, была обусловлена его исходной идентификацией с фигурой Спасителя, мистер X. не предпринимал реальных шагов, чтобы стать священником. Не останавливаясь в деталях на эндопсихических препятствиях, стоявших на его пути, я мог бы дать следующее психодинамическое резюме: мистер X. не сумел соотнести свои грандиозные интересы раннего детства со стилем жизни священнослужителя, потому что его отношение к религии стало сексуализированным. В поздней юности его занятие мастурбацией часто сопровождалось фантазиями о гомосексуальных отношениях с совершающим богослужение пастором, в частности в момент получения святого причастия. Хотя желание мистера X. сексуализированной оральной инкорпорации находилось, таким образом, очень близко к психологической поверхности, его глубокая потребность в родительской психологической структуре не выражалась посредством сознательных фантазий о фелляции. Явное содержание соответствующих фантазий при мастурбации — любопытный синтез сублимированной символики Церкви и первичных процессов пациента — было связано со скрещиванием (!) могучего пениса священника с его собственным пенисом в момент получения облатки. Таким образом, в момент эякуляции озабоченность пациента могучим пенисом человека, оральной инкорпорацией и обретением идеализированной силы находила чуть ли не идеальное выражение в его сексуализированных образах завершения одного из наиболее важных символических актов христианского ритуала.
Основываясь на сознательных воспоминаниях мистера X., аналитик сначала предположил, что у него в детстве вряд ли был какой-либо настоящий эмоциональный контакт с отцом и что поэтому его отношение к отцу особого значения для него не имело. Однако ретроспективно можно было понять, что в начальных диагностических интервью мистер X. говорил о глубоком разочаровании, которое он испытал по отношению к своему отцу. Аналитик не придал значения этим упоминаниям мистера X. об отце, а пациент также совершенно не осознавал того, что указывал здесь на важную эмоциональную потребность своего детства. И наоборот, он представил важную информацию, пожаловавшись, что мать лишила его законной доли состояния отца, затронув проблему недавнего прошлого (распоряжения о наследовании после смерти отца) и выразил это с такой горечью и негодованием, что аналитик заподозрила наличие скрытой паранойи и некоторое время находилась в сомнении, будет ли пациент доступен анализу. (Ретроспективно значение этой жалобы можно было бы объяснить так: за явным обвинением, что от него скрыли правду о материальном положении отца, скрывался более глубокий упрек: мать лишила его возможности законного психологического наследования, не позволив ему восхищаться отцом и, таким образом, сформировать структуру самости, управляемую отцовскими идеалами, ценностями и целями.)
Пациент сравнительно поздно начал развивать в процессе анализа тему того, как он пытался обратиться от матери к отцу, чтобы воспользоваться вторым шансом в своем развитии обрести надежную и связную самость. В течение первых двух с половиной лет аналитик сосредоточивала свое внимание главным образом на внешней грандиозности пациента (его высокомерии, обособленности, нереалистичных целях); она также пыталась показать мистеру X., что его грандиозность, с одной стороны, представляла собой частичную «эдипову победу», а с другой — являлась защитной, то есть служила настойчивому отрицанию ребенком того, что, несмотря на кажущееся его предпочтение матерью, она в действительности по-прежнему принадлежала отцу, что тот мог наказать (кастрировать) маленького мальчика. Если сформулировать кратко, аналитик пыталась ему показать, что за его внешней грандиозностью скрывается депрессия «эдипова поражения». Другими словами, внимание аналитика и ее интерпретации были сосредоточены на внешней грандиозности, в которой, как мы можем видеть, пациент был не более чем предметом амбиций своей матери. Однако в стороне осталась скрытая грандиозность пациента, проистекающая из вытесненной грандиозно-эксгибиционистской самости мальчика — независимой мальчишеской самости, которая сначала тщетно стремилась к одобрению со стороны матери, а затем попыталась обрести силу, слившись с идеализируемым, вызывающим восхищение отцом.
Но пациенты никогда не сдаются сразу, и их неосуществленные в детстве потребности продолжают утверждаться. Так или иначе мистер X. сумел показать аналитику, что его неправильно интерпретировали. Один из ключей к этому был следующим. Через несколько недель после летнего перерыва, знаменовавшего конец второго года анализа, мистер X. рассказал о череде важных событий. Он сообщил, что в начале каникул поехал один в горную местность далеко от Чикаго. Во время поездки он много мечтал; это всю жизнь было его привычным занятием. Аналитик предположила, что мистер X. расскажет теперь о том, как одиноко он себя чувствовал, когда находился вдали от нее. Однако его ассоциации приняли другое направление. Он вспомнил очень яркую грезу, которая, по-видимому, почти ни чем не отличалась от настоящего сновидения. Пациент представил себе, что его автомобиль перестал ехать плавно, двигатель начал работать с перебоями и наконец совсем замолк. Он посмотрел на прибор, показывающий уровень топлива, и понял, что кончился бензин. Затем он представил, как толкает плечом автомобиль на обочину автострады. В своей фантазии он вышел из автомобиля и попытался сигнализировать проходящим машинам, что нуждается в помощи. Но одна за другой они проезжали мимо, а его тревога росла, поскольку он чувствовал себя одиноким, беспомощным и бессильным. Но затем его осенило. Когда-то давно он положил в багажник своего автомобиля канистру с бензином! Быть может, она все еще на месте и он сможет ее найти и, таким образом, продолжить свою поездку? Он представил, как открывает багажник, смотрит на груду багажа и инструментов и прочие самые разные непонятные и ненужные старые предметы. Он перерыл всю кучу и — слава Богу! — действительно нашлась старая канистра — ржавая, помятая, ветхая, но все же по-прежнему наполненная бензином — вот что он надеялся найти, вот что ему было нужно. Эта греза закончилась тем, что он залил бензин в бак и снова отправился в путь.
Затем он рассказал о своем путешествии по живописному лесу, до которого он доехал на автомобиле. Он снова был один, и снова его ум был активен во время прогулки. В частности, он продолжал вспоминать о некоторых эпизодах из своего детства, о которых он никогда прежде не рассказывал во время анализа. Он вспомнил, что только в очень редких случаях гулял вместе с отцом по лесу, что во время этих прогулок ощущалась близость между отцом и сыном, которой, казалось, вообще не было в их отношениях. Имелся еще один момент, который, по-видимому, мог иметь большое значение: в отличие от обесцененного образа отца, который пациент представлял в анализе до сих пор, теперь он сказал аналитику, что во время этих прогулок отец производил на него впечатление замечательного человека, превосходного учителя и проводника. Отец знал названия деревьев, узнавал следы разных животных и рассказывал сыну, каким он был хорошим охотником в молодости, знавшим, как подобраться к дичи и подстрелить ее одним выстрелом. Нет надобности говорить, что мальчик с восхищением слушал истории своего отца и был увлеченным и внимательным учеником, когда тот таким образом обучал его основам охотничьего ремесла. Однако была и другая сторона этих переживаний. Мало того что они случались редко, они к тому же остались изолированными; они не были интегрированы с остальной частью личности мистера X. и существовали только в виде анклавов в жизни мальчика (и в отношении отца к своему сыну). Отец и сын никогда не вспоминали эти прогулки и, словно по молчаливому соглашению, никогда не рассказывали о них матери.
Из анализа мистера Х. — экскурс в теорию
Структурной основой психологического нарушения пациента являлось вертикальное расщепление в его личности. Один сектор функционировал благодаря по-прежнему сохранявшемуся слиянию с матерью. Другой сектор включал два полностью не интегрированных элемента ядерной самости пациента — оставшийся без ответа грандиозно-эксгибиционистский фрагмент и фрагмент, характеризующийся идеализированными целевыми структурами, связанными с некоторыми установками восхищения отцом. Как мы вскоре увидим, первый из этих двух фрагментов ядерной самости (грандиозно-эксгибиционистский полюс) был парализован даже в большей степени, чем второй (полюс, содержавший мужские идеалы). Ядерная самость была, однако, не только фрагментированной и слабой, она оставалась также совершенно неизвестной для функционирующей поверхности личности; она оказалась скрытой. Она никак не была связана с сознательными структурами самости и не имела к ним доступа; она существовала отдельно от них вследствие горизонтального расщепления личности, то есть была вытеснена.
Я должен пояснить здесь, почему, говоря о психологии самости, я упомянул вытеснение, то есть понятие, принадлежащее классической метапсихологии, в которой человеческая психика рассматривается в качестве психического аппарата. Я мог избежать этого, поскольку, как я уже говорил выше, психология самости и классическая психология (психология психического аппарата) не должны быть объединены; в соответствии с психологическим принципом комплементарности они дополняют каждая со своей стороны два главных аспекта психологии человека: психологию Виновного Человека (психологию конфликта) и психологию Трагического Человека (психологию самости). Хотя объединять два этих глубинно-психологических подхода совершенно необязательно, сделать это, если будет такое желание, в принципе можно, правда, в ущерб объяснительным возможностям либо первого, либо второго. В данном случае я хотел соотнести самость и ее элементы со структурной моделью психики, прекрасно понимая, что этим я низвел самость до содержания психического аппарата и, таким образом, временно отказался от полноты объяснительных возможностей независимой психологии самости. Такая непоследовательность допустима, поскольку, на мой взгляд, все заслуживающее внимания теоретизирование является предварительным, пробным, временным и содержит элемент игры.
Я намеренно употребляю слово «игра», чтобы противопоставить базисную установку творческой науки установке догматической религии. Мир догматической религии, то есть мир абсолютных ценностей, серьезен; и те, кто живут в нем, серьезны, потому что радостный поиск для них завершен, — они стали защитниками истины. Мир же творческой науки населен «играющими» людьми, понимающими, что действительность, которая их окружает, в сущности непостижима. Сознавая, что они никогда не смогут добраться до «определенной» истины и только могут приблизиться к ней, находя аналогии, они довольствуются описанием того, что удается увидеть с различных позиций, и объяснением увиденного разными способами. Как ученые мы можем таким образом смотреть на звезды, макрокосмос, и мы можем изучать бесконечно малый микрокосмос частиц материи. Двигаясь в любом направлении, мы можем достичь бесконечных миров, равных по своему значению. То же самое относится к «психологии самости» и к «психологии самости в рамках психического аппарата». Мы можем рассматривать самость как центр Трагического Человека, изучать ее происхождение и развитие. И мы можем рассматривать самость как содержание психического аппарата Виновного Человека и изучать ее отношение к структурам этого аппарата[60].
Но давайте вернемся назад от общего к частному. Как я уже отмечал раньше, личность мистера X. была разделена на два сектора вследствие вертикального расщепления. В одном секторе, характеризовавшемся чувством превосходства, высокомерным поведением, немирскими и религиозными целями, а также идентификацией с Христом, он по-прежнему был слит со своей матерью, которая позволяла ему (и даже поощряла) выражать идеи величия — и преследовать свои жизненные цели, которые находились с ними в гармонии, — пока он не разрушил узы слияния с нею, пока он оставался исполнителем ее грандиозности[61]. В данном контексте, однако, мы сосредоточиваемся не на этом секторе, а на втором, где сталкиваемся с состоянием, которое я ранее назвал «вытеснением» структуры, стремившейся к слиянию с идеализированным родительским имаго и содержавшей некоторые рудиментарные очаги уже интернализированных ядерных идеалов. Условия, существующие в этом секторе, можно, как я уже отмечал, легко описать в теоретических рамках психологии самости в узком смысле этого термина: мы скажем, что ядерная самость, особенно та часть ее ядерного величия, которая приобретена посредством слияния с идеализированным объектом самости, отделена вследствие вытеснения (то есть вследствие «горизонтального расщепления») от контакта с осознанно воспринимаемой самостью. Если же мы попытаемся изобразить эти отношения без концепции самости, то есть используя только понятийную систему структурной модели психики, и без самости, понимаемой как психическое содержание, то мы столкнемся с большими трудностями. Например, в рамках структурной модели психики очень трудно проиллюстрировать вытеснение структур Супер-Эго (Эго-идеала) — рисунки Фрейда не могли однозначно передать здесь его значение, и поэтому в ряде случаев он был вынужден добавить к этому устное пояснение, что части Супер-Эго являются бессознательными, или, как он говорил, Супер-Эго опускается в бессознательное (Freud, 1923a, р. 39, 52; 1933, р. 69–71, 75, 78–79). Легкость, с которой модель психологии самости способна здесь проиллюстрировать эти отношения, на мой взгляд, является признаком ее пригодности и релевантности с точки зрения психологических условий, преобладающих при нарциссических нарушениях личности.
В данном случае нас интересует вопрос: учитывая биполярную организацию ядерной самости (и принимая во внимание соответствующий дуализм патогенных факторов), сколько имеется правильных решений проблемы — только одно, два или, быть может, даже несколько, — проистекающих из потребности анализанда восстановить функционирующую самость посредством психоанализа? На первый взгляд может показаться, что на этот вопрос ответить просто: разумеется, несколько, почему нет? И может вполне появиться желание сослаться на то, что анализ предлагает пациенту разные возможности излечиться, основываясь на утверждении Фрейда, что анализ предоставляет «для Я пациента свободу решать так или иначе» (Freud, 1923a, р. 50–51). Но я боюсь, что такой образ действий был бы слишком простым выходом, что он превратился бы в отговорку. Одно дело — говорить, что анализ предоставляет пациенту новый выбор («свободу решать»), пока мы ограничиваем цели анализа областью знания (сделать бессознательное сознательным); но другое дело — когда мы говорим о восполнении структурных дефектов, о восстановлении самости.
Если мы посмотрим на проблему, используя нашу клиническую иллюстрацию, то ответ на наш вопрос в принципе покажется простым. Если аналитик активно не вмешивается в спонтанные события, аналитический процесс будет иметь дело с доаналитическими элементами личности пациента; после устранения препятствий (после анализа защитного сопротивления) он приведет к высвобождению структур, которые, хотя и были прежде недоступны пациенту, тем не менее существовали. Другими словами, процесс анализа мистера X. (см. сходный случай мистера Дж.: Kohut, 1971, р. 179–186, в частности схему), схематически можно описать как разворачивающийся в двух стадиях.
На первой стадии акцент делается на разрушении барьера, поддерживавшего вертикальное расщепление в личности пациента. Благодаря устранению этого барьера пациент постепенно начинает понимать, что переживание самости в горизонтально расщепленном секторе его личности — переживание самости как опустошенной и заброшенной, которая тем не менее существовала и осознавалась, — представляет собой его истинную самость и что преобладавшее до сих пор переживание самости в недихотомизированном секторе — переживание нескрываемой грандиозности и высокомерия — проистекало не из независимой самости, а из самости, являвшейся придатком к самости его матери.
Можно считать, что вторая стадия анализа начинается, когда после устранения вертикального барьера внимание пациента сместилось с недихотомизированного к дихотомизированному сектору[62]. Теперь акцент в аналитической работе делается на горизонтальном барьере (барьере вытеснения) и преследуется главная задача анализа: сделать бессознательные структуры, лежащие в основе сознательного переживания самости, сознательными. Мы можем описать цель этой второй стадии с помощью прекрасных символических образов грезы мистера X.: анализ должен выявить скрытые запасы горючего, которые могут снова вернуть его на дорогу жизни. Другими словами, анализ помог мистеру X. обнаружить наличие ядерной самости, сформированной благодаря его отношениям с идеализированным объектом самости — своим отцом.
Однако вызывающее тревогу сомнение, может ли существовать более одного действительного решения проблемы посредством анализа, не было ослаблено предыдущими рассуждениями. Правда, в таких случаях, как случай мистера X., правильно проведенный анализ сумеет выявить скрытую бессознательную самость пациента, проистекающую из идеализированного объекта самости, в результате чего эта самость будет оказывать доминирующее влияние и, таким образом, позволит выразить доселе недоступные амбиции и идеалы. И действительно, в результате аналитической работы личность пациента подверглась постепенному изменению в направлении большего психологического здоровья. Кроме того, наряду с большей внутренней свободой и гибкостью, достигнутыми таким образом, он был способен принять определенные решения, приведшие к постановке новых целей. Он отказался от мысли стать священнослужителем (или вступить в Корпус мира) и обратился к целям, более соответствовавшим желанию стать «учителем и проводником» — паттерну, сформировавшему его ядерную самость в соответствии с его слиянием с идеализированным родительским имаго, представленным его отцом во время их совместных прогулок по лесу. Однако, какой бы неопровержимой ни была предыдущая формулировка, я буду играть роль адвоката дьявола и задам вопрос, не мог ли другой аналитик, сосредоточив свои усилия на зеркальном переносе и правильно его проинтерпретировав, преуспеть в устранении сохранявшегося слияния пациента с зеркальным объектом самости, с его матерью, и, таким образом, дать мистеру X. большую власть над структурами, возникшими в сфере его нескрываемой грандиозности. Другими словами, мы могли бы спросить: не привел ли бы такой анализ к успеху другим путем, подведя к другим правильным, но противоположным психологическим решениям, например к решению стать священнослужителем (и указав на возможность достичь этой цели)? Вновь говоря иначе, мы можем спросить: мог ли быть достигнут такой результат, если бы аналитик продолжил исследование сферы нескрываемой грандиозности, но не пытаясь — в соответствии с классическим подходом — сделать осознанным для мистера X. переживание эдипова поражения (которое не являлось активной в психодинамическом отношении констелляцией его личности), а сосредоточившись на существующем слиянии с матерью (психодинамической причине его нескрываемой грандиозности)?
Можно привести случаи анализа, где я бы склонился к утвердительному ответу на предыдущий вопрос, — более того, я приведу пример такого анализа позже (см. случай миссис И.). Речь идет о случаях, когда в жизни человека, подвергающегося анализу, имеются две противоположные, примерно одинаково выраженные возможности развития или когда имеются примерно одинаковые возможности здорового развития в двух разных направлениях. Такой баланс может быть следствием самых разных факторов. Приведем аналогию. Таяние снега создало поток воды, который течет вниз с горы. В большинстве случаев течение ручья предопределяют неровности ландшафта, но могут быть также случаи, когда особенности ландшафта (например, отдельные камни, ствол поваленного дерева и т. д.) будут определять, куда потечет вода — направо или налево, и таким образом изменят все дальнейшее направление потока. У некоторых пациентов это равновесие потенциальных возможностей сохраняется потому, что некоторые врожденные таланты, получившие меньшее подкрепление в раннем развитии, оказались теперь вровень с дарованиями, которые, хотя вначале и не были столь же выражены, получили гораздо большее подкрепление в детстве. Мальчик с врожденным талантом к использованию своей мышечной силы отвергнут атлетическим отцом, врачом по профессии. Его менее выраженные, но все же достаточные дарования в вербально-понятийной сфере получают подкрепление в патологических запутанных отношениях с матерью. В школе он избегает спортивных соревнований и работы в мастерских и сосредоточивается на интеллектуальных целях, прежде всего в области литературы (мать), но также, хотя и в меньшей степени, в области естествознания (отец). Поступив в медицинскую школу, как того ожидали от него в соответствии с семейной традицией, он вскоре впадает в депрессию и не может учиться. В этот момент наш воображаемый молодой человек обращается за помощью к аналитику. Нетрудно увидеть, что, учитывая равновесие сил, о котором я говорил выше, функционирующая самость может теперь развиваться двумя разными способами. Один аналитик, объясняя патологические сложные отношения с матерью, мог бы позволить пациенту освободиться от нее; и анализанд будет формировать независимую самость, которая стремится к похвале, признанию и успеху, но все же он не откажется от идеалов, приобретенных им, когда он был слит с матерью. Допустим, что он станет теперь творческим, преуспевающим психиатром. Другой аналитик, однако, если несколько вольно пофантазировать, мог бы сосредоточиться на патологических запутанных отношениях с матерью лишь до определенной степени, а затем уделить основное внимание реактивированным стремлениям слиться с идеалом отца. (Если равновесие, как исключение, и в самом деле является настолько полным, что допускает выбор.) Такой анализ мог бы позволить пациенту сформировать независимую самость, избавив его от патологических сложных отношений с матерью и устранив ущерб, причиненный отцовским отвержением, развив и усилив сохранившиеся остатки ядер отцовских идеализированных целей, несмотря на то, что многие ценности уже развились у него в соответствии с идеалами матери. В этом случае пациент мог бы решить стать хирургом, то есть после заживления нарциссической травмы в отношении отца он получил бы возможность заново пробудить свои врожденные таланты в сфере координированных движений и механических навыков, которые до сих пор в значительной степени были блокированы.
Однако в подавляющем большинстве случаев течение анализа, если он проводится правильно, предопределяется, по существу, эндопсихическими факторами. В частности, в случае мистера X. процессы переработки спонтанно проявившегося центрального переноса — идеализирующего переноса отношения к отцу, — эмпатически интерпретированного аналитиком, всегда бы вело (после анализа обоих секторов личности) к решению, к которому в случае мистера X. и в самом деле привел в конечном счете анализ: к установлению жизненных целей, связанных с идеализированным полюсом самости, — другими словами, к установлению жизненных целей, которые были всего лишь изменены паттернами, проистекавшими из архаичных переживаний зеркального отражения объектом самости.
Чтобы быть точным, я должен сказать, что отнюдь не любое сохраняющееся влияние идеалов, приобретенных от матери, помогает окончательно сформировать личность анализанда. Однако долговременное слияние с нею действительно оставило у него определенные умения в некоторых областях знания и соответствующие интеллектуальные навыки. То, что он не отказался от этих способностей и интересов (хотя иногда он был склонен это сделать), а сохранил их, теперь, правда, ради по-новому определенных жизненных целей, указывает, на мой взгляд, на силу его интегративных возможностей и устойчивость психического равновесия, которого он был способен достичь. Действия, требуемые от него в его профессии, связаны с (отцовским) идеализированным объектом самости, хотя содержания связаны с паттернами знаний и интересов, приобретенными в то время, когда он находился под влиянием (материнского) зеркального объекта самости.
Основываясь на предшествовавших рассуждениях, мы можем теперь заключить — за немногими исключениями это относится ко всем доступными анализу нарушениям, будь то структурные неврозы или нарушения самости, — что структура психопатологии мистера X. определяет схему его анализа, что специфическое течение, которое принял его анализ, и в конечном счете достигнутое благодаря ему конкретное коррективное решение были предопределены. Основной перенос (или последовательность основных переносов) был обусловлен сформировавшимися еще до анализа внутренними факторами в структуре личности анализанда, а влияние аналитика на течение анализа важно поэтому лишь постольку, поскольку своими интерпретациями, сделанными на основе верного или неверного эмпатического понимания, он способствовал либо препятствовал движению пациента по его предопределенному пути. В случае мистера X. основной перенос был связан с реактивацией потребностей бессознательной ядерной самости — ядерной самости, попытавшейся обрести силу посредством определенных процессов переработки одного из ее элементов, а именно полюса, носившего ее мужские идеалы. Специфические нарушения отношений между развивающейся самостью и объектами самости в детстве пациента не позволили завершить последовательность развития, состоящей из (а) слияния с отцовским идеалом, (б) деидеализации и преобразующей интернализации идеализированного всемогущего объекта самости и (в) интеграции идеалов с другими элементами самости и с остальной частью личности. Таким образом, основной перенос связан с реактивацией определенных незавершенных задач развития — это можно было бы назвать феноменом Зейгарник (Zeigarnick, 1927) при переносе, — то есть с новыми интенсивными попытками восполнить определенный структурный дефект. До того как аналитический процесс начал предоставлять пациенту действительно эффективные средства для восполнения структурного дефекта, он мог разве что получать кратковременное облегчение благодаря особого рода эротизированному отыгрыванию[63]. Оно нашло свое наиболее яркое выражение в ощущении пациентом прилива мужской силы, когда он представлял себе акт скрещения его пениса с пенисом священнослужителя в момент получения облатки. Задача анализа заключалась в том, чтобы переместить эту потребность в прочную самость, прежде всего в тот полюс самости, который мог содержать его идеализированные цели, — от ее аддиктивного эротического изображения, дававшего только временное ощущение силы, к лежащей в ее основе потребности реактивировать отношения с идеализированным объектом самости. Другими словами, мистер X. должен был реактивировать отношения с реальным отцом из своего детства; он должен был избавиться от идентификации с Христом, созданной в нем матерью, и одновременно он должен был отделить себя от эрзаца отца (Отца в Троице — бессознательного имаго собственного отца у матери), навязанного ему матерью. Благодаря аналитической работе, сконцентрированной на секторе его личности, содержавшем в себе потребность завершить интернализацию идеализированного имаго отца и интегрировать отцовский идеал, после того как анализ отошел от исследования открытой грандиозности мистера X., начали формироваться структуры и благодаря постепенной преобразующей интернализации смогло произойти укрепление дотоле изолированной бессознательной самости.
Я думаю, что привел достаточно доказательств в поддержку утверждения, что в случае мистера X. правильно реагирующий аналитик всегда, в силу внутренних факторов, сосредоточился бы на восстановлении идеализированного родительского имаго и тем самым предоставил бы пациенту возможность сформировать функционирующую должным образом секториальную единицу его самости. Особенно я надеюсь, что сумел продемонстрировать правильность моего подхода тем из моих коллег, которые имеют обыкновение относить истоки психопатологии к самому раннему возрасту и которые из-за этого склонны рассматривать восстановление более поздних структур лишь как вторичную и периферическую задачу. Разрешите мне еще раз сказать, что самые ранние слои психопатологии часто «отпадают» от самости — процесс принципиально отличающийся от вытеснения — после того, как с ними была проделана небольшая работа, и позволяют основной работе осуществляться спонтанно. Я убежден, что любое вмешательство в этот разворачивающийся аналитический процесс со стороны аналитика, утверждающего, что пациент продолжает иметь дело с архаичным материалом, является ошибочным, какими бы благими намерениями ни были продиктованы действия аналитика и какими бы теориями они ни были обоснованы.
Я знаю, что существует другая группа аналитиков, которые скажут, что я не должен прилагать так много усилий, чтобы продемонстрировать, что надо предоставить возможность для удаления архаичных слоев грандиозной самости, что с архаичным материалом следует действительно быстро расправиться, потому что весь материал имелся в распоряжении в этом анализе, и, в частности, что проработка самых ранних проблем пациента является всего лишь защитной. Реальный аналитический материал, — скажут они, — даже не подвергся анализу; и аналитик должен позаботиться, чтобы пациент с ним столкнулся, — это и является его главной задачей. Материалом, который коллеги имеют в виду, материалом, который в соответствии с их теоретическими представлениями и убеждениями всегда находится в центре психопатологии (независимо от характера нарушения) является, конечно же, эдипов комплекс. К анализу этого ядерного комплекса при структурных неврозах и его отношения к психологии самости мы и должны теперь обратиться.
Глава 5 Эдипов комплекс и психология самости
Мисс В. (сорока с небольшим лет) была художницей. Б ходе предшествовавшего анализа основное внимание было уделено исследованию зависти к пенису, а ее низкая самооценка и склонность впадать в уныние и отчаяние были интерпретированы в соответствии с формулировкой Фрейда (Freud, 1937), согласно которой неспособность женщины принять свою женственность и есть та первопричина, до которой может добраться анализ, — другими словами, пациентка по-прежнему жаждала обрести пенис, а ее чувство отчаяния было связано с неспособностью достичь этой цели. На третьем году анализа мисс В., проводившегося мною, ей приснилось, что она стоя мочилась в унитаз, а кто-то — непонятно кто — наблюдал за ней сзади[64]. Ее первые ассоциации относились к тому, что подобные сны снились ей и в период предыдущего анализа, и в совокупности со многими другими сновидениями о ванной комнате они послужили поводом к интерпретации, что ей хотелось иметь пенис и мочиться стоя, подобно мальчику. Затем она стала говорить о своем предыдущем аналитике — женщине, которая была полностью уверена в правильности своих интерпретаций и высказывала их с убежденностью, не допускавшей никаких сомнений со стороны пациентки. Потом в ее ассоциациях проявились вуайеристские интересы, в частности интерес к отцу, когда тот мылся в ванной; и она отчетливо помнила (и помнила об этом всегда), как маленькой девочкой ей хотелось видеть тело отца, особенно его гениталии. Пациентка замолчала, а когда я спросил о ее мыслях и чувствах, ответила, что ощущала себя подавленной, испытывала непонятную тревогу и отчаяние. Основываясь на предыдущих ее ассоциациях и приобретенном за эти годы знании о ее личности и детстве, я позволил себе высказать мнение, что ее сновидение и ассоциации представляли собой точку пересечения ее чувств, связанных с анализом и аналитиком, и некоторых важных детских переживаний. Я также добавил, что, на мой взгляд, ее сон о том, как она мочится стоя, и ее желание видеть пенис отца связаны прежде всего не с сексуальностью, а с потребностью — известной мне по другим воспоминаниям, возникавшим на предыдущих сеансах, — освободиться от отношений со своей эксцентричной и эмоционально поверхностной матерью и повернуться к эмоционально более отзывчивому и практичному отцу. В подтверждение моих слов у пациентки по ассоциации возникли некоторые неожиданные воспоминания. Вершиной айсберга было воспоминание, как мать предупреждала ее никогда не садиться на унитаз за пределами их собственного дома из-за каких-то нечетко определенных опасностей, связанных с грязью, заразными болезнями, бактериями и т. п. Кроме того, данные ассоциации привели к крайне важному пониманию того, что эти страхи, внушенные ребенку, по своей сути были связаны не с сексуальными желаниями и конфликтами из-за анальных или фаллически-генитальных влечений, а со скрытым паранойяльным представлением матери о мире в целом. Сиденьем для унитаза был мир — враждебный, опасный, заразный. И здоровое движение ребенка к миру — в сексуальных и несексуальных направлениях — стало невозможным из-за проникновения в психическую организацию ребенка паранойяльных представлений матери. Желание пациентки видеть пенис отца являлось сексуализированным воплощением ее стремления повернуться к нему, чтобы обрести позитивное, здоровое, непаранойяльное отношение к миру. И ее основным желанием в процессе анализа прежде всего было не желание получить пенис младенца от эдипова отца, а добиться отцовской поддержки, чтобы избавиться от влияния на нее со стороны матери — «садиться на унитаз», то есть получить поддержку отца, чтобы быть в непосредственном и здоровом контакте с миром. Ей нужны были от него психологические структуры, которые позволили бы ей быть радостной и живой в сексуальных и несексуальных сферах переживания, а не поверхностной, пустой и подозрительной, как ее мать.
Описанный выше случай, иллюстрирующий изменение значения клинических данных — по моему мнению, изменение в сторону более глубокого и емкого значения, — когда мы подходим к ним с точки зрения самости, борющейся за сохранение своей связности, то есть с точки зрения самости, побуждаемой страхом дезинтеграции, а не с точки зрения психического аппарата, пытающегося справиться с влечениями и структурным конфликтом, то есть с точки зрения Эго, побуждаемого страхом кастрации, поднимает некоторые теоретические вопросы.
Фрейд описал и объяснил эдиповы переживания ребенка в соответствии с его общими теоретическими представлениями, которые он заимствовал из физики своего времени, — в терминах сил (влечений), противодействующих сил (защит) и взаимодействия сил (компромиссных образований, например симптомов психоневрозов) в гипотетическом пространстве (психическом аппарате). Два принципа подводят нас к нашей задаче переоценки эдипова комплекса с точки зрения психологии самости: во-первых, мы подвергаем сомнению не факты, выявленные Фрейдом, а адекватность теоретической системы, в которой они рассматриваются, то есть их значение; и, во-вторых, мы отрицаем не классическую теорию, в которой эдипову комплексу принадлежит центральное место, а только универсальную применимость этой теории. Другими словами, мы используем упомянутый выше подход, то есть психологический принцип комплементарности; это означает, что для объяснения психологической области может потребоваться не одна, а две (или больше) теоретические системы[65].
В классической теории влечений и объектов особое значение придается эдиповым переживаниям ребенка; ими прежде всего объясняются конфликты ребенка и, в частности, чувство вины. Но она оказывается недостаточной для объяснения некоторых важнейших переживаний человека, связанных с развитием и преобразованием его самости. Скажем прямо: несмотря на все усилия нескольких поколений психоаналитиков расширить теории влечений, защит и структур психического аппарата до крайних пределов, включая последнюю героическую попытку Фрейда (Freud, 1920) придать теории влечений космологическое измерение, эти теории не в состоянии правильно объяснить переживания, связанные с необычайно важной задачей построения и сохранения связной ядерной самости (сопровождающимся радостью при достижении этой цели и смутным чувством безжизненности [ср. Eidelberg, 1959], если эта цель не достигнута), и, во-вторых, переживания, связанные с необычайно важным стремлением ядерной самости, если она сформирована, выразить свои базисные паттерны (сопровождающиеся триумфом или унынием в зависимости от успеха или неудачи в достижении этой цели). Как я уже отмечал выше, теория влечений и ее модификации объясняют Виновного Человека, но они не объясняют Трагического Человека.
В свете предыдущих рассуждений к исследованию эдипова комплекса лучше всего подходить с двух сторон. Сначала мы должны спросить, как связаны между собой нарушения самости и эдиповы психоневрозы; затем мы должны спросить, изменится ли — и если да, то каким образом — наша концепция эдипова комплекса, если ее рассматривать с точки зрения психологии самости.
Обратимся вначале к вопросу о том, как связаны друг с другом нарушения самости и эдиповы неврозы.
В теории — да и на практике — существуют две возможности: (1) эмоциональный уход от конфликтов и страхов эдипова периода может привести к постоянному принятию поддерживаемой в защитных целях нарциссической позиции; и, наоборот, (2) омертвение, которому подвергается ребенок, чувствующий, что его самость фрагментирована или что ей недостает жизненных сил, приводит к постоянному принятию поддерживаемой в защитных целях эдиповой позиции. В другой работе (Kohut, 1972, р. 369) я назвал первую группу нарушений псевдонарциссическими расстройствами, а вторую группу — неврозом псевдопереноса. К этой схематической классификации я здесь добавлю, что, помимо очевидных случаев уровневой патологии (то есть псевдонарциссических и псевдотрансферентных нарушений), существуют также смешанные формы, в которых первичная нарциссическая патология и эдипова патология соседствуют друг с другом и активизируются при переносе либо попеременно, либо последовательно. Эти случаи встречаются, однако, нечасто. Во всяком случае в моей клинической практике я, к удивлению, обнаружил, что случаи чистой патологии встречаются гораздо чаще, чем случаи смешанной патологии. Наконец, я должен сказать, что для исследования отношений между патологией самости и структурной патологией (но не для исследования нарушений самости как таковых) система классической метапсихологии является более или менее адекватной — так же, как она адекватна для традиционных исследований отношения между эдиповой психопатологией и доэдиповой в теоретических рамках психологии влечений.
Теперь мы обратимся к нашему второму вопросу: изменится ли — и если да, то как — наша концепция эдипова комплекса, если ее рассматривать с точки зрения психологии самости?
Я должен попросить читателя набраться терпения, поскольку для обоснования моего ответа на этот вопрос мне придется вкратце представить классическую точку зрения, чтобы рельефно показать некоторые ее особенности. В классической теории считается, что после целого ряда важных предварительных шагов ребенок вступает в психологическую стадию, на которой в силу внутренних психологических факторов (таких, как созревание влечений) он неизбежно оказывается в определенной психологической ситуации — испытывает сексуальное желание к родителю противоположного пола, а также чувство соперничества и желание смерти в отношении другого родителя, — сталкивающей его с конфликтами, которые он не может решить, основываясь на сознательном выборе и посредством внешнего действия, но на которые он отвечает массированной аутопластической адаптацией. Вследствие этих событий психический аппарат подвергается некоторым существенным изменениям: вытеснение желания гетерогенитального объекта является особенно важным среди факторов, определяющих форму и содержание Ид; интернализация имаго ненавистного гомогенитального соперника играет такую же роль в отношении формы и содержания Супер-Эго. Если архаичные структуры не отделены прочной стеной от Эго, а модулирующее воздействие добавляющихся полупроницаемых психических структур оказывается недостаточным, то образуется центральный фокус психопатологии: инфантильный (эдипов) невроз. В свою очередь он сам вскоре может изолироваться — временно или постоянно (то есть вторжение невротических проявлений предотвращается или отсрочивается), и таким образом Эго получает определенные возможности для решения своих воспитательных задач, хотя и ценой имеющейся в его распоряжении энергии. Однако во многих случаях инфантильный невроз оказывает свое ощутимое влияние в детстве, с пагубным отсутствием четко выраженного латентного периода. В таком случае расширение диапазона интеллектуальных и социальных навыков приостанавливается. Таким образом, классическая аналитическая теория описывает неразрешимые аспекты эдиповой ситуации и рассматривает возникающие патологические последствия как обусловленные неспособностью психического аппарата справляться с конфликтами.
Психологическое здоровье, на котором, правда, делается меньший акцент в классических формулировках, также можно определить в терминах эдипова комплекса. Оно возникает благодаря способности психического аппарата справляться с конфликтами путем эффективных аутопластических изменений, — формируется хорошо функционирующая психическая организация, способная справляться с проблемами адаптации. Другими словами, если барьеры в отношении вытесненных содержаний Ид и Супер-Эго являются не только прочными, но и в достаточной степени проницаемыми, то есть если силы архаичного Ид и Супер-Эго либо надежно ограждены, либо нейтрализованы добавившимися психическими структурами, то Эго может функционировать автономно, — наступает новая стадия психологического развития, можно сказать, не нарушенного инфантильной сексуальностью и агрессией: Эго готово приступить к решению широкого спектра интеллектуальных и социальных проблем, — ребенок идет в школу.
Если я утверждаю теперь, что с точки зрения психологии самости в узком значении термина, то есть с точки зрения теории, рассматривающей самость как содержание психического аппарата, имеется возможность обогатить классическую теорию, добавив новое измерение, то это не свидетельствует о недостаточном признании объяснительной ценности классических формулировок или недостаточном признании их красоты и элегантности. Если выразить открыто то, что до сих пор подразумевалось, то наличие прочной самости является предварительным условием переживания эдипова комплекса. Пока ребенок не воспринимает себя как имеющего границы, как постоянный независимый центр инициативы, он неспособен переживать объектно-инстинктивные желания, ведущие к конфликтам и вторичной адаптации эдипова периода. Кроме того, если мы признаем наличие активной самости в эдипов период, то тогда наша концепция эдиповых стремлений как таковых, а также функций психических структур, являющихся преемниками эдиповых переживаний, более точно отражает психическую реальность. Однако, как я уже указывал выше, в строго определенных пределах (например, в психопатологии, относящейся к области структурных нарушений; в случае осознанных и предсознательных психических конфликтов при нормальном функционировании) мы можем удовлетворительно объяснять психологическую жизнь, не обращаясь к понятию самости. Выражаясь афористично: поскольку самость присутствует по обе стороны структурных конфликтов, ее можно исключить из уравнения.
Дав общее описание классического подхода, мы достигли теперь ключевого момента в наших рассуждениях: оценки значения эдипова комплекса с точки зрения психологии самости в ее более широком смысле, то есть с точки зрения психологии, в которой понятие самости является вышестоящим понятием по отношению к понятию психического аппарата и его инстанций.
Иногда отдельная, но кратковременная эдипова стадия проявляется при переносе в конце многих лет аналитической работы, целиком фокусировавшейся на проработке отношений между самостью и объектами самости. Раньше я просто считал, что имею дело с оживлением эдипова конфликта из детства, что уровень развития или стадия, достигнутая опытным путем в детстве, была разрушена специфическими для данной стадии страхами, и это привело к защитному, регрессивному уходу. Но после нескольких подобных случаев я изменил свое мнение. Теперь я считаю весьма вероятным, что эти эдиповы констелляции являются новыми, что они являются позитивным последствием консолидации самости, которой прежде не было, что они не являются повторением переноса. Мое мнение сформировалось на основе следующих наблюдений: во-первых, в этих случаях анализанд воспринимает завершающую эдипову стадию главным образом в форме фантазий об аналитике и его семье, и хотя некоторые ассоциации могут относиться к родительскому треугольнику, у пациента не возникает эмоционально заряженных воспоминаний, связанных с эдиповыми конфликтами в его детстве. Во-вторых (это наблюдение особенно важно в качестве доказательства), несмотря на некоторую возникающую при этом тревогу, кратковременная эдипова стадия сопровождается теплым свечением радости — радости, которая имеет все признаки эмоциональности, сопровождающей достижения, связанные с созреванием или развитием. Я позволю себе в поддержку моего аргумента пересказать прекрасный анекдот, рассказанный много лет назад Фрейдом (Freud, 1900, р. 157) по другому случаю, о девушке, мечтавшей выйти замуж. На слова, что ее поклонник «очень вспыльчив и, наверное, если они поженятся, будет ее бить», она ответила: «Дай Бог, чтобы он начал уже меня бить!» Та же установка, с таким шармом изображенная в этой небольшой истории, преобладает в случае нарциссических нарушений личности и других первичных нарушений самости, когда возникают конфликты, проистекающие из эдипова комплекса. Любой человек, обеспокоенный серьезной угрозой непрерывности, консолидации и прочности самости, будет воспринимать эдипов комплекс, несмотря на все обусловленные им тревоги и конфликты, как радостно принятую действительность, и он будет говорить, подобно девушке из истории Фрейда: «Дай Бог, чтобы я уже начал страдать от тревог и конфликтов эдипова периода».
Очевидно, с точки зрения психологии самости в широком смысле мы фокусируемся на позитивных аспектах эдипова периода. Вместе с тем классическая теория вполне совместима с оценкой позитивных качеств эдиповых переживаний. Однако она не рассматривает позитивные качества, приобретаемые психическим аппаратом в этот период вследствие эдиповых переживаний, как первичный, внутренний аспект переживания как такового. Или, иначе говоря, классическая теория ограничивается фокусировкой на структурном конфликте и структурном неврозе. Психоаналитическая теория приблизится к осуществлению своей цели — стать общей психологией, если она расширит свои границы и будет рассматривать полученные ею данные и свои классические объяснения в более широких рамках психологии самости.
Позвольте мне теперь описать эдипову стадию с точки зрения психологии самости. Реконструируя мир переживаний эдипова ребенка на основе тех случаев, в которых эдипова стадия достигнута de novo[66] в конце анализа нарциссического нарушения личности, приведшего к восстановлению ранее фрагментированной и разорванной самости, мы можем сказать, что если ребенок вступает в эдипову стадию, обладая прочной, связной, непрерывной самостью, то тогда он будет испытывать активно собственнические, нежносексуальные желания в отношении родителя противоположного пола и чувства, выражающие уверенность в себе, стремление утвердиться и соперничать с родителем того же пола. Однако мы сразу должны добавить, что психологически было бы неверно рассматривать переживания эдипова ребенка изолированно. Как и на ранних стадиях, переживания ребенка в эдиповой фазе развития становятся понятными только тогда, когда они рассматриваются в рамках эмпатических, частично эмпатических или неэмпатических ответов со стороны окружавших его объектов самости.
На чувства нежности и соперничества эдипова ребенка нормальные эмпатические родители отвечают двумя способами. Они реагируют на сексуальные желания и на соперничество ребенка, стимулируя сексуальность и противодействуя агрессии, и в то же время гордятся достижениями развивающегося ребенка, его энергией и напором. Хотя, как правило, эти внешне противоречивые родительские установки слиты воедино, в дальнейшем я буду рассматривать их так, словно они поддаются четкому разделению.
О родительских ответах, упомянутых первыми, нет особой надобности говорить, да и мало что можно сказать такого, чего бы имплицитно не содержалось в доктринах классического анализа, или, по меньшей мере, нельзя было бы объединить с классическими постулатами, касающимися этой стадии развития. Мы скажем тогда, что эмпатический родитель противоположного пола сознательно или предсознательно понимает, что стал целью либидинозных желаний ребенка и отвечает в сдержанной в отношении цели либидинозной форме на «заигрывания» ребенка. Родитель одного пола с ребенком также сознательно или предсознательно понимает, что стал объектом соперничества и агрессии ребенка и отвечает сдержанной в отношении цели встречной агрессией на враждебность ребенка. Очевидно, что правильное восприятие родителями намерений ребенка, а также того, что их соответствующие реакции являются сдержанными в отношении цели, является важным с точки зрения возрастающей способности ребенка объединять свои либидинозные и агрессивные стремления, что — если использовать термины психологии психического аппарата — ребенок приобретает психические структуры, регулирующие проявление влечений. Для созревающего психического аппарата ребенка, без сомнения, вредно, если родительские реакции на эдиповы проявления оказываются слишком сексуальными или слишком контрагрессивными. Но, объявляя эти крайности недопустимыми, мы, кроме того, должны признать, что широкое разнообразие родительских реакций — даже если они активно не способствуют здоровью и развитию — должно расцениваться, по крайней мере, как непатогенное и не препятствующее психическому развитию. Мы рассмотрим родительские реакции, которые можно, таким образом, охарактеризовать как находящиеся в диапазоне нормального поведения родителей. Поэтому в указанных рамках мы можем сказать, что целый спектр родительских реакций находится в пределах нормы. Например, в патриархально организованных группах отношение родителей к эдипову мальчику способствует — благодаря его эдиповым переживаниям — развитию психического аппарата, характеризующегося прочным Супер-Эго и совокупностью устойчивых мужских идеалов. Этот тип может быть специфическим образом адаптирован к задачам пограничного общества или, по крайней мере, к обществу, в котором по-прежнему преобладают ценности пограничного общества. Родительские установки в группах, в которых половая дифференциация рода уменьшилась, вследствие различных реакций на эдипова ребенка могут способствовать формированию у девочки прочного Супер-Эго и идеалов, соответствующих скорее идеалам, которые обычно мы обнаруживаем у мальчиков из патриархальной группы. Такие девочки могут быть специфически адаптированы к задачам закрытого общества — возможно, общества устойчивых популяций в будущем.
Речь идет о важных вопросах, которые я буду обсуждать позже, — я мог бы добавить: об определенных областях, где сотрудничество социологов и психоаналитиков является обязательным, — но на которых в данном контексте я не буду останавливаться. Я только еще раз скажу, что ход событий, которые я здесь затронул, можно было бы описать в терминах несколько расширенной классической мета-психологии; другими словами, выводы из нашего краткого обзора обычной эдиповой ситуации можно представить в терминах психологии самости в узком значении термина. Таким образом, мы можем придать нашим формулировкам эксплицитное значение психологии самости; однако суть классического положения — формулировки, что благоприятным последствием успешно пройденной эдиповой стадии является формирование надежного психического аппарата, — остается неизменной.
Здесь нет также надобности останавливаться на неудачах такого развития, описанных классическим анализом в терминах слабости границ психических макроструктур, составляющих психический аппарат, или в терминах их регрессии, или в терминах того и другого. К каким бы изменениям и обогащению ни вело введение психологии самости в узком значении термина, конечный результат остается тем же, что и в классическом анализе: концепция человека как обладающего хорошо функционирующим или неисправным психическим аппаратом — человека, подстегиваемого влечениями и скованного страхом кастрации и чувством вины. Повторим еще раз: речь идет о концепции, которая в узкой клинической области адекватно описывает проблемы структурного невроза, а в более широкой области социального и исторического развития охватывает конфликты Виновного Человека.
Обратимся теперь к обсуждению темы, которая — я мог бы подтвердить этот факт вначале — не охвачена рамками классической теории, даже если ее углубить, дополнив психологией самости в узком значении термина: мы исследуем второй аспект реакций нормальных (в смысле непатогенных) родителей на своих эдиповых детей. В чем — спросим мы — суть непатогенности родителей в эдипов период? Как я уже говорил ранее, она определяется тем в высшей степени важным фактом, что, слившись со своими сексуальными и агрессивными реакциями, нормальные родители переживают радость и гордость в связи с прогрессом в развитии своих эдиповых детей.
Хотя эти важные реакции родителей эдипова ребенка сравнительно немногословны, особенно если они глубоко укоренены и искренни, тем не менее они пронизывают все поведение родителей. Они являются выражением того, что самость родителей полностью консолидирована, что самость родителей сформировала устойчивые паттерны амбиций и идеалов и что самость родителей выражает эти паттерны на протяжении всей жизни, имеющей подготовительное начало, активную, продуктивную, творческую середину и завершение. Не имеет значения, в какой точке жизненной кривой самость родителей проявляется на эдиповой стадии ребенка; если паттерн родительской самости полностью сформирован, консолидирован и находит свое выражение, пик деятельности и ее завершение уже подразумеваются. В таком случае эдипов ребенок получает пользу от того, что родители находятся в нарциссическом равновесии. Если, например, маленький мальчик чувствует, что отец гордится тем, что сын весь в отца, и позволяет ему слиться с ним и с его взрослым величием, то эдипова стадия окажется для ребенка решающим шагом в процессе консолидации самости и укрепления ее структур, включая формирование в том или ином виде интегрированной мужественности — несмотря на неизбежную фрустрацию его сексуального стремления и соперничества и несмотря на неизбежные конфликты, вызванные амбивалентностью и страхом кастрации. Если, однако, этот аспект родительского эха на эдиповой стадии отсутствует, то конфликты эдипова ребенка, даже в отсутствие полностью искаженных ответов родителей на либидинозные и агрессивные стремления ребенка, приобретут злокачественный характер. Кроме того, в этом случае искаженные ответы родителей вполне вероятны. Другими словами, родители, неспособные установить эмпатический контакт с развивающейся самостью ребенка, будут склонны рассматривать элементы эдиповых стремлений ребенка изолированно — они будут склонны замечать у ребенка (при этом, как правило, вообще только предсознательно) внушающую тревогу сексуальность и внушающую тревогу враждебность вместо крупных конфигураций утверждающей себя привязанности и утверждающего себя соперничества — в результате чего конфликты эдипова ребенка только усиливаются, — подобно тому, как мать, самость которой плохо консолидирована, будет реагировать на фекалии и анальную область, а не на сильную, гордо утверждающую себя на анальной стадии самость ребенка. Мать, самость которой консолидирована, не будет, однако, воспринимать изолированно объектно-либидинозные и нарциссические (эксгибиционистские) элементы, слитые с несексуальными элементами, которые составляют общую эдипову самость маленького мальчика; и она не будет поэтому отвечать на них интенсивными сексуальными реакциями или защищаться от них, подобно тому, как она не фокусировала внимание исключительно на фекалиях своего гордо утверждающего себя ребенка, находящегося на анальной стадии развития. В обоих случаях она будет реагировать на всю целиком связную и сильную самость. И нормальный отец не будет реагировать бурной встречной агрессией (непосредственно или защищаясь) на элементы агрессии (какие бы стремления они ни поддерживали — объектно-либидинозные или нарциссические), слитые с общей эдиповой самостью маленького мальчика, подобно тому, как он не стал бы фокусировать свое внимание исключительно на развитии мускулатуры ребенка, когда тот с гордостью демонстрировал свою недавно выявленную способность ползать, стоять, ходить.
Каковы же последствия этих родительских установок в отношении их эдипова ребенка, способствующих усилению связности его самости, — как воспринимает ребенок, являющийся реципиентом этих благотворных реакций, свою эдипову стадию? В чем, другими словами, состоит эдипов комплекс ребенка, вступившего в эдипову стадию с прочной связной самостью и опекаемого родителями, которые сами имеют здоровую связную и непрерывную самость? Основываясь на выводах, которые, на мой взгляд, можно сделать из наблюдения квазиэдиповой стадии в конце некоторых успешно проведенных анализов нарциссических нарушений личности, я полагаю, что эдиповы переживания нормального ребенка — каким бы сильным ни было влечение к родителю противоположного пола, какими бы серьезными ни были нарциссические травмы при осознании невозможности осуществить это желание, каким бы сильным ни было соперничество с родителем того же пола и каким бы парализующим ни был связанный с ним страх кастрации, — с самого начала содержат и сохраняют в дальнейшем примесь глубокой радости, которая, хотя и не связана с содержанием эдипова комплекса в традиционном смысле, имеет огромное значение для развития с точки зрения психологии самости. Я считаю, опять-таки основываясь на выводах, сделанных из наблюдения заключительной стадии некоторых успешно проанализированных случаев нарциссического нарушения личности, что эта радость имеет два источника. Позвольте мне здесь несколько искусственно отделить их один от другого, чтобы прояснить состав смешанного, но, в сущности, единого переживания. Ими являются: (1) внутреннее осознание ребенком важного шага вперед в психологическую сферу новых волнующих переживаний и — имеющее еще большее значение — (2) переживание им гордости и радости, исходящих от родительских объектов самости, вопреки осознанию ими — более того, благодаря осознанию ими — содержания эдиповых желаний ребенка.
Разумеется, многие родители ограничены в своей способности отвечать исключительно оптимальной эмпатической фрустрацией на своих эдиповых детей, многие отвечают открытым или скрытым совращением (или защитами от таких тенденций) и многие отвечают открытой или скрытой враждебностью (или опять-таки соответствующими защитами). Открытие этих фактов явилось одним из самых больших достижений Фрейда. А его смелость в раскрытии собственных желаний смерти сыну (Freud, 1900, р. 558–560) следует считать одним из примеров героизма в науке. Но являются ли реакции гения, в креативности которого важнейшая роль, безусловно, принадлежит нарциссизму, репрезентативными примерами оптимальных родительских установок[67]? Я думаю — нет. Оптимальный родитель не находится ни на одном из концов спектра организации самости. Он не является гением, чья самость поглощена творческой деятельностью и распространяется только на его труд и людей, которые могут восприниматься им как аспекты его труда. Он не является ни пограничной личностью, ни шизоидной или паранойяльной — другими словами, родителем, чья фрагментированная или склонная к фрагментации самость закрыта для эмпатического слияния с детьми, которое позволило бы ему восхищаться их развитием и самоутверждением. Оптимальные родители — опять-таки точнее будет сказать: оптимально фрустрирующие родители — это люди, которые, несмотря на свою стимуляцию растущим поколением и соперничество с ним, находятся в достаточном контакте с ритмом жизни, в достаточной мере принимают себя как временных участников непрекращающегося течения жизни и способны воспринимать развитие следующего поколения с непринужденной радостью, не носящей характер защиты[68].
Классическая метапсихология, психология сталкивающихся друг с другом мощных внутренних сил, осветила и объяснила широкую область психической жизни человека, которая прежде была скрыта во тьме. Однако из-за воодушевления, которое мы испытали, обретя новое понимание, мы не склонны теперь признать, что новая система оставила, по существу, незатронутым важнейший слой человеческих переживаний. Правда, мы пытались применять теории человека, пребывающего в конфликте, Виновного Человека (теории, принесшие нам много пользы для понимания неврозов переноса), также и к другому уровню человеческих переживаний. Но я считаю, что мы не преуспели — более того, я считаю, что, взяв на вооружение классическую теорию, мы и не могли преуспеть. Классическая теория не может прояснить сущность изломленного, ослабленного, непоследовательного человеческого существования: не может объяснить сущность фрагментации больного шизофренией, борьбу пациента, страдающего нарциссическим нарушением личности, за восстановление самого себя, не может объяснить отчаяние — я подчеркиваю: отчаяние без чувства вины — тех, кто, прожив больше половины жизни, обнаруживает, что базисные паттерны самости, проявившиеся в их ядерных устремлениях и идеалах, не были реализованы. Структурно-динамическая метапсихология не объясняет эти проблемы человека, ей не дано постичь проблемы Трагического Человека.
В свете этих рассуждений и следует по-новому понимать великое открытие Фрейда. С точки зрения классического анализа эдипова стадия является ядром невроза; с точки зрения психологии самости в широком смысле термина эдипов комплекс — оставляет он или нет индивида с чувством вины и склонным к неврозу — является матрицей, которая вносит важный вклад в укрепление независимой самости и позволяет ей следовать собственным паттернам с большей уверенностью, чем прежде.
Эти формулировки не означают противопоставления пессимистической философии оптимистической. С одной стороны, классическая метапсихология может, конечно, описывать эдипов комплекс как психологическое поле битвы, где появляется счастливый ребенок с прочно организованным психическим аппаратом, который позволит ему вести жизнь, не отягощенную парализующими конфликтами и неврозами. С другой стороны, психология самости может выявить неудачу в формировании и консолидации самости в этот период. Как я уже отмечал ранее, реализм побудил меня ввести негативные термины Виновный Человек и Трагический Человек, ибо неудачи человека в обеих сферах затемняют его успехи. Но хотя психология самости рассматривает возможности разрушения самости на эдиповой стадии, прожитой в матрице родительских объектов самости, которая не соприкасается с трагическими аспектами жизни, и хотя классическая метапсихология рассматривает благотворную структурализацию психического аппарата, возникающую в результате успешно преодоленной эдиповой стадии, акцент в психологии самости (чему есть веские причины) делается прежде всего на аспектах этого периода, способствующих развитию, а в классической психологии конфликта — на патогенных аспектах.
Новое понимание эдипова комплекса
Если учесть, что настоящая эдипова ситуация не может даже возникнуть без наличия консолидированной ранее самости, то становится ясно, что эдипов период служит скорее почвой для возникновения парализующих невротических конфликтов, чем основным очагом серьезных нарушений самости. Самость, так сказать, уже в пути; и хотя испытавшая потрясения самость не всегда может выдержать бури этого времени, особенно если эдиповы объекты самости равнодушны и деструктивны, и хотя в прочной уже ядерной самости будет теперь оставлен важный след, придающий ей особую форму (форму женской самости или мужской), тем не менее эдипова стадия не определяет судьбу самости и не является таким же важным моментом, как при формировании психического аппарата.
Где же в таком случае находится точка в жизни ребенка, имеющая такое же значение для раннего развития самости, какое, согласно классической психоаналитической теории, имеет для раннего психосексуального развития момент, когда эдипов комплекс приходит к своему разрешению? Основываясь на реконструкции материала, полученного при анализе взрослых, я могу сказать только следующее: если такая точка и существует, то она приходится не на момент, когда эдипов период переходит в латентный, а на гораздо более ранний этап в психологической жизни. Дав такой, пожалуй, неопределенный ответ, я не склонен, однако, заниматься этим вопросом далее — не только потому, что считаю, что более точный ответ, если таковой вообще имеется, должны были бы дать детские аналитики и аналитически обученные специалисты, наблюдающие детское поведение, но прежде всего потому, что я не хочу, чтобы психология самости была ограничена излишне конкретным и, казалось бы, убедительным представлением; этого заблуждения и в самом деле, к сожалению, не избежал психоанализ из-за эффектного термина «эдипов комплекс», какие бы аргументы ни приводились в оправдание образной конкретной терминологии, которая создавалась в ту раннюю эпоху новаторских изысканий.
Но хотя, таким образом, я отказываюсь драматизировать установление самости, указав определенный момент, когда, так сказать, она родилась, я считаю, что в более поздней жизни имеется определенная точка, которую следует считать крайне важной, — точка на жизненной кривой, когда в результате окончательного критического испытания становится ясным, каким было предшествовавшее развитие — успешным или неудачным. Является ли молодой возраст тем переломным моментом, когда самость сталкивается с самым сложным для нее испытанием? Возникновение самых разрушительных расстройств, шизофрении вскоре после наступления двадцатилетнего возраста, казалось бы, подтверждает такое представление. Но я бы отнес эту точку к более позднему времени — к позднему среднему возрасту, когда, приближаясь к окончательному закату, мы спрашиваем себя, соответствовали ли мы своему внутреннему предназначению. Это — период предельного отчаяния для некоторых людей, полной апатии, депрессии без чувства вины и направленной на себя агрессии, которая овладевает теми, кто чувствует, что потерпел неудачу и не может ее преодолеть, ибо для этого у него не осталось ни времени, ни энергии. Суициды в этот период являются выражением не карательного Супер-Эго, а коррективного акта — желания избавиться от невыносимого чувства омертвения и неясного чувства стыда из-за окончательного признания неудачи, масштаб которой огромен.
С учетом этого легко понять, что психология самости дает нам средства для объяснения соответствующего факта, который, по моему мнению, до сих пор не был понят, хотя, как мне кажется, он давно уже был выявлен аналитиками. Некоторые люди могут жить наполненной, творческой жизнью, несмотря на наличие серьезного невротического конфликта — иногда даже несмотря на наличие деформирующего невротического заболевания. И наоборот, существуют люди, которые, несмотря на отсутствие невротического конфликта, становятся жертвами чувства бессмысленности своего существования, включая тех (если обратиться к области психопатологии), кто страдает от отчаяния и апатии опустошающей депрессии, — прежде всего, как я говорил выше, от депрессии, характерной для позднего среднего возраста.
Я даже питаю надежду, что психология самости когда-нибудь сможет объяснить тот факт, что некоторые люди расценивают неизбежность смерти как доказательство полной бессмысленности жизни — единственный способ избавления человека, гордящегося своей способностью видеть бессмысленность жизни, не приукрашивая ее, — тогда как другие могут принимать смерть как неотъемлемую часть осмысленной жизни.
Разумеется, есть люди, которые могут сказать, что вышеупомянутые проблемы не являются предметом науки, что, занимаясь ими, мы оставляем области, которые можно прояснить путем научного исследования, и входим в туманные области метафизики. Я с этим не согласен. Такие проблемы, как восприятие жизни как бессмысленной, несмотря на внешний успех, восприятие жизни как осмысленной, несмотря на внешнюю неудачу, чувство победоносной смерти или бесполезного выживания представляют собой законные предметы научного психологического исследования, потому что они являются не туманными абстрактными спекуляциями, а содержанием сильнейших переживаний, которые можно эмпатически наблюдать в клинической ситуации и вне ее. Правда, эти феномены не охвачены наукой, которая рассматривает психику как аппарат, перерабатывающий биологические влечения. Но должны ли мы поэтому делать вывод, что новая теоретическая система с иным представлением о психике не может оказаться нам здесь полезной? При этом — подчеркну еще раз — не обязательно отказываться от старой.
Теперь также становится очевидным, почему психология самости не относит базисные амбиции и базисные идеалы человека к его психическому аппарату, в частности к Ид и Супер-Эго, а рассматривает их, как я уже говорил, с точки зрения двух полюсов его самости. С позиции психологии самости в широком смысле термина они являются важными элементами той ядерной дуги напряжения, которая, став независимой от генетических факторов, определяющих ее конкретную форму и содержание, сформировавшись, стремится только к тому, чтобы жить исходя из своих внутренних потенциальных возможностей.
Суммируем сказанное: Ид (сексуальное и деструктивное) и Супер-Эго (сдерживающее и запрещающее) являются элементами психического аппарата Виновного Человека. Ядерные амбиции и идеалы — полюсами самости; между ними возникает дуга напряжения, формирующая главные цели Трагического Человека. Конфликтные аспекты эдипова комплекса — это генетический центр развития Виновного Человека и возникновения психоневрозов; бесконфликтные аспекты эдипова комплекса — этап в развитии Трагического Человека и в возникновении нарушений самости. Представления психологии психического аппарата пригодны для объяснения структурного невроза, чувства вины и депрессии, то есть психических нарушений и конфликтов Виновного Человека. Психология самости необходима, чтобы объяснить патологию фрагментированной самости (начиная с шизофрении и заканчивая нарциссическими нарушениями личности) и изможденной самости (опустошающей депрессии, то есть мира стремлений, не получивших зеркального отражения, мира, лишенного идеалов), то есть психические нарушения и борьбу Трагического Человека.
Позвольте нам теперь временно оставить в стороне клинические вопросы и исследовать в свете психологии самости проблему, с которой я столкнулся много лет назад (Kohut, 1959, р. 479–482) и которую счел неразрешимой. Я с удовлетворением вижу, что части загадки, поставившей меня в тупик тогда, теперь складываются воедино. Будучи в то время приверженцем традиционного представления о том, что область, где господствует абсолютный детерминизм, не ограничена, и придерживаясь фрейдовской модели психики, изображающей ее в качестве аппарата, перерабатывающего разные силы в некотором гипотетическом пространстве, я не мог найти места для психологических феноменов, которые называются выбором, решением и свободной волей, хотя я прекрасно знал, что эти явления вполне доступны для эмпирического наблюдения. Уже тогда я был твердо убежден, что интроспекция и эмпатия являются важными инструментами наблюдения в науке, занимающейся комплексными психическими состояниями, более того — что именно они определяют науку и ее теории, что область психоаналитической глубинной психологии является одной из сторон реальности, которую можно понять при помощи интроспекции и эмпатии. И поэтому я был уверен, что феномены выбора, решения и свободной воли, которые можно наблюдать при помощи интроспекции и эмпатии, являются психологическими аспектами реальности, составляющей область исследования глубинной психологии. Однако я вынужден был признать, что теоретическая система, которой я располагал, — классическая психология психического аппарата, где психика рассматривается в качестве реагирующего механизма, — не могла дать им адекватного объяснения.
Детерминизм оказывает безграничное влияние, если наблюдатель рассматривает психологическую деятельность человека по аналогии с процессами во внешнем мире, которые можно объяснить при помощи законов классической физики. Психология психического аппарата как раз и руководствуется законами психического детерминизма — и она многое объясняет. Но хотя и не подлежит сомнению, что многие психологические феномены и взаимодействия удовлетворительно объясняются в рамках этой системы, точно так же верно и то, что существуют некоторые явления, требующие для своего объяснения введения постулата о существовании психической конфигурации — самости, — которая, независимо от истории ее формирования, становится центром инициативы — единицей, стремящейся следовать своим собственным курсом. Физик в своих представлениях об аспектах исследуемой им реальности — «внешней» реальности — точно так же руководствуется двумя противоположными теориями: процессы в границах Вселенной можно объяснять в терминах причины и следствия или теории вероятности (аналогично работе, осуществляемой психическим аппаратом, и процессам, происходящим в нем); с другой стороны, Вселенная в целом — каким бы образом она ни возникла — рассматривается как единица, следующая своим курсом от нарушения энергетического баланса к полному энергетическому равновесию и абсолютному покою (подобно курсу, которому следует самость в течение жизни каждого индивида).
Однако давайте закончим теперь нашу экскурс в область далекой от опыта теории и вернемся к более близкой опыту области, являющейся главным объектом нашего нынешнего исследования: к новой оценке значения эдипова комплекса в свете психологии самости. Предыдущие наши исследования привели к определенному выводу: с точки зрения психологии самости мы должны рассматривать эдипов период скорее как источник потенциальной силы, а не слабости. Само по себе это смещение акцента не означает разногласия с классической формулировкой, оно просто означает, что мы рассматриваем те же детские переживания с новой позиции и видим, что выявленные ранее факты приобретают дополнительное, несколько иное значение. Но является ли это смещение акцента в связи со значением эдиповых событий исключительно следствием новой оценки нами этого периода в свете психологии самости? Или же новый подход ведет нас также к иному восприятию самого содержания эдиповых переживаний ребенка? Я должен признаться, что не могу Дать определенного ответа на этот вопрос. Другими словами: быть может, психология самости просто добавляет новый аспект в нашем понимании эдиповых переживаний ребенка, поскольку позволяет нам учитывать поддержку или недостаток поддержки со стороны объектов самости в этот период? Или же представления психологии самости подвергает сомнению правильность эдиповых реконструкций как таковых?
Я не буду делать то, что уже было сделано и без меня, и приводить доказательства — реконструкции переноса, наблюдения за поведением детей, анализ мифов и произведений искусства, — подтверждающие традиционное представление об эдиповой драме. Но я считаю, что анализ эдиповой стадии в заключительной фазе некоторых случаев нарциссических нарушений личности вселяет серьезные сомнения в точности наших описаний обычной эдиповой стадии. Единственное, что я бы хотел здесь сказать: наши наблюдения за вступлением в квазиэдипову стадию сопровождающимся чувством радости, должны побудить нас по-иному оценить традиционные представления и поставить вопрос, не является ли эдипов комплекс классического психоанализа, который мы считаем универсальным переживанием человека[69], фактически выражением патологического развития, по крайней мере в стадии становления. Мы должны спросить: не может ли быть так, что нормальный эдипов комплекс является менее интенсивным, доставляет меньше тревог, не наносит столь глубоких нарциссических ран, как мы привыкли считать; что он вообще действует воодушевляюще и, если говорить в терминах психологии психического аппарата Виновного Человека, даже доставляет больше радости? Не может ли быть так, что мы расценивали драматические желания и тревоги эдипова ребенка как нормальные события, тогда как фактически они являлись реакциями ребенка на недостаток эмпатии со стороны окружающих объектов самости на эдиповой стадии?
Мы знаем, что неспособность объектов самости проявлять эмпатию в отношении всей самости маленького ребенка приводит к дезинтеграции, что из-за неспособности объектов самости реагировать на самость в целом сложные, основанные на опыте конфигурации, из которых первоначально состояла самость, начинают распадаться на фрагменты, и что в дальнейшем изолированные переживания влечений (и вызванные ими конфликты) начинают проявляться сами по себе. Достаточно будет представить себе страдающего от одиночества мастурбирующего доэдипова ребенка, не получавшего эмоционального отклика от своих родителей, и его вторичные конфликты в связи с мастурбацией, чтобы ясно увидеть эти условия. Не могут ли эти же условия преобладать и в случае эдипова ребенка? Разве не самость ребенка (объекты которой не имеют ни малейшего представления о его развивающейся эдиповой самости) начинает распадаться на части? Разве не самость ребенка, нежные чувства которого и стремление утвердить себя не нашли отклика у родителей, оказывается затем во власти неассимилированного вожделения и враждебности? Другими словами, разве драматический, раздираемый конфликтами эдипов комплекс классического психоанализа и его восприятие ребенка, стремления которого терпят крах под воздействием страха кастрации, является неизбежным в процессе развития, а не обусловлен во многих случаях несостоятельностью родителей с нарциссическими нарушениями личности? Как я уже говорил, точный ответ на эти вопросы мне не известен, но я знаю, что аналитики должны по-новому взглянуть на переживания своих пациентов при эдиповом переносе и что аналитически обученные наблюдатели должны иначе оценивать поведение детей на эдиповой стадии, держа в уме эти вопросы.
Глава 6 Психология самости и психоаналитическая ситуация
Теоретическая система, определяющая наше понимание психопатологии и нормальной психики, будет влиять не только на наши конкретные технические действия (в частности на содержание наших интерпретаций), но и на выражающееся в тонких намеках и очевидных шагах наше общее отношение к аналитическому процессу и пациенту. Например, точка зрения, принятая в отношении таких внешне эзотерических вопросов, как: правильно ли говорить, что человек рождается беспомощным, потому что при рождении у него нет дееспособного аппарата Эго (не правильнее ли сказать, что он рождается сильным, потому что окружение, состоящее из эмпатических объектов самости, и есть его самость?), или: являются ли неприрученные влечения человека первичными единицами в мире комплексных психических состояний, с которыми имеет дело интроспективно-эмпатическая глубинная психология (не правильнее ли сказать, что первичные единицы с самого начала представляют собой комплексные переживания и паттерны действия единицы, состоящей из самости и объекта самости?), эта точка зрения тесно связана с представлением (проявляющимся в конкретном поведении), что глубинный психолог выбирает наиболее подходящую установку для проведения терапии в конкретных условиях.
Все психоаналитики, наверное, согласятся с утверждением, что структура личности пациента (в частности, его ядерная психопатология и повлиявшие на развитие переживания в его раннем детстве) оптимально проявится в нейтральной аналитической атмосфере. Я полностью согласен с этим утверждением; более того, я считаю, что только благодаря строгому следованию ему я сумел выделить особую форму психопатологии нарциссических нарушений личности, понять главные механизмы этого нарушения и описать его генетические детерминанты. Но когда я стараюсь вести себя в соответствии с принципом аналитической нейтральности, то есть выступать в качестве нейтрального экрана, на который может проецироваться личность анализанда с его потребностями, желаниями и стремлениями, я не пытаюсь приблизиться к нулевой отметке активности.
Я задался вопросом, каким образом психоаналитики, в целом обладающие эмпатической способностью значительно выше среднего уровня, вообще могут совершать ошибку, которую, как мне кажется, они иногда совершают, приравнивая нейтральность к минимуму реакций. Быть может, отсутствием психологического образования аналитиков объясняется это неверное истолкование правильного психологического принципа? Кто-то, кто ранее обучался физике, мог бы сравнить аналитическую ситуацию с экспериментом в химии или физике или с хирургической операцией. И он мог бы определить попытку аналитика создать нейтральную психоаналитическую атмосферу по аналогии с попыткой держать чувствительную шкалу в изоляции от любых колебаний, производимых шумом или другими неконтролируемыми источниками. Но обращение к такой верной на первый взгляд аналогии вводит в заблуждение.
В процессе анализа психика аналитика всецело поглощена пациентом. Сущность его равномерно парящего внимания следует определять не негативно — как приостановку его сознательных, целенаправленных логических процессов мышления, а позитивно — как дополнение к свободному ассоциированию анализанда, то есть как проявление и использование аналитиком дологических способов восприятия и мышления. Другими словами, равномерно парящее внимание является активной эмпатической реакцией аналитика на свободные ассоциации анализанда, реакцией, в которой задействованы самые глубокие слои бессознательной сферы аналитика из области прогрессивной нейтрализации (Kohut, 1961; Kohut, Seitz, 1963)[70]. Поэтому концепция пассивности аналитика, как Фрейд иногда называл его базисную терапевтическую установку, нуждается в разъяснении. Например, человеческая теплота аналитика не является всего лишь случайным сопровождением его основной деятельности — давать интерпретации и создавать конструкции, — которая осуществляется благодаря его когнитивным процессам. Она выражает тот факт, что постоянная включенность глубоких слоев психики аналитика является непременным условием поддержания аналитического процесса. В терминах метапсихологии реакции аналитика на анализанда — его интерпретации и конструкции — представляют собой проявление сектора его психики, а не слоя; и в работе аналитика требуется не автономия Эго, а преобладание Эго (см. Kohut, 1972, р. 365–366). Я бы добавил, что автономия Эго нужна иногда — временно — в те моменты, когда аналитик пытается преодолеть эндопсихическое препятствие, блокирующее его эмпатическое понимание.
Но если аналитическую нейтральность или пассивность нельзя определять по аналогии со стремлением сохранить точность чувствительного прибора, то как тогда ее следует охарактеризовать? Я считаю, что, с точки зрения психологии, ее следует определить как отзывчивость, ожидаемую обычно от человека, посвятившего свою жизнь тому, чтобы помогать другим людям, используя понимание, достигнутое благодаря эмпатическому погружению в их внутреннюю жизнь. Хотя эта эмпатическая отзывчивость находится в пределах широкой полосы в спектре возможностей и допускает многочисленные индивидуальные вариации, она принципиально отличается от функций психологически запрограммированного компьютера, ограниченного в своих действиях предоставлением правильных и точных интерпретаций. Вывод о том, что аналитик «в принципе» не должен пытаться действовать подобно запрограммированному компьютеру, основывается на двух посылках: во-первых, реакции аналитика требуют участия глубоких слоев его личности, и, во-вторых, на чем я более подробно остановлюсь вскоре, ответы компьютера не соответствовали бы среднеожидаемой среде анализанда.
Эти положения, как мне кажется, полностью отвечают основным принципам анализа, а установка, которую они защищают, способствует пониманию аналитиком появляющегося бессознательного материала. Если, например, настойчивые вопросы пациента оказываются проявлениями переноса инфантильного сексуального любопытства, то эта активизировавшаяся детская реакция не будет служить помехой, а, наоборот, проявится с большей ясностью, если аналитик, вначале ответив на вопросы и только затем указав, что его ответы не удовлетворили пациента, не отвергнет искусственным образом потребность анализанда в эмпатическом живом отклике. Все это особенно относится к анализу нарциссических нарушений личности, где такие проявления сексуального любопытства, кажущиеся на первый взгляд дериватами инфантильных влечений, являются всего лишь каналом, посредством которого находит свое выражение более глубокая потребность в отклике со стороны объекта самости. И все это в известной степени относится также и к классическим неврозам переноса, поскольку характер подвергшихся переносу объектно-инстинктивных требований анализанда становится гораздо более ясным, если обычные, присущие среднестатистическому человеку потребности пациента не отвергаются с ходу как защитные маскировки или как дериваты инфантильных влечений-желаний, а сначала принимаются «по номинальной цене» и получают отклик.
Как я уже говорил выше, человек психологически не может выжить в психологической среде, которая не отвечает ему эмпатически, подобно тому, как он не может выжить физически в атмосфере, не содержащей кислорода. Недостаток эмоциональной отзывчивости, безмолвие, притворство человека, напоминающего бесчувственную вычислительную машину, предназначенную для собирания информации и выдачи интерпретаций, точно так же не обеспечивают психологическую среду для неискаженного проявления нормальных и аномальных свойств психологической структуры, как лишенная кислорода атмосфера и близкая к нулевой точке температура не обеспечивает физическую среду для точного измерения его физиологических реакций. Адекватная нейтральность в аналитической ситуации обеспечивается средними условиями. Поведение аналитика по отношению к своему пациенту должно быть среднеожидаемым, то есть поведением психологически восприимчивого человека в отношении того, кто страдает и обратился к нему за помощью.
Меня могут здесь упрекнуть, что я говорю банальные вещи: и так ясно, что аналитик должен вести себя по-человечески тепло и проявлять соответствующую эмпатическую отзывчивость и что аналитики действительно ведут себя тепло и по-человечески по отношению к своим пациентам[71]. В известной степени я склонен считать, что эта критика справедлива — по той простой причине, что вести себя иначе в такой глубоко человеческой констелляции, которую мы называем аналитической ситуацией, было бы почти неправдоподобным подвигом. Но я также знаю, что существует теоретическое предубеждение, из-за которого аналитику сложно вести себя естественно и расслабленно, и что, наоборот, аналитики склонны испытывать смутную неловкость или чувство вины, когда они ведут себя так с пациентами. Как следствие некоторая церемонность, искусственность и пуританская сдержанность нередко являются компонентами установки выжидательной «нейтральности», которые аналитики привносят в аналитическую ситуацию. И когда анализанд реагирует гневом на то, что в действительности является не нейтральной, а крайне фрустрирующей атмосферой, аналитик будет предполагать, что он столкнулся с проявлением сопротивления аналитической процедуре — сопротивления, которое он интерпретирует как выражение базальных влечений (агрессии), — хотя на самом деле он сталкивается с артефактами. Если аналитик действительно испытывает чувство вины всякий раз, когда поступает вопреки известному изречению Фрейда (Freud, 1912, р. 115), что аналитик должен «вести себя во время психоаналитического лечения подобно хирургу, оставляющему в стороне все свои чувства, даже человеческую симпатию», то тогда его эмоциональная спонтанность окажется ограниченной.
Какое-то время я был склонен считать несовместимость двух этих упреков свидетельством их нелогичности. Как в известной истории о разбитом кувшине, который нельзя было и вернуть в целости, и получить в разбитом виде, те, кто критикует приверженность аналитика установке строгой сдержанности, пожалуй, не могут быть неправыми, поскольку они выступают за лечение посредством любви и поскольку аналитики действительно проявляют тепло и мягкость по отношению к своим пациентам. Однако я пришел к. выводу, что непоследовательность этих двух возражений связана в первую очередь не с проявлением нелогичности, обусловленной уязвленной гордостью, а с тем фактом, что Действительно существует значительное расхождение между поведением аналитика, предписанным — прямо или косвенно — классической теорией техники, которая считается неопровержимой (см., однако, важные работы Лёвальда [Loewald, 1960] и Стоуна [Stone, 1961]), и реальным поведением современных аналитиков в психоаналитической ситуации.
Здесь необходимо добавить, что неофициально Фрейд выражал мнение, которое явно расходится с вышеуказанным предписанием. Например, в письме Пфистеру (от 22 октября 1927 года) он высказал мысль, которая целиком соответствует установке, описываемой мной в контексте психологии самости: «Вы знаете склонность людей принимать предписания буквально или даже их преувеличивать. Мне очень хорошо известно, что в вопросе об аналитической пассивности некоторые из моих учеников как раз это и делают. В частности, если говорить об Н., то мне кажется, что он смазывает эффект анализа некоторой вялостью и безразличием и, кроме того, пренебрегает раскрытием сопротивлений, которые он таким образом порождает у своих пациентов. Из этого случая не следует делать вывод, что анализ должен сопровождаться синтезом; речь скорее идет о том, что особую важность имеет доскональный анализ ситуации переноса. Все, что затем останется от переноса, может и даже должно иметь характер сердечных человеческих отношений» (E. L. Freud, Meng, 1963, p. 113).
Я знаю, что по своему значению утверждение, сделанное в тщательно продуманной основополагающей работе, посвященной технике анализа, существенно отличается от неформального замечания, высказанного в непринужденной форме в письме другу. Но я бы рискнул предположить, что большое значение имеет и то, когда Фрейдом были высказаны два этих суждения. Прежде всего необходимо учесть, что эти противоположные воззрения разделяют пятнадцать лет, обогативших клинический опыт Фрейда. Однако возможно и другое объяснение этого изменения, а именно: в ранние годы своей аналитической карьеры Фрейд главным образом сталкивался с анализандами, страдавшими структурным неврозом, тогда как позже могло произойти существенное изменение в преобладавшей психопатологии — смещение к форме патологии, которую мы теперь называем нарциссическими нарушениями личности, — и вполне возможно, что второе утверждение Фрейда было предсознательно обусловлено реакцией на подобное изменение.
В целом я придерживаюсь мнения, что установка эмоциональной сдержанности и молчаливой отзывчивости со стороны аналитика часто отвечает потребностям анализандов, страдающих классическим неврозом переноса. Такое представление основано на том выводе, что эти пациенты были гиперстимулированы в детском возрасте, что они были слишком вовлечены в эмоциональную жизнь их родителей, и это превысило возможности незрелой организации их личности. Более того, я считаю, что гиперстимуляция детей со стороны взрослого окружения является генетической детерминантой одного из видов возникающей впоследствии психопатологии, а именно структурного невроза[72].
Склонность аналитика реагировать безмолвной эмпатией на анализанда, травмированного в детстве неэмпатической гиперстимуляцией со стороны взрослого окружения, может поэтому служить признаком понимания им личности своего пациента. И можно было бы даже привести доводы в пользу того, что, учитывая распространенность неврозов с подобной этиологией, классический подход в тот ранний период был верным. Однако то, что безмолвная эмпатия считалась правильной установкой во всех случаях, противоречит этому заключению. Поскольку аналитику, работавшему в рамках классического подхода, недоставало сознательного понимания того, почему его позиция является правильной, его молчание нельзя расценивать как адекватную эмпатическую реакцию — даже в тех случаях, когда пациент воспринимал ее как создающую для него благотворную терапевтическую атмосферу. Поскольку правильная эмпатическая реакция представляет собой важный аспект первой из двух стадий деятельности психоаналитика в терапевтической ситуации, она в конечном счете должна сопровождаться вербальными интерпретациями (в данном случае касающимися причин чувствительности пациента к гиперстимуляции и реконструкции происхождения этой чувствительности, то есть касающимися неэмпатических и гиперстимулирующих объектов самости из детства пациента). Но, насколько я могу судить, классический аналитик в своих интерпретациях концентрируется на чем-то другом. Поэтому я склонен считать, что даже в случае структурных неврозов классическую установку эмоциональной сдержанности и безмолвного ответа нельзя однозначно расценивать как создающую среднеожидаемую аналитическую среду, представляющую собой подлинную нейтральность, даже если она соответствует потребностям гиперстимулированной в детстве самости анализанда. Аналитик безмолвно реагирует не из-за определенной потребности анализанда, не из-за глубокого понимания им генетического ядра личностных нарушений анализанда, — он реагирует так, подчиняясь принципу, согласно которому следует избегать контаминации переноса. Поэтому молчание и сдержанность аналитика воспринимались бы как неэмпатические даже анализандом, страдающим структурным неврозом, если бы они не смягчались эмоциональными нюансами и обертонами, которые проистекают из глубин психики аналитика и прорываются, несмотря на все его сознательные теоретические убеждения.
Таким образом, концептуальные изменения, вызванные представлениями психологии самости, ведут к заключениям, оказывающим теоретическую поддержку аналитикам — по крайней мере некоторым аналитикам, — которые действительно пытаются решать свои клинические задачи, даже если теория и связанные с нею технические предписания становятся помехой на их пути и даже если они поэтому чувствуют себя обязанными преуменьшать значение установки, которую они принимают, занимаясь проявлениями некоторых наиболее важных секторов психопатологии своих пациентов, низводя ее до периферического положения и осторожно называя аналитическим тактом.
Следовательно, тактичное поведение аналитика можно считать проявлением понимания им уязвимости анализанда, страдающего нарушением самости, понимания им тенденции анализанда замыкаться в себе или реагировать гневом. Но даже самое сенситивное и отзывчивое поведение аналитика, основанное на правильной, но лишь предсознательно достигнутой оценке психопатологии анализандов, страдающих нарушениями самости, не может заменить реконструирующий и интерпретирующий подход, основанный на сознательном понимании аналитиком структурных дефектов самости пациента и переносов объекта самости, возникающих вследствие этих дефектов. И если вдобавок к неспособности аналитика понять сущность психопатологии анализанда и правильно ее интерпретировать он продолжает вести себя по отношению к анализандам с нарциссическими нарушениями личности, придерживаясь установки осторожной сдержанности и безмолвствуя, то это может иметь в дальнейшем пагубные последствия. Анализанд будет чувствовать, что даже малая толика эксгибиционизма его самости или со всеми мерами предосторожности продемонстрированная идеализация не получила должного отклика; эти хрупкие конфигурации, которые только-только начали заново активизироваться, окажутся снова разрушенными; поведение анализанда будет характеризоваться смесью разочарованной апатии (ослаблением самости) и гнева (регрессивной трансформацией самоутверждения), и в ходе дальнейшего анализа интерпретации аналитика начнут фокусироваться на реактивированном взаимодействии инфантильной агрессии и чувства вины[73] — апатия отверженной самости часто неверно расценивается как следствие структурного конфликта (чувство вины из-за деструктивных импульсов), — и они оставят в стороне гораздо более важное повторение детских переживаний анализанда: его реакцию на неправильные ответы со стороны объектов его самости. Переоценка аналитиком значения гнева и деструктивности анализанда в свете психологии самости — переоценка, я бы хотел еще раз подчеркнуть, вполне совместимая с интеллектуальным и эмоциональным признанием аналитиком универсальности и важности агрессии и враждебности в клинической ситуации и вне ее — помогает не только предотвратить возникновение искусственной ситуации противостояния между аналитиком и анализандом, но и, меняя акцент интерпретаций, постепенно ведет к аналитическому устранению всей патогенной конфигурации, из которой проистекает склонность анализанда реагировать гневом. Одним словом, анализанд «сталкивается» не с базальной враждебностью, которую он должен сначала научиться распознавать в себе, а затем приручить, а с задачей осознания того, что, хотя он и вправе ожидать от объектов самости взрослой жизни пусть даже частично эмпатических ответов, он должен в конечном счете понять, что они не могут восполнить травмирующую несостоятельность объектов самости в его детстве. Именно восстановление при переносе патогенных объектов самости из детства анализанда — реконструкция патогенного окружения в детстве — и переработка травматических состояний в ранней жизни, возникших вследствие этих фрустраций, наряду с появлением новых психологических структур сделают анализанда менее склонным реагировать гневом.
Прежде чем обобщить мои взгляды на установку аналитика в аналитической ситуации, я вначале скажу, что аналитик никогда не должен ставить себе целью проявлять чрезмерную любовь и чрезмерную доброту по отношению к своим пациентам — он окажет существенную помощь им, только используя свои особые навыки и свои специальные знания. Однако характер его специальных знаний — его конкретные теоретические представления — является важным фактором, определяющим то, как он будет вести себя по отношению к пациентам. Это в известной степени влияет не только на характер явлений, которые он будет наблюдать, но и на то, как он их будет оценивать и интерпретировать. Если аналитик считает, что именно уровень влечений (либидинозных или агрессивных) и составляет наибольшую глубину, до которой может проникнуть аналитическое наблюдение, что после преодоления сопротивлений анализ раскрывает влечения-желания, которые можно подавить, приручить или сублимировать, то он будет настроен в унисон с проблемами анализандов, страдающих структурным неврозом, и он сможет помочь им в решении их бессознательных конфликтов удовлетворительным способом. Хотя я и склонен считать, что его теория не является полной, если он игнорирует психологию самости в узком смысле термина, эта неполнота отнюдь не препятствует терапевтической эффективности, поскольку, как я уже говорил, связная самость присутствует по обе стороны конфликта и поэтому без особых потерь может быть исключена из психологического уравнения. Но если аналитик имеет дело с пациентами, страдающими от дефектов в структуре самости, неполнота теории — я имею в виду здесь отсутствие психологии самости не только в узком, но и в широком смысле термина — становится серьезным препятствием. Вместо понимания того, что на самых глубоких уровнях анализанд пытается установить перенос в отношении объекта самости, переходя от определенных продуктов дезинтеграции (либидинозных переживаний, связанных с эрогенными зонами, гнева из-за отсутствия контроля над объектом самости) к базисным психологическим конфигурациям, которые им предшествовали (реактивированная попытка создать связную самость благодаря эмпатическому ответу со стороны объекта самости), аналитик сосредоточится на конфликтах, вызванных влечениями, — на эротических и деструктивных целях анализанда и на его чувствах вины, обусловленных ими — и станет либо поучать (убеждая в необходимости самоконтроля), либо — с чувством гордости демонстрируя реализм — будет излишне пессимистическим, основываясь на убеждении, что анализ достиг «биологической первопричины», глубже которой он проникнуть не может.
Здесь возникает проблема — я уже обсуждал ее теоретическое значение, — к которой я должен здесь снова вернуться, хотя, на мой взгляд, она имеет скорее теоретическое, нежели клиническое значение. Хотя я утверждаю, что участие аналитика в аналитическом процессе в том виде, как это было определено и описано на предыдущих страницах, и обеспечивает анализанда матрицей настоящей нейтральности для развития — обусловленного чисто эндопсихически — неискаженного переноса и хотя я считаю, другими словами, что участие аналитика обусловлено желанием устранить артефакты, то есть переживания и способы поведения, которые не детерминированы эндопсихически и действительно искажают перенос, я, как ни парадоксально это может выглядеть, признаю возможность возникновения редких случаев, в которых личность аналитика способна повлиять на выбор между двумя (или несколькими) одинаково доступными и одинаково валидными паттернами структурного восстановления дефектной самости. Хотя это и очевидно, пожалуй, надо сказать, что я не имею в виду явные идентификации с личностью аналитика. Поскольку они возникают и имеют законное место в качестве временной стадии переработки, которая в конечном счете ведет к преобразующей интернализации (ср. Kohut, 1971, р. 166–167), их постоянство явно указывает на то, что анализ не завершен, что место самости пациента заняла чужая самость и что настоящая самость пациента не была восстановлена. Но даже если такое псевдолечение становится объектом внимания и «вычищается», то все же могут быть редкие случаи, когда селективная отзывчивость аналитика действительно будет влиять на цель процессов переработки и, таким образом, на конкретную форму восстановленной в конечном счете самости.
Я не смог найти несомненных свидетельств того, что моя личность могла повлиять на выборы анализандов. Разумеется, я горжусь тем, что мои анализанды находят собственные решения проблем, нарушающих их психическое здоровье, и что — как бы ни были на какое-то время искажены возникающими идентификациями со мной внутренне обусловленные паттерны их самости — у них в конечном счете появляется понимание того, что они обрели себя.
Но хотя я не могу предоставить убедительных свидетельств из моей собственной практики в подтверждение моей догадки — очень трудно достичь объективности, необходимой для решения этой задачи, — в качестве супервизора и консультанта я наблюдал случаи аналитической терапии, когда последовательные и сравнительно интенсивные реакции аналитика на материал, появляющийся при переносе, по-видимому, влияли на выбор анализандом темы для проработки.
Недавно, например, мне довелось исследовать детальное и со знанием дела представленное сообщение об анализе случая нарциссического нарушения личности, приведшего к благоприятному результату. Анализанд, миссис И., женщина, психопатология которой представляла собой довольно серьезное снижение живости и энергичности ее эксгибиционизма и умеренное нарушение связности ее телесной самости, достигла приемлемой степени прочности психической и телесной самости и испытала некоторое удовольствие от демонстрации ее функций. Это повысило ее самооценку и тем самым позволило значительно улучшить отношения с мужем и особенно с детьми. Новое равновесие было достигнуто, по существу, посредством проработки переноса на материнский зеркальный объект самости.
Однако в начале анализа между пациенткой и ее аналитиком (женщиной) происходило взаимодействие, которое, на мой взгляд, является важным в данном контексте. Миссис И. упомянула, что она страдала нарушением работы кишечника, которое было диагностировано как язвенный колит, и ей хотелось выяснить «психологическую причину» этого нарушения. Аналитик высказала сомнение в необходимости достижения этой цели, поскольку психологическое понимание могло оказаться здесь неэффективным. Пациентка тотчас согласилась с доводами аналитика, сказав, что она и не ожидала, что анализ сделает из нее «нового человека». И она добавила — следует отметить, что значение этой фразы ускользнуло от внимания очень проницательного в остальном аналитика, — что она и не ждала, что «анализ сделает из нее литератора».
Может ли быть так, что другой аналитик, с самого начала бессознательно настроенный в унисон со стремлениями пациентки выразить эксгибиционизм своей грандиозной самости через творчество, среагировал бы иначе на ее надежду, что анализ поможет избавиться ей от болезни кишечника? Что другой аналитик, движимый защитным реализмом, предупредил пациентку об ограниченной эффективности анализа, под влиянием следующего замечания анализанда, хотя и выраженного в негативной форме (см. Freud, 1925), указал бы все же на связь между нарушением работы кишечника и ее желанием стать литератором? И поэтому проработка была бы ориентирована не только на неправильное зеркальное отражение, которому подверглась в детстве ее телесная самость, но и на недостаток имевшихся возможностей для слияния с идеализированным всемогущим объектом самости, стоявшим за целями, которые являлись предшественниками достижений в сфере литературного творчества? И не могло ли быть так, что подобное смещение фокуса анализа дало бы иной аналитический результат? Результат, надо добавить, который был бы таким же убедительным и в психоаналитическом отношении таким же надежным, как и реально достигнутый? Подобный анализ мог бы привести к достижению нарциссического равновесия другого рода, — он, возможно, способствовал бы более глубокому пониманию пациенткой выражения своих эксгибиционистских потребностей, более устойчивой идеализации задач, связанных с формированием прекрасных и/или важных репродукций грандиозно-эксгибиционистской самости вместо репродукции немощной, нечетко определенной, зеркально неотраженной самости, носящей на себе печать ее болезни кишечника. Такой анализ в конечном счете также привел бы к усилению способности анализанда достигать нарциссического гомеостаза, но не на основе чувства спокойного совершенствования, которое реально произошло в результате анализа, а на основе другого чувства — чувства гордости и триумфальных достижений, сопровождающихся радостью из-за соответствия идеализированным целям.
Глава 7 Эпилог
Изменяющийся мир
По завершении некоего пути — путешествия, из которого возвращаешься, стадии жизни, которая находится теперь в прошлом, — наступает момент, когда, расслабляясь после предыдущих напряженных усилий и позволяя себе отрешиться от задач, требовавших детального рассмотрения, мы можем оглянуться назад и оценить их в целом, чтобы прийти к более широкому пониманию.
Мне кажется, что этот момент сейчас как раз и наступил. Каким бы широким ни казался обсуждаемый мною предмет, каким бы вольным ни было мое теоретизирование, наиболее важные выводы до сих пор делались на основе анализа, проведенного в строго определенных рамках — рамках эмпирически-клинического исследования. В дальнейшем, однако, я позволю себе осветить несколько более широкие перспективы — поставить вопросы, на которые невозможно ответить в исследовании, ограничивающемся клиническим подходом, — хотя я и осознаю, что окажусь на менее безопасной почве, чем прежде, и что идеи, которые теперь изложу, будут касаться областей, находящихся в лучшем случае на периферии моей профессиональной компетенции, или будут относиться к предметам, вообще допускающим только умозрительный подход.
Если рассматривать в другой перспективе, рассуждения, содержащиеся на последующих страницах, являются попыткой ответить на вопрос, который имеет не только безличное научное значение, но и личное. Почему — если вначале задать этот вопрос в личном аспекте, учитывая мою длительную приверженность теориям классического психоанализа, науки, которую я изучал и преподавал в течение всей своей профессиональной жизни, — почему, если учесть мои укоренившиеся консервативные инстинкты, которые говорят мне, что на систему функционирования нельзя повлиять, — почему я почувствовал необходимость расширения, изменения? Почему — если задать этот вопрос в более широком аспекте, к которому он, собственно, и относится, психоанализ нуждается теперь (в дополнение к классической теории и технике) в психологии самости и соответствующей ей технике? На мой взгляд, он нуждается в них потому, что человек изменяется, как изменяется мир, в котором он живет; он нуждается в них потому, что психоанализ, если хочет остаться ведущей силой в стремлении человека понять себя, более того, если он хочет остаться жизнеспособным, то он должен отвечать новыми идеями, сталкиваясь с новыми данными и, стало быть, с новыми задачами.
Что представляют собой эти новые данные, эти новые задачи, с которыми сталкивается психоанализ, и эти изменения, которые он должен учитывать? И, кроме того, если психоанализ меняется, то будет ли это по-прежнему психоанализ? Правда, на некоторые из этих вопросов мы уже ответили на предыдущих страницах, непосредственно или в виде догадки, основанной в значительной степени на наблюдении за спонтанно разворачивающимися переносами объекта самости при анализе нарциссических нарушений личности. Но теперь я обращусь к области, которая находится «за пределами основного правила», то есть к области, где исследование психологических факторов и исследование социальных факторов сходятся.
Я перехожу прямо к сути вопроса, выдвинув утверждение, что наибольшая психологическая опасность, которой подвергается психологическое выживание современного западного человека, изменяется. До сравнительно недавнего времени главной угрозой для индивида являлся неразрешимый внутренний конфликт. Соответствующие доминирующие интерперсональные констелляции, воздействию которых подвергался ребенок западных культур, состояли в чрезмерной эмоциональной близости между родителями и детьми и в интенсивных эмоциональных взаимоотношениях между родителями, которые, пожалуй, можно рассматривать как негативную обратную сторону таких благотворных социальных факторов, как прочность семьи, социальная жизнь, сконцентрированная на доме и его ближайших окрестностях и четкое распределение ролей матери и отца.
Современный ребенок имеет все меньше возможностей наблюдать за работой родителей или, по крайней мере, эмоционально разделять — через конкретные, понятные образы — компетентность родителей и гордиться их трудом в ситуации, где самость родителей задействована наиболее глубоко, а ядро их личности доступно эмпатическому наблюдателю. В лучшем случае современный ребенок может наблюдать за действиями родителей в часы их досуга. Здесь и в самом деле существуют возможности для ребенка эмоционально разделять компетентность и гордость родителей, когда, например, во время путешествия сын или дочь вместе с отцом устанавливают палатку и ловят рыбу, а вместе с матерью готовят еду для семьи. Но хотя я полностью осознаю полезное воздействие, которое эмоциональная близость к подобного рода родительским действиям оказывает на формирование самости ребенка, я утверждаю, что эмоциональное участие в играх с родителями и в деятельности родителей в часы их досуга не обеспечивает ядерную самость ребенка такой же по важности «пищей», как эмоциональное участие в деятельности родителей в реальной жизни — особенно в аспекте ограниченных, оптимальных, не наносящих травму родительских фрустраций, снабжающих «топливом» для преобразующей интернализации.
Психоаналитик — не социальный психолог и тем более не историк культуры или социолог; ему недостает научной оснащенности, чтобы подвергнуть специальному сравнительному исследованию значение для формирования самости ребенка деятельности родителей в часы досуга, с одной стороны, и профессиональную деятельность родителей — с другой. Кроме того, он не может провести общее сравнительное исследование изменяющихся социальных факторов, соотносящихся с изменением психологических нарушений, с которыми сталкивались различные поколения глубинных психологов. Это является задачей для ученых смежных дисциплин; прежде всего это задача, решая которую социолог и глубинный психолог должны сотрудничать, дополнять друг друга. Аналитик, лишенный помощи коллег — представителей смежных дисциплин, — не будет иметь возможности, например, найти ответ на важный вопрос о том, сколько времени проходит между воздействием определенных социальных факторов (их можно назвать психотропными социальными факторами), таких, как индустриализация, или возрастающая профессиональная занятость женщин, или неопределенность некоторых секторов образа отца из-за его работы вдали от дома (см. A. Mitscherlich, 1963), или размытость отцовского образа из-за отсутствия отца во время войны (см. работу Ванга [Wangh, 1964] о психологических последствиях отсутствия отца в семье во время войны 1914–1918 года), с одной стороны, и изменениями в психологии индивида — изменениями преобладающих паттернов личности или преобладающих форм психологических нарушений — с другой, которые они порождают. Но какими бы ни были социальные детерминанты и каким бы сложным и отсроченным ни было их влияние на психологию индивида, аналитик едва ли может сомневаться в том, что в настоящее время происходит психологическое изменение, по крайней мере в области, о которой он способен судить на основе своего клинического опыта[74].
Я повторю некоторые предыдущие утверждения и подробно остановлюсь на них: окружающая среда, которая обычно воспринималась как угрожающая, теперь воспринимается как менее угрожающая; если прежде дети были чрезмерно стимулированы эмоциональной жизнью своих родителей (включая эротическую), то теперь они нередко оказываются недостаточно стимулированными; если прежде эротизм ребенка был нацелен на увеличение удовольствия и вел к внутреннему конфликту из-за родительских запретов и соперничества в эдиповой констелляции, то теперь многие дети нуждаются в эротической стимуляции, чтобы ослабить чувство одиночества и заполнить эмоциональную пустоту. Но не только непосредственное воздействие этих изменений во взрослом окружении приводит к изменению ядерных переживаний — включая, в частности, сексуальные переживания — у ребенка: они также оказывают свое влияние, изменяя значение его отношений с другими детьми — отношений, необходимо добавить, которые могут сформировать окончательный паттерн будущей установки к друзьям, коллегам и семье в жизни взрослого[75]. Такие взаимодействия могут оказывать благотворное влияние, если поступки ребенка по отношению к другим детям основаны на чувстве безопасности, обеспеченном прочными отношениями с оказывающими ему поддержку взрослыми объектами самости; но они могут вовлекать его в серьезные конфликты, способные сформировать ядро последующих структурных нарушений, когда родители, даже если они надлежащим образом функционируют в своей роли объектов самости, наносят травму ребенку в сфере либидинозных объектов; и они могут служить целям защиты в сфере либидинозных объектов и особенно нарциссизма. Что касается последней возможности, является очевидным, что дети часто в одиночестве или в группе совершают действия сексуального, близкого к сексуальному или сексуализированного характера, пытаясь избавиться от апатии и депрессии, возникающей вследствие недоступности зеркально отражающего и идеализируемого объекта самости. Эти действия являются предшественниками необузданных сексуальных действий некоторых депрессивных подростков (ср. vom Scheldt, 1976, p. 67–70) и извращенных взрослых. Картина смешанных и чередующихся состояний гиперстимуляции и апатии, характерных для этих травматических условий, проявляется иногда при переносе, особенно при так называемой «сексуализации» переноса — в состоянии, которое, на мой взгляд, слишком часто ошибочно принимают за (контрфобическое) сопротивление, обусловленное эдиповым страхом кастрации.
Вполне вероятно — если вернуться к анализу отношений между самостью ребенка и объектами его самости, — что и чрезмерная стимуляция, преобладавшая прежде, и недостаточная стимуляция, превалирующая теперь, суть проявления нарушений личности родителей и что структурная патология и болезни самости обусловлены поэтому одной и той же причиной. В сущности, так оно и есть. Однако патогенная личность родителей, которая создает предрасположенность к структурному неврозу у детей, отличается от патогенной личности родителей, создающей предрасположенность к нарушению самости.
Чрезмерная стимуляция из-за излишней близости родителей, которая является главным фактором в развитии структурного нарушения, есть проявление структурного невроза у родителей, отыгрывание невротического конфликта при помощи ребенка. Патогенный эффект родителей в этой сфере был широко исследован[76] и не нуждается здесь в обсуждении.
Недостаточная стимуляция из-за отдаленности родителей, представляющая собой патогенный фактор в нарушениях самости, является манифестацией нарушения самости родителей. Во многих случаях родители тех, кто страдает от нарушений самости, совершенно очевидно ограждены стеной от своих детей, и поэтому легко понять, что они лишают их эмпатического зеркального отражения и чуткого объекта, удовлетворяющего их потребность в идеализации. В других же случаях депривацию ребенка со стороны родительского объекта самости выявить не так просто. Более того, если оценивать с точки зрения поведения, эти родители производят впечатление чрезмерно близких по отношению к своим детям. Но такое впечатление обманчиво, поскольку эти родители не способны отвечать на изменяющиеся нарциссические требования своих детей, не способны давать нарциссическую подпитку, участвуя в воспитании детей, поскольку они используют детей в своих собственных нарциссических целях.
Представим себе, например, родителя, который не может сказать «нет» в ответ на требования ребенка. Эту неспособность можно было бы объяснить с позиции психологии влечений, утверждая, что родители не могут выдерживать фрустрации ребенка, потому что они не способны справляться с фрустрацией их самих; или что они завидуют удовлетворению влечений ребенка и таким образом вовлекаются в парализующий конфликт, связанный с садистскими импульсами в отношении ребенка, и т. д. Хотя неспособность некоторых родителей говорить «нет» своим детям действительно обусловлена структурными конфликтами и ее можно адекватно объяснить в рамках психологии влечений, есть также родители, которые не могут сказать «нет», потому что боятся гнева фрустрированного ребенка как выражения того, что самость ребенка на определенной стадии его развития начинает отделятся от самости взрослого и становится независимым центром инициативы. Другими словами, проблема таких родителей не связана с конфликтами из-за фрустрации влечений-желаний ребенка; и они не стремятся избежать гнева фрустрированного ребенка как внушающего страх проявления опасного влечения — они не желают отказываться от опутывающего слияния с ребенком, которого они (вопреки естественному ходу детского развития) из-за дефекта их личности по-прежнему хотят сохранить как часть собственной самости. Эти выводы не являются интуитивными — изменяющиеся потребности развивающейся самости ребенка можно четко реконструировать, основываясь на проявлениях переноса субъекта самости во время психоаналитического лечения. И именно эмпатическое исследование реактивированных и реконструированных отношений самости ребенка с его детскими объектами самости, а не далекое от опыта теоретизирование, какими бы привлекательными и вероятными ни были его результаты, демонстрирует нам, что в некоторых случаях внешняя чрезмерная близость взрослого по отношению к ребенку скрывает, в сущности, одиночество ребенка, то есть скрывает тот факт, что ни с гордостью предъявляемый эксгибиционизм ребенка, ни с энтузиазмом выраженные потребности в идеализации не получили соответствующего для данной стадии ответа и что поэтому ребенок становится подавленным и одиноким. В психологическом отношении самость такого ребенка оказывается «недокормленной», а ее связность слабой.
Здесь необходимо добавить, что отношения между психотропными социальными факторами, изменением ведущих паттернов личности и доминирующий психопатологией, которая возникает под их влиянием, являются опосредствованными и сложными. Их нельзя понимать по аналогии с непосредственными и сравнительно простыми причинно-следственными отношениями, существующими между определенной структурой личности и психопатологией родителей и между определенной структурой личности и психопатологией, приобретенной детьми этих родителей. Если мы сравним психотропное влияние на детей родителей со структурными нарушениями и родителей с нарушениями самости в социальных условиях того времени — почти сто лет назад, — когда Брейер и Фрейд произвели свои новаторские наблюдения, с аналогичной психотропной динамикой наших дней, то мы можем условно сформулировать несколько различий. Во второй половине девятнадцатого столетия патогенное воздействие родителей, страдающих структурными нарушениями, было особенно значительно потому, что в рамках семейной ситуации, когда члены семьи были очень тесно связаны между собой, возможность родителей отыгрывать с детьми собственные конфликты была особенно велика. Вместе с тем маловероятно, что в то время родители с нарциссическими нарушениями личности лишали своих детей необходимой нарциссической пищи, поскольку — учитывая такие факторы, как преобладание больших семей или наличие прислуги[77], которая составляла часть семьи, особенно в среднем классе, верхнем среднем классе и верхнем классе (нижнего уровня) социальных слоев, к которым принадлежала основная часть пациентов, проходивших анализ у пионеров глубинной психологии, — патогенная личность родителей, как правило, наталкивалась на противодействие. Можно утверждать, что противоположные факты относятся к психогенезу этих двух основных типов психологических нарушений в нынешнем мире. В частности, возрастающая распространенность патологии самости может объясняться тем, что релевантные психотропные социальные факторы — маленькие семьи, отсутствие родителей дома, частая смена прислуги, а также все более редкое использование домашней прислуги — либо приводят к недостаточной стимуляции ребенка, когда он часто остается в одиночестве, либо подвергают ребенка, не оставляя возможности для эффективной помощи, патогенному влиянию родителя, страдающего патологией самости (особенно когда патология самости не является ярко выраженной, то есть когда другие члены семьи не чувствуют себя обязанными оказывать корректирующее воздействие).
Поэтому ясно, что мою гипотезу о психотропном влиянии, оказываемом социальными факторами, в аспекте изменяющихся паттернов личности, с которыми сталкиваются в последнее время, следует понимать только в относительном смысле, то есть я просто предлагаю объяснение постепенного исчезновения структурных нарушений и вместе с тем все более часто встречающихся нарушений самости. Эти условия требуют дальнейшего исследования, а предлагаемые мною формулировки, касающиеся характера изменяющихся социальных факторов, которые могут объяснять характер изменяющейся родительской матрицы объектов самости и, в свою очередь, меняющегося числового распределения форм психопатологии у разных поколений, нуждаются в критической проверке социологами и историками, хорошо разбирающимися в психоанализе. Однако сложившееся у меня впечатление, что случаи эдиповой патологии встречаются теперь реже, тогда как случаи патологии самости — все более часто, основывается, на мой взгляд, на надежном клиническом опыте, хотя я не думаю, что в настоящее время можно дать категорический ответ на вопрос, началось ли уже смещение от эдиповой патологии к патологии самости, когда стали проводиться первые исследования в области глубинной психологии. В частности, повторное изучение случаев, о которых сообщали пионеры психоанализа, чревато опасностью предвзятой интерпретации имеющихся данных. Только длительное эмпатическое погружение в получаемый клинический материал наблюдателей, открытых для восприятия данных об эдиповой патологии и данных о патологии самости в том виде, как они появляются при объектно-инстинктивном переносе или переносе объекта самости, позволит сделать верные выводы[78].
Если верно, что патология самости в настоящее время встречается все более часто, то тогда мы поймем, почему психоанализ, наука, которая чаще любой другой соприкасается с самыми глубокими проблемами индивида, смещает фокус своего внимания с внутренних конфликтов человека, которые уже были всесторонне исследованы (в частности, с конфликтов, вызванных вытесненными эдиповыми и другими инцестуозными стремлениями), и почему психоанализ начинает, хотя и не без колебаний, уделять все больше внимания исследованию превратностей самости. И мы также поймем, почему теории, в которых рассматривается динамика влечений и защит, бессознательное, трехуровневая модель психики, объектный катексис, идентификации и т. д., использовавшиеся в качестве адекватных систем для объяснения структурных конфликтов индивида, должны быть теперь дополнены — подчеркну еще раз: как выражение глубинно-психологического принципа комплементарности, сохраняющего оба объяснительных подхода, — такими теоретическими концепциями, как фрагментация самости, ядерная самость, элементы самости, отношения с объектами самости, преобразующая интернализация и т. д., служащими для объяснения доминирующей патологии нашего времени.
Таким образом, я полагаю, что каждое изменение в социальном окружении человека ставит его перед новыми задачами адаптации и что требования, предъявляемые ему изменениями такого масштаба, особенно велики и позволяют говорить о рассвете новой культуры. Чтобы обеспечить выживание человека в новой среде, некоторые его психологические функции не только должны будут работать «сверхурочно», но они должны будут — я имею в виду здесь задачу нескольких поколений — достичь доминирующей позиции в психической организации. Именно способность или неспособность человека создавать новые адаптивные структуры (или же делать более сильными те, что уже существуют) и будет определять его успех или неудачу — более того, его психологическое выживание или смерть.
И, наконец, я утверждаю, что отношение аналитика к клиническим и техническим вопросам, с которыми он сталкивается сегодня, будет поверхностным, что его ответы на них будут неверными, если он игнорирует изменения в психической организации человека, которые, как я отмечал, постепенно происходят. Еще раз повторю то, о чем я говорил в начале данной главы: чтобы анализ остался ведущей силой в стремлении человека понять самого себя, он должен осуществлять разработку новых теорий, сталкиваясь с новыми данными, и, следовательно, с требованиями новых задач.
Две концепции психологического лечения
Отнюдь нельзя думать, что предыдущие рассуждения не связаны с психологическими проблемами индивида, с которыми психоаналитик должен работать как терапевт. Более того, я считаю, что мой постулат о существовании двух главных типов доступных анализу психологических нарушений — каждый из них нуждается в особом аналитическом подходе и в особых критериях оценки неудачи или успешности терапии — может быть правильно понят только с учетом указанных мною психосоциальных изменений. Конкретная эндопсихическая область, активизированная специфической задачей адаптации в новых культурных условиях, определяет форму наиболее сильных тревог человека и содержание его самых глубоких страхов, с одной стороны, и форму его самых интенсивных желаний и содержание его главных целей — с другой. И нельзя дать никакой удовлетворительной формулировки терапевтического подхода и, следовательно, верного представления о завершении анализа, если мы не сможем определить главный страх пациента (будь то страх кастрации или страх дезинтеграции) и то, к чему он больше всего стремится (будь то решение конфликта или достижение связной самости), или, выражаясь иначе, если мы оставим в стороне вопрос, позволил ли ему анализ решить главные психологические задачи, благодаря чему он сможет создать условия, обеспечивающие его психологическое выживание. Поскольку психологическое здоровье достигалось прежде благодаря решению внутренних конфликтов, лечение — будь то в узком или в широком смысле — рассматривалось тогда исключительно с точки зрения разрешения конфликта путем расширения сознания. Но поскольку теперь психологическое здоровье все чаще достигается путем исцеления фрагментированной ранее самости, лечение — будь то в узком или широком смысле — должно теперь также расцениваться с точки зрения достижения связности самости, в частности с точки зрения восстановления самости благодаря восстановлению эмпатической близости с отзывчивыми объектами самости.
Наша самость — или, скажем так: особое состояние нашей самости — влияет на наше функционирование, на наше самочувствие, течение нашей жизни и «вширь и вглубь». Как я отмечал выше, обсуждая значение депрессии в позднем среднем возрасте, — этот важный момент следует еще раз повторить, — с одной стороны, существует много людей с плохо организованной самостью, которые, несмотря на отсутствие симптомов, торможений и деморализующих конфликтов, ведут безрадостную и непродуктивную жизнь, проклиная свое существование. С другой стороны, есть люди с прочной, хорошо организованной самостью, которые, несмотря на серьезные невротические расстройства — более того, иногда даже несмотря на психотические (или пограничные) нарушения личности[79], — живут полноценной жизнью с ощущением счастья и радости. Именно центральной позицией самости в личности и объясняется ее значительное влияние на нашу жизнь; и именно этой центральной позицией объясняется существенное улучшение самочувствия у наших пациентов даже при сравнительно незначительных успехах в устранении патологии самости. Но в отсутствие таких улучшений — каким бы успешным ни был анализ с точки зрения устранения симптомов и торможений при использовании каузального динамического и генетического подходов — пациент останется нереализованным и неудовлетворенным.
Что касается второй группы пациентов, то аналитики, основываясь на своих теоретических убеждениях, согласно которым психопатологию их пациентов следует понимать в рамках психологии конфликта и структурной модели психики, как правило, скромно пожимают плечами, утешая самих себя мыслью, что они сделали все возможное. Они повторяют вслед за Фрейдом (Freud, 1923a, р. 50–51), что все, что они могли сделать, — это предоставить новые возможности пациентам; или они говорят, опять-таки вслед за Фрейдом (Breuer, Freud, 1893–1895, p. 305), что превратили невротическое «страдание в обычные невзгоды», над которыми они уже не властны.
Я полагаю, что некоторые из этих ограничений можно рассмотреть в другом свете: сохраняющаяся неспособность пациента делать правильный выбор и его сохраняющаяся неспособность иначе относиться к страданию, причиняемому ему неудачным стечением обстоятельств, по крайней мере в некоторых случаях (а возможно, и во многих) является следствием не недоступных изменению внутренних или внешних факторов, а излечимой патологии самости. Только богатый клинический опыт, в частности данные, которые будут получены при анализе нарциссических нарушений личности, дадут нам ответы на вопросы, затронутые в предыдущей формулировке.
Моя собственная оценка возможного прогресса в этой области, проистекающая из опыта проведения психоанализа с пациентами, страдающими нарциссическими нарушениями личности, в целом является оптимистической[80]. Дело не в том, что я думаю, что каждый может научиться всегда делать реалистичный выбор, то есть выбор, соответствующий врожденным способностям, которыми он обладает, и соответствующий внешним возможностям, открытым для него, — выбор, который отвечает его принципам или помогает преследовать достижимые цели; что каждый может учиться никогда не пасовать перед трудностями; что каждый благодаря более сильному переживанию самости может оказаться способен обходиться без ложного оптимизма и прочих иллюзий. И я не утверждаю, что каждый, кто в результате анализа действительно приобрел сильный спаянный центр своей личности, всегда сможет действовать в окружающем мире в соответствии со своими глубинными целями и высшими идеалами. Мы не должны ожидать чудес от того, что стали обращать более пристальное внимание на патологию самости или научились выделять ее разные формы и подвергать их соответствующим процессам переработки. Но я знаю, что благодаря надлежащим образом проведенному анализу этих форм патологии возможности достичь успеха во всех вышеупомянутых областях в целом существенно возрастают.
В соответствии с замечанием, приписываемым Фрейду (Erikson, 1950, р. 229), психическое здоровье часто определяется аналитиками — скорее вольно и ненаучно — как способность человека трудиться и любить. В рамках психологии самости мы определяем психическое здоровье не только как свободу от невротических симптомов и торможений, которые мешают функциям «психического аппарата», вовлеченного в любовь и работу, но и как способность прочной самости пользоваться талантами и умениями, которыми обладает индивид, позволяя ему успешно любить и работать.
Две теоретические системы — психология психического аппарата и психология самости, — которые допускают два разных, но дополняющих друг друга определения психического здоровья, также теперь нам помогут сформулировать определения разных подходов к лечению двух классов психических нарушений, доступных анализу. В случаях структурного конфликта основными индикаторами того, что произошло излечение, будут исчезновение или ослабление невротических симптомов и торможений пациента, с одной стороны, и его сравнительная свобода от невротической тревоги и чувства вины — с другой. Позитивные достижения в этих случаях в целом подтверждаются тем, что теперь пациент способен более полно, чем прежде, испытывать удовольствие от жизни. В случае пациентов, страдающих от доступных анализу форм патологии самости, основными индикаторами того, что произошло излечение, являются исчезновение или ослабление ипохондрии пациента, недостатка инициативы, опустошающей депрессии и апатии, самостимуляции посредством сексуализированных действий и т. д., с одной стороны, и сравнительная свобода пациента от чрезмерной нарциссической уязвимости (например, тенденции отвечать на нарциссические травмы опустошающей депрессией и апатией или усилением извращенных действий в целях достичь спокойствия) — с другой. Позитивные достижения в этих случаях в целом подтверждаются тем, что теперь пациент способен больше, чем прежде, испытывать радость от бытия и тем, что даже в отсутствие удовольствия он относится к жизни как ценной — творчески и продуктивно.
Преувеличил ли я различие между этими двумя формами психопатологии? Возможно. Но я думаю, что лучше рискнуть показаться излишне схематичным, чем оставить этот вопрос неясным. Клинический опыт отчасти продемонстрирует компромиссы между различными формами психопатологии, то есть продемонстрирует наличие смешанных случаев, и он научит аналитика смещать фокус своего внимания от одной сферы к другой.
Антиципация художниками психологии самости
Существует еще один подход, доказывающий, что по сравнению с 1890–1900 годами, то есть с десятилетием, когда были сделаны основные формулировки, определившие направление, в котором стал развиваться психоанализ, в состоянии человеческой психики произошли существенные изменения. Этот подход основывается на гипотезе — я назову ее гипотезой о художественной антиципации (впервые она была высказана в одном из моих выступлений в 1973 году [см. Kohut, 1975а, р. 337–338]), что художник, во всяком случае великий художник, опережая свое время, фокусируется на ядерных психологических проблемах эпохи, реагирует на важнейшие психологические проблемы человека, с которыми он сталкивается в данное время, посвящает себя главной психологической задаче человека. Труд великого художника, согласно этой гипотезе, отражает доминирующую психологическую проблему его эпохи. Художник является, так сказать, доверенным представителем своего поколения: не только всех обычных людей, но и ученых, исследующих социально-психологические явления.
В отличие от главной художественной проблемы наших дней, искусство прошлого — я имею в виду прежде всего великих европейских романистов второй половины девятнадцатого и начала двадцатого столетия — занималось проблемами Виновного Человека — человека с эдиповым комплексом, человека со структурным конфликтом, того, кто, будучи вовлеченным в отношения с людьми, окружавшими его в детстве, подвергся суровому испытанию своими влечениями и желаниями. Однако эмоциональные проблемы современного человека меняются, и великие современные художники первыми дали глубокий ответ на новую эмоциональную задачу человека. Подобно тому, как недостаточно стимулируемый ребенок, не получавший достаточных эмпатических ответов, дочь, лишенная идеализируемой матери, сын, лишенный идеализируемого отца, стали ныне олицетворением центральной проблемы человека в нашем западном мире, так и разрушенная, декомпенсированная, фрагментированная, ослабленная самость такого ребенка, а затем хрупкая, уязвимая, опустошенная самость взрослого человека и есть то, что изображают великие художники нашего времени — звуком и словом, на холсте и в камне — и что они пытаются исцелить. Композитор беспорядочного звука, поэт расчлененного языка, живописец и скульптор фрагментированного зримого и осязаемого мира — все они изображают распад самости и, по-новому собирая и компонуя фрагменты, пытаются создать структуры, обладающие цельностью, совершенством, новым значением. То, о чем говорят величайшие из них — например, Пикассо или Эзра Паунд, — выражено, пожалуй, настолько оригинально и такими непривычными средствами, что до сих пор остается сложным для понимания. Другие же говорят с нами понятным языком. Грегор Замза, насекомое из «Превращения» Кафки, может служить здесь таким примером. Он — ребенок, существование которого в мире не было осчастливлено принятием эмпатическими объектами самости; он — ребенок, о котором его родители говорят безлично, в третьем лице единственного числа; и теперь он становится нечеловеком, чудищем даже в собственных глазах. Йозеф К. из романа Кафки, рядовой человек нашего времени, занимается бесконечным поиском смысла. Он пытается приблизиться к облеченным властью (взрослым, родителям, которые обитают в замке), но не может до них добраться. А в «Процессе» он гибнет, по-прежнему пытаясь найти вину, которую можно было бы искупить или, по крайней мере, понять, — вину Человека вчерашнего дня. Он не может найти ее и в результате умирает бессмысленной смертью — «как собака». Юджин О'Нил, величайший драматург, которого также породил новый мир, в своем творчестве (особенно в последних пьесах «Разносчик льда грядет» и «Долгое путешествие в ночь») обращается к главной психологической проблеме человека — проблеме того, как исцелить его распадающуюся самость. И нигде в искусстве я не встречал более точного описания стремления человека достичь восстановления своей самости, чем то, что содержится в трех кратких фразах в пьесе О'Нила «Великий бог Браун». В конце своего долгого путешествия в ночь, прожив жизнь, исковерканную неуверенностью в существовании своей самости, Браун говорит: «Человек рождается сломанным. Он живет, желая поправиться. Милость Бога — клей». Можно ли передать суть патологии самости современного человека более выразительно[81]?
Моя гипотеза, что художник предвосхищает преобладающую психологическую проблему своей эпохи, конечно, не подразумевает отсутствия индивидуальной мотивации. Микеланджело, Шекспир, Рембрандт, Моцарт, Гёте, Бальзак — каждого из них подвигали к его особым художественным целям мотивы, глубоко укорененные в его личности. И все же, какой бы ни была индивидуальная мотивация, все они также выражали основную психологическую проблему своего времени. То же самое относится и к величайшим художникам современности. Творчество таких художников, как Генри Мур, О'Нил, Пикассо, Стравинский, Паунд, Кафка[82], было бы непонятным даже сто лет назад, но теперь оно выглядит смелым, глубоким и прекрасным для тех из нас, кто открыт их «посланиям», и мы чувствуем, что они соприкасаются с самыми глубокими проблемами нашей эпохи[83].
Конечно, мы можем по-прежнему с почтением и восхищением признавать совершенство формы произведений великих художников прошлого; и мы взволнованы ими, ибо ощущаем достоверность, с которой они выражают сущность эпохи, в которой желания и конфликты связной самости индивида требуют выражения. Кроме того, поскольку человеческая природа, несмотря на глубокие изменения в психологическом состоянии человека, вызванные социально-историческими переменами, во многом остается прежней, чтобы позволить нам перекинуть мосты эмпатического понимания в прошлое, мы продолжаем реагировать на художественное изображение психологического мира, проблемы которого сегодня уже не являются главными для мира людей. И все же у меня нет сомнений: мы больше уже не можем испытать все то волнение, которое порождалось открытием новых художественных решений преобладавших в то время эмоциональных проблем, переживавшихся современниками этих великих людей.
Правда, существуют великие художники, индивидуальность которых вырывает их — по крайней мере на время — из основного потока эпохи, и тогда они создают произведения, которые удивительным образом превышают возможности понимания современников. Я имею в виду здесь такие глубокие образы борьбы распадающейся самости, возникшие, возможно, под влиянием старости, изнурительного физического недуга, неизбежности смерти, как «Deluge» Леонардо, «Pieta Rondanini» Микеланджело[84] и фуга си-бемоль мажор для струнного квартета (Grosse Fuge), опус 133 Бетховена. Это — современное искусство, несмотря на то, что данные произведения были созданы очень давно. Также и Клейст в своем эссе «Театр марионеток» (1811) и менее явно в «Михаэле Кольхаасе» (1808) обращается к проблемам распадающейся (или серьезно поврежденной) самости, и поэтому эти сочинения опять-таки можно считать «современным» искусством. Однако в психологическом отношении подобного рода великие творения не принадлежали времени, в котором они были созданы, — они оставались отдельными вспышками в художественной жизни людей, и только теперь, ретроспективно, мы можем реагировать на них глубоко. Именно современный зритель, слушатель и читатель — глаз, ухо и рефлексивное мышление ребенка, живущего в эпоху опасности дезинтеграции самости, — возвышает эти творения из матрицы индивидуального значения, в которой они возникли, и тем самым преобразует их в современное искусство.
Влияние личности Фрейда
Тезис о том, что психоанализ должен отвечать на новые проблемы, с которыми он теперь сталкивается, создавая новые концептуальные инструменты и терапевтические методы, что ему требуется теперь психология самости, сам нуждается в объяснении. Очевидно, что, строго говоря, данные, с которыми мы теперь сталкиваемся, в действительности не являются новыми. Но, разумеется, как видно из предыдущего обсуждения социально-психологических изменений и смещения центра проблем в современном искусстве, мы и не ставим вопрос в этой форме. Мы не спрашиваем, возникали ли нарушения самости de novo с тех пор как Фрейд сформулировал основные теории психоанализа, — даже обсуждать такую возможность было бы несерьезно. Мы задаем наш вопрос в относительном смысле, а именно: преобладают ли теперь нарушения самости над неврозами, вызванными конфликтом? Или, выражаясь иначе: стали ли нарушения самости, даже если они преобладают в абсолютном значении или в относительной пропорции, теперь более интенсивными, стали ли они причинять больше страданий? Или, если сформулировать опять по-другому: стали ли они теперь более важными, учитывая изменение основной психологической проблемы западного человека, который больше страдает не от чувства вины, вызванного чрезмерной стимуляцией, и конфликта, а от ощущения внутренней пустоты, изоляции и нереализованности? Или, если поставить вопрос в конкретных терминах, которые, по крайней мере в теории, допускали бы возможность ответа путем эмпирического исследования, мы могли бы спросить: не было ли так, что индивиды, страдавшие от нарушений самости — а такие, разумеется, существовали и на заре психоанализа, — не обращались за помощью к аналитикам, либо — другая возможность — не было ли так, что аналитики той эпохи просто-напросто были слишком заняты добыванием, так сказать, психологического золота, изучая неврозы переноса, чтобы проявлять повышенный интерес к исследованию других нарушений?
Невозможно дать точные ответы на эти вопросы и хотя мне вообще не нравится употреблять слово «никогда» в подобном контексте, у меня нет никаких сомнений в том, что мы действительно никогда не сможем дать на них окончательный ответ.
Но остается одна проблема. Учитывая, что в течение долгого времени анализ представлял собой труд одного человека, мы должны попытаться достичь как можно большей ясности в вопросе о том, можем ли мы выделить некоторые особенности в личности Фрейда, которые — помимо влияния, оказанного на его подход образом мышления, преобладавшего в науке в конце девятнадцатого столетия, и помимо того, что он фокусировал внимание на психологических проблемах, которые действительно преобладали в те дни, — сыграли важную роль наряду с прочими факторами, приведшими к тому, что анализ оказался психологией влечений и крупных связных структур, которыми они объяснялись, а не обратился с самого начала к изучению самости. Другими словами, мы должны рассмотреть возможность того, что личность Фрейда определила его предпочтения с точки зрения эмпирических данных, на которых он сфокусировался, и с точки зрения той теории, которую он считал наиболее подходящей.
Об этом должна быть написана еще одна книга. Я не буду писать ее. Мы ограничимся тем, что рассмотрим некоторые аспекты личности Фрейда, которые, на мой взгляд, относятся к нашей проблеме.
Сначала несколько замечаний о нарциссической уязвимости Фрейда, или, если быть точным, поскольку нарциссическая уязвимость является универсальным бременем человека, частью существования, от которой не избавлен ни один человек, — об определенной психической области, которая была задействована, и о том, как он обходился с этой стороной своей личности. Он был меньше всего чувствителен к нарциссическим ударам (или наиболее защищен от них), которые подавляющее большинство людей склонны воспринимать как серьезную нарциссическую травму: он был не только способен противостоять нападкам (на себя и на свой труд) и терпеть уничижительное отношение и остракизм, но и, как я полагаю, он даже становился особенно уверенным в себе и умел утверждать себя в таких ситуациях. Я думаю, что объяснение этого на первый взгляд парадоксального факта заключается в том, что при таких обстоятельствах Фрейд был защищен от нарциссической травмы, к которой он был наиболее чувствителен и от которой должен был защититься особенно энергично.
Фрейд не считал себя великим человеком, хотя, несомненно, был таковым (ср. Jones, 1955, р. 415). Я думаю, что его неспособность воспринимать себя великим — в сочетании с другими соответствующими симптомами, такими, как чувство неловкости, когда на него смотрели другие: «Я не могу примириться с тем, что на меня по восемь часов в день (а то и больше) смотрят люди» (Freud, 1913b, p. 134), его чрезмерная чувствительность к возможности того, что другие люди, его пациенты, могут смущаться, когда на них смотрят: «Когда Фрейд не хотел смущать их своим взглядом, он часто фокусировал свой взгляд на предметах на столе, разделявшем его и пациентов» (Engelman, 1966, р. 28), его активное нежелание принимать похвалу и поздравления; избегание им публичных торжеств, его стремление сводить общепризнанные идеализированные ценности до мерок повседневности (см., например, его письмо Бинсвангеру от 8 октября 1936 года [Binswanger, 1957]) — вполне возможно, было проявлением стороны его личности, нарциссического сектора, который он не исследовал в достаточной мере в своем самоанализе. Таким образом, он не достиг полного контроля над этим психологическим сектором, но исполнял его требования в общении с Флиссом, Юнгом и другими людьми (см. Kohut, 1976, р. 407–408). Свидетельств того, что Фрейд не мог нормально принимать похвалу и поздравления, множество, и тем, кто знаком с его биографией, не составит труда их найти. Достаточно будет отметить, что сам Фрейд осознавал эту свою черту, когда, например, сказал, что ему не нравится быть «объектом восхваления» (Binswanger, 1957, р. 108). Я бы привлек внимание только к одной весьма характерной особенности: когда Фрейда открыто восхваляли или выказывали ему восхищение, он словно был вынужден реагировать проявлением холодного безразличия (см., например, Jones, 1955, р. 182–183, р. 415) или иронией — даже если он в конечном счете принимал похвалу. (В качестве особенно яркого примера использования им иронии как защиты см. его сердечное письмо от 7 мая 1916 года Э. Хичманну, начинающееся, однако, словами: «Только надгробная речь на Центральном кладбище обычно столь же красива и нежна, как речь, не произнесенная Вами» [E. L. Freud, 1960, р. 311]).
Как бы ни были рационализированы эти установки — и как бы ни хотелось идеализировать их как признак истинного величия, — я нисколько не сомневаюсь, основываясь на богатом клиническом опыте наблюдения подобного поведения, что они выдают имеющую четкие границы уязвимость — если быть точным: страх чрезмерной стимуляции — в нарциссическом секторе, в области эксгибиционизма.
Другой аспект личности Фрейда, который следует отметить в данном контексте, заключался в его неспособности отдаться переживанию музыки и современного искусства. Возможно, эти особенности отчасти объясняются влиянием эпохи Просвещения, но я думаю, что главная причина заключена в самом Фрейде. Именно особенности его личности стали основой предпочтения им мыслительных содержаний, того, что четко определено и поддается определению; именно особенности его личности заставляли его избегать области бессодержательных форм, напряженных и необъяснимых эмоций.
Что касается неспособности Фрейда отдаваться переживанию «чистой» музыки[85], я вряд ли могу сказать больше того, что, по-видимому, это соответствует общей тенденции его интеллекта и личности. Он сознавал этот недостаток в себе, но довольствовался — и, как мне кажется, справедливо — выводом, что такова была неизбежная цена, которую он должен был заплатить за те стороны своей личности, которые являлись ее основными достоинствами. Он говорил (Freud, 1914b, p. 211), что произведения искусства оказывали на него огромное воздействие, если они позволяли ему объяснять себе, чем это воздействие вызывалось. Далее он отмечал: «Там, где мне это не удается, как, например, в музыке, я почти неспособен получать удовольствие. Рационалистический или, быть может, аналитический склад моей психики противится тому, чтобы я был увлечен произведением и не понимал, почему я взволнован и что меня так волнует». Хотя и было бы интересно исследовать вопрос, насколько ограничение способности Фрейда реагировать на музыку было проявлением компенсаторных структур и насколько оно был защитным, я не буду останавливаться на этой теме — в частности, потому, что отношение Фрейда к музыке недавно стало объектом исследования других авторов (К. R. Eissler, 1974; Kratz, 1976), которые, я надеюсь, продолжат исследовать эти проблемы. В целом мне кажется, что хотя ограничения Фрейда в переживании музыки, несомненно, имеют большое значение, их следует расценивать не как дефект, а как характерную особенность его личности — личности, детерминированной потребностью в непоколебимом диктате разума.
Если говорить об отношении Фрейда к современному искусству, то здесь ситуация несколько иная. Здесь мы сталкиваемся не с неспособностью или торможением, о которых он где-то сожалел сам, а с отвергающим и высокомерно-пренебрежительным отношением, напоминающим, к сожалению, отношение, преобладавшее среди мелкой буржуазии того времени; свидетельством тому является его письмо Абрахаму, написанное в конце 1922 года (H. Abraham, E. Freud, 1965, p. 332). Разве нельзя было бы ожидать от психологического гения, такого, как Фрейд, если уж не искреннего принятия современного искусства, то по крайней мере почтительного рефлексивного любопытства в отношении этого нового и загадочного проявления человеческого духа? Тем не менее при дальнейшем рассуждении представляется вполне вероятным, что отвержение Фрейдом современного искусства сопровождалось его нежеланием погружаться в архаичные нарциссические состояния (см. его письмо Холлосу в 1928 году [Schur, 1966, р. 21–22]) и его неспособностью понять важность происходящего с самостью, ее связности и дезинтеграции, то есть основных психологических проблем современности, к которым ведущие художники того времени обратились задолго до того, как они стали предметом исследования ученых-психологов.
Я думаю, предыдущие рассуждения подтверждают вывод, что некоторые особенности личности Фрейда привели его к тому, что он стал придавать особое значение одной стороне психической жизни и пренебрегать другой. Некоторые теоретические сочинения Фрейда, несомненно, подготовили почву для развития определенных секторов психологии самости. Однако у меня складывается впечатление, что в области нарциссизма — например, с точки зрения значения нарциссизма в клиническом психоанализе или с точки зрения значения нарциссизма в истории — ему не удавалось теоретически разрабатывать проблемы с той же легкостью и энергией, с какой он проводил исследования в русле структурной психологии, психологии конфликта. Даже там, где он внес свой наиболее значительный вклад в вопрос об архаичном нарциссизме (Freud, 1911), Фрейд в нерешительности колебался между признанием важности регрессивной нарциссической позиции, с одной стороны, и проблемами конфликта на более высоком уровне развития, то есть конфликтами, связанными с гомосексуальностью, — с другой. Эта неоднозначность позиции Фрейда стала причиной острой полемики между новыми поколениями апологетов (см., например, Kohut, 1960, р. 573–574) и критиков (см., например, Macalpine, Hunter, 1955, p. 374–381).
Нам трудно смириться с ограниченностью человека, которого мы уважаем. И тем не менее я считаю, что в работе Фрейда, как всегда, когда мы сталкиваемся с великими достижениями, сила и глубина понимания в одной области должны быть оплачены сравнительной поверхностностью в другой. Фрейд не мог или не хотел заниматься эмпатическим погружением в проблемы самости, как он мог это делать в отношении проблем объектно-инстинктивных переживаний. Я бы предположил, что в своих изысканиях он не мог двигаться в обоих этих направлениях, не препятствуя глубине своего понимания в том из них, которому он в первую очередь и посвятил свою творческую жизнь.
Но позвольте нам покончить с деталями. Даже если все, что мною сказано, можно было бы полностью доказать, — чего я достиг? Разве и так не ясно, что личность Фрейда имела особенности, определившие его научные пристрастия? Разве не ясно, что Фрейд, в научном отношении сформировавшийся под влиянием величайших учителей науки девятнадцатого столетия, пришел к своим исследованиям с помощью методов своих учителей и сформулировал результаты своих исследований, используя теоретические системы, в которых, какими бы оригинальными и смелыми они ни были, по-прежнему ощущалось их влияние?
Разумеется, эти выводы отнюдь не являют собой нечто новое, и я представил их прежде всего для того, чтобы расчистить путь к следующему завершающему важному вопросу. Если по какой-то причине — или из-за определенного типа преобладающей психопатологии, который привлек внимание исследователя, или из-за определенной фокусировки интересов науки тех дней, или из-за личных пристрастий Фрейда, или — что, впрочем, вероятнее всего — из-за совпадения всех этих моментов классический психоанализ в достаточной мере не охватил целую область проблем, доступных для глубинно-психологического исследования, то тогда мы должны спросить: приводит ли добавление нового, более широкого спектра проблем, подобных тем, что ввела психология самости, к изменению такого масштаба, к смещению нашей главной позиции настолько, что мы больше уже не можем говорить о психоанализе, а должны, пусть даже с неохотой, признать, что мы теперь имеем дело с новой наукой; или можем ли мы объединить новую науку со старой и таким образом сохранить чувство непрерывности, которое позволяет нам рассматривать изменение, каким бы большим оно ни было, как переход в новую стадию живой и развивающейся науки? Очевидно, что, если мы хотим разумно ответить на этот важный вопрос, мы должны вначале попытаться ответить на другой фундаментальный вопрос: в чем сущность психоанализа?
В чем сущность психоанализа
Небезопасно полагаться на качества, определяющие простой источник сложного набора действий, чтобы объяснить значение их зрелых и развитых функций (Langer, 1942; Hartmann, 1960). Однако имеются линии развития, к которым верное в целом правило, предостерегающее от ловушек генетической ошибки, не относится, поскольку мы можем показать, что все последующее развитие, каким бы сложным оно ни было, в своей сущности неразрывно связано с самым первым шагом.
Развитие человеческой мысли, особенно научной, можно рассматривать по аналогии с биологической эволюцией. Основную часть времени развитие подчиняется четким правилам, протекает упорядочение. Ошибки устранены, установлены новые истины и созданы новые теории, объясняющие вновь выявленные факты. Незаметно, постепенно, а иногда ощутимыми шагами — через конкретизацию и уточнение того, что было сделано трудолюбивыми исследователями в прошлом, равно как и в результате существенного прогресса, достигнутого благодаря блестящему интеллекту гения, — человеческая мысль, научная мысль развивается. Как и в случае биологической эволюции, мы не можем в настоящее время предсказать, как будет развиваться научная мысль (во всяком случае в течение долгого времени), и пока мы еще не можем сами направлять этот процесс (по крайней мере если иметь в виду дальние цели). Но это развитие подчиняется законам логики — во всяком случае оно доступно ретроспективному исследованию. Вместе с тем иногда, хотя и очень редко, мы можем наблюдать резкий скачок в развитии восприятия человеком мира — сначала он вообще может казаться лишь небольшим шагом вперед, — который открывает совершенно новый аспект реальности. Подобного рода прогресс можно сравнить с мутацией в процессе биологической эволюции. Благодаря ему развитие человеческой мысли принимает новое направление. Это событие нельзя назвать просто прогрессом в методологии. И его нельзя объяснить только тем, что старые и известные данные, полученные при наблюдении, рассматриваются теперь в новом свете — в свете новой объяснительной парадигмы (см. Kühn, 1962). Нет, рассматриваемый феномен, мутация человеческой мысли, которую я имею в виду, не является ни реконструирующей новой техникой, ни реконструирующей новой теорией. Это и то, и другое одновременно и вместе с тем — больше, чем то и другое. Это — прогресс на том базисном уровне отношения человека к действительности, где мы еще не можем отделить данные от теории, где внешнее открытие и внутреннее изменение установки пока совпадают, где первичное единство между наблюдателем и наблюдаемым еще не заграждено и не затенено вторичной умозрительной рефлексией. На этом базисном уровне переживания самые примитивные и самые развитые функции психики, по всей видимости, работают одновременно, в результате чего не только нет четкого разделения между наблюдателем и наблюдаемым, но и мышление и действие пока еще слиты. Таким образом, как я уже отмечал выше, величайшие шаги, сделанные в истории науки — новаторские эксперименты самых великих ученых, — представляют собой порой «в первую очередь не методы, разработанные с целью сделать открытие или проверить гипотезы», а «конкретизированные мысли» или, если назвать их более правильно, они являются «действием-мыслью», тем, что предшествует мышлению. Хотя я не располагаю богатым эмпирическим материалом, с помощью которого можно было бы проверить эту гипотезу, я могу обратиться к размышлениям великого поэта, имеющим отношение к этой теме, к размышлениям Гёте о сущности библейского творения — прототипа креативности для западного человека. В трагедии Гёте (первая часть, 1224–1237) Фауст начинает переводить Новый Завет (Иоанн, 1/1) с греческого оригинала. Но как перевести самую первую строчку; как передать fans et origo[86] мира — его «начало»? «В начале было Слово,» — пробует он, но отказывается от этой версии. Быть может, «Мысль»? Это слово тоже не отвечает значению. Что ж, тогда «Сила»? Нет, опять неверно! И тогда, наконец, его озаряет: «В начале было Дело»[87], — пишет он.
Независимо от психологической сущности мыслительного процесса, благодаря которому произошел скачок в восприятии человеком мира, шаг, совершаемый в такие моменты, не выглядит логически связанным с предыдущими. Мы словно являемся свидетелями партеногенеза идеи огромного значения, сопровождающегося действием, которое, несмотря на свою простоту, подразумевает доведение до конца бесконечного множества дальнейших действий, как будто человеческий разум представил план или проект будущего, другими словами, мы является свидетелями возникновения идеи, позволяющей многочисленным последователям возделывать новую почву, отвоеванную у дотоле неизведанной целины. После открытия нового континента его начинают изучать самые разные ученые: одни — вводя всесторонние принципы упорядочения (парадигматические теории, которые однако можно заменить и усовершенствовать) и формируя основные методологии (парадигматические методы, которые однако можно заменить и усовершенствовать) для исследования новой области, другие — разрабатывая и уточняя эти методы и теории и добавляя новые данные. Однако результаты предыдущего шага не выглядят эфемерными (в том смысле, что их можно заменить и усовершенствовать) — во всяком случае если рассматривать их с точки зрения истории развития человеческой мысли.
«Мутация», открывшая дверь в новую область интроспективно-эмпатической глубинной психологии (психоанализ), произошла в 1881 году, в загородном доме около Вены, когда встретились Йозеф Брейер и Анна О. (Breuer, Freud, 1893). Шаг, открывший путь к новому аспекту реальности — шаг, установивший одновременно и новый способ наблюдения, и новое содержание революционной науки, — был сделан пациенткой, упорно утверждавшей, что она хочет продолжить «прочистку дымохода» (р. 30). И все же именно то, что Брейер присоединился к ней в этом предприятии, что он позволил ей его продолжить, что он сумел серьезно отнестись к ее шагу (то есть наблюдать результаты и записывать наблюдения на бумаге), и привело к установлению того единства между наблюдателем и наблюдаемым, которое создает основу для прогресса первостепенной важности в исследовании человеком мира.
На мой взгляд, в то время сущность психоанализа заключалась в длительном эмпатическом погружении ученого-наблюдателя в объект наблюдения с целью сбора данных и их объяснения. Весь дальнейший прогресс — вклад, внесенный упорядочивающим разумом Фрейда, его смелостью и настойчивостью; вклад, внесенный лучшими аналитиками следующих поколений — логически связан именно с этим, а действия, обусловливающие этот прогресс, непосредственно или методом проб и ошибок, совершались в четкой последовательности. Вместе с тем основополагающий первый шаг находится вне области причинных взаимосвязей — мы неспособны понять его, пользуясь доступными нам средствами логического или психологического объяснения.
Теперь мы готовы вернуться к центральной проблеме нашего нынешнего исследования — к вопросу о том, что составляет сущность психоанализа. Мой ответ, в котором на передний план выдвигаются особенности психоанализа, с момента его возникновения отличающие психоанализ от всех остальных ветвей науки, ответ, которому, обратившись к истокам психоанализа, я привел теперь также и историческое обоснование, заключается в том, что психоанализ является психологией сложных психических состояний, которая путем упорного интроспективно-эмпатического погружения наблюдателя во внутреннюю жизнь человека собирает свои данные, чтобы их объяснять.
Среди наук, изучающих природу человека, психоанализ, как мне кажется, является единственной наукой, которая в своих основных проявлениях сочетает эмпатию, с научной строгостью используемую для сбора данных о человеческих переживаниях, с более или менее отвлеченным теоретизированием, используемым с такой же научной строгостью для введения наблюдаемых данных в более широкие смысловые связи. Психоанализ — единственная наука о человеке, которая объясняет то, что прежде уже было ею понято.
Другими словами, психоанализ является уникальной наукой, ибо он всегда основывается на данных интроспекции и эмпатии. Значение его теорий, старых и новых — их внутреннюю последовательность и релевантность, — можно полностью постичь только в том случае, если понять, что они связаны с этим специфическим процессом сбора данных. Несомненно, что технические разработки (в частности, последовательное использование метода свободных ассоциаций), которыми психоанализ обеспечил свою базисную наблюдательную позицию, имеют огромнейшее значение. И не существует также сомнений в искусности и полезности различных теоретических систем (например, топографической и структурной модели психики), с помощью которых аналитики упорядочивали свои данные, полученные посредством эмпатии. И все же, несмотря на всю их ценность, эти конструкции, обеспечиваемые психоаналитической теорией и техникой, не являются незаменимыми; они являются — как я когда-то уже говорил о методе свободных ассоциаций и анализе сопротивления — инструментами, которые совершенствуются, «вспомогательными инструментами, служащими интроспективному и эмпатическому методу наблюдения» (Kohut, 1959, р. 464). Именно в этом заключалась сущность психоанализа, учитывая, что предметом его является тот аспект мира, который определяется интроспективной позицией наблюдателя; именно в этом заключалась сущность глубинной психологии в момент ее зарождения.
Но теперь мы должны прерваться, чтобы рассмотреть возражения, которые могут возникнуть против такого определения сущности психоанализа. Есть критики, которые могут ухватиться за общераспространенные коннотации, обусловленные ненаучным использованием понятия эмпатии — а именно за такие значения, имеющие некоторое отношение к эмпатии, как доброта, сострадание и симпатия, с одной стороны, и интуиция, восприятие шестым чувством и вдохновение — с другой. И есть критики, которые могут сфокусироваться на том, что мое определение не способно ограничить область психоанализа включением тех или иных теоретических постулатов, что оно даже не вписывается в известное положение Фрейда (Freud, 1914a, р. 16), согласно которому именно признание механизмов переноса и сопротивления и определяет аналитический подход.
Я вполне могу понять эти возражения. Я знаю, в частности, если обратиться сначала к опасениям, вызванным моим акцентом на эмпатии, что некоторые из моих коллег скажут: придавая первостепенное значение эмпатии, я просто пытаюсь сделать то, что другие хотели осуществить до меня: подменить принятие объективных фактов действительности регрессивным, сентиментальным бегством в иллюзии. И, без сомнения, некоторые критики скажут, что мое утверждение, будто эмпатическая позиция является необходимым и определяющим компонентом позиции аналитика — как терапевта и как исследователя — это всего лишь первый шаг в фатальном направлении, умело замаскированный первый шаг к ненаучным формам психотерапии, которые лечат любовью и суггестией, и что оно подменяет научное мышление близким к религиозному или мистическим подходом — самозванцами, от которых психоанализ с момента своего возникновения должен был защищать себя и от которых он должен был решительно отмежеваться.
Даже самые убедительные аргументы в поддержку идеи о важности позиции, занимаемой эмпатией в теории психоанализа, — того, что эмпатия не только является незаменимым инструментом в глубинной психологии, но и определяет область глубинной психологии, не может, разумеется, устранить тревог, которые я вложил в уста моих воображаемых критиков, — психоанализ действительно подвержен двоякого рода опасностям сентиментального затуманивания в научной области и скрытого проведения лечения с помощью суггестии в клинической области. Таким образом, мы должны сознавать, что наши открытия могут использоваться в качестве рационализации ненаучных терапевтических действий. Однако с такими злоупотреблениями надо бороться, не отвергая эмпатию и интроспекцию — этот шаг уничтожил бы глубинную психологию, — а внося понятийную ясность, связанную с их определением в теоретической области (см. Kohut, 1971, p. 301–305) и следя за строгим соблюдением научных норм при их использовании в области исследования и терапии.
Мое определение будут также критиковать, как я уже отмечал, на том основании, что оно не связано с общепризнанными теориями психоанализа, в частности с теоретической системой, созданной Фрейдом. Однако науку, и прежде всего фундаментальную науку, подобную психоанализу, нельзя определить на основе инструментов, которыми она пользуется: ни ее методологических инструментов, то есть инструментов, которые она применяет в своих исследованиях, ни ее понятийных — я бы хотел особенно подчеркнуть этот момент — инструментов, то есть ее теорий. Ее можно определить только на основе ее общего подхода, выявляющего аспект действительности, к которому мы затем относимся как к предмету науки.
Но разве эмпатия не является просто инструментом, специфическим инструментом наблюдения, и разве мой акцент на ней не делает поэтому мое собственное определение произвольным, как если бы я сказал, что анализ определяется использованием кушетки в терапевтической ситуации и использованием понятия вытеснения в теории? Мой ответ на эти вопросы: «Нет». Эмпатия не является инструментом в том смысле, в котором являются инструментами кушетка, свободные ассоциации, использование структурной модели или концепций влечений и защиты. Эмпатия действительно определяет область наших наблюдений. Эмпатия является не просто ценным методом, благодаря которому мы получаем доступ к внутренней жизни человека — сама по себе идея о внутренней жизни человека и, таким образом, о психологии сложных психических состояний немыслима без нашей способности узнавать с помощью интроспекции (это и есть мое определение эмпатии [ср. Kohut, 1959, р. 459–465]), как протекает внутренняя жизнь человека, что мы думаем и чувствуем и что думают и чувствуют другие[88].
«От идентификации путь ведет через подражание к вчувствованию, то есть к пониманию механизма, благодаря которому мы вообще каким-то образом можем относиться к душевной жизни другого человека» (Freud, 1921, р. ПО, примечание 2, курсив мой. — X. К.).
«[Фрейд] обнаружил, что новое знание можно получать и путем научного упорядочения данных интроспекции, и используя данные внешнего восприятия, собранные при помощи наблюдения и эксперимента». И далее: «Благодаря психоанализу мы можем теперь систематически изучать новую группу данных — группу данных, оставленную без внимания естествознанием. Психоанализ демонстрирует действие внутренних сил, которые можно воспринять только с помощью интроспекции» (Ferenczi, 1927).
Определяя психоанализ как психологию сложных психических состояний, которая с помощью постоянного интроспективно-эмпатического погружения наблюдателя во внутреннюю жизнь человека собирает свои данные, чтобы их объяснить, мы ослабляем оковы слишком узкого определения психоанализа, которое помешало бы нам — и следующим поколениям аналитиков — привести наши теории и объяснения в соответствие с новыми данными, которые мы будем получать в дальнейшем.
На основе моего широкого, но, как я думаю, четко разграничивающего определения я способен теперь решить также проблему, которая озадачивала меня на протяжении долгого времени. В прошлом я часто задавался вопросом, почему я мог считать аналитиками представителей некоторых групп, с теоретическими принципами которых я был полностью не согласен, и не мог принять как аналитиков представителей некоторых других групп, несмотря на то, что был готов принять многие их теоретические представления. Я никогда, например, не подвергал сомнению, что последователи Мелани Кляйн были аналитиками, хотя, на мой взгляд, в своих теоретических формулировках они основывались на ошибочных допущениях и хотя я не соглашался с некоторыми аспектами их психоаналитической практики, являвшимися результатом их теоретических заблуждений. С другой стороны, я не мог, например, принять как аналитиков последователей идеи Франца Александера (Alexander et al., 1946), что традиционный длительный психоанализ есть следствие феноменов сопротивления (то есть что в этом случае аналитик сталкивается с увертками пациента или, по крайней мере, с его непродуктивной регрессией) и что он должен быть заменен кратковременными, активно управляемыми формами терапии — я не мог принять их как аналитиков даже при том, что они продолжали строго придерживаться основных формулировок классического анализа, то есть продолжали отстаивать примат эдипова комплекса и интерпретировали свои данные в соответствии со структурной моделью психики.
Теперь мне стало ясно, что эти (прежде совсем непонятные) различия основывались не на критерии, согласно которому научный или терапевтический подход определяется как аналитический, если он устанавливает, что наблюдатель придерживается некоторой философии (например, психобиологической точки зрения) или что он опирается на некоторые принципы упорядочения (например, на генетическую, динамическую, экономическую или структурную точки зрения) или придерживается определенных теорий (например, теории переноса и сопротивления в понимании Фрейда), а на критерии, согласно которым такой подход определяется как аналитический, если он означает постоянное погружение в совокупность психологических данных с помощью эмпатии и интроспекции с целью научного объяснения наблюдаемой области. Хотя, например, у меня нет ни малейшего сомнения в том, что существуют крайне важные действия анализанда (и что их можно наблюдать в аналитической ситуации), которые объясняются как слияние вытесненных детских желаний с желаниями, направленными на аналитика; и что точно так же существуют крайне важные действия анализанда, которые можно объяснить как сдерживающие эндопсихические силы, направленные против аналитика, когда его интерпретации начинают угрожать невротическому равновесию сил; и хотя, кроме того, я не могу представить себе, что психоанализ способен сейчас отказаться от двух концепций — переноса и сопротивления, — которые представляют собой теоретическое осмысление этих двух форм поведения, я по-прежнему утверждаю, что будущее поколение психоаналитиков, наверное, обнаружит психологические области, требующие нового концептуального подхода, — области, где, даже если говорить о терапии, две эти универсальные ныне концепции окажутся нерелевантными. Современная физика — Эйнштейна и особенно Планка и Бора — остается по-прежнему физикой, несмотря на то, что эти исследователи сосредоточились на неизведанных ранее сторонах физической реальности и были вынуждены создать формулировки, отличные от формулировок классической физики Ньютона. Должно ли отношение психоаналитиков к своей науке отличаться от отношения физиков к своей?
Предыдущими рассуждениями об определении глубинной психологии — определении, в котором психоанализ предстает такой же фундаментальной наукой, как физика, математика или биология, — я, начав с нового направления, вернулся к тому же самому выводу, который представил в 1959 году. Хотя с тех пор как я впервые сформулировал мысли о фундаментальном значении нашей интроспективно-эмпатической наблюдательной позиции, мои представления о многих областях психоаналитической теории и практики изменились, но мое мнение по этому принципиальному вопросу осталось прежним.
Правда, принятие моих взглядов о сущности психоанализа само по себе не служит доказательством утверждения, что та или иная новая объяснительная гипотеза является верной, что она помогает расширить психоаналитическую теорию или что она дает новые эффективные средства для психоаналитической практики, — даже если новая гипотеза вытекает из эмпирических данных, полученных исследователем в процессе длительного эмпатического погружения во внутреннюю жизнь своих анализандов. Но их принятие покончило бы с отвержением ex cathedra идей и результатов, отличающихся от общепризнанной доктрины, и позволило бы психоаналитикам отказаться от обычных способов упорядочения эмпатически воспринятых данных и хотя бы на какое-то время занять определенную позицию, — которую Колридж (Coleridge, 1817) называл «добровольным отказом от недоверия», — посвятив себя задаче понимания новых процессов и конфигураций. Широкое определение психоанализа в конечном счете позволит, если подлинность новых результатов и релевантность новых формулировок будет установлена, включить новые данные и теории и их последующие постепенные модификации в дальнейшую профессиональную деятельность аналитиков.
Основываясь на вышеупомянутом убеждении, что ни лояльность к общепринятым способам мышления, ни страх слишком широкого определения предмета, с которым имеет дело психоанализ, не должны мешать аналитику проверять новые концепции, теории и методы, представленные другими исследователями, я выступаю за необходимость непредубежденного отношения к психологии самости. Наконец, последний вопрос по поводу этого шага в психоанализе, за который я ратую: даже если непредубежденный психоаналитик будет прислушиваться к психологии самости, даже если он признает, что ее принципы являются релевантными и что они объясняют определенные феномены внутри и вне клинической ситуации, которые не могла объяснить классическая теория, — не будет ли он по-прежнему ее отвергать из-за неполноты и отсутствия законченности и элегантности некоторых ее теорий и неясности некоторых ее концепций?
Позвольте мне в этой связи обратиться, в частности, к особенностям данной работы, которые, возможно, кому-то покажутся серьезным недостатком. Мое научное исследование занимает сотни страниц, на которых рассматривается психология самости; но в нем нигде не закрепляется жесткое значение за термином «самость», нигде не объясняется, как следует определять сущность самости. Но я признаю этот факт без раскаяния или стыда. Самость, осмысляется ли она в рамках психологии самости в узком смысле термина как определенная структура психического аппарата или в рамках психологии самости в широком смысле термина как центр психологической вселенной индивида, является, как и остальная реальность — физическая реальность (сведения о мире, воспринимаемом с помощью органов чувств) или психологическая реальность (сведения о мире, воспринимаемом с помощью интроспекции и эмпатии), — в своей сущности непознаваемой. Мы не можем посредством интроспекции и эмпатии проникнуть в самость как таковую; нам доступны только ее интроспективно или эмпатически воспринимаемые психологические проявления. Когда выдвигаются требования дать точное определение самости, не учитывается то, что «самость» является не понятием абстрактной науки, а обобщением, выведенным из эмпирических данных. Требования разграничения «самости» и «репрезентации самости» (или, например, «самости» и «чувства самости») основаны, следовательно, на недопонимании. Мы можем собрать данные о том, как постепенно формируется совокупность интроспективно или эмпатически воспринимаемых внутренних переживаний, которые мы затем называем «Я», и мы можем наблюдать некоторые характерные трансформации этого опыта. Мы можем описать различные связные формы, в которых проявляется самость, можем продемонстрировать некоторые элементы, которые составляют самость, — ее два полюса (амбиции и идеалы) и область талантов и навыков, которые расположены между этими двумя полюсами, — и объяснить их происхождение и функции. И, наконец, мы можем выделить различные типы самости и объяснить их разные особенности, основываясь на преобладании тех или иных ее элементов. Мы можем все это сделать, но мы по-прежнему не будем знать сущность самости, отличную от ее проявлений.
Эти утверждения кажутся мне достойным завершением моих попыток создать новую психологию самости, ибо они выражают мое убеждение в том, что настоящий ученый (играющий ученый, как я его назвал выше) может терпимо относиться к недостаткам своей работы — к предварительности формулировок, несовершенству своих концепций. Более того, он дорожит ими как стимулом для дальнейшей приносящей радость работы. Я думаю, что самое глубокое значение науки раскрывается, когда она рассматривается как одна из сторон недолговечной, но продолжающейся жизни. Ощущение непрерывности, несмотря на все изменения, несмотря даже на кардинальные изменения, поддерживает ученого в его постоянном возвращении от теории к наблюдению, в его постоянном стремлении изобрести новые, более глубокие или более полные объяснительные модели, создать новые, более глубокие или более полные объяснительные теории. Почтительное отношение к общепринятым объяснительным системам — к элегантной точности их определений и к безукоризненной логичности их теорий — становится ограничением в истории науки, точно так же, как и аналогичная приверженность определенным взглядам становится ограничением во всей истории человечества. Идеалы — это руководящие принципы, а не божества. Становясь божествами, они удушают креативность людей, препятствуют активности сектора души человека, обращенного в будущее.
Я надеюсь, конечно, что многие представленные здесь результаты исследования психологии самости докажут свою правомерность. Однако самое мое глубокое желание заключается в том, чтобы мой труд — доработанный или исправленный, принятый или даже отвергнутый — побуждал растущее поколение психоаналитиков следовать путем, открытым пионерами прошлого, путем, который приведет нас на необъятную территорию той стороны реальности, которую можно исследовать с помощью целенаправленно развиваемой интроспекции и эмпатии.
Благодарности
Число коллег и друзей, великодушно поделившихся со мной своими мыслями по поводу данной работы на разных ее этапах, столь велико, что я вынужден просить большинство из них принять мою благодарность без упоминания их имен. Но я назову некоторых из них, чья помощь была особенно ценна для меня — либо благодаря эмоциональной поддержке, оказанной мне в период неизбежных сомнений, которые любой автор испытывает относительно целесообразности своих усилий, либо благодаря ценным советам, которые они давали по поводу формы и содержания моей книги. Поэтому хотя я и упоминаю с особой теплотой и признательностью имена докторов Михаэля Ф. Ваша, Арнольда Голдберга, Джерома Кафки, Джорджа Г. Клумпнера, Дж. Гордона Магуайра, Дэвида Маркуса, Пауля Г. Орнштейна, Джорджа Г. Поллока, Пола Г. Толпина и Г. Джозефа Паломбо, я мог бы включить в этот список и многих других примерно на тех же основаниях. Я хочу выразить мою особую благодарность доктору Эрнесту С. Вульфу, любезно согласившемуся взять на себя сложную задачу по подготовке этой книги.
Я благодарю также многих коллег, позволивших мне использовать материал клинических случаев, которые они анализировали, советуясь со мной. К сожалению, я не мог подробно описывать случаи из моей практики, поскольку было бы очень сложно сохранить их анонимность. Поэтому возможность обратиться к клиническим случаям моих коллег была для меня необычайно ценной. Некоторые из коллег, наблюдения которых вошли в эту книгу, просили меня не называть их имена, решив специально подстраховаться, чтобы не случилось так, что, несмотря на всю тщательную маскировку, их пациенты окажутся узнаны. Однако материал трех случаев удалось настолько надежно замаскировать, что я имею возможность выразить свою благодарность аналитикам. Доктор Анита Экстедт разрешила мне использовать некоторые ценные материалы проведенного со знанием дела анализа, проницательно отобранные ею; доктор Анна Орнштейн предоставила мне клинические данные, убедительно подтверждающие некоторые из моих теорий; и, наконец, доктор Мэриан Толпин разрешила мне воспользоваться интересным материалом, полученным ею в результате превосходно проведенного исследования конкретного случая.
Авторы часто благодарят своих руководителей, отдавая долг вежливости. Однако сердечная признательность, которую я хочу выразить миссис Жаклин Миллер, — это не дань традиции, а искреннее чувство. Без ее спокойных реакций на неудобства, которые я ей доставлял, без ее преданности делу и без участия ее интеллекта эта работа была бы завершена гораздо позднее.
Финансовую поддержку на всех этапах исследования, результаты которого я здесь представляю, оказывал Исследовательский фонд Энн Поллок Ледерер при Чикагском институте психоанализа и общий Исследовательский фонд института. Я искренне благодарен за эту поддержку.
Кроме того, я глубоко признателен за помощь, которую получал от миссис Натали Альтман из издательства «International Universities Press». Почти целый год страницы моей рукописи путешествовали из Чикаго в Нью-Йорк и обратно в Чикаго. Они возвращались усеянные замечаниями, свидетельствовавшими о глубоком понимании вопроса, и ценными предложениями, которые заставляли меня выражаться с большей ясностью, приводить необходимые доказательства моих утверждений и удалять излишний материал. Я сердечно благодарю ее за интерес, который, несомненно, не был лишь проявлением чувства долга, и я надеюсь, что она получила столько же удовольствия от нашей совместной работы, как и я. Я думаю, что эта книга необычайно выиграла от нашего сотрудничества.
Сложности лингвистики или психологии? (Послесловие)
Хайнц Кохут (1913–1981) — выдающийся психоаналитик, президент Американской психоаналитической ассоциации, основатель целого направления в современном психоанализе — психологии самости. В западной психоаналитической литературе он является вторым по цитируемости после основателя психоанализа 3. Фрейда.
«Восстановление самости» — вторая из трех книг X. Кохута. Поскольку она первой переведена на русский язык, то для русского читателя может оказаться поначалу трудной для восприятия. Но, я надеюсь, это будут временные трудности.
К сожалению, мы пока не можем прийти к согласию в переводе английского слова «self». В некоторых книгах этот термин переведен как «Собственное Я» (например: H. M. Вильямс. «Психоаналитическая диагностика». — М., 1998; В. Тэхкэ. «Психика и ее лечение». — М., 2001 и др.). В некоторых — как «Я» (например: Ф. и Р. Тайсон. «Психоаналитические теории развития». — Екатеринбург, 1998; Р. Столороу. «Клинический психоанализ: Интерсубъективный подход». — М., 1999; и др.). В этой книге, а также в некоторых других (например: «Психоаналитические термины и понятия» / Под ред. Б. Мура и Б. Фаина. — М., 2000; Ф. Александер. «Психосоматическая медицина». — М., 2000) он переведен как «самость». В различных сочетаниях с другими словами можно встретить такие переводы «self», как «Я-объект», «объект самости», «самоуважение», «любовь к себе», «самолюбие», «Я-объектный перенос», «самостно-объектный перенос», «перенос объекта самости» и т. д. Читателю нужно воспринимать все эти варианты перевода как синонимы.
К этому добавляются еще лингвистические и научные трудности перевода. К. Юнг употребляет английское слово «self» (немецкое — «Selbst»; на русский язык переводится как «самость») в совершенно ином научном смысле, чем X. Кохут.
Всемирно известный американский психоаналитик Рене Шпиц в своих работах («Нет и да», «Генетическое поле формирования эго» и др.) писал о гипотезе-теории аналогий в разных науках. Он часто сравнивал психологические и психоаналитические понятия с понятиями из эмбриологии, физики и других наук. Все знают, что Фрейд сам часто пользовался сравнениями из физики, например, он упоминал о гидравлической модели инстинктивных влечений, вытеснения.
Если использовать идеи Р. Шпица, то можно найти аналогии между развитием психоанализа и развитием физики. Вначале теория влечений Фрейда (с ее позитивизмом, единством либидинозных инстинктивных мотиваций и причинно-следственных отношений) была подобна ньютоновской физике (с ее единством сил притяжения и законов механики). Затем появление в психоанализе множества теорий (кляйнианской, эго-психологии, объектных отношений и др.) сопровождалось отходом от фрейдовского позитивизма, открытием множества мотиваций и причинно-следственных отношений в функционировании психики. Это сделало психоанализ похожим на физику Эйнштейна с его теорией относительности. Последователи Эйнштейна (Планк, Бор, Гейзенберг и др.) создали совершенно новый раздел физики — квантовую физику, изучающую двойственность материи, которая сочетает в себе корпускулярные и волновые свойства. Теория объектных отношений (изучающая развитие и динамику объектного либидо) соотносится с теорией X. Кохута (изучающей развитие и динамику нарциссического либидо) как корпускулярная и волновая теории в квантовой физике. Согласно принципу неопределенности Гейзенберга, невозможно одновременно изучать элементарную частицу как корпускулу и как волну. Чем точнее мы стремимся измерить массу частицы (корпускулярное свойство), тем приблизительнее мы можем определить скорость ее движения (волновое свойство). И наоборот.
По аналогии с этим в психоаналитической работе чем точнее мы пытаемся концептуализировать проблемы пациента в рамках структурной теории Фрейда и работать с ними в рамках объектного переноса, тем сложнее нам понимать этого пациента в рамках психологии самости X. Кохута и работать с ним в рамках нарциссического (самостно-объектного) переноса. И наоборот.
Но как современная физика принимает корпускулярно-волновую двойственность материи, так и современный психоанализ принимает структурно-самостную двойственность человека и объектно-нарциссическую двойственность аналитической работы с переносом. X. Кохут пишет: «Современная физика — Эйнштейна и особенно Планка и Бора — остается по-прежнему физикой, несмотря на то, что эти исследователи сосредоточились на неизведанных ранее сторонах физической реальности и были вынуждены создать формулировки, отличные от формулировок классической физики Ньютона. Должно ли отношение психоаналитиков к своей науке отличаться от отношения физиков к своей?»
У психологии самости можно обнаружить немало аналогий с квантовой физикой. Одним из краеугольных камней психоанализа Фрейда является не только связь сегодняшних проблем пациентов с перипетиями и травмами раннего детства, но и способность пациентов рано или поздно вспомнить и осознать эти события детства. Я остановлюсь только на трех наиболее частых причинах невозможности вспомнить, вербализовать и осознать какие-то события детства. Первая: человек вообще способен (в результате длительной психоаналитической регрессии) вспомнить и вербализовать только события, случившиеся после формирования у него фразовой речи и памяти (примерно это конец 2-го года жизни). Таким образом, события первых двух лет в основном невербализуемы и неосознаваемы. Вторая причина: из более поздних событий детства тоже не все могут быть восстановлены. В статье «Воспоминание, воспроизведение и переработка» Фрейд писал, что какую-то часть событий детства пациент вспоминает (это больше относится к истерикам), а какую-то часть событий воспроизводит в поведении (чаще это бывает у пациентов с навязчивостями). Обычно трудности вербализации и осознания такого воспроизводства (отыгрывания) связаны со слишком сильной травматизацией и, соответственно, с большим страхом снова столкнуться с очень сильной травматической болью в аналитическом процессе. Третья причина: можно вспомнить то, что происходило, но нельзя вспомнить то, чего не произошло, но должно было произойти, если бы родители были «достаточно хороши», чтобы ответить на потребности развития ребенка. Эта мысль была высказана Д. Винникоттом в связи с так называемым «негативным травмированием»: травмой является не только то плохое, что случилось, но и то хорошее, что не случилось в процессе развития, а должно было случиться. Об этом же говорит X. Кохут, когда пишет о невыполнении родителями своей роли адекватного зеркального отражения грандиозной самости ребенка и их неспособности предоставить возможность для адекватной идеализации грандиозных родительских объектов.
Таким образом, вхождение современного психоанализа в те сферы психики, в которых невозможны воспоминания, вербализация, осознание, требует совершенно других подходов по сравнению с проработкой уровня эдиповых проблем фрейдовского периода. И проработка проблем самости частично минует осознание (даже при успешном анализе). Восстановление в памяти травмирующих психику событий детства с помощью анализа Фрейда можно сравнить с объяснением движения тел влиянием силы земного тяготения в физике Ньютона — эти события вполне реальны и представимы. А затрудненность воспоминаний, вербализации и осознания неслучившихся событий в современном анализе можно сравнить с изучением движения элементарных частиц в квантовой физике, которое для обыденного сознания нереально, его невозможно представить (например: как повлияет на развитие психики расщепление в результате «неслучивгаегося» контакта с объектом?) Поэтому появляются такие термины, как «теория относительности», «принцип неопределенности», и т. д. И X. Кохут называет нарциссический перенос не переносом, если сравнивать его с неврозом переноса у эдиповых пациентов, а «переносоподобным состоянием». Фрейд писал, что у нарциссических пациентов перенос вообще не развивается, и они не доступны анализу. Но, видимо, нужно было обладать особой психической чувствительностью, которой обладал X. Кохут, чтобы ощутить столь слабые психические проявления. И в современной физике «слабые поля» стали активно изучаться.
Конечно, вхождение в такую зыбкую сферу ставит психоанализ на грань науки и псевдонауки, что часто подчеркивают критики теории X. Кохута. Но на самом деле это разрушает не науку, а наши ограничения в способности осознавать что-то совершенно новое. И, конечно, зыбкость новых сфер изучения психики требует от аналитиков еще более скрупулезного и ответственного подхода к своей науке, чтобы не уйти в область парапсихологии и колдовства. Но это тоже закономерность: при многих новых открытиях в совершенно разных областях науки у скептиков возникали аналогичные опасения, в «еретичности» новых теорий.
Неоднозначность перевода «self» (как «собственное Я», как «Я» и как «самость») имеет историческую аналогию с неоднозначной терминологией Фрейда в период перехода от топографической модели психики к структурной. Известный американский психоаналитик X. Гартманн критиковал Фрейда за двоякий смысл, в котором он употреблял немецкое слово «Ich» («Я»): иногда для обозначения одного из компонентов структуры личности, а иногда для обозначения личности человека в целом («самости»).
Вероятно, сейчас в России мы переживаем период открытия и становления новой области науки, а этому всегда сопутствует и появление новых понятий в языке. И существующие в литературе варианты перевода отражают нашу попытку не механически заимствовать новые термины, а «переварить» их и интегрировать в нашем сознании, языке, мировоззрении.
М. В. Ромашкевич декан факультета психоанализа Института практической психологии и психоанализа (ИППП)
Библиография
Aarons, Z. A. (1965), On Analytic Goals and Criteria for Termination. Bull. Phila. Assn. Psychoanal., 15: 97–109.
Abend, S. M. (1974), Problems of Identity: Theoretical and Clinical Applications. Psychoanal. Quart., 43: 606–637.
Abraham, H. C., Freud, E. L. (1965), A Psycho-Analytic Dialogue (The Letters of Sigmund Freud and Karl Abraham). New York: Basic Books.
Abraham, K. (1921), Contributions to the Theory of the Anal Character. In: Selected Papers of Karl Abraham. New York: Basic Books, 1953, pp. 370–392.
Aichhorn, A. (1936), The Narcissistic Transference of the «Juvenile Impostor.» In: Delinquency and Child Guidance: Selected Papers by August Aichhorn, ed. O. Fleischmann, P. Kramer, H. Ross. New York: International Universities Press, 1964, pp. 174–191.
Alexander, F. (1935), The Logic of Emotions and its Dynamic Background. Internal.]. Psycho-Anal, 16: 399–413.
Alexander, F. (1956), Two Forms of Regression and their Therapeutic Implications. Psychoanal. Quart., 25: 178–196.
Alexander, F., French, T. M., et al. (1946), Psychoanalytic Therapy: Principles and Applications. New York: Ronald Press.
Altman, L. L. (1975), A Case of Narcissistic Personality Disorder: The Problem of Treatment. Internat.]. Psycho-Anal., 56: 187–195.
Apfelbaum, B. (1972), Psychoanalysis without Guilt. Contemporary Psychol, 17: 600–602.
Argelander, H. (1972), Der Flieger. Frankfurt: Suhrkamp.
Arlow, J. A. (1966), Depersonalization and Derealization. In: Psychoanalysis-A General Psychology, ed. R. M. Loewenstein, L. M. Newman M. Schur, A. J. Solnit. New York: International Universities Press, pp. 456–478.
Bach, S. (1975), Narcissism, Continuity and the Uncanny. Internat. J. Psycho-Anal., 56: 77–86.
Bach, S., Schwartz, L. (1972), A Dream of the Marquis de Sade: Psychoanalytic Reflections on Narcissistic Trauma, Decompensation, and the Reconstitution of a Delusional Self. J. Amer. Psychoanal. Assn., 20: 451–475.
Balint, M. (1950), On the Termination of Analysis. Internat. J. Psycho-Anal., 31: 196–199. (Also in: Primary Love and Psychoanalytic Technique. London: Hogarth Press, 1952, pp. 236–243.)
Balint, M. (1968), The Basic Fault: Therapeutic Aspects of Regression. London: Tavistock Publications.
Barande, R., Barande, I., Dalibard, Y. (1965), Remarques sur le narcissisme dans le mouvement de la cure. Rev. Franf. Psychoanal., 29: 601–611.
Basch, M. F. (1973), Psychoanalysis and Theory Formation. The Annual of Psychoanalysis, 1: 39–52. New York: Quadrangle.
Basch, M. F. (1974), Interference with Perceptual Transformation in the Service of Defense. The Annual of Psychoanalysis, 2: 87–97. New York: International Universities Press.
Basch, M. F. (1975), Toward a Theory that Encompasses Depression: A Revision of Existing Causal Hypotheses in Psychoanalysis. In: Depression and Human Existence, ed. E. J. Anthony, T. Benedek. Boston: Little Brown, pp. 485–534.
Beigler, J. (1975), A Commentary on Freud's Treatment of the Rat Man. The Annual of Psychoanalysis, 3: 271–285. New York: International Universities Press.
Benedek, T. (1938), Adaptation to Reality in Early Infancy. Psychoanal. Quart., 7: 200–214.
Beres, D. (1956), Ego Deviation and the Concept of Schizophrenia. The Psychoanalytic Study of the Child, 11: 164–235. New York: International Universities Press.
Bing. J., McLaughlin, F., Marburg, R. (1959), The Metapsychology of Narcissism. The Psychoanalytic Study of the Child, 14: 9–28. New York: International Universities Press.
Binswanger, L. (1957), Sigmund Freud. Reminiscence of a Friendship. New York/London: Grune, Stratton.
Bleuler, E. (1911), Dementia Praecox or the Group of Schizophrenias. New York: International Universities Press, 1950.
Blum, H. P. (1974), The Borderline Childhood of the Wolf Man .J. Amer. Psychoanal Assn., 22: 721–742.
Boyer, В., Giovacchini, P. (1967), Psychoanalytic Treatment of Characterological and Schizophrenic Disorders. New York: Science House.
Braunschweig, D. R. (1965), Le narcissisme: aspects cliniques. Rev. Franc, Psychoanal.
Brenner, C. (1968), Archaic Features of Ego Functioning. Internat.]. Psycho-Anal., 49: 426–429.
Breuer, J., Freud, S. (1893–1895), Studies on Hysteria. Standard Edition, 2: 255–305. London: Hogarth Press, 1955.
Bridger, H. (1950), Criteria for Termination of an Analysis. Internat. J. Psycho-Anal., 31: 202–203.
Bronfenbrenner, U. (1970), Two Worlds of Childhood: U.S. and U.S.S.R. New York: Russell Sage Foundation.
Buxbaum, E. (1950), Technique of Terminating Analysis. Internat.]. Psycho-Anal., 31: 184–190.
Chasseguet-Smirgel. J. (1974), Perversion, Idealization and Sublimation. Internat.]. Psycho-Anal., 55: 349–357.
Coleridge, S. T. (1817), Biographia Literaria, Chap. 14. London: Oxford University Press, 1907.
Cooper, A. et al. (1968), The Fate of Transference Upon Termination of the Analysis. Bull. Assn. Psychoanal. Med., 8: 22–28.
Dewald, P. (1964), Psychotherapy: A Dynamic Approach. New York: Basic Books.
Dewald, P. (1965), Reactions to the Forced Termination of Therapy. Psychiat. Quart., 39: 102–126.
Edelheit, H. (1976), Complementarity as a Rule in Psychological Research. Internal.]. Psycho-Anal, 57: 23–29.
Eidelberg, L. (1959), The Concept of Narcissistic Mortification. Internat. J. Psycho-Anal.,40: 163–168.
Eisnitz, A. J. (1969), Narcissistic Object Choice, Self Representation. Internat.]. Psycho-Anal, 50: 15–25.
Eisnitz, A. J. (1974), On the Metapsychology of Narcissistic Pathology. /. Amer. Psychoanal Assn., 22: 279–291.
Eissler, K. R. (1974), Über Freuds Freundschaft mit Wilhelm Fliess nebst einem Anhang über Freuds Adoleszenz und einer historischen Bemerkung über Freuds Jugendstil. Jahrbuch der Psychoanalyse, 7: 39–100.
Eissler, K. R. (1975), A Critical Assessment of the Future of Psychoanalysis: A View from Within. Panel reported by I. Miller./. Amer. Psychoanal Assn., 23: 151.
Eissler, R. S. (1949), Scapegoats of Society. In: Searchlights on Delinquency, ed. K. R. Eissler. New York: International Universities Press.
Ekstein, R. (1965), Working Through and Termination of Analysis. J. Amer. Psychoanal Assn., 13: 57–78.
Engelmann, E. (1966), Freudian Memorabilia. Freud's Office as His Patients Saw It. Roche Medical Image, 8/3: 28–30.
Erikson, E. H. (1950), Childhood and Society. New York: Norton.
Erikson, E. H. (1956), The Problem of Ego Identity. In: Identity: Youth and Crisis. New York: Norton, 1968, pp. 142–207; 208–231.
Federn, P. (1947), Principles of Psychotherapy in Latent Schizophrenia. In: Ego Psychology and the Psychoses, ed. E. Weiss. New York: Basic Books, 1952, pp. 166–183.
Fenichel, O. (1953), From the Terminal Phase of an Analysis. In: Collected Papers, First Series. New York: Norton, 1953, pp. 27–31.
Ferenczi, S. (1927), Die Anpassung der Familie an das Kind [The Adaptation of the Family to the Child]. Zeitschrift f. psychoanalytische Pädagogik, 2: 239–251. (Also in: Final Contributions. New York: Basic Books, 1955. pp. 61–76.)
Ferenczi, S. (1928), The Problem of the Termination of the Analysis. In: Final Contributions. New York: Basic Books, 1955, pp. 77–86.
Ferenczi, S. (1930), Autoplastic and Alloplasti с Adaptation. In: Final Contributions. New York: Basic Books, 1955, p. 221.
Firestein, S. K. (1974), Termination of Psychoanalysis of Adults: A Review of the Literature./. Amer. Psychoanal. Assn., 22: 873–894.
Firestein, S. K., reporter (1969), Panel on: Problems of Termination in the Analysis of Adults./. Amer. Psychoanal. Assn., 17: 222–237.
Fleming, J., Benedek, T. (1966), Psychoanalytic Supervision. New York: Grune, Stratton.
Forman, M. (1976), Narcissistic Personality Disorders and the Oedipal Fixations. The Annual of Psychoanalysis, 4: 65–92. New York: International Universities Press.
Freeman, T. (1963), The Concept of Narcissism in Schizophrenia States. Internat.]. Psycho-Anal, 44: 293–303.
Freud, A. (1936), The Ego and the Mechanisms of Defense. The Writings of Anna Freud, 2. New York; International Universities Press, 1966.
Freud, A. (1965), Normality and Pathology in Childhood. The Writings of Anna Freud, 6. New York: International Universities Press.
Freud, E. L., ed. (1960), Letters of Sigmund Freud. New York: Basic Books.
Freud, E. L., Meng, H., ed. (1963), Psychoanalysis and Faith. The Letters of Sigmund Freud and Oskar Pfister. New York: Basic Books.
Freud, S. (1900), The Interpretation of Dreams. Standard Edition, 4, 5. London: Hogarth Press, 1953. Freud, S. (1908), Character and Anal Erotism. Standard Edition, 9: 167 175. London: Hogarth Press, 1959.
Freud, S. (1909), Notes Upon a Case of Obsessional Neurosis. Standard Edition, 10: 151–249. London: Hogarth Press, 1955.
Freud, S. (1911), Psycho-Analytic Notes on an Autobiographical Account of a Case of Paranoia (Dementia Paranoides). Standard Edition, 12: 9–82. London: Hogarth Press, 1958.
Freud, S. (1912), Recommendations to Physicians Practising Psycho-Analysis. Standard Edition, 12: 109–120. London: Hogarth Press, 1958.
Freud, S. (1913a), On Beginning the Treatment. Standard Edition, 12: 123–144. London: Hogarth Press, 1958.
Freud, S. (1913b), The Disposition to Obsessional Neurosis. Standard Edition. 12: 311–326. London: Hogarth Press, 1958.
Freud, S. (1914a), On the History of the Psycho-Analytic Movement. Freud, Standard Edition, 14: 7–66. London: Hogarth Press, 1957.
Freud, S. (1914b), The Moses of Michelangelo. Standard Edition, 13: 211–238. London: Hogarth Press, 1955.
Freud, S. (1914c), On Narcissism: An Introduction. Standard Edition,14: 67–102. London: Hogarth Press, 1957.
Freud, S. (1914d), Remembering, Repeating and Working Through. Standard Edition, 12: 145–156.
Freud, S. (1915), The Unconscious. Standard Edition, 14: 159–215. London: Hogarth Press, 1957.
Freud, S. (1917a), A Difficulty in the Path of Psycho-Analysis. Standard Edition, 17: 135–144. London: Hogarth Press, 1955.
Freud, S. (1917b), Introductory Lectures on Psycho-Analysis. Part III. General Theory of the Neuroses. Standard Edition, 16. London: Hogarth Press, 1963.
Freud, S. (1918), From the History of an Infantile Neurosis. Standard Edition, 17: 1–122. London: Hogarth Press. 1955.
Freud, Freud, Freud, S. (1920), Beyond the Pleasure Principle. Standard Edition, 18: 3–64. London: Hogarth Press, 1955.
Freud, S. (1921), Group Psychology and the Analysis of the Ego. Standard Edition, 18: 65–144. London: Hogarth Press, 1955.
Freud, S. (1922), Some Neurotic Mechanisms in Jealousy, Paranoia, and Homosexuality. Standard Edition, 18: 221–232. London: Hogarth Press, 1955.
Freud, S. (1923a), The Ego and the Id. Standard Edition, 19: 3–66. London: Hogarth Press, 1961.
Freud, S. (1923b), Two Encyclopaedia Articles. Standard Edition, 18: 233–259. London: Hogarth Press, 1955.
Freud, S. (1925), Negation. Standard Edition, 19: 235–239. London: Hogarth Press, 1961.
Freud, S. (1926), Inhibitions, Symptoms and Anxiety. Standard Edition, 20: 75–174. London: Hogarth Press, 1959.
Freud, S. (1927a), Fetishism. Standard Edition, 21: 147–157. London: Hogarth Press, 1961.
Freud, S. (1927b), The Future of an Illusion. Standard Edition, 21: 1–56. London: Hogarth Press, 1961.
Freud, S. (1933), New Introductory Lectures on Psycho-Analysis. Standard Edition, 22: 1–182. London: Hogarth Press, 1964.
Freud, S. (1937), Analysis Terminable and Interminable. Standard Edition, 23: 209–253. London: Hogarth Press, 1964.
Freud, S. (1940), The Splitting of the Ego in the Process of Defence. Standard Edition, 23: 271–278. London: Hogarth Press, 1964.
Frosch, J. (1970), Psychoanalytic Considerations of the Psychotic Character./. Amer. Psychoanal. Assn., 18: 24–50.
Gedo, J. E. (1972), On the Psychology of Genius. Int.]. Psycho-Anal, 53: 199.
Gedo, J. E. (1975), Forms of Idealization in the Analytic Transference. J. Amer. Psychoanal. Assn., 23: 485–505.
Gedo, J. E., Goldberg, A. (1973), Models of the Mind: A Psychoanalytic Theory. Chicago: University of Chicago Press.
Gelb, A., Gelb, B. (1962), O'Neill. New York: Harper, Row.
Gill, M. M. (1963), Topography and Systems in Psychoanalytic Theory [Psychological Issues, Monograph 10]. New York: International Universities Press.
Giovacchini, P. (1975), Psychoanalysis of Character Disorders. New York: Jason Aronson.
Gitelson, M. (1952), Re-evaluation of the Role of the Oedipus Complex. In: Psychoanalysis: Science and Profession. New York: International Universities Press, 1973, pp. 201–210.
Glover, E. (1931), The Therapeutic Effect of Inexact Interpretation; A Contribution to the Theory of Suggestion. Internat. J. Psycho-Anal., 12: 397-411.
Glover, E. (1956), The Terminal Phase. In: The Technique of Psychoanalysis. New York: International Universities Press, pp. 150–164.
Goethe, J. W. von (1808–1832), Faust. Leipzig: Hesse, Becker, 1929.
Goldberg, A. (1974), On the Prognosis and Treatment of Narcissism .J Amer. Psychoanal. Assn., 22: 243–254.
Goldberg, A. (1975a), The Evolution of Psychoanalytic Concepts Regarding Depression. In: Depression and Human Existence, ed. E. J. Anthony, T. Benedek. Boston: Little Brown, pp. 125–142.
Goldberg, A. (1975b), A Fresh Look at Perverse Behavior. Internat. J. Psycho-Anal.. 56: 335–342.
Goldberg, A. (1975ft), Narcissism and the Readiness for Psychotherapy Termination. Arch. Gen. Psychiat., 32: 695–704.
Goldberg, A. (1976), A Discussion of the Paper by C. Hanly and J. Masson. Internal.]. Psycho-Anal., 57: 67–70.
Green, A. (1972), Aggression, Femininity, Paranoia and Reality. Internal. J. Psycho-Anal, 53: 205–211.
Green, A. (1976), Un, autre, neutre: valeurs narcissiques du Meme. Nouvelle Revue de Psychanalyse, 13: 37–79.
Greenacre, P. (1956), Re-evaluation of the Process of Working Through. In: Emotional Growth. New York: International Universities Press, pp. 641–650.
Greenson, R. (1965), The Problem of Working Through. In: Drives, Affects, and Behavior, Vol. 2, ed. M. Schur. New York: International Universities Press, pp. 277–314.
Greenson, R. (1967), The Technique and Practice of Psychoanalysis. New York: International Universities Press.
Grinker, R. R. (1968), The Borderline Syndrome: A Behavioral Study of Ego Functions. New York: Basic Books.
Grunberger, B. (1971), Le Narcissisme. Paris: Payot.
Günther, M. S. (1976), The Endangered Self — a Contribution to the Understanding of Narcissistic Determinants of Countertransference. The Annual of Psychoanalysis, 4: 201–224. New York: International Universities Press.
Habermas J.; (1971), Knowledge and Human Interest. Boston: Beacon Press.
Hanly, C., Masson, J. (1976), A Critical Examination of the New Narcissism. Internat. J. Psycho-Anal., 57: 49–66.
Hartmann, H. (1939), Psychoanalysis and the Concept of Health. In: Essays on Ego Psychology. New York: International Universities Press, 1964, pp. 3–18.
Hartmann, H. (1950), Comments on the Psychoanalytic Theory of the Ego. In: Essays on Ego Psychology. New York: International Universities Press, 1964, pp. 113–141.
Hartmann, H. (1960), Psychoanalysis and Moral Values. New York: International Universities Press.
Hartmann, H., Kris, E. (1945), The Genetic Approach in Psychoanalysis. The Psychoanalytic Study of the Child, 1: 11–30. New York: International Universities Press.
Heinz, R. (1976), J. P. Sartre's existentielle Psychoanalyse. Archiv für Rechtsund Sozialphilosophie, 62: 61–88.
Henseler, H. (1975), Die Suizidhandlung unter dem Aspekt der psychoanalytischen Narzissmustheorie. Psyche, 29: 191–207.
Hitschmann, E. (1932), Psychoanalytic Comments About the Personality of Goethe. In: Great Men — Psychoanalytic Studies, New York: International Universities Press, 1956, pp. 126–151.
Holzman, P. S. (1976), The Future of Psychoanalysis and Its Institutes. Psychoanal. Quart., 45: 250–273.
Hurn, H. (1971), Toward a Paradigm for the Terminal Phase: Current Status of the Terminal Phase./ Amer. Psychoanal. Assn., 19: 332–348.
Jacobson, E. (1964), The Self and the Object World. New York: International Universities Press. James, M. (1973), Review of The Analysis of the Self by Heinz Kohut. Internat.. Psycho-Anal., 54: 363–368.
Jones, E. (1936), The Criteria of Success in Treatment. In: Papers on Psycho-Analysis. Boston: Beacon Press, 1961, pp. 379–383.
Jones, E. (1955), The Life and Work of Sigmund Freud, Vol. II. New York: Basic Books.
Jones, E. (1957), The Life and Work of Sigmund Freud, Vol. III. New York: Basic Books.
Kavka, J. (1975), Oscar Wilde's Narcissism. The Annual of Psychoanalysis, 3: 397–408. New York: International Universities Press.
Kepecs, J. (1975), The Re-integration of a Disavowed Portion of Psychoanalysis (unpublished manuscript).
Kernberg, O. F. (1974a), Contrasting Viewpoints Regarding the Nature and Psychoanalytic Treatment of Narcissistic Personalities: A Preliminary Communication./ Amer. Psychoanal. Assn., 22: 255–267.
Kernberg, O. F. (1974b), Further Contributions to the Treatment of Narcissistic Personalities. Internal.]. Psycho-Anal, 55: 215–240.
Kernberg, O. F. (1975), Borderline Conditions and Pathological Narcissism. New York: Jason Aronson.
Kestemberg, E. (1964), Problems Regarding the Termination of Analysis in Character Neurosis. Internal.]. Psycho-Anal, 45: 350–357.
Khan, M. M. R. (1974), The Privacy of the Self. New York: International Universities Press.
Klein, G. (1970), Perception, Motives, and Personality. New York: Knopf.
Klein, M. (1950), On the Criteria for the Termination of an Analysis. Internat.. Psycho-Anal., 31: 8–80.
Kleist, H. von (1808), Michael Kohlhaas. New York: Oxford Univ. Press, 1967.
Kleist, H. von (1811), On the Marionette Theatre, transl. T. G. Neumiller. Drama Rev., 16: 22–226, 1972.
Kligerman, C. (1975), Notes on Benvenuto Cellini. The Annual of Psychoanalysis, 3: 409–421. New York: International Universities Press.
Kohut, H. (1957), Observations on the Psychological Functions of Music. /. Amer. Psychoanal. Assn., 5: 389–407. Also in: Kohut (in press).
Kohut, H. (1959), Introspection, Empathy, and Psychoanalysis./. Amer. Psychoanal. Assn., 7: 459–483. Also in: Kohut (in press).
Kohut, H. (1960), Beyond the Bounds of the Basic Rule./. Amer. Psycho-anal. Assn., 8: 567–586. Also in: Kohut (in press).
Kohut, H. (1961), Discussion of D. Beres's paper: «The Unconscious Fantasy.» Presented at Meeting, Chicago Psychoanalytic Society. Abstr. in: Phila. Bull. Psychoanal., 11: 194–195, 1961. Also in: Kohut (in press).
Kohut, H. (1966), Forms and Transformations of Narcissism./. Amer. Psychoanal. Assn., 14: 243–272. Also in: Kohut (in press).
Kohut, H. (1971), The Analysis of the Self. New York: International Universities Press.
Kohut, H. (1972), Thoughts on Narcissism and Narcissistic Rage. The Psychoanalytic Study of the Child, 27: 360–400. New York: Quadrangle. Also in: Kohut (in press).
Kohut, H. (1975a), The Future of Psychoanalysis. The Annual of Psychoanalysis, 3: 325–340. New York: International Universities Press. Also in: Kohut (in press).
Kohut, H. (1975b), Remarks About the Formation of the Self. Presented at Meeting, Chicago Institute for Psychoanalysis. Also in: Kohut (in press).
Kohut, H. (1976), Creativeness, Charisma, Group-Psychology. Reflections on Freud's Self Analysis. In: Freud: Fusion of Science and Humanism, ed. J. Gedo, G. H. Pollock [PsychologicalIssues, Monograph 34/35]. New York: International Universities Press, pp. 379–425. Also in: Kohut (in press).
Kohut, H. (in press), Scientific Empathy and Empathic Science: Selected Essays, ed. P. Ornstein. New York: International Universities Press.
Kohut, H., Levarie, S. (1950), On the Enjoyment of Listening to Music. Psychoanal. Quart., 19: 64–87. Also in; Kohut (in press).
Kohut, H., Seitz, P. F. D. (1963), Concepts and Theories of Psychoanalysis, In: Concepts of Personality, ed. J. M. Wepman, R. Heine. Chicago: Aldine, pp. 113–141. Also in: Kohut (in press).
Koyre, A. (1968), Metaphysics and Measurement: Essays in Scientific Resolution. Cambridge: Harvard University Press.
Kramer, M. K. (1959), On the Continuation of the Analytic Process After Psychoanalysis. Internat. J. Psycho-Anal., 40: 17–25.
Kratz, B. (1976), Sigmund Freud und die Musik (unpublished).
Kris, E. (1956), On Some Vicissitudes of Insight in Psycho-Analysis. In: Selected Papers. New Haven: Vale University Press, 1975, pp. 252–271.
Kühn, T. S. (1962), The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.
Lacan, J. (1937), Le stade de miroir comme formateur de la fonction de Je. In: Ecrits. Editions du Seuil, Paris, 1966, pp. 93–100.
Lacan, J. (1953), Some Reflections on the Ego. Internat. J. Psycho-Anal., 34: 11–17.
Laforgue, R. (1934), Resistance at the Conclusion of Psychoanalytic Treatment. Internat.. Psycho-Anal., 15: 419–434.
Lampl-de Groot, J. (1965), The Development of the Mind. New York: International Universities Press.
Lampl-de Groot, J. (1975), Vicissitudes of Narcissism and Problems of Civilization. The Psychoanalytic Study of the Child, 30: 663–681. New Haven: Yale University Press.
Langer, S. (1942), Philosophy in a New Key. Cambridge: Harvard University Press, third edition, 1957.
Lebovici, S., Diatkine, R. (1973), Discussion on Aggression: Is it a Question of a Metapsychological Concept. Internal. J. Psycho-Anal., 53: 231–236.
Leboyer, F. (1975), Birth Without Violence. New York: Knopf.
Levin, D. C. (1969), The Self: A Contribution to Its Place in Theory and Technique. Internat. J. Psycho-Anal., 50: 41–51.
Lichtenberg, J. (1975), The Development of the Sense of Self. Amer. Psychoanal. Assn., 23: 453–484.
Lichtenstein, H. (1961), Identity and Sexuality: A Study of Their Interrelationships in Man./. Amer. Psychoanal. Assn., 9: 179–260.
Lichtenstein, H. (1964), The Role of Narcissism in the Emergence and Maintenance of a Primary Identity. Internat. J. Psycho-Anal., 45: 49–56.
Lichtenstein, H. (1971), The Malignant No: A Hypothesis Concerning the Interdependence of the Sense of Self and the Instinctual Drives. In: The Unconscious Today. New York: International Universities Press, pp. 147–176.
Lipton, S. D. (1961), The Last Hour./. Amer. Psychoanal. Assn., 9: 325–330.
Loewald, H. (1960), On the Therapeutic Action of Psycho-Analysis. Internat.. Psycho-Anal., 41: 16–33.
Loewald, H. (1962), Internatization, Separation, Mourning and the Superego. Psychoanal. Quart., 31: 483–504.
Macalpine, I., Hunter, R. (1955), Daniel Paul Schreher, Memoirs of My Nervous Illness. Cambridge, Mass.: Robert Bentley.
McDougall, J. (1972), Primal Scene and Sexual Perversion. Internat. J. Psycho-Anal., 53: 371–384.
Mahler, M. (1965), On the Significance of the Normal Separation Individuation Phase. In: Drives, Affects, Behavior, Vol. 2, ed. M. Schur. New York: International Universities Press, pp.161–169.
Mahler, M. (1968), On Human Symbiosis and the Vicissitudes of lndividuation. New York: International Universities Press.
Mahler, M., Pine, E, Bergman, A. (1975), The Psychological Birth of the Human Infant. New York: Basic Books.
Miller, I. (1965), On the Return of Symptoms in the Terminal Phase of Psychoanalysis. Internat. Psycho-Anal., 46: 487–501.
Miller, S. C. (1962), Ego-Autonomy in Sensory Deprivation. Internat. J. Psycho-Anal., 43: 1–20.
Mitscherlich, A. (1963), Society Without the Father: A Contribution to Social Psychology. New York: Harcourt, Brace, World, 1969.
Moberly, R. B. (1967), Three Mozart Operas. New York: Dodd, Mead, Company, 1968.
Modell, A. H. (1975), A Narcissistic Defence Against Affects and the Illusion of Self-Sufficiency. Internat.]. Psycho-Anal., 56: 275–282.
Modell, A. H. (1976), «The Holding Environment» and the Therapeutic Action of Psychoanalysis. J. Amer. Psychoanal. Assn., 24: 285–307.
Moore, B. E. (1975), Toward a Clarification of the Concept of Narcissism. The Psychoanalytic Study of the Child, 30: 243–276. New Haven: Yale University Press.
Morgenthaler, E (1974), Die Stellung der Perversionen in Metapsychologie und Technik. Psyche, 28: 1077–1098. Moser, T. (1974), Years of Apprenticeship on the Couch. New York: Urizen Books, 1977.
M'Uzan, M. de (1970), Le meme et l'identique. Rev. Franc. Psychoanal., 34:441–451.
M'Uzan, M. de (1973), A Case of Masochistic Perversion and an Outline of a Theory. Internat.]. Psycho-Anal., 54: 455–467.
Nunberg, H. (1931), The Synthetic Function of the Ego. In: Practice and Theory of Psychoanalysis. New York: Nervous and Mental Disease Publishing Co., 1948, pp. 120–136.
Oremland, J. D. (1973), A Specific Dream During the Terminal Phase of Successful Psychoanalysis./ Amer. Psychoanal. Assn., 21: 285–302.
Ornstein, A. (1974), The Dread to Repeat and the New Beginning: A Contribution to the Psychoanalysis of the Narcissistic Personality Disorders. The Annual of Psychoanalysis, 2: 231–248. New York: International Universities Press.
Ornstein, A., Ornstein, P. H. (1975), On the Interpretive Process in Psychoanalysis. Internat.]. Psychoanal. Psychotherapy, 4: 219–271.
Ornstein, P. H. (1974a), A Discussion of Otto E Kernberg's «Further Contributions to the Treatment of Narcissistic Personalities» Internat.]. Psycho-Anal, 55: 241–247.
Ornstein, P. H. (1974b), On Narcissism: Beyond the Introduction, Highlights of Heinz Kohut's Contributions to the Psychoanalytic Treatment of Narcissistic Personality Disorders. The Annual of Psycho-Analysis, 2: 127–149. New York: International Universities Press.
Ornstein, P. H. (1975), Vitality and Relevance of Psychoanalytic Psychotherapy, Comprehensive Psychiat., 16: 503–516.
Painter, G. (1959), Proust. TheEarly Years. Boston: Little, Brown.
Painter, G. (1965), Proust. The Later Years. Boston: Little, Brown.
Palaci, J. (1975), Reflexions sur le transfert et la theorie du narcissisme de Heinz Kohut. In: Rev. Franc, de Psychoanal., 39: 279–294.
Pasche, E (1965), L'antinarcissism. In: Rev. Franc, de Psychoanal, 29:503–518.
Pfeffer, A. Z. (1961), Follow-up Study of a Satisfactory Analysis./ Amer. Psychoanal. Assn., 9: 698–718.
Pfeffer, A. Z. (1963), The Meaning of the Analyst After Analysis./ Amer. Psychoanal. Assn., 11: 229–244.
Pollock, G. H. (1964), On Symbiosis and Symbiotic Neurosis. Internat. J. Psycho-Anal.. 45: 1–30.
Pollock, G. H. (1971), Glückel von Hameln: Bertha Pappenheim's Idealized Ancestor. Amer. Imago, 28: 216–227.
Pollock, G. H. (1972), Bertha Pappenheim's Pathological Mourning: Possible Effects of Childhood Sibling Loss. /. Amer. Psychoanal. Assn., 20: 476–493.
Pontalis, J. B. (1975), Naissance et reconnaissance du self. In: Psychologie de la connaissance de Soi. Paris, Presses Universitaires de France, pp. 271–298.
Proust, M. (1913–1928), Remembrance of Things Past. New York: Random House, 1934.
Rangell, L., reporter (1955), Panel on: The Borderline Case./ Amer. Psychoanal. Assn., 3: 285–298.
Rank, O. (1929), The Trauma of Birth. New York: Harcourt Brace.
Reich, A. (1950), On the Termination of Analysis. In: Psychoanalytic Contributions. New York: International Universities Press, 1973, pp. 121–135.
Reich, A. (1960), Pathologic Forms of Self-Esteem Regulation. In: Psychoanalytic Contributions. New York: International Universities Press, 1973, pp. 288–311.
Robbins, W. S., reporter (1975), Panel on: Termination: Problems and Techniques./. Amer. Psychoanal. Assn., 23: 166–176.
Rosenfeld, H. (1964), On the Psychopathology of Narcissism. Internat. J. Psycho-Anal. 45: 332–337.
Rosolato, G. (1976), Le narcissisme. Nouvelle Revue de Psychoanalyse, 13: 7–36.
Sandier, J., Holder, A., Meers, D. (1963), The Ego Ideal and the Ideal Self. The Psychoanalytic Study of the Child, 18: 139–158. New York: International Universities Press.
Schafer, R. (1968), Aspects of Internalization. New York: International Universities Press.
Schafer, R. (1973a), Action; Its Place in Psychoanalytic Interpretation and Theory. The Annual of Psychoanalysis, 1: 159–196. New York: Quadrangle.
Schafer, R. (1973b), Concepts of Self and Identity and the Experience of Separation Tndividuation in Adolescence. Psychoanal. Quart., 42: 42–59.
Scharfenberg, J. (1973), Narzissmus, Identität und Religion. Psyche, 27: 949–966.
Schidt, J. vom (1976), Der falsche Wegzum Selbst. Munich: Kindler.
Schlessinger, N. Gedo, J. E. et al. (1967), The Scientific Style of Breuer and Freud in the Origins of Psychoanalysis. /. Amer. Psychoanal. Assn., 15: 404–422.
Schlessinger, N., Robbins, F. (1974), Assessment and Follow-up in Psychoanalysis./. Amer. Psychoanal. Assn., 22: 542–567.
Schur, M. (1966), The Id and the Regulatory Principles of Mental Functioning. New York: International Universities Press.
Schwartz, L. (1974), Narcissistic Personality Disorders — A Clinical Discussion./. Amer. Psychoanal. Assn., 22: 292–306.
Spruiell, V. (1974), Theories of the Treatment of Narcissistic Personalities./. Amer. Psychoanal. Assn., 22: 268–278.
Spruiell, V. (1975), Three Strands of Narcissism. Psychoanal. Quart., 44: 577–595. Stewart, W. (1963), An Inquiry into the Concept of Working Through. Amer. Psychoanal. Assn., 11: 474–999.
Stolorow, R. D. (1975), Addendum to a Partial Analysis of a Perversion Involving Bugs: An Illustration of the Narcissistic Function of Perverse Activity. Internat.. Psycho-Anal., 56: 361–364.
Stolorow, R. D. (1976), Psychoanalytic Reflections on Client-Centered Therapy in the Light of Modern Conceptions of Narcissism. Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 13: 26–29.
Stolorow, R. D., Atwood, G. E. (1976), An Ego-Psychological Analysis of the Work and Life of Otto Rank in the Light of Modern Conceptions of Narcissism. Internat. Rev. Psycho-Anal., 3: 441–459.
Stolorow, R. D., Grand, H. T. (1973), A Partial Analysis of a Perversion Involving Bugs. Internat.]. Psycho-Anal, 54: 349–350. Stone, L. (1961), The Psychoanalytic Situation. New York: International Universities Press.
Straus, E. W. (1952), The Upright Posture. Psychiat. Quart., 26: 529–561.
Terman, D. M. (1975), Aggression and Narcissistic Rage: A Clinical Elaboration. The Annual of Psychoanalysis, 3: 239–255. New York: International Universities Press.
Thomä, H., Kachele, H. (1973), Problems of Metascience and Methodology in Clinical Psychoanalytic Research. The Annual of Psychoanalysis, 3: 49–118. New York: International Universities Press, 1975.
Ticho, G. (1967), On Self Analysis. Internat.]. Psycho-Anal, 48: 308–318.
Tolpin, M. (1970), The Infantile Neurosis: A Metapsychological Concept and a Paradigmatic Case History. The Psychoanalytic Study of the Child, 25: 273–305. New Haven: Yale University Press.
Tolpin, M. (1971), On the Beginnings of a Cohesive Self. The Psychoanalytic Study of the Child, 26: 316–354. New Haven: Yale University Press.
Tolpin, M. (1974), The Daedalus Experience: A Developmental Vicissitude of the Grandiose Fantasy. The Annual of Psychoanalysis, 2: 213–228. New York: International Universities Press.
Tolpin, P. H. (1971), Some Psychic Determinants of Orgastic Dysfunction. Adol. Psych.. 1: 388–413.
Tolpin, P. H. (1974), On the Regulation of Anxiety: Its Relation to «The Timelessness of the Unconscious and its Capacity for Hallucination.» The Annual of Psychoanalysis, 2: 150–177. New York: International Universities Press.
Volkan, V. D. (1973), Transitional Fantasies in the Analysis of a Narcissistic Personality./ Amer. Psychoanal. Assn., 21: 351–376.
Waelder, R. (1936), The Principle of Multiple Function: Observations on Overdetermination. In: Psychoanalysis: Observation, Theory, and Application. New York: Internat. Univers. Press, 1976, pp. 68–83.
Wangh, M. (1964), National Socialism and the Genocide of the Jews: A Psychoanalytic Study of a Historical Event. Internal.]. Psycho-Anal., 45: 386–395.
Wangh, M. (1974), Concluding Remarks on Technique and Prognosis in the Treatment of Narcissism./. Amer. Psychoanal. Assn., 22: 307–309.
Weigert, E. (1952), Contribution to the Problem of Terminating Psychoanalysis. Psychoanal. Quart., 21: 465–480.
Whitman, R. M., Kaplan, S. M. (1968), Clinical, Cultural and Literary Elaborations of the Negative Ego-Ideal. Comprehens. Psychiat., 9: 358–371.
Winnicott, D. W. (1953), Transitional Objects and Transitional Phenomena. Internat. J. Psycho-Anal., 314: 89–97.
Winnicott, D. W. (1960a), Ego Distortion in Terms of True and False Self. In: The Maturational Processes and the Facilitating Environment. New York: International Universities Press, 1965, pp. 140–152.
Winnicott, D. W. (1960b), The Theory of the Parent-Infant Relationship. In: The Maturational Processes and the Facilitating Environment. New York: International Universities Press., 1965, pp. 37–55.
Winnicott, D. W. (1963), From Dependence Towards Independence in the Development of the Individual. In: The Maturational Processes and the Facilitating Environment. New York: Int. Univ. Press, 1965, pp. 83–92.
Wolf, E. S. (1971), Saxa Loquunter: Artistic Aspects of Freud's The Aetiology of Hysteria. The Psychoanalytic Study of the Child, 26: 535–554. New Haven: Yale University Press.
Wolf, E. S. (1976), Ambience and Abstinence. The Annual of Psychoanalysis, 4: 101–115. New York: International Universities Press.
Wolf, E. S., Gedo, J. E. (1975), The Last Introspective Psychologist Before Freud: Michel de Montaigne. The Annual of Psychoanalysis, 3: 297–310. New York: International Universities Press.
Wolf, E. S., GedoJ. E., Terman, D. M. (1972), On the Adolescent Process as a Transformation of the Self./ Youth, Adol. 1: 257–272.
Wolf, E. S., Trosman, H. (1974), Freud and Popper-Lynkeus./ Amer. Psychoanal. Assn., 22: 123–141.
Wurmser, L. (1974), Psychoanalytic Considerations of the Etiology of Compulsive Drug Use/ Amer. Psychoanal. Assn., 22: 820–843.
Wylie, A. W, Jr. (1974), Threads in the Fabric of a Narcissistic Disorder. / Amer. Psychoanal. Assn., 22: 310–328.
Zeigarnick, B. (1927), Über das Behalten von erledigten und unerledigten Handlungen. Psychol. Forsch., 9: 1–85.
Примечания
1
Когда я веду речь о психологии самости, не уточняя термина, я имею в виду психологию самости в широком смысле.
(обратно)2
Мистер М. проходил анализ у студентки под наблюдением автора (см. Kohut, 1971, р. 128–129).
(обратно)3
Ретроспективно, пожалуй, здесь следует упомянуть, что объяснение, которое было дано направленности пациента А. на своего отца (см. Kohut, 1971, р. 67), неточно. Основываясь на собственном опыте работы с несколькими аналогичными пациентами после завершения анализа мистера А., я бы теперь предположил, что интенсивная идеализация мистером А. своего отца (и, следовательно, сильнейшая травма из-за разочарования в нем) была обусловлена его предыдущим разочарованием в зеркально отражающем объекте самости, а не его разочарованием в более архаичном идеализированном объекте.
(обратно)4
Здесь я не могу удержаться от искушения поделиться с читателем выдержкой из письма коллеги, который несколько лет назад в благодарность за осознание некоторых сторон собственной личности, полученное при изучении моей книги, рассказал мне, что на развитие его личности решающим образом повлияла травма, полученная им в раннем детстве из-за внезапной потери идеализированного объекта самости — своего отца. Он писал, что вследствие этой потери он обратился к себе и — в результате переноса, развившегося ко мне при изучении моих работ, — к писательской деятельности. «Похоже на то, что объект самости (для меня) — это прежде всего письменное слово… [что] я развил некоторое умение находить в литературе нечто такое, что бы помогло мне в нужде… Таким образом, у меня появилась возможность обращаться за помощью к самым лучшим отцам в мире, благодаря их письменному слову…» Затем следует утверждение, описывающее шаг в развитии, аналогичный тому, что совершил мистер М.: «Моя старая тетя, — пишет он, — говорила, что я научился читать еще до детского сада… Я помню, что обычно они закрывали этикетки на бутылках с соусом, чтобы я не читал их за столом. По-видимому, врачи рекомендовали ограничить меня в столь рано обретенном стремлении читать. Книги были убраны, а потому я читал этикетки».
(обратно)5
Читатель, знакомый с моими идеями, увидит, что здесь я делаю различие между генетическим подходом и этиологическими рассуждениями (ср. Kohut, 1971, р. 254–255, сноска. См. также: Hartmann, Kris, 1945).
(обратно)6
Образование нейтрализующих микроструктур через переживание оптимальной фрустрации описано в работе Кохута и Зейтца (Kohut, Seitz, 1963, p. 137). Термины «макроструктура» и «микроструктура» использовались также в соответствующем контексте Гиллом для обозначения психических инстанций и закрепления следов памяти и идей (Gill, 1963, р. 8, 51, 135–136).
(обратно)7
В этой связи я бы упомянул позицию, занимаемую рядом исследователей научной методологии, согласно которой некоторые новаторские эксперименты в науке невозможно воспроизвести, что они являются иллюстрацией положения или недавно открытого принципа и что вопреки убеждению самого экспериментатора они не выявляют контролируемых эмпирических данных, на которых путем индуктивного рассуждения можно было построить теории. Такие эксперименты, на мой взгляд, также являются действием-мыслью, то есть формой отыгрываемых мыслей. Если это верно, то подобные эксперименты аналогичны действиям анализандов — таких, как действия мистера М., — которые являются иллюстрацией понимания, достигаемого ими в процессе анализа. Другими словами, эти эксперименты являются «постановками» — конкретизацией процессов новаторского мышления. Они разрабатываются в первую очередь не для содействия новым открытиям или для проверки гипотез. Я бы добавил, что в этом свете было бы интересно исследовать не только некоторые ключевые эксперименты в физических науках — как это было сделано в отношении экспериментов и наблюдений Ньютона (см. Коугё, 1968), — но и некоторые фундаментальные наблюдения в науках о поведении. Например, в этом контексте можно было бы плодотворно исследовать некоторые аспекты ранних клинических наблюдений Фрейда, в частности его заметки по поводу успехов в лечении, достигнутых им на основе его теоретических представлений о том, что он делал бессознательное сознательным. В свете нынешних знаний процессы переработки, активизированные и подкреплявшиеся в этих ранних анализах, были неадекватными, и ни один аналитик не мог бы сегодня повторить такое лечение теми средствами, которые, по описанию Фрейда, он в то время использовал. Фактическая причина исчезновения симптомов у пациентов заключалась, наверное, в том, что Фрейд, выявив важный принцип достижения успеха в психоаналитической терапии, оказывал влияние на пациентов своей глубокой убежденностью в правильности найденного им понимания. Именно давлением его личности, его харизматической уверенностью — внушением — и достигалось поведенческое изменение, которое он принимал за проявление структурного изменения, достигнутого посредством интерпретации. Таким образом, успехи в лечении в то время являлись прекрасно «поставленными» иллюстрациями верного принципа. Однако реальные успехи в лечении (поведенческие изменения, являвшиеся выражением структурных изменений) были достигнуты гораздо позже, когда в дополнение к тому, что был понят основной структурный принцип лечения, Фрейд осознал также важность экономического принципа (повторения, переработки). Выведение правильной теории психоаналитической терапии структурных неврозов (осознание бессознательного) из наблюдений ситуаций, которые не включали в себя процессы переработки, отчасти соответствует выведению правильной математической формулы, описывающей ускорение свободно падающих тел (ср. Коугё, 1968), из наблюдений, в которых не учитываются такие факторы, как форма падающего тела, сопротивление воздуха, высота над уровнем моря и географическая широта.
(обратно)8
Конкретный пример творческой активности анализанда под воздействием устранения нарциссического переноса можно найти в работе Мозера (Moser, 1974), в которой рассматриваются «компенсаторные структуры» анализанда. Мозер дал яркое описание переживаний анализанда до и после завершения его анализа. Я должен подчеркнуть, что не могу, основываясь на этом ненаучном, автобиографическом литературном документе, оценить аналитическую релевантность (то есть незащитный характер) данной конкретной попытки канализировать освободившуюся нарциссическую энергию в творческую деятельность. Но я наблюдал многих пациентов, которые на завершающей стадии анализа начинали всерьез заниматься творчеством. Оценка общего паттерна поведения анализандов — особенно их позиция спокойной уверенности — привела меня к выводу, что творческая активность таких пациентов (к этой группе принадлежит, по-видимому, и мистер М.) является не выражением защитного маневра с целью помешать завершению аналитического процесса, а скорее признаком того, что эти анализанды, по крайней мере предварительно, определили способ, которым их самость будет отныне пытаться обеспечивать свою целостность, поддерживать свой баланс и реализовываться.
(обратно)9
На первый взгляд это утверждение кажется самоочевидным; более того, эта сравнительная оценка двух шагов, несомненно, является верной в отношении подавляющего большинства людей. Однако остается открытым вопрос, можно ли то же самое сказать про людей, которые очень одарены музыкально и, кроме того, обучены искусному и разнообразному музыкальному выражению. Нельзя сомневаться в наличии высокоразвитых невербальных функций у музыкальных людей и в том важном вкладе, который может внести музыкальная деятельность в поддержание у них нарциссического равновесия (более подробное обсуждение этих проблем см.: Kohut, Levarie, 1950, p. 73–74; Kohut, 1957, p. 395–397, 399–403).
(обратно)10
Я думаю, что в рамках нашего исследования нам не так уж важно, была ли оценка мистером М. этих отношений между сыном и отцом действительно правильной или он идеализировал их в соответствии с потребностями процессов переработки, которыми он был поглощен в это время.
(обратно)11
В ходе исследования (еще не опубликованного) некоторых героических фигур-одиночек, сопротивлявшихся нацистскому режиму, и других людей, сталкивавшихся с чрезвычайно трудными и/или опасными задачами, я обнаружил, что у индивидов, которые, несомненно, не были психотиками, во время бодрствования возникали пророческие сны и даже галлюцинаторные переживания. Я пришел к выводу, что способность в чрезвычайных ситуациях создавать фантазию о поддержке со стороны богоподобного всемогущего существа следует расценивать как позитивный аспект здоровой психологической организации. (Ср. замечания о «переносе креативности»: Kohut, 1971, р. 316–317; см. также Miller, 1962.)
(обратно)12
При подготовке конечного варианта этой рукописи я случайно получил некоторую косвенную информацию, которая заставляет меня считать — хотя я не могу в этом удостовериться, — что даже мои сдержанные чувства по поводу успешного результата анализа мистера У., наверное, были слишком оптимистическими.
(обратно)13
Чтобы распознать серьезную (но при этом скрытую и отрицаемую) психопатологию у родителей, аналитик должен обращать внимание на самые незначительные симптомы. Например, наличие очень серьезного нарушения у матери другой пациентки, психологическая организация которой напоминала психологическую организацию мисс В., было выявлено в результате того, что аналитик обратил внимание на внешне несущественную особенность в поведении матери — особую манеру целовать, о чем пациентка упомянула лишь мимоходом. Однако реакция пациентки на эти поцелуи — «поцелуи, от которых мороз по коже», как она их назвала, — явилась первым признаком (отрицавшегося) понимания ею эмоциональной поверхностности ее матери. Эти поцелуи были проявлением псевдоэмоциональности матери, то есть (в структурных терминах) они не были выражением глубоких эмоций, а происходили из психической поверхности, не имевшей контакта с активной ядерной самостью. (Ср. теорию Фрейда неологизмов у шизофренических больных, 1915.) Исследование неадекватного поведения и, в частности, неуместных поступков, таких, как у матери мисс В., может иногда дать первый ключ к пониманию того, что внешне здоровый в психологическом отношении родитель пациента на самом деле имеет серьезное нарушение. Например, в случае мистера Д. (см. Kohut, 1971, р. 149, 257) первые ключи к пониманию серьезного нарушения личности его матери удалось получить в результате исследования воспоминаний пациента о двух ее особенностях, которые на первый взгляд выглядели вполне безобидными. Он рассказал о том, что его мать часто играла в бридж и делала замечания, которые у каждого вызывали смех. Исследование игры в бридж привело к пониманию того, что эмоционально мать была полностью отгорожена от семьи, включая пациента. Карты и в самом деле были стеной, за которую она спряталась. А исследование ее, так сказать, «остроумных» реплик привело к выводу, что мать мистера Д., скорее всего, страдала нарушением мыслительных функций. Однажды мистер Д. мимоходом упомянул, что мать, наблюдая за его игрой (в то время он еще учился в средней школе), выразила свое восхищение и изумление тем «совпадением», что игроки каждой команды почему-то оказались одетыми одинаково. В результате изучения смысла этой истории (надо добавить — вопреки сильному сопротивлению мистера Д.) впервые в процессе анализа возникло подозрение о наличии серьезного хронического нарушения личности у матери пациента.
(обратно)14
Без гнева и пристрастия (лат.). — Прим. пер.
(обратно)15
На поздних стадиях хронической зависимости может возникнуть впечатление о фиксации влечений и полном инфантилизме Эго, однако дезорганизация личности и органические изменения, возникшие к тому времени, не позволяют в точности определить генезис нарушения, в том числе природу психологических потребностей, которые пациент первоначально стремился удовлетворить.
(обратно)16
Относительно некоторых общих замечаний по поводу теории, в том числе по поводу признания относительности всех теоретических утверждений и допустимости комплементарных подходов.
(обратно)17
С наиболее резкой критикой теории конкретизации выступил Шефер, один из современных аналитиков (см. его обсуждение формирования психоаналитических понятий: Schafer, 1973b). В целом его аргументы были хорошо приняты, а его ценная работа должна оказать благотворное влияние, обращая внимание аналитиков на необходимость проводить различие между клинически наблюдаемыми фактами и абстракциями теории. Тем не менее я не считаю, что наша речь при общении должна быть из-за этого блеклой. Между использованием красочного, образного языка и конкретизирующего (например, антропоморфического) мышления имеется существенное различие. Я также считаю, что, каким бы логичным ни был ход мысли Шефера, он не учитывает потребность в постепенности изменения теории, чтобы «сохранить групповую самость» в психоанализе.
(обратно)18
С начала (лат.). — Прим. пер.
(обратно)19
Эти рассуждения, однако, не относятся к эдипову комплексу, который был активизирован в качестве защиты от первичного нарушения самости (см. Kohut, 1972, р. 369–372).
(обратно)20
Реальный страх (нем.). — Прим. пер.
(обратно)21
Страх совести (нем.). — Прим. пер.
(обратно)22
Более строгое определение диагностической категории пограничные случаи (латентные психозы) см. далее
(обратно)23
Горделивое или «хвастливое» поведение некоторых животных (показное поведение собаки перед своим хозяином — выпяченная грудь, поднятый хвост, — когда она хорошо выполнила команду; эксгибиционистское вставание на задние лапы у некоторых приматов) выражается посредством антигравитационных движений. Этот паттерн выражения аффекта согласуется с теорией, согласно которой фантазии и сновидения о полете являются выражением стремлений грандиозной самости человека, носителем и «подстрекателем» его честолюбия. Соотносятся ли здесь между собой психология и теория развития видов? Является ли «вертикальная поза» (см. E. W. Straus, 1952) — последнее новоприобретение в последовательности этапов развития — наиболее пригодной, чтобы стать символическим актом, выражающим чувство торжествующей гордости? В таком случае сновидения и фантазии о полете (разумеется, если это предположение верно) можно было рассматривать как индивидуальное выражение удовольствия от погони, заново переживаемое каждым новым поколением детей, ввиду того, что голова теперь поднята над землей, воспринимающий глаз — центральный орган самости — переместился вверх, преодолел силу притяжения.
(обратно)24
Пожалуй, следует подчеркнуть, что здесь речь не идет о порицании или вине, если аналитик сознает ограниченность своей эмпатии. Ошибки эмпатии неизбежны, более того, они даже необходимы, если жаждущий эмпатии анализанд в конечном счете должен сформировать прочную и независимую самость. Тем не менее крайне важно объяснить пациенту, что он тоже не должен обвинять (во всяком случае не должен проявлять некую ядерную злость), и что его гнев представлял собой реакцию на действия аналитика, которые он воспринял как нарциссическую травму.
(обратно)25
В искусственно созданных условиях, букв. — в стекле (лат.). — Прим. пер.
(обратно)26
Нет надобности говорить, что выводы о значении различных аспектов человеческого поведения должны также делаться на основе наблюдения за человеком в его естественной среде обитания, то есть на арене истории, в политической жизни, как члена семьи, в его профессиональной деятельности и т. д. Такие выводы должны помочь аналитику в его исследовательских задачах, когда он пытается выявить новые психологические конфигурации в процессе анализа и изучить их с помощью аналитических методов. Это положение сохраняет свою силу и в противоположном случае. Социологи, политологи и особенно историки должны знать результаты и выводы аналитика, применять, проверять и по мере необходимости изменять их, чтобы сделать их более надежными.
(обратно)27
Следует упомянуть, что «первопричина» у Фрейда находится в «биологической» области, но относится к психологической проблеме — неспособности пациента справиться с нарциссической травмой.
(обратно)28
В этой связи следует рассмотреть выводы французского педиатра Ф. Лебойе. Лебойе (Leboyer, 1975) утверждает (и доказывает свое положение с помощью снятого им фильма), что гневный крик новорожденного младенца не является неизменным феноменом. Агрессия у ребенка вначале отсутствует, если на него сразу отвечают эмпатией.
(обратно)29
См. в этой связи примечания по поводу родителей, которые, не проявляя эмпатии к потребностям рудиментарной самости ребенка утверждать себя с помощью гнева, неспособны сказать ребенку твердое «нет», которое гармонировало бы с потребностями развивающегося ребенка и вызывало бы у него здоровый гнев.
(обратно)30
Я не испытываю никаких колебаний, утверждая, что не бывает зрелой любви, в которой объект любви не является также объектом самости. Или, если поместить эту глубинно-психологическую формулировку в психосоциальный контекст: не бывает отношений любви без обоюдного (повышающего самооценку) зеркального отражения и идеализации.
(обратно)31
Я благодарен доктору Дугласу К. Левину за образную аналогию между формулировками современной физики и формулировками, приводимыми мною в данном контексте. Подобно тому, как расщепление атомного ядра, — утверждает доктор Левин, — сопровождается появлением огромного количества энергии, так и распад самости («ядерной» самости) ведет к появлению изолированного «влечения», например, к извержению нарциссического гнева. (Можно добавить, что наиболее сильные извержения изолированной деструктивности после нанесения травмы фрагментированной или почти уже разрушенной самости происходят при некоторых катастрофических реакциях [см. Kohut, 1972, p. 383] или при кататонической шизофрении.)
(обратно)32
В соответствии с моим заявлением, что область, которую может исследовать глубинная психология, требует двух комплементарных объяснительных подходов, я обрисовываю здесь психологию Виновного Человека безотносительно к роли самости. (См., однако, мой аргумент с позиции психологии самости в узком смысле, то есть понимания самости как содержания психического аппарата.)
(обратно)33
Тем не менее поражение и смерть Трагического Человека необязательно свидетельствуют о неудаче. И он не стремится при этом к смерти. Напротив, смерть и успех могут даже совпадать. Я говорю здесь (в отличие от Фрейда [Freud, 1920]) не о наличии укоренившейся активной мазохистской силы, которая влечет человека к смерти, то есть к его окончательному поражению, а о триумфальной смерти героя — другими словами, о победоносной смерти, которая накладывает печать постоянства на конечное свершение Трагического Человека (преследуемого реформатора в реальной жизни, распятого святого в религии и умирающего героя на сцене), на осуществление благодаря своим действиям плана собственной жизни, сложившегося в его ядерной самости. В своем описании Трагического Человека я стремлюсь выразить базисный паттерн его самости, хотя он также относится к функции, находящейся по ту сторону принципа удовольствия, и, следовательно, коренным образом отличается от психобиологических формулировок Фрейда (1920) о существовании базисного стремления — влечения к смерти, танатосу, — имеющего своей целью деструктивную агрессию и смерть.
(обратно)34
Авторитетно (лат.). — Прим. пер.
(обратно)35
То, что за стадией «понимания» должна следовать стадия «объяснения», в данном контексте не имеет значения.
(обратно)36
См. два простых, но важных взаимосвязанных утверждения Фрейда: его замечание о незаменимой роли эмпатии в психологии (Freud 1921, р. 110, прим. 2) и его комментарии по поводу процедур, ведущих к научным решениям в области психоанализа (E. Freud, 1960, р. 396).
(обратно)37
В будущем, возможно, появится количественный подход, в котором возрастающая убежденность эмпатического исследователя будет подкрепляться с помощью количественных методов, определяющих количество данных или количество деталей, формирующих значимые конфигурации, рассматриваемые с конкретных позиций.
(обратно)38
Излагаемые здесь соображения возникли не только в результате анализа детей психоаналитиков, но и в результате анализа детей других знакомых с психоанализом родителей, например детей психологов, социальных работников, психиатров и др.
(обратно)39
Искаженная эмпатия этих родителей по отношению к своим детям отчасти напоминает правильное, но подвергшееся искажению восприятие паранойяльным больным враждебных импульсов у других людей (ср. Freud, 1922, р. 223–232). В обоих случаях человек «за деревьями не видит леса». В другой работе (Kohut, 1971, р. 121) я отмечал аналогичное искажение эмпатии у аналитика, который направляет свои интерпретации на отдельный психический механизм — например, на защиту или какие-то другие детали невроза анализанда, — тогда как пациент нуждается во всесторонней реакции на всю его личность в связи с некоторыми важными событиями в его жизни, такими, как новые достижения.
(обратно)40
С этим пациентом работал мой опытный коллега, который в течение первых трех лет часто (раз в неделю) и регулярно консультировался у меня, и затем продолжал консультироваться, хотя и менее часто, в течение последующих четырех лет вплоть до завершения анализа.
(обратно)41
Эрнест Вульф («Разъединенная самость», 1976) рассматривает такие ситуации как «функциональное отсутствие объекта самости».
(обратно)42
Хотя одна из первых жалоб, с которыми мистер В. приступил к повторному анализу, касалась его восприятия жизни как однообразной, его поначалу постоянное беспокойство в значительной степени редуцировалось, как только произошел новый перенос.
(обратно)43
Многочисленные наблюдения убедили меня в том, что страх навсегда утратить связность самости является главной причиной многих случаев серьезного нарушения способности засыпать.
(обратно)44
См. в этом контексте интерпретацию «игры в маленького поросенка» (Kohut, 1971, р. 118–119).
(обратно)45
Обсуждение психологии травматического состояния см.: Kohut, 1971, р. 229–238, в частности интерпретацию травматического состояния Гамлета, в том числе его склонности к употреблению саркастических каламбуров (р. 235–237).
(обратно)46
Я мог бы сказать некоторым дружелюбным критикам, что подобно тому, как я до этого отказался от использования для дифференциации фрейдовских терминов «нарциссическое либидо» и «объектное либидо» (см., например, Freud, 1923b, p. 257, а также Kohut, 1971, p. 39 etc.), которых я одно время придерживался, и от использования термина «нарциссический перенос» (вместо термина «самостно-объектный перенос», который я ввел теперь), я вынужден отказаться от таких слов, как «эксгибиционизм» и «вуайеризм», чтобы избежать путаницы, возникающей при употреблении традиционных психоаналитических терминов в рамках психологии самости. Однако, на мой взгляд, существует несколько важных причин для сохранения классической терминологии. Во-первых, я считаю, что мы должны стремиться обеспечить континуальность психоанализа и поэтому всегда, когда есть такая возможность, должны сохранять общепринятые термины, даже если их значение будет постепенно меняться. Во-вторых, непосредственная конфронтация между новым и старым значением общепринятых терминов позволяет нам — более того, заставляет нас — быть открытыми к новым определениям и формулировкам, которые, как мы считаем, необходимо ввести. В-третьих, и это самое главное, между классическими представлениями, из которых проистекают старые термины, и представлениями, с которыми мы имеем дело теперь, действительно существуют тесные связи.
(обратно)47
Традиционный метод, с помощью которого психоаналитик делает свои выводы о детстве своего пациента и о психологии детства в целом, опирается на гипотезу Фрейда о том, что клинические переносы являются основой для воспроизведения детских переживаний. Другими словами, классические генетические реконструкции касаются содержания переживаний психической жизни ребенка. И наоборот, метод, к которому я обращаюсь в данном контексте, фокусируется не на содержании переживаний, а на способах, которыми формируется определенная психологическая структура, самость. При анализе пациентов, страдающих нарциссическими нарушениями личности, мы наблюдаем реактивацию (в форме переносов объекта самости) структурообразующих попыток, которые не были реализованы в детстве. Поэтому наши выводы о конкретных способах формирования структуры посредством преобразующей интернализации в детстве основываются на гипотезе, согласно которой переносы объекта самости во время анализа являются, по существу, новой редакцией отношений между самостью и объектами самости в детском возрасте.
(обратно)48
Нельзя недооценивать возможность того, что незатронутый слой, продолжающий существовать вне связной структуры активной и продуктивной самости, может служить стимулом для самости оставаться непреклонной в своих действиях. Я не могу подкрепить это утверждение детальными клиническими исследованиями, но то, что креативность часто имеет качество компульсивности и непроизвольности, а также то, что при ее отсутствии возможно возникновение депрессии, может быть приведено в поддержку такой гипотезы.
(обратно)49
Биологический постулат Фрейда об имманентно присущей человеку бисексуальности можно перефразировать в психологических терминах, если рассмотреть его с точки зрения биполярной самости, возникающей из объектов самости мужского и женского пола.
(обратно)50
Воздействие потери объекта самости на самость Пруста можно особенно убедительно продемонстрировать на отношении рассказчика к Альбертине: рассказчик не любит ее, он нуждается в ней, он держится за нее как пленник (даже книга, в которой рассказывается об Альбертине, называется «La Prisonniere» — «Пленница»), и он формирует ее, обучая, по своему подобию. Когда она его оставляет (как это описано в книге «Albertine Disparue»), он не горюет о ней, как горевал бы человек по объекту любви, а прорабатывает продолжительное изменение в своей самости. Его самость разбивается на несколько фрагментов (см., например, vol. II, р. 683–684) и он сливается с другими (см. р. 767). В данном контексте см. также сходные переживания мистера Э.: Kohut, 1971, р. 136). Хотя он кажется полностью озабоченным тем, чтобы вернуть Альбертину, в действительности он пытается восстановить свою самость.
(обратно)51
Пожалуй, стоит сравнить эту ситуацию с аналогичной ситуацией в случае структурного невроза. Здесь мы иногда говорим, что в данном конкретном случае лучше всего не пытаться стимулировать дальнейшую реактивацию при переносе оставшихся неизменными архаичных влечений-желаний — реактивацию, которая может привести к опасному отыгрыванию или к другим состояниям слабости Эго, — если в ходе анализа был достигнут момент, когда защиты пациента, по всей видимости, надежно работают и была приобретена достаточная автономия Эго в бесконфликтных областях. Хотя наше решение завершить анализ в некоторых таких случаях полностью оправдано реалистической установкой «не трогать спящую собаку» (Freud, 1937), мы тем не менее должны будем признать, что в принципе анализ был неполным.
(обратно)52
То, что историография служит потребностям «групповой самости» (Kohut, 1976), должно быть тщательно проанализировано историком. Он сможет бороться с тенденциями искажения, являющимися побочным продуктом его профессии, если будет четко понимать, что они служат укреплению патологическими средствами патологической групповой самости — патологических нарушений у группы чувства собственной ценности, — подобно тому, как это происходит при аналогичных нарушениях у индивида. В обоих случаях для восстановления здоровой самооценки необходима реактивация здоровой грандиозной самости и здорового идеализированного объекта, другими словами, восстановления структур, которые не были интегрированы в самость зрелой организации.
(обратно)53
Выражение «потребность ребенка в зеркальном отражении и нахождении объекта для своей идеализации» имеет категорический оттенок, который мне бы хотелось убрать. В потребности ребенка не входят ни постоянные, совершенные эмпатические ответы со стороны объекта самости, ни нереалистичное восхищение. Матрицу для развития здоровой самости ребенка создает способность объекта самости отвечать точным зеркальным отражением, по крайней мере время от времени; патогенным является не случайная несостоятельность объекта самости, а его или ее хроническая неспособность отвечать адекватно, которая в свою очередь обусловлена его или ее собственный психопатологией в сфере самости. Как я неоднократно отмечал, оптимальная фрустрация нарциссических потребностей ребенка благодаря преобразующей интернализации ведет к консолидации самости и обеспечивает уверенность в себе и базальное чувство собственной ценности, которые поддерживают человека на протяжении всей его жизни. Эндопсихические нарциссические ресурсы обычного взрослого человека остаются, однако, неполными. Явные исключения — некоторые случаи непоколебимой внутренней уверенности в силе самости и праведности ее ценностей — могут свидетельствовать об определенных формах серьезной психопатологии. Здоровый в психологическом отношении взрослый сохраняет потребность в зеркальном отражении самости объектами самости (точнее говоря, объектами его любви), и он сохраняет потребность в объектах для идеализации. Поэтому из того факта, что другой человек используется в качестве объекта самости, нельзя делать вывод о незрелости или о психопатологии — отношения с объектом самости существуют на всех уровнях развития как в случае психологического здоровья, так и в случае психологической болезни. То, что различие между здоровьем и болезнью является здесь относительным, иллюстрируется нашей реакцией на человека, находящегося в депрессии: его неспособность реагировать на нас — наша неспособность заразить его хотя бы частицей радости в ответ на наше присутствие и наши попытки ему помочь — неизбежно приводит к снижению самооценки у нас самих, и, переживая нарциссическую травму, мы реагируем на это депрессией и/или гневом.
(обратно)54
Патогенное нарушение личности у объекта самости не всегда легко выявить. Например, в случае мистера У., мать, по всей видимости, была полностью настроена в унисон с потребностями своего сына, когда тот был маленьким, но из-за серьезного дефекта ее собственной самооценки она была неспособна проявить эмпатическую терпимость к самоутверждению своего ребенка (включая потребность растущего ребенка в одобрительных ответах на его возрастающую способность выдерживать фрустрацию), в чем он нуждался в старшем возрасте.
(обратно)55
Синдром донжуана, несомненно, может быть обусловлен самыми разными психологическими потребностями. Я говорю здесь только о тех пациентах, у которых, как в случае мистера М. и мистера И., он представляет собой попытку снабдить ненадежно сформированную самость непрерывным подкреплением самооценки.
(обратно)56
Использование сравнения с голодным человеком не должно, разумеется, вводить нас — или пациента — в заблуждение, заставив предположить, будто оральное желание как раз и стоит за половым. Именно структурная пустота в самости и побуждает человека, страдающего аддикцией, заполнять ее — будь то сексуальная активность или оральный прием пищи. Но структурная пустота не может быть заполнена ни оральным приемом пищи, ни другими формами аддиктивного поведения. Именно недостаточности самооценки из-за отсутствия зеркальных ответов на самость, неуверенности в самом существовании самости, внушающему страх ощущению фрагментации самости и пытается противодействовать такой человек своим аддиктивным поведением. Речь не идет об удовольствии от аддиктивной еды и аддиктивного питья — возбуждение эрогенных зон не приносит удовлетворения. Подведем итог: проблемы самости нельзя адекватно сформулировать в терминах психологии влечений.
(обратно)57
Этот пациент проходил анализ у моей молодой коллеги, которая вскоре после окончания института, к концу третьего года анализа, консультировалась у меня. Главным поводом для консультации было желание получить из первых рук информацию о моих теоретических представлениях. Кроме того, как мне кажется, она хотела получить совет, чтобы интенсифицировать медленно продвигавшийся анализ. Моя информация об этом случае основана на этих деловых встречах и нескольких последующих кратких беседах, а также на письменном отчете, в котором изложен процесс анализа данного пациента.
(обратно)58
Хотя мистер X. не раскрыл перед экспертами Корпуса мира своей извращенной озабоченности, они, возможно, ее заподозрили. Во всяком случае они отказали ему в его просьбе и посоветовали поискать психотерапевта.
(обратно)59
Атмосфера семейных отношений, изображенная здесь в виде фрагментов из Библии, соответствует семейной констелляции, в которой мать обесценивает своего мужа, возвеличивает сына, пока тот остается привязанным к ней, но бессознательно испытывает благоговейный трепет перед отцом. Когда родители упрекают Его за то, что Он покинул дом, Иисус отвечает: «Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?», подразумевая под храмом дом Бога-Отца. (В терминах глубинной психологии можно сказать: Он указывает здесь на бессознательный образ Своего деда по линии матери.)
(обратно)60
Прежде, хотя психология самости в широком смысле слова имплицитно присутствовала во всех моих работах о нарциссизме, я определял самость исключительно в рамках того, что я теперь называю психологией самости в узком смысле, то есть в рамках психологии, в которой самость является содержанием психического аппарата. Новое понимание психологии самости в широком смысле слова, то есть психологии, в которой центральное место занимает теоретическая конструкция «самость», впервые последовательно разъясняется в данной работе.
(обратно)61
На основе имеющегося в нашем распоряжении материала невозможно установить, относилась ли предсознательная фантазия о том, что сын являл собой ее фаллос, к мотивам матери. Если это так, то я бы предположил, что такая фантазия была лишь верхушкой огромного, большей частью погруженного в воду айсберга причинных психологических констелляций. Основываясь на собственном клиническом опыте, я могу заключить, что в таких случаях материнская потребность обусловлена не желанием иметь пенис, а потребностью исправить серьезный дефект самости — подтверждением этому является то, что встречающееся иногда избавление сына или дочери (в юности, в молодом взрослом возрасте или даже позднее) от давнего и, казалось бы, нерушимого слияния с одним из родителей часто сопровождается развитием серьезной патологии самости (психотической депрессией, паранойей) у родителя. (Ср. эти формулировки, касающиеся запутанных отношений между родителем и ребенком, которые возникают вследствие структурных дефектов самости родителя, с аналогичными замечаниями Айххорна [Aichhorn, p. 237 etc.] по поводу запутанных отношений, возникающих вследствие нерешенных структурных конфликтов у родителей.) С этих позиций можно также объяснить природу глубочайшего страха ребенка, слившегося с родителями, перед возможностью разрушения связей с ними. Речь идет не о страхе потери любви или потери объекта любви, а о страхе долговременной дезинтеграции самости (психоза) из-за потери интенсивных, архаичных, запутанных отношений с объектом самости.
(обратно)62
Говоря о второй стадии анализа, об «устранении» вертикального барьера и смещении внимания пациента с одного сектора психики к другому, я, разумеется, имею в виду не реальную последовательность событий, а схему их развертывания. На самом деле фокус аналитической работы время от времени — сначала часто, затем все реже — будет возвращаться к вертикальному барьеру даже после того, как наступила «вторая стадия».
(обратно)63
Усилившаяся половая активность и особенно так называемая сексуализация переноса, которая иногда встречается на ранних стадиях анализа нарциссических нарушений личности, как правило, представляют собой проявления усилившейся потребности пациентов восполнить структурный дефект. Эти проявления следует понимать не как прорыв влечений, а как выражение надежды пациентов, что объект самости снабдит их теперь необходимой психологической структурой.
(обратно)64
Что касается намека на перенос (кто-то стоит позади и смотрит), который не важен в данном контексте, я только скажу, что неясный образ аналитика является точкой пересечения двух линий ассоциаций — первой, ведущей к потребности в конструктивном присутствии отца как объекта самости, и второй, ведущей к страху деструктивного присутствия матери как объекта самости.
(обратно)65
Недавно Эдельгейт (Edelheit, 1976) применил понятие комплементарности к «отношениям между психологическим описанием и нейрофизиологическим».
(обратно)66
Вновь (лат.). — Прим. пер.
(обратно)67
Я думаю, что исследование нарциссических нарушений у сыновей великих людей могло бы принести больше пользы с позиции креативного нарциссизма отцов (ср. Hitschmann, 1932, р. 151), чем с традиционной позиции соперничества и неудачи. Почему столь многим из них жилось плохо? И почему некоторые из них избежали такой участи?
(обратно)68
Символическое изображение родительских фигур, которые не могут воспринимать себя участниками имеющей ясную цель скоротечной жизни, содержится в мифах, описывающих неспособность умереть (истории Летучего Голландца и Вечного Жида).
(обратно)69
Я не усложняю здесь проблему, принимая во внимание позицию культурологов, что эдипов комплекс классического психоанализа присущ только некоторым социальным организациям.
(обратно)70
Схема в работе Кохута и Зайтца (Kohut, Seitz, 1963, p. 136) иллюстрирует, что эти глубокие слои в психике аналитика не вытесняются и не изолируются каким-либо другим способом от психической поверхности вследствие горизонтального расщепления; она также демонстрирует взаимосвязь между глубиной и поверхностью.
(обратно)71
Очень часто аналитики бывают чувствительными ко всему, что сопряжено со сложным вопросом о том, в чем состоит правильная терапевтическая установка в аналитической ситуации. Я думаю, что наша чувствительность не столь велика из-за защит, связанных с выявлением скрытых контрпереносов, и скорее является следствием нашей тенденции нарциссически оценивать свою терапевтическую деятельность, свой индивидуальный стиль, достигнутое мастерство, — словом, что здесь проявляются дериваты представлений о всемогуществе и всеведении. Во всяком случае, я бы сказал, что реакцией на сомнения в наших высоко ценимых терапевтических умениях и в теории, на которую опираются наши методы, является уязвленная гордость. Те же, кто подвергает сомнению традиционную установку безмолвной отзывчивости и эмоциональной сдержанности, вскоре услышат, что они выступают за «дикий анализ» и «корректирующий эмоциональный опыт» — и вместе с тем, что они «стреляют из пушки по воробьям».
(обратно)72
Дифференциация двух разных типов недостатка эмпатии со стороны объектов самости ребенка — один в результате гиперстимуляции объектами самости ведет к структурному неврозу, другой вследствие эмоциональной дистанции объектов самости ведет к нарушениям самости — будет обсуждаться в заключительной главе данной книги. Я отмечу здесь только то, что под «гиперстимуляцией» я не имею в виду открытое сексуальное совращение, о котором якобы помнили истерические больные Фрейда, — воспоминания, которые Фрейд разоблачил как проявления желаний-фантазий ребенка. Проявления неэмпатического совращения взрослыми детей, о которых я говорю, являются тонкими, и их не так просто вспомнить или реконструировать в процессе анализа. Тем не менее я считаю, что они оказывают значительное влияние, поскольку являются следствием определенного типа взрослой психопатологии. Поэтому я полагаю, что раскрытые Фрейдом детские фантазии, стоящие за воспоминаниями о совращении, не являются универсальными спонтанно возникающими психическими образованиями, а выражают искаженную жизнь фантазий гиперстимулированных детей.
(обратно)73
Я думаю, что с таким результатом — своего рода накликанной бедой — особенно часто сталкиваются аналитики, терапевтическая позиция которых прямо или косвенно испытывает на себе влияние теоретических постулатов Мелани Кляйн.
(обратно)74
Я бы хотел здесь сделать следующие комментарии по поводу психосоциального экскурса, который решил совершить. Во-первых, указывая на изменения преобладающей психологической задачи человека, я оставляю в стороне историческую стадию — ее можно назвать допсихологической стадией, — когда энергия человека чуть ли не полностью была направлена на то, чтобы справиться с внешними опасностями ради его выживания. И, во вторых, я ограничиваю мои рассуждения популяциями достаточно устойчивых, более или менее высокоразвитых в промышленном отношении демократических обществ западного мира. Ко второму моему комментарию я бы, однако, добавил, что, по моему впечатлению, вскоре — если рассматривать в широкой исторической перспективе — психологические проблемы, которые можно сейчас ощутить только в нашем западном демократическом обществе, будут ощущаться людьми, живущими при тоталитарном режиме и в неразвитых странах, социальная организация которых отлична от нашей.
(обратно)75
По поводу того, что дети, лишенные идеализируемых родителей, идеализируют своих ровесников, см. работу Бронфенбреннера (Bronfenbrenner, 1970, р. 101–109).
(обратно)76
Это представление наиболее четко выразил Аугуст Айххорн в письме, адресованном Р. С. Айсслеру (Eissler, 1949, р. 292). «Внутрисемейное равновесие, — писал он, — поддерживается за счет ребенка, который, не выдерживая этой ноши… становится делинквентным или невротиком». В результате психотерапевтического лечения, — пишет далее Айххорн, — ребенок теперь «защищается от либидинозной перегрузки, а член семьи, который неправильно с ним обращался и использовал для собственных нужд, становится в итоге невротиком». Эти потребности скрыто гиперстимулирующего невротического родителя и открытое проявление у него невроза, когда ребенок «защищается», можно сравнить с потребностями родителей со скрытым нарушением самости (о чем уже говорилось выше), которые вызывали слияние с ребенком и у которых в конечном счете проявлялась серьезная патология самости, когда это слияние разрушалось (р. 208–209).
(обратно)77
Пожалуй, уже слишком поздно теперь предпринимать систематическое исследование влияния прислуги на формирование личности у детей во времена Фрейда, то есть на рубеже столетий. Моя гипотеза, что наличие прислуги могло отягощать «эмоциональную ношу» гиперстимулированного ребенка, но вместе с тем противодействовало влиянию нарциссической депривации, подтверждается тем, что по крайней мере в среднем классе жителей Вены прислуга, состоявшая тогда в основном из молодых, незамужних здоровых девушек родом из сельской местности, не имевших родственников и друзей в большом городе, глубоко вовлекалась в жизнь семей, в которых она работала. И то, что дети становились эмоциональными мишенями этих подвергавшихся эмоциональной депривации молодых женщин, с одной стороны, увеличивало вероятность эмоциональной перегрузки детей, но, с другой стороны, противодействовало недостаточной стимуляции и эмоциональной изоляции детей, родители которых страдали нарциссическими нарушениями личности. Хотя в настоящее время в Европе и Северной Америке роль прислуги с точки зрения эмоциональных переживаний ребенка изменилась, в мире есть регионы, например, некоторые южноамериканские страны, где ситуация сходна с ситуацией в Вене в начале века, что делает возможным социально-психологическое исследование данной проблемы.
(обратно)78
Переход от преобладания одной формы психопатологии (структурных неврозов) к другой (патологии самости), как я отмечал выше, является постепенным, и у нас нет надежного способа количественной оценки произошедших уже изменений. Использование анкет, где бы аналитикам был задан вопрос о проценте случаев анализа пациентов с патологией самости и с патологией, вызванной структурным конфликтом, в настоящее время не принесло бы нам удовлетворительных результатов. Те аналитики, которые по разным причинам отвергают диагностические категории нарциссических нарушений личности и других нарушений самости и которые продолжают считать, что вся поддающаяся анализу психопатология в конечном счете обусловлена конфликтами из-за объектно-инстинктивных желаний эдипова периода, сообщили бы, что не встречались с какими-либо болезнями самости. С другой стороны, те, кто лишь совсем недавно познакомился с психологией самости и проникся ее идеями, возможно, будут переоценивать распространенность психопатологии самости. И даже если они объективны в своих суждениях или стали более объективными, действительно интегрировав свои новые представления, и даже если они признают существование обеих форм поддающихся анализу психологических заболеваний, вполне может быть, что их внимание привлекали к себе в основном пациенты, страдавшие патологией самости.
(обратно)79
Я имею в виду тех людей, самость которых подвержена колебаниям между (1) серьезной и длительной фрагментацией или ослаблением и (2) надежной связностью и прочностью на протяжении длительных (креативных) периодов в их жизни.
(обратно)80
Я знаю, что любому психотерапевту, который верно или ошибочно убежден, что может предложить нечто новое своим пациентам, угрожает опасность своим энтузиазмом оказывать суггестивное воздействие на больного (см. мои замечания по поводу ранних успехов Фрейда). Но я думаю, что понимание мною этой опасности защитило моих пациентов от чрезмерного влияния моих убеждений. Я считаю так потому, что позитивные изменения в состоянии пациента всегда достигались в результате кропотливой, упорной работы, и хотя они были очевидны и оказывали благотворное воздействие на жизнь пациента, тем не менее они всегда были неполными.
(обратно)81
Возможно, что Артур Гелб и Барбара Гелб, биографы О'Нила (Gelb, Gelb, 1962), поняли значение слов Брауна, поскольку они использовали их как эпиграф в своем всестороннем исследовании.
(обратно)82
Достоевский, на мой взгляд, занимает своеобразную промежуточную позицию, которую точно определить гораздо труднее. Его сочинения соприкасаются со структурным конфликтом — с эдиповым комплексом и чувством вины. С проблемами сталкивается слабая, распадающаяся, недостаточно связная самость. Изучение некоторых сочинений Достоевского, таких, например, как «Идиот» или «Двойник», помогает нам понять встречающихся иногда анализандов, к которым нельзя подходить как к людям, страдающим главным образом от структурного невроза или патологии самости, но которые требуют эмпатического понимания одновременно присутствующих двух форм нарушения.
(обратно)83
Может показаться нелепостью одним и богохульством — другим, когда, утверждая, что великий художник может говорить с современниками с убедительной силой, с какой он едва ли будет когда-либо говорить с последующими поколениями, я имею в виду, например, что современный читатель будет воспринимать описание Прустом робкого приветствия бароном де Шарлю маркизы де Сент-Эверт (Vol. II, р. 986 и далее) как изображение трагического крушения самости в пожилом возрасте, которое волнует сильнее, чем изображение, содержащееся в непревзойденных вершинах литературы, в «Короле Лире» Шекспира и в «Царе Эдипе» Софокла, на которые ссылается Пруст.
(обратно)84
Тот факт, что не только «Pieta Rondanini», но и многие другие великие скульптуры последнего периода творчества Микеланджело остались незавершенными («Рабы» в Академии, Pieta в Сайта Мария дель Фьоре и др.) и что сама незавершенность этих статуй глубоко волнует современного зрителя (но, наверное, не затрагивала современников Микеланджело) подводит меня к мысли о том, что пожилой художник таким образом выражал свое переживание усиливающейся фрагментации самости. Фрейд (Freud, 1914b, p. 213) особенно глубоко эмоционально воспринимал статую Моисея — законченное изображение сильной, связной самости.
(обратно)85
Опера, песни и так называемая «музыка в театре» являются музыкальными формами, которые в данном контексте необходимо отделять от «чистой» музыки. Первые имеют вербализируемое содержание и, таким образом, могут пониматься и доставлять наслаждение немузыкальным, в сущности, способом немузыкальному слушателю; вторая форма такого вербализируемого содержания не имеет и поэтому предполагает у слушателя способность соприкасаться с сильными невербальными переживаниями (см. Kohut, Levarie, 1950, p. 72–75; Kohut, 1957, p. 392).
(обратно)86
Исток и начало (лат.). — Прим. пер.
(обратно)87
«Die Tat» у Гёте в строчке «Am Anfang war die Tat» можно перевести либо как «дело», либо как «деяние» — двумя близкими, но не синонимичными понятиями. Хотя то и другое понятие противопоставляются «слову» и «мысли», «деяние» составляет более резкий контраст «мысли», и поэтому я предпочитаю его.
(обратно)88
Моя точка зрения согласуется со следующими утверждениями Фрейда и Ференци. Несмотря на то, что эти положения являются не более чем obiter dicta [заметками вскользь (лат.)], они имеют большое значение и заслуживают пристального внимания.
(обратно)

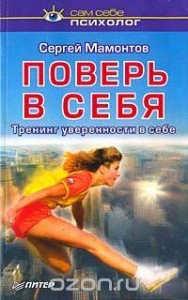






Комментарии к книге «Восстановление самости», Хайнц Кохут
Всего 0 комментариев