Общая психология
© Издательство «ФЛИНТА», 2015
Раздел 1. Введение в общую психологию
Ю. Б. Гиппенрейтер. Общее представление о психологии как науке[1]
В системе наук психологии должно быть отведено совершенно особое место, и вот по каким причинам.
Во-первых, это наука о самом сложном, что пока известно человечеству. Ведь психика – это «свойство высокоорганизованной материи». Если же иметь в виду психику человека, то к словам «высокоорганизованная материя» нужно прибавить слово «самая»: ведь мозг человека – это самая высокоорганизованная материя, известная нам.
Знаменательно, что с той же мысли начинает свой трактат «О душе» выдающийся древнегреческий философ Аристотель. Он считает, что среди прочих знаний исследованию о душе следует отвести одно из первых мест, так как «оно – знание о наиболее возвышенном и удивительном».
Во-вторых, психология находится в особом положении потому, что в ней как бы сливаются объект и субъект познания.
Чтобы пояснить это, воспользуюсь одним сравнением. Вот рождается на свет человек. Сначала, пребывая в младенческом возрасте, он не осознает и не помнит себя. Однако развитие его идет быстрыми темпами. Формируются его физические и психические способности; он учится ходить, видеть, понимать, говорить. С помощью этих способностей он познает мир; начинает действовать в нем; расширяется круг его общения. И вот постепенно, из глубины детства, приходит к нему и постепенно нарастает совершенно особое ощущение – ощущение собственного «Я». Где-то в подростковом возрасте оно начинает приобретать осознанные формы. Появляются вопросы: «Кто я? Какой я?», а позже и «Зачем я?». Те психические способности и функции, которые до сих пор служили ребенку средством для освоения внешнего мира – физического и социального, обращаются на познание самого себя; они сами становятся предметом осмысления и осознания.
Точно такой же процесс можно проследить в масштабе всего человечества. В первобытном обществе основные силы людей уходили на борьбу за существование, на освоение внешнего мира. Люди добывали огонь, охотились на диких животных, воевали с соседними племенами, получали первые знания о природе.
Человечество того периода, подобно младенцу, не помнит себя. Постепенно росли силы и возможности человечества. Благодаря своим психическим способностям люди создали материальную и духовную культуру; появились письменность, искусства, науки. И вот наступил момент, когда человек задал себе вопросы: что это за силы, которые дают ему возможность творить, исследовать и подчинять себе мир, какова природа его разума, каким законам подчиняется его внутренняя, душевная, жизнь?
Этот момент и был рождением самосознания человечества, т. е. рождением психологического знания.
Событие, которое когда-то произошло, можно коротко выразить так: если раньше мысль человека направлялась на внешний мир, то теперь она обратилась на саму себя. Человек отважился на то, чтобы с помощью мышления начать исследовать само мышление.
Итак, задачи психологии несоизмеримо сложнее задач любой другой науки, ибо только в ней мысль совершает поворот на себя. Только в ней научное сознание человека становится его научным самосознанием.
Наконец, в-третьих, особенность психологии заключается в ее уникальных практических следствиях.
Практические результаты от развития психологии должны стать не только несоизмеримо значительнее результатов любой другой науки, но и качественно другими. Ведь познать нечто – значит овладеть этим «нечто», научиться им управлять.
Научиться управлять своими психическими процессами, функциями, способностями – задача, конечно, более грандиозная, чем, например, освоение космоса. При этом надо особенно подчеркнуть, что, познавая себя, человек будет себя изменять.
Психология уже сейчас накопила много фактов, показывающих, как новое знание человека о себе делает его другим: меняет его отношения, цели, его состояния и переживания. Если же снова перейти к масштабу всего человечества, то можно сказать, что психология – это наука не только познающая, но и конструирующая, созидающая человека.
И хотя это мнение не является сейчас общепринятым, в последнее время все громче звучат голоса, призывающие осмыслить эту особенность психологии, которая делает ее наукой особого типа.
В заключение надо сказать, что психология – очень молодая наука. Это более или менее понятно: можно сказать, что, как и у вышеупомянутого подростка, должен был пройти период становления духовных сил человечества, чтобы они стали предметом научной рефлексии.
Официальное оформление научная психология получила немногим более 100 лет назад, а именно, в 1879 г.: в этом году немецкий психолог В. Вундт открыл в г. Лейпциге первую лабораторию экспериментальной психологии.
Появлению психологии предшествовало развитие двух больших областей знания: естественных наук и философии; психология возникла на пересечении этих областей, поэтому до сих пор не определено, считать психологию естественной наукой или гуманитарной. Из вышесказанного следует, что ни один из этих ответов, по-видимому, не является правильным. Еще раз подчеркну: это – наука особого типа. Перейдем к следующему пункту нашей лекции – вопросу о соотношении научной и житейской психологии.
Любая наука имеет в качестве своей основы некоторый житейский, эмпирический опыт людей. Например, физика опирается на приобретаемые нами в повседневной жизни знания о движении и падении тел, о трении и инерции, о свете, звуке, теплоте и многом другом.
Математика тоже исходит из представлений о числах, формах, количественных соотношениях, которые начинают формироваться уже в дошкольном возрасте.
Но иначе обстоит дело с психологией. У каждого из нас есть запас житейских психологических знаний. Есть даже выдающиеся житейские психологи. Это, конечно, великие писатели, а также некоторые (хотя и не все) представители профессий, предполагающих постоянное общение с людьми: педагоги, врачи, священнослужители и др. Но, повторяю, и обычный человек располагает определенными психологическими знаниями. Об этом можно судить по тому, что каждый человек в какой-то мере может понять другого, повлиять на его поведение, предсказать его поступки, учесть его индивидуальные особенности, помочь ему и т. п.
Давайте задумаемся над вопросом: чем же отличаются житейские психологические знания от научных? Я назову вам пять таких отличий.
Первое: житейские психологические знания конкретны; они приурочены к конкретным ситуациям, конкретным людям, конкретным задачам. Говорят, официанты и водители такси – тоже хорошие психологи. Но в каком смысле, для решения каких задач? Как мы знаем, часто – довольно прагматических. Также конкретные прагматические задачи решает ребенок, ведя себя одним образом с матерью, другим – с отцом, и снова, совсем иначе, – с бабушкой. В каждом конкретном случае он точно знает, как надо себя вести, чтобы добиться желаемой цели. Но вряд ли мы можем ожидать от него такой же проницательности в отношении чужих бабушки или мамы. Итак, житейские психологические знания характеризуются конкретностью, ограниченностью задач, ситуаций и лиц, на которые они распространяются.
Научная же психология, как и всякая наука, стремится к обобщениям. Для этого она использует научные понятия. Отработка понятий – одна из важнейших функций науки. В научных понятиях отражаются наиболее существенные свойства предметов и явлений, общие связи и соотношения. Научные понятия четко определяются, соотносятся друг с другом, связываются в законы.
Например, в физике благодаря введению понятия силы И. Ньютону удалось описать с помощью трех законов механики тысячи различных конкретных случаев движения и механического взаимодействия тел.
То же происходит и в психологии. Можно очень долго описывать человека, перечисляя в житейских терминах его качества, черты характера, поступки, отношения с другими людьми. Научная же психология ищет и находит такие обобщающие понятия, которые не только экономизируют описания, но и за конгломератом частностей позволяют увидеть общие тенденции и закономерности развития личности и ее индивидуальные особенности. Нужно отметить одну особенность научных психологических понятий: они часто совпадают с житейскими по своей внешней форме, т. е., попросту говоря, выражаются теми же словами. Однако внутреннее содержание, значения этих слов, как правило, различны. Житейские термины обычно более расплывчаты и многозначны.
Однажды старшеклассников попросили письменно ответить на вопрос: что такое личность? Ответы оказались очень разными, а один учащийся ответил так: «Это то, что следует проверить по документам». Я не буду сейчас говорить о том, как понятие «личность» определяется в научной психологии, – это сложный вопрос, и мы им специально займемся позже, на одной из последних лекций. Скажу только, что определение это сильно расходится с тем, которое было предложено упомянутым школьником.
Второе отличие житейских психологических знаний состоит в том, что они носят интуитивный характер. Это связано с особым способом их получения: они приобретаются путем практических проб и прилаживаний. Подобный способ особенно отчетливо виден у детей. Я уже упоминала об их хорошей психологической интуиции. А как она достигается? Путем ежедневных и даже ежечасных испытаний, которым они подвергают взрослых и о которых последние не всегда догадываются. И вот в ходе этих испытаний дети обнаруживают, из кого можно «вить веревки», а из кого нельзя.
Часто педагоги и тренеры находят эффективные способы воспитания, обучения, тренировки, идя тем же путем: экспериментируя и зорко подмечая малейшие положительные результаты, т. е. в определенном смысле «идя на ощупь». Нередко они обращаются к психологам с просьбой объяснить психологический смысл найденных ими приемов.
В отличие от этого научные психологические знания рациональны и вполне осознанны. Обычный путь состоит в выдвижении словесно формулируемых гипотез и проверке логически вытекающих из них следствий.
Третье отличие состоит в способах передачи знаний и даже в самой возможности их передачи. В сфере практической психологии такая возможность весьма ограничена. Это непосредственно вытекает из двух предыдущих особенностей житейского психологического опыта – его конкретного и интуитивного характера. Глубокий психолог Ф. М. Достоевский выразил свою интуицию в написанных им произведениях, мы их все прочли – стали мы после этого столь же проницательными психологами? Передается ли житейский опыт от старшего поколения к младшему? Как правило, с большим трудом и в очень незначительной степени. Вечная проблема «отцов и детей» состоит как раз в том, что дети не могут и даже не хотят перенимать опыт отцов. Каждому новому поколению, каждому молодому человеку приходится самому «набивать шишки» для приобретения этого опыта.
В то же время в науке знания аккумулируются и передаются с большим, если можно так выразиться, КПД. Кто-то давно сравнил представителей науки с пигмеями, которые стоят на плечах у великанов – выдающихся ученых прошлого. Они, может быть, гораздо меньше ростом, но видят дальше, чем великаны, потому что стоят на их плечах. Накопление и передача научных знаний возможны благодаря тому, что эти знания кристаллизуются в понятиях и законах. Они фиксируются в научной литературе и передаются с помощью вербальных средств, т. е. речи и языка, чем мы, собственно говоря, и начали сегодня заниматься.
Четвертое различие состоит в методах получения знаний в сферах житейской и научной психологии. В житейской психологии мы вынуждены ограничиваться наблюдениями и размышлениями. В научной психологии к этим методам добавляется эксперимент.
Суть экспериментального метода состоит в том, что исследователь не ждет стечения обстоятельств, в результате которого возникает интересующее его явление, а вызывает это явление сам, создавая соответствующие условия. Затем он целенаправленно варьирует эти условия, чтобы выявить закономерности, которым данное явление подчиняется. С введением в психологию экспериментального метода (открытия в конце XIX века первой экспериментальной лаборатории) психология, как я уже говорила, оформилась в самостоятельную науку.
Наконец, пятое отличие, и вместе с тем преимущество, научной психологии состоит в том, что она располагает обширным, разнообразным и подчас уникальным фактическим материалом, недоступным во всем своем объеме ни одному носителю житейской психологии. Материал этот накапливается и осмысливается, в том числе в специальных отраслях психологической науки, таких как возрастная психология, педагогическая психология, пато– и нейропсихология, психология труда и инженерная психология, социальная психология, зоопсихология и др. В этих областях, имея дело с различными стадиями и уровнями психического развития животных и человека, с дефектами и болезнями психики, с необычными условиями труда – условиями стресса, информационных перегрузок или, наоборот, монотонии и информационного голода и т. п., – психолог не только расширяет круг своих исследовательских задач, но и сталкивается с новыми неожиданными явлениями. Ведь рассмотрение работы какого-либо механизма в условиях развития, поломки или функциональной перегрузки с разных сторон высвечивает его структуру и организацию.
Приведу короткий пример. Вы, конечно, знаете, что у нас в г. Загорске существует специальный интернат для слепоглухонемых детей. Это дети, у которых нет слуха, нет зрения и, конечно, первоначально нет речи. Главный «канал», через который они могут вступать в контакт с внешним миром, – это осязание.
И вот через этот чрезвычайно узкий канал в условиях специального обучения они начинают познавать мир, людей и себя! Процесс этот, особенно вначале, идет очень медленно, он развернут во времени и во многих деталях может быть увиден как бы через «временную лупу» (термин, который использовали для описания этого феномена известные советские ученые А. И. Мещеряков и Э. В. Ильенков). Очевидно, что в случае развития нормального здорового ребенка многое проходит слишком быстро, стихийно и незамеченно. Таким образом, помощь детям в условиях жестокого эксперимента, который поставила над ними природа, помощь, организуемая психологами совместно с педагогами-дефектологами, превращается одновременно в важнейшее средство познания общих психологических закономерностей – развития восприятия, мышления, личности.
Итак, обобщая, можно сказать, что разработка специальных отраслей психологии является Методом (методом с большой буквы) общей психологии. Такого метода лишена, конечно, житейская психология.
Теперь, когда мы убедились в целом ряде преимуществ научной психологии перед житейской, уместно поставить вопрос: а какую позицию научные психологи должны занять по отношению к носителям житейской психологии?
Предположим, вы окончили университет, стали образованными специалистами-психологами. Вообразите себя в этом состоянии. А теперь вообразите рядом с собой какого-нибудь мудреца, необязательно живущего сегодня, какого-нибудь древнегреческого философа, например. Этот мудрец – носитель многовековых размышлений людей о судьбах человечества, о природе человека, его проблемах, его счастье. Вы – носитель научного опыта, качественно другого, как мы только что видели. Так какую же позицию вы должны занять по отношению к знаниям и опыту мудреца? Вопрос этот не праздный, он неизбежно рано или поздно встанет перед каждым из вас: как должны соотноситься в вашей голове, в вашей душе, в вашей деятельности эти два рода опыта?
Я хотела бы предупредить вас об одной ошибочной позиции, которую, впрочем, нередко занимают психологи с большим научным стажем. «Проблемы человеческой жизни, – говорят они, – нет, я ими не занимаюсь. Я занимаюсь научной психологией. Я разбираюсь в нейронах, рефлексах, психических процессах, а не в “муках творчества”».
Имеет ли эта позиция некоторые основания? Сейчас мы уже можем ответить на этот вопрос: да, имеет. Эти некоторые основания состоят в том, что упомянутый научный психолог вынужден был в процессе своего образования сделать шаг в мир отвлеченных общих понятий, он вынужден был вместе с научной психологией, образно говоря, загнать жизнь in vitro, «разъять» душевную жизнь «на части». Но эти необходимые действия произвели на него слишком большое впечатление. Он забыл, с какой целью делались эти необходимые шаги, какой путь предполагался дальше. Он забыл или не дал себе труда осознать, что великие ученые – его предшественники – вводили новые понятия и теории, выделяя существенные стороны реальной жизни, предполагая затем вернуться к ее анализу с новыми средствами.
О том, как видеть в малых фактах отражение общих принципов и как переходить от общих принципов к реальным жизненным проблемам, вы нигде не прочтете. Вы можете развить в себе эти способности, впитывая лучшие образцы, заключенные в научной литературе. Только постоянное внимание к таким переходам, постоянное упражнение в них может сформировать у вас чувство «биения жизни» в научных занятиях. Ну а для этого, конечно, совершенно необходимо обладать житейскими психологическими знаниями, возможно более обширными и глубокими.
Уважение и внимание к житейскому опыту, его знание предостерегут вас еще от одной опасности. Дело в том, что, как известно, в науке нельзя ответить на один вопрос без того, чтобы не возникло десять новых. Но новые вопросы бывают разные: «дурные» и правильные. И это не просто слова. В науке существовали и существуют, конечно, целые направления, которые заходили в тупик. Однако прежде чем окончательно прекратить свое существование, они некоторое время работали вхолостую, отвечая на «дурные» вопросы, которые порождали десятки других дурных вопросов.
Развитие науки напоминает движение по сложному лабиринту со многими тупиковыми ходами. Чтобы выбрать правильный путь, нужно иметь, как часто говорят, хорошую интуицию, а она возникает только при тесном контакте с жизнью.
В конечном счете, мысль моя простая: научный психолог должен быть одновременно хорошим житейским психологом. Иначе он не только будет малополезен науке, но и не найдет себя в своей профессии, попросту говоря, будет несчастен. Мне бы очень хотелось уберечь вас от этой участи.
Один профессор сказал, что если его студенты за весь курс усвоят одну-две основные мысли, он сочтет свою задачу выполненной. Мое желание менее скромно: хотелось бы, чтобы вы усвоили одну мысль уже за одну эту лекцию. Мысль эта следующая: отношения научной и житейской психологии подобны отношениям Антея и Земли; первая, прикасаясь ко второй, черпает из нее свою силу.
Итак, научная психология, во-первых, опирается на житейский психологический опыт; во-вторых, извлекает из него свои задачи; наконец, в-третьих, на последнем этапе им проверяется.
А теперь мы должны перейти к более близкому знакомству с научной психологией.
Знакомство с любой наукой начинается с определения ее предмета и описания круга явлений, которые она изучает. Что же является предметом психологии? На этот вопрос можно ответить двумя способами. Первый способ более правильный, но и более сложный. Второй – относительно формальный, но зато краткий.
Первый способ предполагает рассмотрение различных точек зрения на предмет психологии – так, как они появлялись в истории науки; анализ оснований, почему эти точки зрения сменяли друг друга; знакомство с тем, что, в конечном счете, от них осталось и какое понимание сложилось на сегодняшний день.
Слово «психология» в переводе на русский язык буквально означает «наука о душе» (гр. psyche – «душа» + logos – «понятие», «учение»).
В наше время вместо понятия «душа» используется понятие «психика», хотя в языке до сих пор сохранилось много слов и выражений, производных от первоначального корня: одушевленный, душевный, бездушный, родство душ, душевная болезнь, задушевный разговор и т. п.
С лингвистической точки зрения «душа» и «психика» – одно и то же. Однако с развитием культуры и особенно науки значения этих понятий разошлись. Об этом мы будем говорить позже.
Чтобы составить предварительное представление о том, что такое «психика», рассмотрим психические явления. Под психическими явлениями обычно понимают факты внутреннего, субъективного, опыта.
Что такое внутренний, или субъективный, опыт? Вы сразу поймете, о чем идет речь, если обратите взор «внутрь себя». Вам хорошо знакомы ваши ощущения, мысли, желания, чувства.
Вы видите это помещение и все, что в нем находится; слышите, что я говорю, и пытаетесь это понять; нам может быть сейчас радостно или скучно, вы что-то вспоминаете, переживаете какие-то стремления или желания. Все перечисленное – элементы вашего внутреннего опыта, субъективные или психические явления.
Фундаментальное свойство субъективных явлений – их непосредственная представленность субъекту. Что это означает?
Это означает, что мы не только видим, чувствуем, мыслим, вспоминаем, желаем, но и знаем, что видим, чувствуем, мыслим и т. п.; не только стремимся, колеблемся или принимаем решения, но и знаем об этих стремлениях, колебаниях, решениях. Иными словами, психические процессы не только происходят в нас, но также непосредственно нам открываются. Наш внутренний мир – эта как бы большая сцена, на которой происходят различные события, а мы являемся одновременно и действующими лицами, и зрителями.
Эта уникальная особенность субъективных явлений открываться нашему сознанию поражала воображение всех, кто задумывался над психической жизнью человека. А на некоторых ученых она произвела такое впечатление, что они связали с ней решение двух фундаментальных вопросов: о предмете и о методе психологии.
Психология, считали они, должна заниматься только тем, что переживается субъектом и непосредственно открывается его сознанию, а единственный метод (т. е. способ) изучения этих явлений – самонаблюдение. Однако этот вывод был преодолен дальнейшим развитием психологии.
Дело в том, что существует целый ряд других форм проявления психики, которые психология выделила и включила в круг своего рассмотрения. Среди них – факты поведения, неосознаваемые психические процессы, психосоматические явления, наконец, творения человеческих рук и разума, т. е. продукты материальной и духовной культуры. Во всех этих фактах, явлениях, продуктах психика проявляется, обнаруживает свои свойства и поэтому через них может изучаться. Однако к этим выводам психология пришла не сразу, а в ходе острых дискуссий и драматических трансформаций представлений о ее предмете.
В дальнейшем мы подробно рассмотрим, как в процессе развития психологии расширялся круг изучаемых ею феноменов. Этот анализ поможет нам освоить целый ряд основных понятий психологической науки и составить представление о некоторых ее основных проблемах. Сейчас же в порядке подведения итога зафиксируем важное для нашего дальнейшего движения различие между психическими явлениями и психологическими фактами. Под психическими явлениями понимаются субъективные переживания или элементы внутреннего опыта субъекта. Под психологическими фактами подразумевается гораздо более широкий круг проявлений психики, в том числе их объективные формы (в виде актов поведения, телесных процессов, продуктов деятельности людей, социально-культурных явлений), которые используются психологией для изучения психики – ее свойств, функций, закономерностей.
Ю. Б. Гиппенрейтер. Неосознаваемые процессы[2]
Все неосознаваемые процессы можно разбить натри больших класса: (1) неосознаваемые механизмы сознательных действий; (2) неосознаваемые побудители сознательных действий; (3) «надсознательные» процессы.
В первый класс – неосознаваемых механизмов сознательных действий — входят в свою очередь три различных подкласса:
а) неосознаваемые автоматизмы;
б) явления неосознаваемой установки;
в) неосознаваемые сопровождения сознательных действий.
Рассмотрим каждый из названных подклассов.
Под неосознаваемыми автоматизмами подразумевают обычно действия или акты, которые совершаются «сами собой», без участия сознания. Иногда говорят о «механической работе», о работе, при которой «голова остается свободной». «Свободная голова» и означает отсутствие сознательного контроля.
Анализ автоматических процессов обнаруживает их двоякое происхождение. Некоторые из этих процессов никогда не осознавались, другие же прошли через сознание и перестали осознаваться.
Первые составляют группу первичных автоматизмов, вторые – группу вторичных автоматизмов. Первые называют иначе автоматическими действиями, вторые – автоматизированными действиями, или навыками.
В группу автоматических действий входят либо врожденные акты, либо те, которые формируются очень рано, часто в течение первого года жизни ребенка. Их примеры: сосательные движения, мигание, схватывание предметов, ходьба, конвергенция глаз и многие другие.
Группа автоматизированных действий, или навыков, особенно обширна и интересна. Благодаря формированию навыка достигается двоякий эффект: во-первых, действие начинает осуществляться быстро и точно; во-вторых, как уже говорилось, происходит высвобождение сознания, которое может быть направлено на освоение более сложного действия. Этот процесс имеет фундаментальное значение для жизни каждого индивида. Не будет большим преувеличением сказать, что он лежит в основе развития всех наших умений, знаний и способностей.
Рассмотрим какой-нибудь пример. Возьмем обучение игре на фортепиано. Если вы сами прошли через этот процесс или наблюдали, как он происходит, то знаете, что все начинается с освоения элементарных актов. Сначала нужно научиться правильно сидеть, ставить в правильное положение ноги, руки, пальцы на клавиатуре. Затем отрабатываются отдельно удары каждым пальцем, подъемы и опускания кисти и т. д. На этой самой элементарной основе строятся элементы собственно фортепианной техники: начинающий пианист учится «вести» мелодию, брать аккорды, играть стаккато и легато… И все это – лишь основа, которая необходима для того, чтобы рано или поздно перейти к выразительной игре, т. е. к задачам художественного исполнения.
Так, путем продвижения от простых действий к сложным, благодаря передаче на неосознаваемые уровни действий уже освоенных, человек приобретает мастерство. И, в конце концов, выдающиеся пианисты достигают такого уровня, когда, по словам Гейне, «рояль исчезает, и нам открывается одна музыка».
Почему в исполнении мастеров-пианистов остается «одна музыка»? Потому, что они в совершенстве овладели пианистическими навыками.
Говоря об освобождении действий от сознательного контроля, конечно, не надо думать, что это освобождение абсолютно, т. е. что человек совсем не знает, что он делает. Это не так. Контроль, конечно, остается, но он осуществляется следующим интересным образом.
Поле сознания, как вы уже знаете, неоднородно: оно имеет фокус, периферию и, наконец, границу, за которой начинается область неосознаваемого. И вот эта неоднородная картина сознания как бы накладывается на иерархическую систему сложного действия. При этом самые высокие этажи системы – наиболее поздние и наиболее сложные компоненты действия – оказываются в фокусе сознания; следующие этажи попадают на периферию сознания; наконец, самые низкие и самые отработанные компоненты выходят за границу сознания.
Надо сказать, что отношение различных компонентов действий к сознанию нестабильно. В поле сознания происходит постоянное изменение содержаний: представленным в нем оказывается то один, то другой «слой» иерархической системы актов, составляющих данное действие.
Движение в одну сторону, повторим, это уход выученного компонента из фокуса сознания на его периферию и с периферии – за его границу, в область неосознаваемого. Движение в противоположную сторону означает возвращение каких-то компонентов навыка в сознание. Обычно оно происходит при возникновении трудностей или ошибок, при утомлении, эмоциональном напряжении. Это возвращение в сознание может быть и результатом произвольного намерения. Свойство любого компонента навыка вновь стать осознанным очень важно, поскольку оно обеспечивает гибкость навыка, возможность его дополнительного совершенствования или переделки.
Между прочим, этим свойством навыки отличаются от автоматических действий. Первичные автоматизмы не осознаются и не поддаются осознанию. Более того, попытки их осознать обычно расстраивают действие.
Это последнее обстоятельство отражено в хорошо известной притче о сороконожке. Сороконожку спросили: «Как ты узнаешь, какой из твоих сорока ног нужно сейчас сделать шаг?» Сороконожка глубоко задумалась – и не смогла двинуться с местами!
На этом мы заканчиваем знакомство с первым подклассом неосознаваемых механизмов и переходим ко второму – явлениям неосознаваемой установки.
Понятие «установка» заняло в психологии очень важное место, наверное, потому, что явления установки пронизывают практически все сферы психической жизни человека.
В советской психологии существует целое направление – грузинская школа психологов – которое разрабатывает проблему установки в очень широком масштабе. Грузинские психологи являются непосредственными учениками и последователями выдающегося советского психолога Дмитрия Николаевича Узнадзе (1886–1950), который создал теорию установки и организовал разработку этой проблемы силами большого коллектива.
Собственно теорию установки я с вами разбирать не буду: это большая и сложная тема. Ограничусь знакомством с явлениями неосознаваемой установки.
Прежде всего, что такое установка. По определению, это – готовность организма или субъекта к совершению определенного действия или к реагированию в определенном направлении.
Замечу, что речь идет именно о готовности к предстоящему действию. Если навык относится к периоду осуществления действия, то установка – к периоду, который ему предшествует.
Фактов, демонстрирующих готовность, или предварительную настройку организма к действию, чрезвычайно много, и они очень разнообразны. Как я уже говорила, они относятся к разным сферам психической жизни индивида.
Например, ребенок задолго до годовалого возраста, пытаясь взять предмет, подстраивает кисть руки под его форму: если это маленькая крошечка, то он сближает и вытягивает пальцы, если это круглый предмет, он округляет и разводит пальцы и т. д. Подобные преднастройки позы руки иллюстрируют моторную установку.
Спринтер на старте находится в состоянии готовности к рывку – это тоже моторная установка.
Когда вам дается какой-нибудь математический пример, выраженный в тригонометрических символах, то у вас создается установка решать его с помощью формул тригонометрии, хотя иногда это решение сводится к простым алгебраическим преобразованиям. Это пример умственной установки.
Состояние готовности, или установка, имеет очень важное функциональное значение. Субъект, подготовленный к определенному действию, имеет возможность осуществить его быстро и точно, т. е. более эффективно.
Но иногда механизмы установки вводят человека в заблуждение (пример необоснованного страха). Приведу вам еще один пример, на этот раз, заимствуя его из древнекитайского литературного памятника.
«Пропал у одного человека топор. Подумал он на сына своего соседа и стал к нему приглядываться: ходит, как укравший топор, глядит, как укравший топор, говорит, как укравший топор. Словом, каждый жест, каждое движение выдают в нем вора.
Но вскоре тот человек стал вскапывать землю в долине и нашел свой топор. На другой же день посмотрел на сына соседа: ни жестом, ни движением не похож он на вора» (Атеисты, материалисты, диалектики древнего Китая. М., 1967. С. 271).
Именно «ошибки установки», которые проявляются в ошибочных действиях, восприятиях или оценках, относятся к наиболее выразительным ее проявлениям и раньше всего привлекли внимание психологов.
Надо сказать, что не всякая установка неосознаваема. Можно сознательно ждать страшного – и действительно видеть страшное, можно осознанно подозревать человека в краже топора – и действительно видеть, что он ходит, «как укравший топор». Но наибольший интерес представляют проявления именно неосознаваемой установки. Именно с них и начались экспериментальные и теоретические исследования в школе Д. Н. Узнадзе (Узнадзе Д. Н. Психологические исследования. М., 1966).
Основные опыты, которые явились отправной точкой для дальнейшего развития концепции Д. Н. Узнадзе, проходили следующим образом. Испытуемому давали в руки два шара разного объема и просили оценить, в какой руке шар больше. Больший шар, предположим, давался в левую руку, меньший – в правую. Испытуемый правильно оценивал объемы шаров, и проба повторялась: снова в левую руку давали больший шар, а в правую – меньший, и испытуемый снова правильно оценивал объемы. Снова повторялась проба, и так раз пятнадцать подряд (повторение проб служило цели укрепления, или фиксации, установки, соответственно описываемые опыты получили название экспериментов с фиксированной установкой).
Наконец, в очередной, шестнадцатой, пробе неожиданно для испытуемого давались два одинаковых шара с той же самой инструкцией: «сравнить их объемы». И вот оказалось, что испытуемый в этой последней контрольной пробе оценивал шары ошибочно: он воспринимал их снова как разные по объему. Зафиксировавшаяся установка на то, что в левую руку будет дан больший шар, определяла, или направляла, перцептивный процесс: испытуемые, как правило, говорили, что в левой руке шар меньше. Правда, иногда ответы были такие же, как и в установочных пробах, т. е. что в левой руке шар больше. Ошибки первого типа были названы контрастными иллюзиями установки, ошибки второго типа – ассимилятивными иллюзиями установки.
Д. Н. Узнадзе и его сотрудники подробно изучили условия возникновения иллюзий каждого типа, но я не буду на них сейчас останавливаться. Важно другое – убедиться, что установка в данном случае была действительно неосознаваемой.
Непосредственно это не очевидно. Более того, можно предположить, что в подготовительных пробах испытуемые вполне осознавали, что идут однотипные предъявления, и начинали сознательно ждать такой же пробы в очередной раз.
Предположение это абсолютно справедливо, и для того, чтобы его проверить, Д. Н. Узнадзе проводит контрольный эксперимент с гипнозом.
Испытуемого усыпляют, и в состоянии гипноза проводят предварительные установочные пробы. Затем испытуемый пробуждается, но перед тем ему внушается, что он ничего не будет помнить. Вслед за пробуждением ему дается всего одна, контрольная, проба. И вот оказывается, что в ней испытуемый дает ошибочный ответ, хотя он не знает, что до того ему много раз предъявлялись шары разного размера. Установка у него образовалась и теперь проявилась типичным для нее образом.
Итак, описанными опытами было доказано, что процессы образования и действия установки изучаемого типа не осознаются.
Д. Н. Узнадзе, а за ним и его последователи придали принципиальное значение этим результатам. Они увидели в явлениях неосознаваемой установки свидетельство существования особой, «досознательной», формы психики. По их мнению, это ранняя (в генетическом и функциональном смысле) ступень развития любого сознательного процесса.
<…> Можно различным образом относиться к той или иной теоретической интерпретации явлений неосознаваемой установки, но безусловный факт состоит в том, что эти явления, как и рассмотренные выше автоматизмы, обнаруживают многоуровневую природу психических процессов.
Перейдем к третьему подклассу неосознаваемых механизмов – неосознаваемым сопровождениям сознательных действий.
Не все неосознаваемые компоненты действий имеют одинаковую функциональную нагрузку. Некоторые из них реализуют сознательные действия – и они отнесены к первому подклассу; другие подготавливают действия – и они описаны во втором подклассе.
Наконец, существуют неосознаваемые процессы, которые просто сопровождают действия, и они выделены нами в третий подкласс. Этих процессов большое количество, и они чрезвычайно интересны для психологии. Приведу примеры.
Вам, наверное, приходилось наблюдать, как человек, орудующий ножницами, двигает челюстями в ритме этих движений. Что это за движения? Можно ли отнести их к двигательным навыкам? Нет, потому что движения челюстями не реализуют действие; они также никак не подготавливают его, они лишь сопровождают его.
Другой пример. Когда игрок на бильярде пускает шар мимо лузы, то часто он пытается «выправить» его движение вполне бесполезными движениями рук, корпуса или кия.
Студенты на экзаменах часто очень сильно зажимают ручку или ломают карандаш, когда их просишь, например, нарисовать график, особенно если они в этом графике не очень уверены.
Человек, который смотрит на другого, порезавшего, например, палец, строит горестную гримасу, сопереживая ему, и совершенно этого не замечает.
Итак, в группу процессов третьего подкласса входят непроизвольные движения, тонические напряжения, мимика и пантомимика, а также большой класс вегетативных реакций, сопровождающих действия и состояния человека.
Многие из этих процессов, особенно вегетативные компоненты, составляют классический объект физиологии. Тем не менее, как я уже сказала, они чрезвычайно важны для психологии. Важность эта определяется двумя обстоятельствами.
Во-первых, обсуждаемые процессы включены в общение между людьми и представляют собой важнейшие дополнительные (наряду с речью) средства коммуникации.
Во-вторых, они могут быть использованы как объективные показатели различных психологических характеристик человека – его намерений, отношений, скрытых желаний, мыслей и т. д. Именно с расчетом на эти процессы в экспериментальной психологии ведется интенсивная разработка так называемых объективных индикаторов (или физиологических коррелятов) психических процессов и состояний.
Для пояснения обоих пунктов снова приведу примеры.
Первый пример будет развернутой иллюстрацией того, как можно непроизвольно и неосознаваемо передавать информацию другому лицу.
Речь пойдет о «таинственном» феномене «чтения мыслей» с помощью мышечного чувства. Вы, наверное, слышали о сеансах, которые дают некоторые лица с эстрады. Суть их искусства состоит в действительно уникальной способности воспринимать у другого лица так называемые идеомоторные акты, т. е. тончайшие мышечные напряжения и микродвижения, которые сопровождают усиленное «представливание» какого-то действия.
Неосознаваемые побудители сознательных действий. <…> Таким образом, по Фрейду, психика шире, чем сознание. Скрытые знания – это тоже психические образования, но они неосознанны. Для их осознания, впрочем, нужно только усилить следы прошлых впечатлений.
Фрейд считает возможным поместить эти содержания в сферу, непосредственно примыкающую к сознанию (в предсознание), поскольку они при необходимости легко переводятся в сознание.
Что же касается области бессознательного, то она обладает совершенно другими свойствами.
Прежде всего, содержания этой области не осознаются не потому, что они слабы, как в случае с латентными знаниями. Нет, они сильны, и сила их проявляется в том, что они оказывают влияние на наши действия и состояния. Итак, первое отличительное свойство бессознательных представлений – это их действенность. Второе их свойство состоит в том, что они с трудом переходят в сознание. Объясняется это работой двух механизмов, которые постулирует Фрейд, – механизмов вытеснения и сопротивления.
По мнению З. Фрейда, психическая жизнь человека определяется его влечениями, главное из которых – сексуальное влечение (либидо). Оно существует уже у младенца, хотя в детстве оно проходит через ряд стадий и форм. Ввиду множества социальных запретов сексуальные переживания и связанные с ними представления вытесняются из сознания и живут в сфере бессознательного. Они имеют большой энергетический заряд, однако в сознание не пропускаются: сознание оказывает им сопротивление. Тем не менее, они прорываются в сознательную жизнь человека, принимая искаженную или символическую форму.
Фрейд выделил три основные формы проявления бессознательного: это сновидения, ошибочные действия (забывание вещей, намерений, имен; описки, оговорки и т. п.) и невротические симптомы.
Невротические симптомы были главными проявлениями, с которыми начал работать Фрейд. Вот один пример из его врачебной практики.
Молодая девушка заболела тяжелым неврозом после того, как, подойдя к постели умершей сестры, на мгновение подумала о ее муже: «Теперь он свободен и сможет на мне жениться». Эта мысль была тут же ею вытеснена как совершенно неподобающая в данных обстоятельствах, и, заболев, девушка совершенно забыла всю сцену у постели сестры. Однако во время лечения она с большим трудом и волнением вспомнила ее, после чего наступило выздоровление.
Согласно представлениям З. Фрейда, невротические симптомы – это следы вытесненных травмирующих переживаний, которые образуют в сфере бессознательного сильно заряженный очаг и оттуда производят разрушительную работу. Очаг должен быть вскрыт и разряжен – и тогда невроз лишится своей причины.
Обратимся к случаям проявления неосознаваемых причин действий в обыденной жизни, которые в ранний период своей научной деятельности в большом количестве собрал и описал З. Фрейд (Фрейд З. Психопатологии обыденной жизни // Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти. М., 1978).
Далеко не всегда (и вы сейчас это увидите) в основе симптомов лежит подавленное сексуальное влечение. В повседневной жизни возникает много неприятных переживаний, которые не связаны с сексуальной сферой, и, тем не менее, они подавляются или вытесняются субъектом. Они также образуют аффективные очаги, которые «прорываются» в ошибочных действиях.
Вот несколько случаев из наблюдений З. Фрейда.
Первый относится к анализу «провала» его собственной памяти. Однажды Фрейд поспорил со своим знакомым по поводу того, сколько в хорошо известной им обоим дачной местности ресторанов: два или три? Знакомый утверждал, что три, а Фрейд – что два. Он назвал эти два и настаивал, что третьего нет. Однако этот третий ресторан все-таки был. Он имел то же название, что и имя одного коллеги Фрейда, с которым тот находился в натянутых отношениях.
Другой пример. Один знакомый Фрейда сдавал экзамен по философии (типа кандидатского минимума). Ему достался вопрос об учении Эпикура. Экзаменатор спросил, не знает ли он более поздних последователей Эпикура, на что экзаменующийся ответил: «Как же, Пьер Гассенди». Он назвал это имя потому, что два дня назад слышал в кафе разговор о Гассенди как об ученике Эпикура, хотя сам его работ не читал. Довольный экзаменатор спросил, откуда он знает это имя, и знакомый солгал, ответив, что специально интересовался работами этого философа.
После этого случаи имя П. Гассенди, по словам знакомого Фрейда, постоянно выпадало из его памяти: «По-видимому, виной тому моя совесть, – заметил он, – я и тогда не должен был знать этого имени, вот и сейчас постоянно его забываю» (Фрейд З. Психопатологии обыденной жизни // Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти. М., 1978. С. 112).
Следующий пример относится к оговоркам. З. Фрейд считал, что оговорки возникают не случайно: в них прорываются истинные (скрываемые) намерения и переживания человека.
Однажды председатель собрания, который по некоторым личным причинам не хотел, чтобы собрание состоялось, открывая его, произнес: «Разрешите считать наше собрание закрытым».
А вот пример ошибочного действия. Когда Фрейд был молодым практикующим врачом и ходил к больным на дом (а не они к нему), он заметил, что перед дверями некоторых квартир он вместо того, чтобы позвонить, доставал собственный ключ. Проанализировав свои переживания, он нашел, что это случалось у дверей тех больных, где он чувствовал себя «как дома» (Фрейд З. Указ. соч. С. 147).
В психоанализе был разработан ряд методов выявления бессознательных аффективных комплексов. Главные из них – это метод свободных ассоциаций и метод анализа сновидений. Оба метода предполагают активную работу психоаналитика, заключающуюся в толковании непрерывно продуцируемых пациентом слов (метод свободных ассоциаций) или сновидений.
С той же целью используется уже частично знакомый вам ассоциативный эксперимент. Расскажу об этом методе более подробно, так как он наиболее простой.
Вы уже знаете, что в ассоциативном эксперименте испытуемому или пациенту предлагают быстро отвечать любым пришедшим в голову словом на предъявляемые слова. И вот оказывается, что после нескольких десятков проб в ответах испытуемого начинают появляться слова, связанные с его скрытыми переживаниями.
Если вы читали рассказ К. Чапека «Эксперимент доктора Роуса», то могли составить себе представление о том, как это все происходит.
Передам вам краткое содержание рассказа. В чешский городок приезжает американский профессор-психолог, чех по происхождению. Объявляется, что он продемонстрирует свое профессиональное мастерство. Собирается публика – знать города, журналисты и другие лица. Вводят преступника, который подозревается в убийстве. Профессор диктует ему слова, предлагая отвечать первым пришедшим в голову словом. Сначала преступник вообще не желает иметь с ним дело. Но потом игра «в слова» его увлекает, и он в нее втягивается. Профессор дает сначала нейтральные слова: пиво, улица, собака. Но постепенно он начинает включать слова, связанные с обстоятельствами преступления. Предлагается слово «кафе», ответ – «шоссе», дается слово «пятна», ответ – «мешок» (потом было выяснено, что пятна крови были вытерты мешком); на слово «спрятать» – ответ «зарыть», «лопата» – «яма», «яма» – «забор» и т. д.
Короче говоря, после сеанса по рекомендации профессора полицейские отправляются в некоторое место около забора, раскапывают яму и находят спрятанный труп (Чапек К. Рассказы. М., 1981).
У нас нет возможности разбирать далее теорию и технику психоанализа, равно как и его критику. Все это требует специального курса лекций. Моя цель была лишь познакомить вас с главным научным достижением З. Фрейда – открытием им сферы динамического бессознательного и описанием форм его проявления.
Обратимся к третьему классу неосознаваемых процессов, которые я условно обозначила как «надсознательные» процессы. Если попытаться кратко их охарактеризовать, то можно сказать, что это процессы образования некоего интегрального продукта большой сознательной работы, который затем «вторгается» в сознательную жизнь человека и, как правило, радикально меняет ее течение.
Чтобы понять, о чем идет речь, представьте себе, что вы заняты решением проблемы, о которой думаете изо дня в день в течение длительного времени, исчисляемого неделями и даже месяцами или годами. Это жизненно важная проблема. Вы думаете над каким-то вопросом, или о каком-то лице, или над каким-то событием, которое не поняли до конца и которое вас почему-то очень затронуло, вызвало мучительные размышления, колебания, сомнения. Думая над вашей проблемой, вы перебираете и анализируете различные впечатления и события, высказываете предположения, проверяете их, спорите с собой и с другими. И вот в один прекрасный день все проясняется – как будто пелена падает с ваших глаз. Иногда это случается неожиданно и как бы само собой, иногда поводом оказывается еще одно рядовое впечатление, но это впечатление как последняя капля воды, переполнившая чашу. Вы вдруг приобретаете совершенно новый взгляд на предмет, и это уже не рядовой взгляд, не один из тех вариантов, которые вы перебирали ранее. Он качественно новый; он остается в вас и порой ведет к важному повороту в вашей жизни.
Таким образом, то, что вошло в ваше сознание, является действительно интегральным продуктом предшествовавшего процесса. Однако вы не имели четкого представления о ходе последнего. Вы знали только то, о чем думали и что переживали в каждый данный момент или в ограниченный период времени. Весь же большой процесс, который по всем признакам происходил в вас, вами вовсе не прослеживался.
Почему же подобные процессы следует поместить вне сознания? Потому, что они отличаются от сознательных процессов по крайней мере в следующих двух важных отношениях.
Во-первых, субъект не знает того конечного итога, к которому приведет «надсознательный» процесс. Сознательные же процессы предполагают цель действия, т. е. ясное осознание результата, к которому субъект стремится. Во-вторых, неизвестен момент, когда «надсознательный» процесс закончится; часто он завершается внезапно, неожиданно для субъекта. Сознательные же действия, напротив, предполагают контроль за приближением к цели и приблизительную оценку момента, когда она будет достигнута.
Судя по феноменологическим описаниям, к обсуждаемому классу «надсознательных» процессов следует отнести процессы творческого мышления, процессы переживания большого горя или больших жизненных событий, кризисы чувств, личностные кризисы и т. п.
Одним из первых психологов, который обратил специальное внимание на эти процессы, был У. Джемс. Он собрал на этот счет массу ярких описаний, которые изложены в его книге «Многообразие религиозного опыта» (М., 1910). В качестве более поздних работ на эту тему (на русском языке) можно назвать небольшие статьи З. Фрейда (Фрейд З. Печаль и меланхолия // Психология эмоций. Тексты. М., 1984), Э. Линдемана (Линдеман Э. Клиника острого горя // Там же), сравнительно недавно опубликованную книгу Ф. Е. Василюка (Василюк Ф. Е. Психология переживания. М., 1984) и др.
Приведу два развернутых примера, которые разбираются У. Джемсом. Первый пример Джемс заимствует у Л. Н. Толстого.
«Мне рассказывал С., – пишет Л. Н. Толстой, – умный и правдивый человек, как он перестал верить. Лет 26-ти уже, он на ночлеге во время охоты, по старой, с детства принятой привычке, встал вечером на молитву. Старший брат, бывший с ним на охоте, лежал на сене и смотрел на него. Когда С. кончил и стал ложиться, брат его сказал ему: “А ты все еще делаешь это?” И больше ничего они не сказали друг другу. И С. перестал с того дня становиться на молитву и ходить в церковь… И не потому, чтобы он знал убеждения своего брата и присоединился к ним, не потому, чтоб он решил что-нибудь в своей душе, а только потому, что слово это, сказанное братом, было как толчок пальцем в стену, которая готова была упасть от собственной тяжести; слово было только указанием на то, что там, где он думает, что есть вера, давно пустое место, и что потому слова, которые он говорит, и кресты, и поклоны, которые он кладет во время стояния на молитве, суть вполне бессмысленные действия. Сознав их бессмысленность, он не мог продолжать их» (цит. по: Джемс У. Многообразие религиозного опыта. М., 1910. С. 167).
Заметьте, что с человеком, от лица которого ведется рассказ, случилось как раз то, что я описала в абстрактном примере: в один прекрасный день он обнаружил, что потерял веру; что его вера – как стена, которая уже не поддерживается ничем, и ее достаточно тронуть пальцем, чтобы она упала, в роли этого «пальца» и выступил равнодушный вопрос брата. Тем самым как бы подчеркивается, что не столько вопрос брата, сколько предшествующий процесс, не осознававшийся в полном объеме героем рассказа, подготовил его к этому решающему повороту.
Другой пример из Джемса относится к кризису чувства.
«В течение двух лет, – рассказывает один человек, – я переживал очень тяжелое состояние, от которого едва не сошел с ума. Я страстно влюбился в одну девушку, которая, несмотря на свою молодость, была отчаянной кокеткой… Я пылал любовью к ней и не мог думать ни о чем другом. Когда я оставался один, я вызывал воображением все очарование ее красоты и, сидя за работой, терял большую часть времени, вспоминая наши свидания и представляя будущие беседы. Она была хороша собой, весела, бойка. Обожание мое льстило ее тщеславию. Любопытнее всего, что в то время, как я добивался ее руки, я знал в глубине души, что она не создана быть моею женою, и что никогда она на это не согласится… И такое положение дел в соединении с ревностью к одному из ее поклонников расстраивало мои нервы и отнимало сон. Моя совесть возмущалась такой непростительной слабостью с моей стороны. И я едва не дошел до сумасшествия. Тем не менее, я не мог перестать любить ее.
Но замечательнее всего странный, внезапный, неожиданный и бесповоротный конец всей этой истории. Я шел утром после завтрака на работу, по обыкновению полный мыслями о ней и о моей несчастной участи. Вдруг как будто какая-то могущественная внешняя сила овладела мной, я быстро повернул назад и прибежал в мою комнату. Там я принялся немедленно уничтожать все, что хранил в память о ней: локоны, записочки, письма и фотоминиатюры на стекле. Из локонов и писем я сделал костер. Портреты раздавил каблуком с жестоким и радостным упоением мщения… И я так чувствовал себя, точно освободился от тяжкого бремени, от болезни. Это был конец. Я не говорил с ней больше, не писал ей, и ни одной мысли о любви не возбуждал во мне ее образ.
<…> В это счастливое утро я вернул к себе мою душу и никогда больше не попадался в эту ловушку» (Джемс У. Многообразие религиозного опыта. М., 1910. С. 169).
Джемс, комментируя этот случай, подчеркивает слова: «как будто какая-то могущественная внешняя сила овладела мной». По его мнению, эта «сила» – результат некоторого «бессознательного» процесса, который шел вместе с сознательными переживаниями молодого человека.
Джемс не мог предвидеть, что термин «бессознательный» приобретет в результате появления психоанализа слишком специальный смысл. Поэтому, чтобы подчеркнуть совершенно особый тип впервые описанных им процессов, я использовала другой термин – «надсознательные». Он, как мне кажется, адекватно отражает их главную особенность: эти процессы происходят над сознанием в том смысле, что их содержание и временные масштабы крупнее всего того, что может вместить сознание; проходя через сознание отдельными своими участками, они как целое находятся за его пределами.
З. Фрейд. Некоторые замечания относительно понятия бессознательного в психоанализе[3]
Мне хотелось бы кратко и насколько возможно ясно изложить, в каком смысле следует употреблять выражение «бессознательное» в психоанализе, и только в психоанализе.
Представление – или всякий другой психический элемент – в определенный момент может быть в наличности в моем сознании, а в последующий может оттуда исчезнуть, через некоторый промежуток времени оно может совершенно неизмененным снова всплыть, как мы говорим, в нашей памяти, без каких-либо предшествующих новых чувственных восприятий. Учитывая это явление, мы вынуждены принять, что представление сохранялось в нашей душе и в этот промежуток времени, хотя было скрыто от сознания. Но в каком оно было виде, сохраняясь в душевной жизни и оставаясь скрытым от сознания относительно этого, мы не можем делать никаких предположений.
В этом пункте мы можем встретить философское возражение, что скрытое представление не может рассматриваться как объект психологии, но только как физическое предрасположение к повторному протеканию тех же психических явлений, в данном случае того же представления. Но мы на это ответим, что такая теория переступает область собственно психологии, что она просто обходит проблему, устанавливая идентичность понятий «сознательного» и «психического», и что она, очевидно, не вправе оспаривать у психологии право объяснять собственными средствами одно из ее обыденнейших явлений – память. И так мы назовем представление, имеющееся в нашем сознании и нами воспринимаемое, – «сознательным», и только таковое заслуживает смысла этого выражения – «сознательное»; наоборот, скрытые представления, если мы имеем основание признать, что они присутствуют в душевной жизни, как это наблюдается в памяти, мы должны обозначить термином «бессознательные».
Следовательно, бессознательное представление есть такое представление, которого мы не замечаем, но присутствие которого мы должны, тем не менее, признать на основании посторонних признаков и доказательств.
Это следовало бы считать совершенно неинтересной описательной или классифицирующей работой, если бы она не останавливала нашего внимания ни на чем другом, кроме явлений памяти или ассоциаций, относящихся к бессознательным промежуточным членам. Но хорошо известный эксперимент после «гипнотического внушения» показывает нам, насколько важно различать сознательное от бессознательного и поднимает значение этого различия. При этом эксперименте, как производил его Bernheim, субъект приводится в гипнотическое состояние и затем пробуждается из него. В то время, когда он, в гипнотическом состоянии, находился под влиянием врача, ему было приказано произвести известное действие в назначенное время, например спустя полчаса. После пробуждения субъект снова находится, по всей видимости, в полном сознании и обычном душевном состоянии, воспоминание о гипнотическом состоянии отсутствует, и, несмотря на это, в заранее намеченный момент в душе его выдвигается импульс сделать то или другое, и действие выполняется сознательно, хотя и без понимания, почему это делается. Едва ли возможно иначе объяснить это явление, как предположением, что в душе этого человека приказание оставалось в скрытой форме или бессознательным, пока не наступил данный момент, когда оно перешло в сознание. Но оно всплыло в сознании не во всем целом, а только как представление о действии, которое требуется выполнить. Все другие ассоциированные с этим представлением идеи – приказание, влияние врача, воспоминание о гипнотическом состоянии – остались еще и теперь бессознательными.
Но мы можем еще большему научиться из этого эксперимента. Это нас приведет от чисто описательного к динамическому пониманию явления. Идея внушенного в гипнозе действия в назначенный момент стала не только объектом сознания, она стала деятельной, и это является наиболее важной стороной явления: она перешла в действие, как только сознание заметило ее присутствие. Так как истинным побуждением к действию было приказание врача, то едва ли можно допустить что-нибудь иное, кроме предположения, что идея приказания стала также деятельной.
Тем не менее, эта последняя воспринята была не в сознании, не так, как ее производное – идея действия, она осталась бессознательной и была в то же самое время действующей и бессознательной. Постгипнотическое внушение есть продукт лаборатории, искусственно созданное явление. Но если мы примем теорию истерических явлений так, как она была установлена сначала P. Janet и разработана затем Breuer, к нашим услугам будет огромное количество естественных фактов, которые еще яснее и отчетливее покажут нам психологический характер постгипнотического внушения.
Душевная жизнь истерических больных полна действующими, но бессознательными идеями; от них происходят все симптомы. Это действительно характерная черта истерического мышления – над ним властвуют бессознательные представления. Если у истерической женщины рвота, то это, может быть, произошло от мысли, что она беременна. И об этой мысли она может ничего не знать, но ее легко открыть в ее душевной жизни при помощи технических процедур психоанализа и сделать эту мысль для нее сознательной. Если вы видите у нее жесты и подергивания, подражающие «припадку», она ни в каком случае не сознает своих непроизвольных действий и наблюдает их, быть может, с чувством безучастного зрителя. Тем не менее, анализ может доказать, что она исполняет свою роль в драматическом изображении одной сцены из ее жизни, воспоминание о которой становится бессознательно деятельным во время приступа. То же господство деятельных, бессознательных идей анализом вскрывается как самое существенное в психологии всех других форм невроза.
Из анализа невротических явлений мы узнаем, таким образом, что скрытая или бессознательная мысль не должна быть непременно слабой и что присутствие такой мысли в душевной жизни представляет косвенное доказательство ее принудительного характера, такое же ценное доказательство, как и доставляемое сознанием. Мы чувствуем себя вправе, для согласования нашей классификации с этим расширением наших познаний, установить основное различие между различными видами скрытых и бессознательных мыслей. Мы привыкли думать, что всякая скрытая мысль такова вследствие своей слабости и что она становится сознательной, как только приобретает силу. Но мы теперь убедились, что существуют скрытые мысли, которые не проникают в сознание, как бы сильны они ни были. Поэтому мы предлагаем скрытые мысли первой группы называть предсознательными, тогда как выражение бессознательные (в узком смысле) сохранить для второй группы, которую мы наблюдаем при неврозах. Выражение бессознательное, которое мы до сих пор употребляли только в описательном смысле, получает теперь более широкое значение. Оно обозначает не только скрытые мысли вообще, но преимущественно носящие определенный динамический характер, а именно те, которые держатся вдали от сознания, несмотря на их интенсивность и активность.
Прежде чем продолжать мое изложение, я хочу коснуться еще двух возражений, которые тут могут возникнуть. Первое может быть сформулировано так: вместо того, чтобы устанавливать гипотезу о бессознательных мыслях, о которых мы ничего не знаем, не лучше ли было бы принять, что сознание делимо, что отдельные мысли или иные душевные явления могут образовать особую область сознательного, выделившуюся из главной области сознательной психической деятельности и ставшую чуждой для последней. Хорошо известные патологические случаи, как случай д-ра Azam’a, как будто очень подходят для доказательства, что делимость сознания не является созданием фантазии. Я позволю себе возразить относительно этой теории, что она строит свое основание просто на неправильном употреблении слова «сознательное». Мы не имеем никакого права настолько распространять смысл этого слова, что им обозначается такое сознание, о котором обладатель его ничего не знает. Если философы затрудняются поверить в существование бессознательной мысли, то существование бессознательного сознания кажется мне еще менее приемлемым. Случаи, в которых описывается, как у д-ра Azam’a, деление сознания, могли бы скорее рассматриваться как блуждания сознания, причем последнее, что бы оно собою ни представляло, – колеблется между двумя различными психическими комплексами, которые попеременно становятся то сознательными, то бессознательными. Другое возражение, которое можно было бы предположить, состоит в том, что мы применяем к нормальной психологии выводы, вытекающие главным образом из изучения патологических состояний. Это возражение мы можем устранить фактом, который нам известен благодаря психоанализу. Известные функциональные нарушения, очень часто встречающиеся у здоровых, как, например, оговорки, ошибки памяти и речи, забывание имен и т. п., легко могут быть объяснены влиянием сильных бессознательных мыслей, совершенно так же как и невротические симптомы. Мы приведем еще второй, более убедительный аргумент при дальнейшем изложении.
Сопоставляя предсознательные и бессознательные мысли, мы будем вынуждены покинуть область классификации и составить мнение о функциональных и динамических отношениях в деятельности психики. Мы нашли действующее предсознательное, которое без труда переходит в сознание, и действующее бессознательное, которое остается бессознательным и кажется отрезанным от сознания. Мы не знаем, идентичны ли были вначале эти два рода психической деятельности или они противоположны по своей сущности, но мы можем спросить, почему они сделались различными в потоке психических явлений. На этот вопрос психология немедленно дает нам ясный ответ. Продукт действующего бессознательного никаким образом не может проникнуть в сознание, для достижения этого необходимо некоторое усилие. Если мы попробуем это на себе, в нас появляется ясное чувство обороны, которое необходимо преодолеть, а если мы вызовем его у пациента, то получим недвусмысленные признаки того, что мы называем сопротивлением. Так мы узнаем, что бессознательные мысли исключены из сознания при помощи живых сил, сопротивляющихся их вхождению, тогда как другие мысли, предсознательные, не встречают на этом пути никаких препятствий. Психоанализ не оставляет сомнений в том, что отдаление бессознательных мыслей вызывается исключительно только тенденциями, которые в них воплотились. Ближайшая и наиболее вероятная теория, которую мы можем установить при такой стадии наших знаний, заключается в следующем. Бессознательное есть закономерная и неизбежная фаза процессов, которые проявляет наша психическая деятельность; каждый психический акт начинается как бессознательный и может или остаться таковым, или, развиваясь далее, дойти до сознания, смотря по тому, натолкнется он в это время на сопротивление или нет. Различие между предсознательной и бессознательной деятельностью не очевидно, но возникает только тогда, когда на сцену выступает чувство «обороны». Только с этого момента различие между предсознательными мыслями, появляющимися в сознании и имеющими возможность всегда туда вернуться, и бессознательными мыслями, которым это воспрещено, получает как теоретическое, так и практическое значение. Грубую, но довольно подходящую аналогию этих предполагаемых отношений сознательной деятельности к бессознательной представляет область обыкновенной фотографии. Первая стадия фотографии – негатив; каждое фотографическое изображение должно проделать «негативный процесс», и некоторые из этих негативов, хорошо проявившиеся, будут употреблены для «позитивного процесса», который заканчивается изготовлением портрета. Но различение предсознательной и бессознательной деятельностей и признание разделяющей их перегородки не является ни последним, ни наиболее значительным результатом психоаналитического исследования душевной жизни. Существует психический продукт, который встречается у самых нормальных субъектов и тем не менее является в высшей степени поразительной аналогией с наиболее дикими проявлениями безумия, и для философов он оставался не более понятным, чем само безумие. Я разумею сновидения. Психоанализ углубляется в анализ сновидений; толкование сновидений – это наиболее совершенная из работ, выполненных до настоящего времени молодой наукой. Типический случай образования построения сновидения может быть описан следующим образом: вереница мыслей была пробуждена дневной духовной деятельностью и удержала кое-что из своей действенности, благодаря чему она избежала общего понижения интереса, который приводит к сну и составляет духовную подготовку для сна. В течение ночи этой веренице мыслей удается найти связь с какими-либо бессознательными желаниями, которые всегда имеются в душевной жизни сновидца с самого детства, но бывают обыкновенно вытеснены и исключены из его сознательного существа. Поддержанные энергией, исходящей из бессознательного, эти мысли, остатки дневной деятельности, могут стать снова деятельными и всплыть в сознании в образе сновидения. Таким образом, происходят троякого рода вещи.
Мысли проделали превращение, переодевание и искажение, которые указывают на участие бессознательных союзников.
Мыслям удалось овладеть сознанием в такое время, когда оно не должно было бы им быть доступно.
Кусочек бессознательного всплыл в сознании, что для него иначе было бы невозможно.
Мы овладели искусством отыскивать «дневные остатки» и скрытые мысли сновидений; сравнивая их с явным содержанием сновидения, мы можем судить о превращениях, которые они проделали, и о тех способах, какими совершались эти превращения. Скрытые мысли сновидения ничем не отличаются от продуктов нашей обычной сознательной душевной деятельности. Они заслуживают названия предсознательных и действительно могут стать сознательными в известный момент бодрственного состояния. Но благодаря соединению с бессознательными стремлениями, которое они совершили ночью, они были ассимилированы последними, приведены до известной степени в состояние бессознательных мыслей и подчинены законам, управляющим бессознательной деятельностью. Мы имеем тут случай наблюдать то, чего не могли бы предполагать на основании рассуждений или из какого-либо другого источника эмпирических знаний: что законы бессознательной душевной деятельности во многом отличаются от законов сознательной деятельности. Подробным изучением мы достигаем знания особенностей бессознательного и можем надеяться, что более глубокое исследование явлений, образующих сновидения, даст нам еще больше.
Это исследование закончено едва наполовину, и изложение полученных результатов пока невозможно без того, чтобы не затронуть в высшей степени запутанную проблему снотолкования. Но я не хотел бы закончить настоящую статью, не указав, что изменением и успехом в нашем понимании бессознательного мы обязаны психоаналитическому изучению сновидений.
Бессознательное казалось нам вначале только загадочной особенностью определенного психического процесса; теперь оно значит для нас больше, оно служит указанием на то, что этот процесс входит в сущность известной психической категории, которая известна нам по другим важным характерным чертам, и что оно принадлежит к системе психической деятельности, заслуживающей нашего полного внимания. Систему, которую мы узнаем по тому признаку, что отдельные явления, ее составляющие, не доходят до сознания, мы обозначаем термином «бессознательного», за недостатком лучшего и более точного выражения. Я предлагаю для обозначения этой системы буквы Ubw, как сокращение слова «Unbewusst», бессознательное. Это третий и наиболее важный смысл, который приобрело в психоанализе выражение «бессознательное»
Раздел 2. Психология познавательных процессов
А. Н. Леонтьев. О механизме чувственного восприятия[4]
Развитие научных представлений о конкретных механизмах непосредственно чувственно го познания имеет двоякое значение: психологическое и философское. Последнее делает данную проблему особенно важной, требующей внимательного анализа ее состояния не только с конкретно-научной, но и с гносеологической точки зрения.
Классическая физиология органов чувств XIX в. открыла большое число фундаментальных научных фактов и закономерностей. Она вместе с тем развивала в учении об ощущении теоретическую концепцию, которую последнее время иногда называют у нас «рецепторной», противопоставляя ее рефлекторной концепции ощущений, опирающейся на воззрения И. М. Сеченова и И. П. Павлова. «Рецепторная» концепция, как известно, отвечала субъективно-идеалистической философии. Последняя в свою очередь широко использовала эту концепцию для защиты своих позиций.
Характерное для рецепторной концепции положение состоит в том, что специфическое качество ощущения определяется свойствами рецептора и проводящих нервных путей. Это положение было сформулировано И. Мюллером в качестве особого принципа «специфических энергий органов чувств». Так как принцип этот, взятый в его общем виде, иногда представляется как якобы выражающий лишь самоочевидные и банальные факты вроде того, что глаз по самому своему устройству может давать лишь зрительные ощущения, а ухо – ощущения слуховые, полезно напомнить его более полное изложение. В своем «Курсе физиологии человека» Мюллер выражает этот принцип в следующих тезисах:
«Мы не можем иметь никаких ощущений, вызванных внешними причинами, кроме таких, которые могут вызываться и без этих причин – состоянием наших чувствительных нервов».
«Одна и та же внешняя причина вызывает разные ощущения в разных органах чувств в зависимости от их природы».
«Ощущения, свойственные каждому чувствительному нерву, могут быть вызваны многими и внутренними и внешними воздействиями».
«Ощущение передает в сознание не качества или состояния внешних тел, но качества и состояния чувствительного нерва, определяемые внешней причиной, и эти качества различны для разных чувствительных нервов…»
Из этих тезисов Мюллер делал вполне определенный гносеологический вывод: ощущения не дают нам знание качеств воздействующих вещей, так как отвечают им соответственно качеству самого чувствительного органа (его специфической энергии). В дальнейшем этот субъективно-идеалистический вывод был широко поддержан на том основании, что, опираясь на конкретные знания о процессах ощущения, нет возможности его опровергнуть. С позиций рецепторной теории этого действительно сделать нельзя, так как невозможно отрицать реальность тех фактов, которыми доказывается зависимость специфичности ощущения от устройства органов чувств. Разве фактически не верно, например, что один и тот же, скажем механический, раздражитель вызывает качественно различные ощущения в зависимости от того, на какой орган чувства он воздействует – на глаз, ухо или на поверхность кожи, или что разные раздражители (электрический ток, давление, свет), действуя на один и тот же орган, например на глаз, вызывают ощущения одинакового качества, в данном случае световые? Хотя субъективно-идеалистические выводы ближайшим образом действительно вытекают из принципа специфических энергий, их более глубокое основание лежит в том общем исходном положении, которое и характеризует рассматриваемую концепцию именно как рецепторную. Положение это таково: для возникновения ощущения достаточно, чтобы возбуждение, вызванное в рецепторе той или иной внешней причиной, достигло мозга, где оно непосредственно и преобразуется в субъективное явление. В соответствии с этим положением анализ процессов, порождающих собственно ощущения, ограничивается лишь начальным афферентным звеном реакции; дальнейшие же процессы, вызванные в мозгу пришедшим с периферии возбуждением, рассматриваются как осуществляющие лишь последующую переработку ощущений («бессознательные умозаключения», «ассоциативный синтез» и т. п.), но в возникновении самого ощущения не участвующие. Тем более это относится к ответным двигательным процессам, которые вообще выпадают из поля зрения рецепторной концепции.
Собственно говоря, такое понимание ощущения только воспроизводило взгляд на ощущение всей старой субъективно-эмпирической психологии, которая считала его результатом чисто пассивного процесса, а активное начало приписывало особой субстанции – душе, активной апперцепции, сознанию. Именно это положение о якобы пассивном, чисто созерцательном характере ощущения (и вообще чувственного познания), о его отделенности от деятельности, от практики и, наоборот, подчеркивание чисто духовной активности, активности сознания, прежде всего, и смыкало рецепторную концепцию ощущения с субъективно-идеалистической философией. Оно определило собой и тот односторонний подбор фактов, которые составили эмпирическую основу мюллеровского принципа и вытекающих из него гносеологических выводов.
Эта односторонность подбора фактов, привлекавшихся рецепторной концепцией, выразилась в том, что они далеко не исчерпывали всех существенных данных, характеризующих процесс ощущения, и, более того, стояли в противоречии с некоторыми хорошо известными уже в то время фактами. К их числу в первую очередь относятся факты, свидетельствующие об участии в возникновении ощущения моторных процессов, а также такие явления, как взаимодействие органов чувств.
Естественно поэтому, что еще в период, когда периферическая концепция занимала господствующее положение, под влиянием накопления все более широкого круга научных данных, в частности в связи с развитием сравнительно-анатомического, эволюционного подхода к органам чувств, начали формироваться другие научные взгляды на природу ощущения.
Особенно серьезно изменило понимание природы специфичности органов чувств развитие эволюционного подхода. Данные изучения эволюции давали основание к утверждению очень важного тезиса о том, что сами органы чувств являются продуктом приспособления к воздействиям внешней среды и поэтому по своей структуре и свойствам адекватны этим воздействиям.
Вместе с тем указывалось, что, обслуживая процессы приспособления организма к среде, органы чувств могут успешно выполнять свою функцию лишь при условии, если они верно отражают ее объективные свойства. Таким образом, принцип «специфических энергий органов чувств» все более переосмысливался в принцип «органов специфических энергий», т. е. принцип, согласно которому, наоборот, свойства органов чувств зависят от специфических особенностей воздействующих на организм энергий внешних источников. Нужно отметить, что эта позиция сыграла выдающуюся роль в критике тех гносеологических выводов, которые делались из периферической концепции ощущения.
Говоря о развитии эволюционного, генетического подхода, следует указать также на роль изучения функционального развития ощущений. Я имею в виду работы, которые были посвящены изучению сдвигов в порогах ощущения под влиянием различных внешних факторов, в частности под влиянием условий профессиональной деятельности или специальных упражнений, организуемых в экспериментальных целях.
Среди этих работ особый интерес представляют исследования процесса перестройки ощущений в опытах с введением искусственных условий, искажающих работу органов чувств. Этими опытами (Страттон, среди новейших авторов И. Колер) было показано, что происходящая в этих условиях перестройка всегда идет в сторону нормализации ощущений, т. е. в сторону восстановления адекватности их опыту практических контактов с предметами окружающего мира.
Особое место принадлежит исследованиям взаимодействия ощущений, которые в 30-х годах вел С. В. Кравков и его школа. С точки зрения задачи преодоления старой теории ощущения принципиальное значение этих исследований состоит в том, что они экспериментально показали наличие постоянного взаимодействия органов чувств, осуществляющегося, в частности, уже на низших неврологических уровнях; этим они разрушили взгляд на ощущения как на самостоятельные элементы, объединение которых является исключительно функцией мышления, сознания.
Наконец, чрезвычайно важный вклад в развитие материалистического понимания природы ощущения внесли исследования, посвященные изучению участия эффекторных процессов в возникновении ощущения. Сначала эти исследования затрагивали почти исключительно сферу ощущений, связанных с деятельностью контактных, «праксических» рецепторов; затем вместе с открытием эффекторных волокон в составе чувствительных нервов зрительного, слухового и других рецепторов они были распространены и на анализ механизмов ощущений, связанных с дистантрецепторами, с рецепторами-«созерцателями». Эти теперь очень многочисленные и разносторонние исследования привели к общему выводу, который в острой формулировке может быть выражен так: ощущение как психическое явление при отсутствии ответной реакции или при ее неадекватности невозможно; неподвижный глаз столь же слеп, как неподвижная рука астереогностична…
Анализ осязания обладает тем преимуществом, что он имеет дело с процессом, существеннейшее содержание которого выступает в форме внешнего движения, легко доступного изучению.
Попытаемся всмотреться ближе в этот процесс. Это такой приспособительный процесс, который не осуществляет ни ассимилятивной, ни оборонительной функции; вместе с тем он не вносит и активного изменения в самый объект. Единственная функция, которую он выполняет, – функция воспроизведения своей динамикой отражаемого свойства объекта – его величины и формы; свойства объекта преобразуются им в сукцессивный рисунок, который затем вновь «развертывается» в явление симультанного чувственного отражения. Таким образом, специфическая особенность механизма процесса осязания заключается в том, что это есть механизм уподобления динамики процесса в рецептирующей системе свойствам внешнего воздействия.
Нет надобности умножать факты, иллюстрирующие выдвигаемое понимание принципиального механизма отражения применительно к процессу осязания и в пределах аналогии, отмеченной Сеченовым, к зрению. Оно едва ли может здесь серьезно оспариваться. Главный вопрос заключается в другом, а именно: может ли быть распространено это понимание также и на такие органы чувств, деятельность которых не включает в свой состав двигательных процессов, контактирующих с объектом? Иначе говоря, главным является вопрос о возможности рассматривать уподобление процессов в рецептирующей системе как общий принципиальный механизм непосредственно чувственного отражения природы воздействующих свойств действительности. Одним из наименее «моторных» органов чувств, несомненно, является слуховой орган. Ухо, если можно так сказать, максимально непрактично, максимально отделено от аппарата внешних мышечных движений; это типичный орган – «созерцатель», откликающийся на поток звуков процессами, совершающимися в чувствительном приборе, скрытом в толще кости. Это впечатление неподвижности органа слуха сохраняется, несмотря на наличие внутреннего проприомоторного аппарата уха; что же касается двигательных реакций наружного уха, то о малой их существенности достаточно свидетельствует факт отсутствия их у большинства людей.
Естественно поэтому, что по отношению к слуху вопрос о роли моторных процессов в отражении специфического качества звука является особенно острым.
Однако именно исследование слуха и дало основание выдвинуть изложенное выше понимание механизма чувственного отражения.
Некоторое время тому назад и в несколько другой связи мы избрали для экспериментального изучения вопрос о строении функциональной системы, лежащей в основе звуковысотного слуха. Уже предварительный анализ привел нас к необходимости учитывать факт участия деятельности голосового аппарата в процессе различения звуков по высоте – факт, на значение которого указывали Келер и ряд других авторов, в частности у нас Б. М. Теплов.
Применяя специальную методику исследования порогов звуковысотной различительной чувствительности, основанную на использовании разнотембральных звуков для сравнения их по высоте, мы получили возможность экспериментально показать наличие в этих условиях строгой зависимости между порогами различительной звуковысотной чувствительности и точностью вокализации заданной высоты, т. е. точностью интонирования звуков.
Приведенные опыты доказали далее, что определяющим в анализе звуков по высоте является процесс интонирования, что, иначе говоря, величина порогов зависит от способности интонировать звуки и что пороги звуковысотной различительной чувствительности падают вслед за «налаживанием» правильного интонирования. Таким образом, звуковысотный анализ выступил в этих опытах как функция, в основе которой лежит система рефлекторных процессов, включающая в качестве необходимого и решающего компонента моторные реакции голосового аппарата в виде внешнего, громкого, или внутреннего, неслышного, «пропевания» высоты воспринимаемого звука.
Более общее значение этого факта могло быть понято благодаря тому, что исследование, о котором идет речь, было направлено на то, чтобы показать строение звуковысотного слуха как особой функции, не совпадающей с речевым слухом. Сравнительный анализ строения обеих этих функциональных систем слуха позволил выяснить более подробно роль их моторных звеньев.
Объективно звук, как, впрочем, и другие воздействия, характеризуется несколькими параметрами, т. е. комплексом определенных конкретных качеств, в частности высотой и тембром. Восприятие звука и есть не что иное, как его отражение в этих его качествах; ведь нельзя представить себе «бескачественного» отражения. Другое дело, в каких именно качествах он отражается. Особенности «набора» отражаемых в ощущении качеств и дифференцируют различные рецептирующие системы как системы разного слуха: с одной стороны, слуха звуковысотного, с другой – специфически речевого.
В связи с тем, что периферический орган – рецептор – является у обеих этих систем общим, вопрос о различии их начального звена представляется более сложным. Зато весьма отчетливо выступает их несовпадение со стороны их моторных компонентов. Основной факт состоит здесь в том, что если у данного испытуемого не сложилась функциональная система, характеризующаяся участием вокальной моторики, то звуковые компоненты собственно по высоте им не дифференцируются. Этот кажущийся несколько парадоксальным факт, тем не менее, может считаться вполне установленным.
Принципиально так же, по-видимому, обстоит дело и с системой речевого слуха, обеспечивающей адекватное отражение специфического качества (инварианта) звуков речи (имеется в виду речь на нетональных языках), с тем, однако, различием, что место вокальной моторики занимает в этом случае движение органов собственно артикуляции. Известно, например, что при восприятии речи на фонетически совершенно чужом нам языке мы специфического качества речевых звуков первоначально не различаем. Роль артикуляторных движений в восприятии речи прямо подтверждается также и данными экспериментальных исследований.
Таким образом, мы стоим перед следующим положением вещей: раздражимость периферического слухового органа создает, собственно, только необходимое условие отражения звука в его специфических качествах; что же касается того, в каких именно качествах осуществляется его отражение, то это определяется участием того или другого моторного звена в рецептирующей рефлекторной системе. При этом следует еще раз подчеркнуть, что моторные звенья рецептирующей системы, о которых идет речь, не просто дополняют или усложняют конечный сенсорный эффект, но входят в число основных компонентов данной системы. Достаточно сказать, что если вокально-моторное звено не включено в процесс восприятия высоты звуков, то это приводит к явлению настоящей «звуковысотной глухоты». Следовательно, отсутствие в рецептирующей системе моторного звена, адекватного отражаемому качеству звука, означает невозможность выделения этого качества. Наоборот, как только происходит налаживание процесса интонирования звука, оцениваемого по его высоте, различительные пороги резко падают – иногда в 6–8 и даже в 10 раз.
В каком же смысле процесс интонирования является адекватным отражаемому качеству звука? Очевидно, в том же смысле, в каком движение ощупывания при осязании является адекватным контуру предмета: движения голосовых связок воспроизводят объективную природу оцениваемого свойства воздействия…
Между обоими этими процессами существует, однако, и различие. В случае осязательного восприятия рука вступает в соприкосновение с самим объектом и ее движение, «снимающее» его контур, всегда развертывается во внешнем поле.
Иначе бывает при восприятии звука. Хотя и в этом случае процесс уподобления первоначально происходит также в форме внешне выраженного движения (внешнее пропевание), но оно способно далее интериоризоваться, т. е. приобрести форму внутреннего пропевания, внутреннего «представливания» (Теплов). Это возможно вследствие того, что собственный сенсорный периферический аппарат и эффектор данной рецептирующей системы не совмещаются в одном и том же органе, как это имеет место в системе осязания. Поэтому если бы при осязании внешнее движение редуцировалось, то это вызвало бы прекращение экстрацептивных сигналов, воздействующих на руку, и тактильная рецепция формы предмета стала бы вообще невозможной. Другое дело при слуховом восприятии: в этом случае редукция внешнедвигательной формы процесса уподобления (т. е. переход от громкого пропевания к внутреннему «представливанию» высоты), конечно, не устраняет и не меняет воздействия экстрасенсорных раздражителей на периферический слуховой орган и слуховой рецепции не прекращает.
Данные, характеризующие роль и особенности эффекторного звена в рефлекторной системе звуковысотного слуха, позволяют выдвинуть следующую общую схему процесса анализа звуков по высоте.
Звуковой раздражитель, воздействующий на периферический орган слуха, вызывает ряд ответных реакций, в том числе специфическую моторную реакцию интонирования с ее проприоцептивной сигнализацией. Реакция эта не является сразу же точно воспроизводящей высоту воздействующего звука, но представляет собой процесс своеобразного «поиска», активной ориентировки, который и продолжается до момента сближения внутрирецептирующей системы интонируемой высоты с основной высотой воздействующего звука. Далее в силу наступающего своеобразного «резонанса» частотных сигналов, идущих от аппарата вокализации, с сигналами, поступающими от слухового рецептора (или удерживающимися «операционной памятью»), этот динамический процесс стабилизируется, что и дает выделение высоты звука, т. е. отражаемого его качества.
Это представление о ходе процесса звуковысотного восприятия было подтверждено полученными нами экспериментальными данными…
Выдвигаемая гипотеза представляет собой попытку ответить на наиболее трудный вопрос теории ощущения: как возможно детектирование сигналов, приходящих от чувствительных экстрацептивных приборов, в результате которого происходит воспроизведение специфического качества раздражителя? Ведь первоначальная трансформация внешних воздействий в рецепторах есть их преобразование, т. е. кодирование.
При этом «частотный код» нервных процессов сохраняется на всем их пути, что составляет необходимое условие деятельности коры. Иначе взаимодействие нервных процессов, отвечающих разнокачественным раздражителям, было бы невозможно. При этом условии механизм воспроизведения специфического качества воздействия должен включать в себя также и такие процессы, которые способны выразить собой природу воздействующего свойства. Таковы процессы ощупывания предмета, слежения взором, интонирования звуков, осуществляющиеся при участии мышц.
Всегда ли, однако, детектирование качества воздействия должно происходить при участии мышечной периферии или же следует говорить об участии в этом процессе вообще тех или иных эфферентов? Это вопрос, требующий особого рассмотрения, как и еще более важный вопрос об общебиологическом смысле и о происхождении самой функции уподобления.
Таким образом, гипотеза, о которой идет речь, оставляет многие важные вопросы открытыми. Гипотеза эта является, на мой взгляд, совершенно предварительной попыткой сделать дальнейший шаг в развитии концепции, рассматривающей ощущения как процессы, которые, опосредствуя связи с воздействующей предметной средой, выполняют ориентирующую, сигнальную и вместе с тем отражательную функцию.
А. Бергсон. Две формы памяти[5]
Две формы памяти. Я хочу выучить наизусть стихотворение и прочитываю его вслух стих за стихом, а затем повторяю несколько раз. Он запечатлелся в моей памяти. Теперь я пытаюсь дать себе отчет в том, как урок был выучен, и вызываю в своем представлении те фразы, которые я, одну за другою, прочел. Каждое из последовательных чтений встает перед моим умственным взором в своей индивидуальной особенности; я снова вижу его вместе со всеми теми обстоятельствами, которые его сопровождали и в рамку которых оно все еще остается включенным; оно отличается от всех предыдущих и всех последующих чтений уже самим местом, занимаемым им во времени; одним словом, каждое из таких чтений снова проходит передо мною, как определенное событие моей истории. И тут опять-таки говорят, что эти образы – мои воспоминания, что они запечатлелись в моей памяти. В обоих этих случаях употребляются одни и те же слова. Обозначают ли они, однако, тот же самый предмет? Знание стихотворения, которое я запомнил, выучив наизусть, имеет все признаки привычки. Как и привычка, оно приобретено посредством повторения одного и того же усилия. Как и привычка, оно потребовало сначала расчленения, потом восстановления целостного действия. Наконец, как всякое привычное упражнение моего тела, оно включено в механизм, который весь целиком приходит в движение под влиянием начального толчка, в замкнутую систему автоматических движений, которые следуют друг за другом всегда в одинаковом порядке и занимают всегда одинаковое время.
Напротив, воспоминание какого-либо определенного чтения, например второго или третьего, не имеет ни одного из признаков привычки. Его образ, очевидно, запечатлелся в памяти сразу, ибо другие чтения, по самому определению, суть отличные от него воспоминания. Это как бы событие моей жизни; для него существенна определенная дата, а следовательно, невозможность повторяться. Все, что присоединили к нему позднейшие чтения, могло явиться лишь изменением его первоначальной природы; и если мое усилие вызвать в памяти этот образ становится тем легче, чем чаще я его повторяю, то самый образ, рассматриваемый в себе, конечно, уже с самого начала таков, каким он останется навсегда. Быть может, скажут, что эти два вида памяти – воспоминание отдельного чтения и знание урока – различаются между собой лишь количественно, что последовательные образы, возникающие при каждом чтении, накладываются друг на друга и что выученный урок есть просто составной образ, являющийся результатом такого наложения. Бесспорно, что каждое из последовательных чтений отличается от предыдущего, между прочим, тем, что урок оказывается лучше выученным. Несомненно, однако, и то, что каждое из них, рассматриваемое именно как новое прочитывание, а не как все лучше и лучше усвояемый урок, абсолютно довлеет в себе, пребывает в том виде, в каком оно раз осуществилось, и образует вместе со всеми сопровождающими обстоятельствами несводимый момент моей истории. Можно даже пойти дальше и сказать, что сознание вскрывает глубокую разницу, разницу по существу, между этими двумя родами воспоминания. Воспоминание такого-то чтения есть представление, и только представление; оно дается интуицией моего духа, которую я могу по желанию удлинить или укоротить; я произвольно отвожу ему ту или другую длительность; ничто не препятствует мне охватить его сразу, как окидывают одним взглядом картину. Напротив, припоминание выученного урока, даже когда я ограничиваюсь повторением его про себя, требует вполне определенного времени, а именно ровно столько времени, сколько нужно для того, чтобы выполнить, хотя бы только мысленно, одно за другим все те движения, которые необходимы для произнесения соответственных слов; следовательно, это уже не представление, это действие. И в самом деле, урок, после того как вы его раз выучили, не носит уже на себе никакой отметки, выдающей его происхождение и позволяющей отнести его к прошлому; он составляет принадлежность моего настоящего в таком же смысле, как, например, привычное умение ходить или писать; он скорее изживается, «проделывается», чем представляется; я мог бы принять его за врожденную способность, если бы вместе с ним в моей памяти не возникал ряд тех последовательных представлений-чтений, посредством которых я его усвоил. Но представления эти независимы от урока, и так как они предшествовали его усвоению и воспроизведению, то урок, раз выученный, мог бы также обойтись и без них. Доведя это основное различие до конца, мы можем представить себе две теоретически самостоятельные и независимые друг от друга памяти. Первая регистрирует в форме образов-воспоминаний все события нашей повседневной жизни, по мере того как они развертываются во времени; она не пренебрегает никакой подробностью; она оставляет каждому факту, каждому движению его место и его дату. Без всякой задней мысли о пользе или практическом применении, но просто в силу естественной необходимости становится она складочным местом для прошлого. Благодаря ей наш разум, или, лучше сказать, рассудок, получает возможность узнать какое-нибудь уже испытанное раньше восприятие; к ней мы прибегаем всякий раз, когда в поисках известного образа поднимаемся по склону нашей прошлой жизни. Но всякое восприятие продолжается в зачаточное действие; и по мере того как однажды воспринятые нами образы закрепляются, выстраиваясь один за другим вдоль этой памяти, продолжающие их движения видоизменяют организм, создавая в нашем теле новые предрасположения к действию. Так складывается опыт совершенно нового рода, который отлагает в теле ряд вполне выработанных механизмов, выполняющих все более и более многочисленные и разнообразные реакции на внешние раздражения, дающих совершенно готовые ответы на непрерывно растущее число возможных запросов. Мы сознаем эти механизмы в тот момент, когда они вступают в действие, и это сознание всех прошлых усилий, скопившихся в настоящем, все еще есть память, но память, глубоко отличная от охарактеризованной выше, всегда устремленная к действию, пребывающая в настоящем и не видящая ничего, кроме будущего. От прошлого она удержала только разумно координированные движения, представляющие собой накопленные усилия; она обретает эти прошлые усилия не в отражающих их образах-воспоминаниях, а в том строгом порядке и систематическом характере, которыми отличаются движения, выполняемые нами в настоящее время. По правде говоря, она уже не дает нам представления о нашем прошлом, она его разыгрывает; и если она все-таки заслуживает наименования памяти, то уже не потому, что сохраняет образы прошлого, а потому, что продолжает их полезное действие вплоть до настоящего момента.
Из этих двух памятей, из которых одна воображает, а другая повторяет, последняя может замещать собой первую и зачастую даже создавать ее иллюзию. Когда собака встречает своего хозяина радостным лаем и ласкается к нему, она, без сомнения, узнает его; но едва ли такое узнавание предполагает возникновение прошлого образа и сближение этого образа с текущим восприятием. Не состоит ли оно, скорее, просто в том, что животное сознает ряд тех особых положений, которые занимает его тело, и привычка к которым выработалась у него под влиянием близких отношений к хозяину, так что в настоящий момент они чисто механически вызываются в нем самым восприятием хозяина? Остережемся идти слишком далеко по этому пути! Даже у животного смутные образы прошлого, быть может, выдвигаются из-за текущего восприятия; мыслимо даже, что прошлое животного все целиком потенциально отпечатывается в его сознании; но это прошлое не может заинтересовать животное настолько, чтобы отделиться от настоящего, которое его к себе приковывает, а потому акты узнавания должны им, скорее, переживаться, чем мыслиться. Чтобы вызвать прошлое в форме образа, надо иметь способность отвлекаться от настоящего действия, надо уметь придавать цену бесполезному, нужна воля к грезам. Возможно, что один только человек способен к усилию этого рода. Но и мы, люди, восходя таким образом к прошлому, находим его всегда ускользающим, как бы бегущим от нашего взора, словно эта регрессивная память встречает сопротивление в другой памяти, более естественной, которая, двигаясь вперед, влечет нас к действию и к жизни.
Когда психологи говорят о воспоминании как о сложившейся привычке, как о впечатлении, все глубже и глубже внедряющемся в нас посредством повторения, они забывают, что огромное большинство наших воспоминаний касаются таких событий и подробностей нашей жизни, к существу которых относится обладание определенной датой, а следовательно, невозможность когда-либо воспроизводиться. Воспоминания, приобретаемые умышленно посредством повторения, редки, исключительны. Напротив, регистрирование нашей памятью фактов и образов, единственных в своем роде, осуществляется непрерывно, во все моменты нашей жизни. Но мы скорее замечаем такие воспоминания, которые сознательно усваиваются нами, ибо как раз они нам наиболее полезны. А так как усвоение этих воспоминаний путем повторения того же самого усилия похоже на уже известный нам процесс приобретения привычки, то мы, естественно, обнаруживаем склонность выдвигать воспоминания этого рода на первый план, рассматривать их как образец всякого воспоминания, т. е. видеть и в самопроизвольном воспоминании то же самое явление в зачаточном состоянии, как бы приступ к уроку, который предстоит выучить наизусть. Но как же не заметить, что существует коренное различие между тем, что должно создаваться посредством повторения, и тем, что по самому существу своему не может повторяться? Самопроизвольное воспоминание является сразу совершенно законченным; время ничего не может прибавить к этому образу, не извращая самой его природы; он сохраняет в памяти свое место и свою дату. Наоборот, усвоенное нами воспоминание выходит из-под власти времени, по мере того как урок все лучше и лучше выучивается; оно становится все более и более безличным, все более и более чуждым нашей прошлой жизни. Итак, повторение отнюдь не может иметь результатом превращение первого воспоминания во второе; его роль состоит просто в том, чтобы все полнее и полнее использовать те движения, в которые продолжается воспоминание первого рода, сорганизовать их в одно целое и построить таким образом механизм, создать новую телесную привычку. Но такая привычка есть воспоминание лишь постольку, поскольку я припоминаю, как я ее приобрел; а припоминаю это лишь постольку, поскольку обращаюсь к моей самопроизвольной памяти, которая датирует события и заносит каждое из них в свой список только один раз. Таким образом, из тех двух видов памяти, которые мы только что разграничили, первый является, так сказать, памятью по преимуществу. Память второго рода – та, которую обыкновенно изучают психологи, – есть скорее привычка, освященная памятью, чем сама память…
Покажем, как при усвоении чего-либо обе памяти идут рука об руку, оказывая друг другу взаимную поддержку. Повседневный опыт показывает, что уроки, вызубренные при помощи двигательной памяти, повторяются автоматически; но из наблюдения патологических случаев явствует, что автоматизм простирается здесь гораздо дальше, чем мы обыкновенно думаем. Замечено, что душевнобольные дают иногда разумные ответы на ряд вопросов, смысла которых они не понимают; язык функционирует у них наподобие рефлекса. Страдающие афазией, не способные произвольно произнести ни одного слова, безошибочно вспоминают слова песни, когда ее поют. Они в состоянии также бегло произнести молитву, ряд чисел, перечислить дни недели или названия месяцев. Таким образом, механизмы, крайне сложные и достаточно тонкие для того, чтобы произвести иллюзию разумности, могут, раз они построены, функционировать сами собой, а следовательно, обыкновенно подчиняются только начальному толчку со стороны нашей воли. Но что происходит в то время, как мы их повторяем? Когда мы упражняемся, стараясь, например, выучить урок, то не присутствует ли невидимо в нашей душе с самого начала тот образ, который мы хотим воссоздать при помощи движений? Уже при первом повторении урока наизусть смутное чувство какого-то беспокойства дает нам возможность узнать, что мы только что сделали ошибку, словно предостерегающий голос слышится нам в таких случаях из темных глубин нашего сознания. Сосредоточьте же ваше внимание на том, что вы испытываете, и вы почувствуете, что полный образ здесь, перед вами, но неуловим, как настоящий призрак, который исчезает в тот самый момент, когда ваша двигательная активность пытается фиксировать его очертания. Во время ряда новейших опытов, предпринятых, впрочем, для совершенно иной цели, пациенты заявляли, что испытывают впечатление именно такого рода. Перед их глазами в течение нескольких секунд держали ряд букв, предлагая удержать последние в памяти. Но для того, чтобы помешать им подчеркнуть наблюдаемые буквы движениями, соответствующими их произнесению, от испытуемых требовали непрерывного повторения одного и того же слога в течение того времени, пока они созерцали образ. В результате явилось своеобразное психологическое состояние, при котором людям казалось, что они находятся в полном обладании зрительного образа, «не будучи, однако, в состоянии воспроизвести хотя бы малейшую его часть: в тот момент, когда они могли бы это сделать, строчка к их величайшему изумлению исчезала. Говоря словами одного из них, в основе этого состояния было представление целого, своего рода всеохватывающая сложная идея, между отдельными частями которой чувствовалось невыразимое словами единство». Это самопроизвольное воспоминание, которое, несомненно, скрывается позади воспоминания приобретенного, может обнаружиться, если на него внезапно падает луч света; но оно ускользает при малейшей попытке схватить его посредством умышленного припоминания. Исчезновение ряда букв, образ которых, как казалось наблюдателю, он удерживает в памяти, происходит тогда, когда наблюдатель начинает повторять буквы: «это усилие как бы выталкивает остальную часть образа за пределы сознания». Проанализируйте теперь те приемы, которые рекомендует воображению мнемотехника, и вы найдете, что задача этого искусства как раз и состоит в том, чтобы выдвигать на первый план стушевывающееся самопроизвольное воспоминание и предоставлять его, подобно воспоминанию активному, в наше распоряжение; для достижения этого надо, прежде всего, подавить все бессильные потуги действующей или двигательной памяти. Способность к умственной фотографии, говорит один писатель, принадлежит, скорее, подсознанию, чем сознанию; она с трудом повинуется призывам воли. Чтобы упражнять ее, надо развить в себе такие привычки, как, например, уменье сразу удержать в памяти различные сочетания точек, даже не помышляя о сосчитывании их: необходимо до известной степени подражать мгновенности этой памяти, если мы желаем подчинить ее себе. И все-таки она остается капризной в своих проявлениях; а так как те воспоминания, которые она приносит с собой, носят на себе печать грез, то сколько-нибудь систематическое вмешательство ее в нашу духовную жизнь редко обходится без глубокого расстройства умственного равновесия.
Резюмируя предыдущее, мы скажем, что прошлое, как мы это и предвидели, может, по-видимому, накапливаться в двух крайних формах: с одной стороны, в виде утилизирующих его двигательных механизмов, с другой стороны, в виде индивидуальных образов-воспоминаний, которые зарисовывают все события, сохраняя их собственные очертания, их собственные краски, их место во времени. Первая из этих двух памятей действительно ориентирована в согласии с требованиями нашей природы; вторая, предоставленная самой себе, избрала бы скорее противоположное направление. Первая, приобретенная при помощи сознательного усилия, остается в зависимости от нашей воли; вторая, совершенно самопроизвольная, обнаруживает такую же капризность при воспроизведении, как и верность в сохранении образов. Единственная правильная и надежная услуга, которую вторая память оказывает первой, состоит в том, что первая может лучше сделать свой выбор при свете образов, доставляемых второй, – образов, которые предшествовали положению вещей, похожему на настоящее, или следовали за ним: в этом заключается ассоциация идей. Это единственный случай, когда память ретроспективная правильно подчиняется памяти повторяющей. Во всех других случаях мы предпочитаем построить механизм, который позволяет нам по мере надобности заново нарисовать образ, ибо мы прекрасно чувствуем, что не можем рассчитывать на его самопроизвольное появление. Таковы две крайние формы памяти, если рассматривать каждую из них в чистом виде. Заметим тотчас же: истинную природу воспоминания не удалось до сих пор распознать только потому, что исследователи берут обычно его промежуточные и до известной степени нечистые формы. Вместо того чтобы сначала разделить эти два элемента – образ-воспоминание и движение, а потом поискать тот ряд операций, посредством которого им удается, потеряв кое-что из своей первоначальной чистоты, слиться друг с другом, – вместо всего этого рассматривают лишь смешанное явление, возникающее как результат их срастания. Будучи смешанным, явление это одной своей стороной представляет двигательную привычку, другой своей стороной – образ, более или менее сознательно локализованный… Мы перейдем теперь к рассмотрению этих промежуточных состояний и попытаемся выделить в них то, что приходится на долю зачаточного действия, и то, что относится к независимой памяти, т. е. к образам-воспоминаниям. Каковы же эти состояния? Представляя одной своей стороной движения, они должны, согласно нашей гипотезе, продолжаться в текущее восприятие; но вместе с тем в качестве образов они должны воспроизводить прошлые восприятия. Но тот конкретный акт, посредством которого наше прошлое снова схватывается нами в настоящем, есть узнавание.
Д. Н. Узнадзе. Установка у человека. Проблема объективации[6]
Нет ничего характернее для человека, чем тот факт, что окружающая его действительность влияет на него двояко – либо прямо, посылая ему ряд раздражений, непосредственно действующих на него, либо косвенно, через словесные символы, которые сами, не обладая собственным независимым содержанием, лишь презентируют нам то или иное раздражение. Человек воспринимает либо прямое воздействие со стороны процессов самой действительности, либо воздействие словесных символов, представляющих эти процессы в специфической форме. Если поведение животного определяется лишь воздействием актуальной действительности, то человек не всегда подчиняется непосредственно этой действительности; большей частью он реагирует на ее явления лишь после того, как он преломил их в своем сознании, лишь после того, как он осмыслил их. Само собой разумеется, это очень существенная особенность человека, на которой, быть может, базируется все его преимущество перед другими живыми существами.
Но возникает вопрос, в чем заключается эта его способность, на чем, по существу, основывается она.
Согласно всему тому, что мы уже знаем относительно человека, естественна мысль о роли, которую может играть в этом случае его установка. Перед нами стоит задача установить роль и место этого понятия в жизни человека.
Если верно, что в основе нашего поведения, развивающегося в условиях непосредственного воздействия окружающей нас среды, лежит установка, то может возникнуть вопрос, что же происходит с ней в другом плане – плане вербальной, репрезентированной в словах действительности? Играет ли и здесь какую-либо роль наша установка или эта сфера нашей деятельности построена на совершенно иных основаниях? <…>
Область установок у человека. Допустим, что акт объективации завершился и возникший на ее базе процесс мышления разрешил задачу во вполне определенном смысле. За этим обычно следует стимуляция установки, соответствующей разрешенной задаче, а затем и усилие для целей ее осуществления, ее проведения в жизнь. Таков чисто человеческий путь психической деятельности.
Возникает вопрос: не считать ли в процессе активности психической жизни человека этот путь единственно необходимым путем, который не оставляет более места для непосредственной активности установки?
Выше, при анализе проблемы объективации, мы пришли к выводу, что субъект обращается к ее актам только в том случае, когда в этом возникает необходимость – когда он стоит перед задачей, не поддающейся разрешению под непосредственным руководством установки. Но если этого нет, если задача может быть разрешена и непосредственно, на базе установки, то в таких случаях в активности объективации нет нужды и субъект обходится лишь мобилизацией соответствующих установок.
Допустим, что задача впервые была разрешена на базе объективации. В таких случаях, при повторном выступлении той же или аналогичной задачи, в объективации нет более нужды и она разрешается на базе соответствующей установки. Раз найденная установка может пробуждаться к жизни и непосредственно, помимо впервые опосредовавшей ее объективации. Так растет и развивается объем установочных состояний человека: в него включаются не только непосредственно возникающие установки, но и те, которые когда-то раньше были опосредованы актами объективации.
Круг установок человека не замыкается такого рода установками – установками, опосредованными случаями объективации и возникшими на ее основе собственными актами мышления и воли. Сюда нужно отнести и те установки, которые впервые когда-то были построены на базе объективации других, например, творчески установленных субъектов, но затем они перешли в достояние людей в виде готовых формул, не требующих более непосредственного участия процессов объективации. Опыт и образование, например, являются дальнейшими источниками такого же рода формул. Им посвящается специальный период в жизни человека – школьный период, захватывающий все более и более значительный отрезок времени нашей жизни. Но обогащение такого же рода сложными установками продолжается и в дальнейшем – опыт и знание человека беспрерывно растут и расширяются.
Таким образом, расширение области человеческих установок в принципе не имеет предела. В нее включаются не только установки, развивающиеся непосредственно на базе актуальных потребностей и ситуации их удовлетворения, но и те, которые возникали когда-нибудь на базе лично актуализованных объективаций или были опосредованы при содействии образования – изучения данных науки и техники. <…>
Подведем итоги сказанному. На человеческой ступени развития мы встречаемся с новой особенностью психической активности, с особенностью, которую мы характеризуем как способность объективации. Она заключается в следующем: когда человек сталкивается в процессе своей активности с каким-нибудь затруднением, то он, вместо того чтобы продолжать эту активность в том же направлении, останавливается на некоторое время, прекращает ее, с тем чтобы получить возможность сосредоточиться на анализе этого затруднения. Он выделяет обстоятельства этого последнего из цепи непрерывно меняющихся условий своей активности, задерживает каждое из этих обстоятельств перед умственным взором, чтобы иметь возможность их повторного переживания, объективирует их, чтобы, наблюдая за ними, решить, наконец, вопрос о характере дальнейшего продолжения активности.
Непосредственным результатом этих актов, задерживающих, останавливающих нашу деятельность, является возможность признания их как таковых – возможность идентификации их: когда мы объективируем что-нибудь, то этим мы получаем возможность сознавать, что оно остается равным себе за все время объективации, что оно остается самим собой. Говоря короче, в таких случаях вступает в силу, прежде всего, принцип тождества.
Но этого мало! Раз у нас появляется идея о тождественности объективированного отрезка действительности с самим собой, то ничто не мешает считать, что мы повторно можем переживать эту действительность любое число раз, что она за все это время остается равной себе. Это создает психологически в условиях общественной жизни предпосылку для того, чтоб объективированную и, значит, тождественную себе действительность обозначить определенным наименованием, короче говоря, это создает возможность зарождения и развития речи.
На базе объективированной действительности и развивающейся речи развертывается далее и наше мышление. Это оно представляет собой могучее орудие для разрешения возникающих перед человеком затруднений, оно решает вопрос, что нужно сделать для того, чтобы успешно продолжать далее временно приостановленную деятельность. Это оно дает указания на установку, которую необходимо актуализировать субъекту для удачного завершения его деятельности.
Но для того чтобы реализовать указания мышления, нужна специфически человеческая способность – способность совершать волевые акты – необходима воля, которая создает человеку возможность возобновления прерванной активности и направления ее в сторону, соответствующую его целям.
Таким образом, мы видим, что в сложных условиях жизни человека, при возникновении затруднений и задержке в его деятельности, у него активируется прежде всего способность объективации – эта специфически человеческая способность, на базе которой возникают далее идентификация, наименование (или речь) и обычные формы мышления, а затем, по завершении мыслительных процессов, и акты воли, снова включающие субъекта в целесообразном направлении в процесс временно приостановленной деятельности и гарантирующие ему возможность удовлетворения поставленных им себе целей.
Объективация – специфически человеческая способность, и на ее базе существенно усложняется и запас фиксированных у человека установок. Нужно иметь в виду, что установка, опосредованная на базе объективации, может активироваться повторно, в соответствующих условиях, и непосредственно, без нового участия акта объективации. Она вступает в круг имеющихся у субъекта установок и выступает активно, наряду с прочими установками, без вмешательства акта объективации. Таким образом, становится понятным, до какой степени сложным и богатым может сделаться запас человеческих установок, включающих в себя и те, которые были когда-нибудь опосредованы на базе объективации.
Т. Рибо. Закон развития воображения[7]
Воображение, так часто называемое «прихотливою способностью», может ли быть подчинено какому-ни будь закону? Вопрос, поставленный таким образом, очень прост, и его нужно сделать более точным.
Как прямая причина изобретения великого или малого, воображение действует без заметного детерминизма; по этой именно причине ему и приписывают самопроизвольность; термин этот неясен, и мы пытались его выяснить. Возникновение работы воображения нельзя свести ни к какому закону; оно является следствием схождения в одной точке, часто случайного, различных изученных предварительно факторов.
Если оставить в стороне этот момент возникновения, то сила изобретения, рассматриваемая в ее индивидуальном и видовом развитии, представляется ли подчиненной какому-либо закону? Если же этот термин кажется слишком притязательным, то можно спросить, представляет ли эта сила в своем развитии сколько-нибудь заметную правильность? Наблюдение подмечает здесь некоторый эмпирический закон, то есть закон, извлекаемый прямо из фактов и служащий кратким их выражением. Его можно выразить следующим образом:
Творческое воображение в своем полном развитии проходит через два периода, отделенные критическою фазою: период самобытности или приготовления, критический момент и период окончательного составления, представляющегося в разных видах.
Эта формула есть лишь краткое выражение опыта, а потому ее нужно оправдать и объяснить именно опытом. Для этого мы должны заимствовать факты из двух различных источников. Одним будет развитие личности, где наблюдения всего вернее, яснее и удобнее; вторым – развитие вида (или историческое), в силу допущенного начала, что филогенез и онтогенез, вообще, идут согласно между собою.
I
Первый период. Он нам известен; это – возраст, с которого начинается проявление воображения. У нормального человека он начинается с трех лет, обнимает детство, отрочество, юность и продолжается то больше, то меньше. Игры, сказки, мифические и фантастические понятия о мире – вот в чем оно выражается прежде всего; потом у большинства воображение зависит от влияния страстей и особенно от половой любви. Долгое время оно остается свободным от всякого рационального элемента.
Однако мало-помалу занимает свое место и этот последний. Размышление (разумея под этим словом работу духа) рождается довольно поздно, растет медленно и по мере своего укрепления влияет на работу воображения, стремясь ее уменьшить.
Кривая IM представляет ход воображения в этот первый период. Сначала она поднимается довольно медленно, потом повышается быстро и держится на высоте, соответствующей апогею воображения в этой первой форме. Означенная точками линия Rx представляет развитие рассудка, начинающееся позднее; эта линия поднимается гораздо медленнее, но достигает постепенно точки х на уровне кривой воображения. Обе эти интеллектуальные формы стоят теперь друг перед другом, как соперничающие силы. Часть Мх ординаты приходится в начале другого периода.
Второй период. Это критическая фаза неопределенной продолжительности, но, во всяком случае, гораздо более краткой, чем две другие. Этот момент кризиса можно характеризовать лишь его причинами и следствиями. В физиологическом порядке его причины – образование взрослого организма и взрослого мозга; а в порядке психологическом – антагонизм между чистою субъективностью воображения и объективностью рассудочных процессов, или другими словами – между неустойчивостью и устойчивостью ума. Что касается до следствий, то они принадлежат только третьему периоду, наступающему после этой темной фазы метаморфозы.
Третий период. Он уже окончательный; так или иначе, в той или другой степени воображение сделалось рассудительным, подчинилось рассудку; но этого преобразования нельзя свести к единственной формуле.
1. Творческое воображение приходит в упадок. (Это показано на рисунке быстрым опусканием кривой воображения MN’ к линии абсцисс, хотя кривая никогда последней не достигает). Это самый общий случай. Лишь особенно богато одаренные воображением составляют исключение. Большинство мало-помалу входит в прозу практической жизни, хоронит мечты своей юности, считает любовь химерой и проч. Это, однако, лишь регресс, но не уничтожение, потому что творческое воображение не исчезает совершенно ни у кого; оно делается только случайностью.
2. Оно продолжается, но предварительно преобразовавшись; оно приспособляется к рациональным условиям; это уже не чистое воображение, а смешанное. (Это показано на фигуре параллельностью линии воображения MN и линии рассудка XO). Так бывает у людей, действительно богатых воображением, у которых способность к изобретению остается долго юною и живучею. Этот период продолжения и окончательного устройства духовной жизни с помощью рассудочного преобразования воображения представляет несколько случаев. Во-первых – это самый простой случай – преобразование происходит под логическою формой. Творческая способность, проявившаяся в первый период, остается постоянно той же и следует все тому же пути. Таковы скороспелые изобретатели, призвание которых проявилось рано и не подвергалось никогда отклонению в сторону. Изобретение сбрасывает с себя постепенно детские или юношеские черты и становится соответствующим поре мужества; других же изменений нет. Сравните Разбойников Шиллера, написанных за двадцать лет до Валленштейна, появившегося, когда автору было 40 лет; или смутные попытки Уатта-отрока с его же изобретениями в зрелом возрасте.
Другим случаем будет метаморфоза или отклонение творческой способности. Известно, как много людей, оставивших о себе великую память в науке, в политике, в механических изобретениях или в промышленности, начинали с посредственных опытов в музыке, живописи и особенно в поэзии. Толчок к изобретательности не направил ее сразу по надлежащему пути. Шла подражательная работа в надежде на изобретение. Сказанное выше о хронологических условиях развития воображения избавляет нас от необходимости останавливаться на этом случае. Потребность творить шла сначала по линии наименьшего сопротивления, где она находила уже некоторый приготовленный материал; но чтобы достигнуть полного самосознания, для нее нужно было больше времени, больше знаний, больше запаса опытности.
Можно спросить себя, не встречается ли обратного случая, когда воображение, к концу этого третьего периода, возвращается к расположениям первого возраста. Такая регрессивная метаморфоза – ибо я не могу смотреть на нее иначе – случается редко, но примеры ее есть. Обыкновенно творческое воображение, пройдя фазу, соответствующую мужеству, гаснет вследствие медленной атрофии, не подвергаясь преобразованию. Однако я могу указать на случай одного известного ученого, имевшего сначала вкус к искусствам (особенно пластическим); после краткого занятия литературой он посвятил свою жизнь биологическим наукам, где составил себе заслуженное имя; а затем научные занятия ему совершенно наскучили, и он возвратился к литературе и наконец к искусствам, которые и овладели им окончательно.
Наконец (потому что форм много) у некоторых воображение, хотя и сильное, не переходит за первый период и сохраняет всегда свою юношескую, почти детскую форму, едва измененную крайне малым количеством рассудочности. Заметим, что здесь речь идет не о простодушии и искренности характера, свойственного некоторым изобретателям, вследствие чего их называют «взрослыми детьми», но о простоте и искренности самого их воображения. Эта исключительная форма совместима только с художественным творчеством. Прибавим сюда еще мистическое воображение. Оно доставило бы примеры не столько в своих религиозных представлениях, где не существует контроля, сколько в своих мечтах с научным оттенком. Современные мистики изобрели такое миросозерцание, которое приводит нас к мифологии первых веков. Это продолжающееся детское состояние воображения, вообще представляющее аномалию, производит скорее смешные диковины, чем творения.
В упомянутом третьем периоде развития воображения проявляется вторичный дополнительный закон – возрастающей сложности; он следует за поступательным движением от простого к сложному. По правде сказать, это не есть закон воображения в собственном смысле, но рационального развития, влияющего на него в обратном направлении; это закон духа познающего, но не воображающего.
Бесполезно доказывать, что теоретическое и практическое знание развивается по мере своего усложнения. Но как скоро ум ясно отличает возможное от невозможного, мнимое от действительного (чего не может делать ребенок и дикарь), как скоро он привык к рассудительности, подчинился дисциплине, влияние которой неизгладимо, – и творческое воображение волей-неволей подчиняется новым условиям. Оно лишается своей неограниченной власти, теряет ту смелость, какою обладало в детстве, и подчиняется правилам логического мышления, которое в своем движении захватывает и его. За указанными выше исключениями (причем они только частные), творческая способность зависит от способности познания, налагающего на первую обязанность принять его форму и следовать его закону развития. В литературе и искусствах установление разницы между простотою примитивных созданий и сложностью произведений далеко зашедшей цивилизации сделалось общим местом. В порядке практическом, техническом, научном, социальном, чем больше дело подвигается вперед, тем больше нужно и знать, чтоб создавать новое, а без этого люди повторяют старое, полагая, что изобретают новое.
II
Развитие воображения в человеческом роде, рассматриваемое исторически, следует по тому же пути, что и у отдельного человека. Позволительно для нас не настаивать на этом, потому что пришлось бы тогда повторить в другом, но более смутном виде все сейчас сказанное. Достаточно будет немногих, наскоро сделанных указаний.
Вико, имя которого вполне заслуживает упоминания здесь, потому что он первый увидел, какую пользу можно извлечь из мифов для изучения воображения, разделял исторический путь человечества на три последовательных периода: божественный, или теократический, героический, или сказочный, человеческий, или исторический в собственном смысле; причем по миновании одного такого цикла начинается новый. Хотя это слишком гипотетическое соображение ныне забыто, но его достаточно для нашей цели. В самом деле, что такое эти два первые периода, составляющие везде и всегда предшествующие и предварительные стадии цивилизации, как не торжество воображения? Оно произвело мифы, религии, легенды, эпические и воинственные рассказы, гордые памятники, воздвигнутые в честь богов и героев. Многие народы, развитие которых не было полным, не пережили этих двух периодов.
Возьмем этот вопрос в более точной, более ограниченной и более известной форме, в виде истории умственного развития Европы со времени падения Римской империи.
Никто не будет оспаривать преобладающего значения воображения в средние века; достаточно вспомнить силу религиозного чувства, непрестанно возрождавшиеся эпидемии суеверия, учреждение рыцарства со всем, что с ним связано, героическую поэзию, рыцарские романы, любовные приключения, появление готического искусства и проч. Наоборот, за тот же период потрачено очень мало воображения на изобретения практической жизни, промышленности и торговли. Разработка науки, ограничивавшаяся латинскою тарабарщиной, которую читали только дьячки, состояла в продолжении древних преданий и всякого вздора, так что за десять веков к положительному знанию не прибавилось почти ничего. Поэтому наш рисунок с двумя кривыми для воображения и рассудка одинаково выражает как историческое развитие (за этот первый период), так и индивидуальное.
Никто также не будет спорить против того, что эпоха Возрождения была критическим моментом, переходным периодом, временем преобразования, аналогичным с тем, какой был отмечен нами в индивидуальном развитии, когда перед воображением выступает его могущественный соперник.
Наконец, бесспорно можно допустить, что за новейший период социальное воображение частью ослабло, частью стало более рассудочным под влиянием двух главных факторов, из которых один научный, а другой экономический. С одной стороны, развитие естественных наук, с другой – развитие морских сношений, возбуждая изобретательность в промышленном и торговом направлении, задали воображению новую работу. Образовались центры притяжения, увлекшие его на другие пути, внушившие ему иные формы творчества, которые были забыты или презираемы раньше и которые мы будем изучать в третьей части нашей книги.
A. P. Лурия. Маленькая книжка о большой памяти[8]
Начало этой истории относится еще к двадцатым годам этого века.
В лабораторию автора – тогда еще молодого психолога – пришел человек и попросил проверить его память.
Человек – будем его называть Ш. – был репортером одной из газет, и редактор отдела этой газеты был инициатором его прихода в лабораторию.
Как всегда, по утрам редактор отдела раздавал своим сотрудникам поручения; он перечислял им список мест, куда они должны были пойти, и называл, что именно они должны были узнать в каждом месте. Ш. был среди сотрудников, получивших поручения. Список адресов и поручений был достаточно длинным, и редактор с удивлением отметил, что Ш. не записал ни одного из поручений на бумаге. Редактор был готов сделать выговор невнимательному подчиненному, но Ш. по его просьбе в точности повторил все, что ему было задано. Редактор попытался ближе разобраться, в чем дело, и стал задавать Ш. вопросы о его памяти, но тот высказал лишь недоумение: разве то, что он запомнил все, что ему было сказано, так необычно? Разве другие люди не делают то же самое? Тот факт, что он обладает какими-то особенностями памяти, отличающими его от других людей, оставался для него незамеченным.
Редактор направил его в психологическую лабораторию для исследования памяти – и вот он сидел передо мною.
Ему было в то время немногим меньше тридцати. Его отец был владельцем книжного магазина, мать хотя и не получила образования, но была начитанной и культурной женщиной. У него много братьев и сестер – все обычные, уравновешенные, иногда одаренные люди; никаких случаев душевных заболеваний в семье не было. Сам Ш. вырос в небольшом местечке, учился в начальной школе; затем у него обнаружились способности к музыке, он поступил в музыкальное училище, хотел стать скрипачом, но после болезни уха слух его снизился, и он увидел, что вряд ли сможет с успехом готовиться к карьере музыканта. Некоторое время он искал, чем бы ему заняться, и случай привел его в газету, где он стал работать репортером. У него не было ясной жизненной линии, планы его были достаточно неопределенными. Он производил впечатление несколько замедленного, иногда даже робкого человека, который был озадачен полученным поручением. Как уже сказано, он не видел в себе никаких особенностей и не представлял, что его память чем-либо отличается от памяти окружающих. Он с некоторой растерянностью передал мне просьбу редактора и с любопытством ожидал, что может дать исследование, если оно будет проведено. Так началось наше знакомство.
Я приступил к исследованию Ш. с обычным для психолога любопытством, но без большой надежды, что опыты дадут что-нибудь примечательное.
Однако уже первые пробы изменили мое отношение и вызвали состояние смущения и озадаченности, на этот раз не у испытуемого, а у экспериментатора.
Я предложил Ш. ряд слов, затем чисел, затем букв, которые либо медленно прочитывал, либо предъявлял в написанном виде. Он внимательно выслушивал ряд или прочитывал его и затем в точном порядке повторял предложенный материал.
Я увеличил число предъявляемых ему элементов, давал 30, 50, 70 слов или чисел – это не вызывало никаких затруднений. Ш. не нужно было никакого заучивания, и если я предъявлял ему ряд слов или чисел, медленно и раздельно читая их, он внимательно вслушивался, иногда обращался с просьбой остановиться или сказать слово яснее, иногда сомневаясь, правильно ли он услышал слово, переспрашивал его. Обычно во время опыта он закрывал глаза или смотрел в одну точку. Когда опыт был закончен, он просил сделать паузу, мысленно проверял удержанное, а затем плавно, без задержки воспроизводил весь прочитанный ряд.
Опыт показал, что с такой же легкостью он мог воспроизводить длинный ряд и в обратном порядке – от конца к началу; он мог легко сказать, какое слово следует за какими и какое слово было в ряду перед названным. В последних случаях он делал паузу, как бы пытаясь найти нужное слово, и затем легко отвечал на вопрос, обычно не делая ошибок.
Ему было безразлично, предъявлялись ли ему осмысленные слова или бессмысленные слоги, числа или звуки, давались ли они в устной или в письменной форме; ему нужно было лишь, чтобы один элемент предлагаемого ряда был отделен от другого паузой в 2–3 секунды, и последующее воспроизведение ряда не вызывало у него никаких затруднений.
Вскоре экспериментатор начал испытывать чувство, переходящее в растерянность. Увеличение ряда не приводило Ш. ни к какому заметному возрастанию трудностей, и приходилось признать, что объем его памяти не имеет ясных границ. Экспериментатор оказался бессильным в казалось бы самой простой для психолога задаче – измерении объема памяти. Я назначил Ш. вторую, затем третью встречу. За ними последовал еще целый ряд встреч. Некоторые встречи были отделены днями и неделями, некоторые – годами.
Эти встречи еще более осложнили положение экспериментатора.
Оказалось, что память Ш. не имеет ясных границ не только в своем объеме, но и в прочности удержания следов. Опыты показали, что он с успехом – и без заметного труда – может воспроизводить любой длинный ряд слов, данных ему неделю, месяц, год, много лет назад. Некоторые из таких опытов, неизменно кончавшихся успехом, были проведены спустя 15–16 лет (!) после первичного запоминания ряда и без всякого предупреждения. В подобных случаях Ш. садился, закрывал глаза, делал паузу, а затем говорил: «да-да… это было у вас на той квартире… вы сидели за столом, а я на качалке… вы были в сером костюме и смотрели на меня так… вот… я вижу, что вы мне говорили…» – и дальше следовало безошибочное воспроизведение прочитанного ряда.
Если принять во внимание, что Ш. к этому времени стал известным мнемонистом и должен был запоминать многие сотни и тысячи рядов, – этот факт становится еще более удивительным.
Все это заставило меня изменить задачу и заняться попытками не столько измерить его память, сколько дать ее качественный анализ, описать ее психологическую структуру.
В дальнейшем к этому присоединилась и другая задача, о которой было сказано выше, – внимательно изучить особенности психических процессов этого выдающегося мнемониста.
Этим двум задачам и было посвящено дальнейшее исследование, результаты которого сейчас – спустя много лет – я попытаюсь изложить систематически.
Исходные факты
В течение всего нашего исследования запоминание Ш. носило непосредственный характер, и его механизмы сводились к тому, что он либо продолжал видеть предъявляемые ему ряды слов или цифр, либо превращал диктуемые ему слова или цифры в зрительные образы. Наиболее простое строение имело запоминание таблицы цифр, писанных мелом на доске.
Ш. внимательно вглядывался в написанное, закрывал глаза, на мгновение снова открывал их, отворачивался в сторону и по сигналу воспроизводил написанный ряд, заполняя пустые клетки соседней таблицы, или быстро называл подряд данные числа. Ему не стоило никакого труда заполнять пустые клетки нарисованной таблицы цифрами, которые указывали ему вразбивку, или называть предъявленный ряд цифр в обратном порядке. Он легко мог назвать цифры, входящие в ту или другую вертикаль, «прочитывать» их по диагонали, или, наконец, составлять из единичных цифр одно многозначное число.
Для запечатления таблицы в 20 цифр ему было достаточно 35–40 секунд, в течение которых он несколько раз всматривался в таблицу; таблица в 50 цифр занимала у него несколько больше времени, но он легко запечатлевал ее за 2,5–3 минуты, в течение которых он несколько раз фиксировал таблицу взором, а затем – с закрытыми глазами – проверял себя…
Как же протекал у Ш. процесс «запечатления» и последующего «считывания» предложенной таблицы? Мы не имели другого способа ответить на этот вопрос, кроме прямого опроса нашего испытуемого. С первого взгляда результаты, которые получились при опросе Ш., казались очень простыми.
Ш. заявлял, что он продолжает видеть запечатлеваемую таблицу, написанную на доске или на листке бумаги, и он должен лишь «считывать» ее, перечисляя последовательно входящие в ее состав цифры или буквы, поэтому для него в целом остается безразличным, «считывает» ли он таблицу с начала или с конца, перечисляет элементы вертикали или диагонали, или читает цифры, расположенные по «рамке» таблицы. Превращение отдельных цифр в одно многозначное число оказывается для него не труднее, чем это было бы для каждого из нас, если бы ему предложили проделать эту операцию с цифрами таблицы, которую можно было длительно разглядывать.
«Запечатленные» цифры Ш. продолжал видеть на той же черной доске, как они были показаны, или же на листе белой бумаги; цифры сохраняли ту же конфигурацию, которой они были написаны, и если одна из цифр была написана нечетко, Ш. мог неверно «считать» ее, например, принять 3 за 8 или 4 за 9. Однако уже при этом счете обращают на себя внимание некоторые особенности, показывающие, что процесс запоминания носит вовсе не такой простой характер.
Синестезии
Все началось с маленького и, казалось бы, несущественного наблюдения.
Ш. неоднократно замечал, что, если исследующий произносит какие-нибудь слова, например, говорит «да» или «нет», подтверждая правильность воспроизводимого материала или указывая на ошибки, – на таблице появляется пятно, расплывающееся и заслоняющее цифры; и он оказывается принужден внутренне «менять» таблицу. То же самое бывает, когда в аудитории возникает шум. Этот шум сразу превращается в «клубы пара» или «брызги», и «считывать» таблицу становится труднее.
Эти данные заставляют думать, что процесс удержания материала не исчерпывается простым сохранением непосредственных зрительных следов и что в него вмешиваются дополнительные элементы, говорящие о высоком развитии у Ш. синестезии.
Если верить воспоминаниям Ш. о его раннем детстве, – а к ним нам еще придется возвращаться особо, – такие синестезии можно было проследить у него еще в очень раннем возрасте.
«Когда в возрасте 2-х или 3-х лет, – говорил Ш., – меня начали учить словам молитвы на древнееврейском языке, я не понимал их, и эти слова откладывались у меня в виде клубов пара и брызг… Еще и теперь я вижу, когда мне говорят какие-нибудь звуки…»
Явление синестезии возникало у Ш. каждый раз, когда ему давались какие-либо тоны. Такие же (синестезические), но еще более сложные явления возникали у него при восприятии голоса, а затем и звуков речи.
Вот протокол опытов, проведенных над Ш. в лаборатории физиологии слуха Института неврологии Академии медицинских наук.
Ему дается тон высотой в 30 Гц с силой звука в 100 дб. Он заявляет, что сначала он видел полосу шириной в 12–15 см цвета старого серебра; постепенно полоса сужается и как бы удаляется от него, а затем превращается в какой-то предмет, блестящий как сталь. Постепенно тон принимает характер вечернего света, звук продолжает рябить серебряным блеском…
Ему дается тон в 250 Гц и 64 дб. Ш. видит бархатный шнурок, ворсинки которого торчат во все стороны. Шнурок окрашен в нежный приятный розово-оранжевый цвет…
Ему дается тон в 2000 Гц и 113 дб. Ш. говорит: «Что-то вроде фейерверка, окрашенного в розово-красный цвет… полоска шершавая, неприятная… неприятный вкус, вроде пряного рассола… Можно поранить руку…»
Опыты повторялись в течение нескольких дней, и одни и те же раздражители неизменно вызывали одинаковые переживания.
Значит, Ш. действительно относился к той замечательной группе людей, в которую, между прочим, входил и композитор Скрябин и у которого в особенно яркой форме сохранилась комплексная «синестезическая» чувствительность: каждый звук непосредственно рождал переживания света и цвета и, как мы еще увидим ниже, – вкуса и прикосновения…
Синестезические переживания Ш. проявлялись и тогда, когда он вслушивался в чей-нибудь голос.
«Какой у вас желтый и рассыпчатый голос», – сказал он как-то раз беседовавшему с ним Л. С. Выготскому. «А вот есть люди, которые разговаривают как-то многоголосо, которые отдают целой композицией, букетом… – говорил он позднее, – такой голос был у покойного С. М. Эйзенштейна, как будто какое-то пламя с жилками надвигалось на меня…»
«От цветного слуха я не могу избавиться и по сей день… Вначале встает цвет голоса, а потом он удаляется – ведь он мешает… Вот кто-то сказал слово – я его вижу, а если вдруг посторонний голос – появляются пятна, вкрадываются слоги, и я уже не могу разобрать…»
«Линия», «пятна» и «брызги» вызывались не только шумом и голосом. Каждый звук речи сразу же вызывал у Ш. яркий зрительный образ, каждый звук имел свою зрительную форму, свой цвет, свои отличия на вкус… Аналогично переживал Ш. цифры.
«Для меня 2, 4, 6, 5 – не просто цифры. Они имеют форму. 1 – это острое число, независимо от его графического изображения, это что-то законченное, твердое… 5 – полная законченность в виде конуса, башни, фундаментальное, 6 – это первая за 5, беловатая. 8 – невинное, голубовато-молочное, похожее на известь» и т. д.
Значит, у Ш. не было той четкой грани, которая у каждого из нас отделяет зрение от слуха, слух – от осязания или вкуса… Синестезии возникли очень рано и сохранялись у него до самого последнего времени; они, как мы увидим ниже, накладывали свой отпечаток на его восприятие, понимание, мышление, они входили существенным компонентом в его память.
Запоминание «по линиям» и «по брызгам» вступало в силу в тех случаях, когда Ш. предъявлялись отдельные звуки, бессмысленные слоги и незнакомые слова. В этих случаях Ш. указывал, что звуки, голоса или слова вызывали у него какие-то зрительные впечатления – «клубы дыма», «брызги», «плавные или изломанные линии»; иногда они вызывали ощущение вкуса на языке, иногда ощущение чего-то мягкого или колючего, гладкого или шершавого.
Эти синестезические компоненты каждого зрительного и особенно слухового раздражения были в ранний период развития Ш. очень существенной чертой его запоминания, и лишь позднее – с развитием смысловой и образной памяти – отступали на задний план, продолжая, однако, сохраняться в любом запоминании.
Значение этих синестезий для процесса запоминания объективно состояло в том, что синестезические компоненты создавали как бы фон каждого запоминания, неся дополнительно «избыточную» информацию и обеспечивая точность запоминания: если почему-либо (это мы еще увидим ниже) Ш. воспроизводил слово неточно – дополнительные синестезические ощущения, не совпадавшие с исходным словом, давали ему почувствовать, что в его воспроизведении «что-то не так» и заставляли его исправлять допущенную неточность.
«…Я обычно чувствую и вкус, и вес слова – и мне уже делать нечего – оно само вспоминается… а описать трудно. Я чувствую в руке – скользнет что-то маслянистое – из массы мельчайших точек, но очень легковесных – это легкое щекотание в левой руке, – и мне уже больше ничего не нужно…» (Опыт 22/V, 1939 г.).
Синестезические ощущения, выступавшие открыто при запоминании голоса, отдельных звуков или звуковых комплексов, теряли свое ведущее значение и оттеснялись на второй план при запоминании слов…
…Каждое слово вызывало у Ш. наглядный образ, и отличия Ш. от обычных людей заключались лишь в том, что эти образы были несравненно более яркими и стойкими, а также и в том, что к ним неизменно присоединялись те синестезические компоненты (ощущение цветных пятен, «брызг» и «линий»), которые отражали звуковую структуру слова и голос произносившего.
Естественно поэтому, что зрительный характер запоминания, который мы уже видели выше, сохранял свое ведущее значение и при запоминании слов…
«Когда я слышу слово “зеленый”, появляется зеленый горшок с цветами; “красный” – появляется человек в красной рубашке, который подходит к нему. “Синий” – и из окна кто-то помахивает синим флажком… Даже цифры напоминают мне образы… Вот “1” – это гордый стройный человек; “2” – женщина веселая; “3” – угрюмый человек, не знаю почему…»
Легко видеть, что в образах, которые возникают от слов и цифр, совмещаются наглядные представления и те переживания, которые характерны для синестезии Ш. Если Ш. слышал понятное слово – эти образы заслоняли синестезические переживания; если слово было непонятным и не вызывало никакого образа – Ш. запоминал его «по линиям»: звуки снова превращались в цветовые пятна, линии, брызги, и он запечатлевал этот зрительный эквивалент, на этот раз относящийся к звуковой стороне слова.
Когда Ш. прочитывал длинный ряд слов – каждое из этих слов вызывало наглядный образ; но слов было много – и Ш. должен был «расставлять» эти образы в целый ряд. Чаще всего – и это сохранялось у Ш. на всю жизнь – он «расставлял» эти образы по какой-нибудь дороге. Иногда это была улица его родного города, двор его дома, ярко запечатлевшийся у него еще с детских лет. Иногда это была одна из московских улиц. Часто он шел по этой улице – нередко это была улица Горького в Москве, начиная с площади Маяковского, медленно продвигаясь вниз и «расставляя» образы у домов, ворот и окон магазинов, и иногда незаметно для себя оказывался вновь в родном Торжке и кончал свой путь… у дома его детства… Легко видеть, что фон, который он избирал для своих «внутренних прогулок», был близок к плану сновидения и отличался от него только тем, что он легко исчезал при всяком отвлечении внимания и столь же легко появлялся снова, когда перед Ш. возникала задача вспомнить «записанный» ряд.
Эта техника превращения предъявленного ряда слов в наглядный ряд образов делала понятным, почему Ш. с такой легкостью мог воспроизводить длинный ряд в прямом или обратном порядке, быстро называть слово, которое предшествовало данному или следовало за ним: для этого ему нужно было только начать свою прогулку с начала или с конца улицы или найти образ названного предмета и затем «посмотреть» на то, что стоит с обеих сторон от него. Отличия от обычной образной памяти заключались лишь в том, что образы Ш. были исключительно яркими и прочными, что он мог «отворачиваться» от них, а затем, «поворачиваясь» к ним, видеть их снова [1].
Убедившись в том, что объем памяти Ш. практически безграничен, что ему не нужно «заучивать», а достаточно только «запечатлевать» образы, что он может вызывать эти образы через очень длительные сроки (мы дадим ниже примеры того, как предложенный ряд точно воспроизводился Ш. через 10 и даже через 16 лет), мы, естественно, потеряли всякий интерес к попытке «измерить» его память; мы обратились к обратному вопросу: может ли он забывать, и попытались тщательно фиксировать случаи, когда Ш. упускал то или иное слово из воспроизводимого им ряда.
Такие случаи встречались и, что особенно интересно, встречались нередко.
Чем же объяснить «забывание» у человека со столь мощной памятью? Чем объяснить, далее, что у Ш. могли встречаться случаи пропуска запоминаемых элементов и почти не встречались случаи неточного воспроизведения (например, замены нужного слова синонимом или близким по ассоциации словом)?
Исследование сразу же давало ответ на оба вопроса. Ш. не «забывал» данных ему слов; он «пропускал» их при «считывании», и эти пропуски всегда просто объяснялись.
Достаточно было Ш. «поставить» данный образ в такое положение, чтобы его было трудно «разглядеть», например, «поместить» его в плохо освещенное место или сделать так, чтобы образ сливался с фоном и становился трудно различимым, как при «считывании» расставленных им образов этот образ пропускался, и Ш. «проходил» мимо этого образа, «не заметив» его.
Пропуски, которые мы нередко замечали у Ш. (особенно в первый период наблюдений, когда техника запоминания была у него еще недостаточно развита), показывали, что они были не дефектами памяти, а дефектами восприятия, иначе говоря, они объяснялись не хорошо известными в психологии нейродинамическими особенностями сохранения следов (ретро– и проактивным торможением, угасанием следов и т. д.), а столь же хорошо известными особенностями зрительного восприятия (четкостью, контрастом, выделением фигуры из фона, освещенностью и т. д.).
Ключ к его ошибкам лежал, таким образом, в психологии восприятия, а не в психологии памяти.
Иллюстрируем это выдержками из многочисленных протоколов. Воспроизводя длинный ряд слов, Ш. пропустил слово «карандаш». В другом ряде было пропущено слово «яйцо». В третьем – «знамя», в четвертом – «дирижабль». Наконец, в одном ряду Ш. пропустил непонятное для него слово «путамен». Вот как он объяснял свои ошибки.
«Я поставил “карандаш” около ограды – вы знаете эту ограду на улице, – и вот карандаш слился с этой оградой, и я прошел мимо него… То же было и со словом “яйцо”. Оно было поставлено на фоне белой стены и слилось с ней. Как я мог разглядеть белое яйцо на фоне белой стены?.. Вот и “дирижабль”, он серый и слился с серой мостовой… И “знамя” – красное знамя, а вы знаете, ведь здание Моссовета красное, я поставил его около стены и прошел мимо него… А вот “путамен” – я не знаю, что это такое… Оно такое темное слово – я не разглядел его… а фонарь был далеко…»
Трудности
При всех преимуществах непосредственного образного запоминания оно вызывало у Ш. естественные трудности. Эти трудности становились тем более выраженными, чем больше Ш. был принужден заниматься запоминанием большого и непрерывно меняющегося материала, особенно когда он, оставив свою первоначальную работу, стал профессиональным мнемонистом…
Начинается второй этап – этап работы над упрощением форм запоминания, этап разработки новых способов, которые дали бы возможность обогатить запоминание, сделать его независимым от случайностей, дать гарантии быстрого и точного воспроизведения любого материала и в любых условиях.
Эйдотехника
Первое, над чем Ш. должен был начать работать, – это освобождение образов от тех случайных влияний, которые могли затруднить их «считывание». Эта задача оказалась очень простой.
«Я знаю, что мне нужно остерегаться, чтобы не пропустить предмет, – и я делаю его большим. Вот я говорил вам – слово “яйцо”. Его легко было не заметить… и я делаю его большим… и прислоняю к стене дома, и лучше освещаю его фонарем…»
Увеличение размеров образов, их выгодное освещение, правильная расстановка – все это было первым шагом той «эйдотехники», которой характеризовался второй этап развития памяти Ш. Другим приемом было сокращение и символизация образов, к которой Ш. не прибегал в раннем периоде формирования его памяти и который стал одним из основных приемов в период его работы профессионального мнемониста.
«Раньше, чтобы запомнить, я должен был представить себе всю сцену. Теперь мне достаточно взять какую-нибудь условную деталь. Если мне дали слово “всадник”, мне достаточно представить ногу со шпорой… Теперешние образы не появляются так четко и ясно, как в прежние годы… Я стараюсь выделить то, что нужно…»
Прием сокращения и символизации образов привел Ш. к третьему приему, который постепенно приобрел для него центральное значение.
Получая на сеансах своих выступлений тысячи слов, часто нарочито сложных и бессмысленных, Ш. оказался принужден превращать эти ничего не значащие для него слова в осмысленные образы. Самым коротким путем для этого было разложение длинного и не имеющего смысла или бессмысленной для него фразы на ее составные элементы с попыткой осмыслить выделенный слог, использовав близкую к нему ассоциацию…
Мы ограничимся несколькими примерами, иллюстрирующими ту виртуозность, с которой Ш. пользовался приемами семантизации и эйдотехники…
В декабре 1937 г. Ш. была прочитана первая строфа из «Божественной комедии».
Nel mezzo del camin di nostra vita Mi ritrovai par una selva oscura, Che la diritta via era smarita, Ahi quanta a dir qual era e cosa dura.
Как всегда, Ш. просил произносить слова предлагаемого ряда раздельно, делая между каждым из них небольшие паузы, которые были достаточны, чтобы превратить бессмысленные для него звукосочетания в осмысленные образы.
Естественно, что он воспроизвел несколько данных ему строф «Божественной комедии» без всяких ошибок, с теми же ударениями, с какими они были произнесены. Естественно было и то, что это воспроизведение было дано им при проверке, которая была неожиданно проведена… через 15 лет! Вот те пути, которые использовал Ш. для запоминания:
«Nel – я платил членские взносы, и там в коридоре была балерина Нельская; меццо (mezzo) – я скрипач; я поставил рядом с нею скрипача, который играет на скрипке; рядом – папиросы “Дели” – это del; рядом тут же я ставлю камин (camin), di – это рука показывает дверь; nos – это нос, человек попал носом в дверь и прищемил его; tra – он поднимает ногу через порог, там лежит ребенок – это vita, витализм; mi – я поставил еврея, который говорит “мы здесь ни при чем”; ritrovai – реторта, трубочка прозрачная, она пропадает, еврейка бежит, кричит “вай” – это vai. Она бежит, и вот на углу Лубянки – на извозчике едет per – отец. На углу Сухаревки стоит милиционер, он вытянут, стоит как единица (una). Рядом с ним я ставлю трибуну, и на ней танцует Сельва (selva); но чтобы она не была Сильва – над ней ломаются подмостки – это звук “э”…»
Мы могли бы продолжить записи из нашего протокола, но способы запоминания достаточно ясны и из этого отрывка. Казалось бы, хаотическое нагромождение образов лишь усложняет задачу запоминания четырех строчек поэмы; но поэма дана на незнакомом языке, и тот факт, что Ш., затративший на выслушивание строфы и композицию образов не более нескольких минут, мог безошибочно воспроизвести данный текст и повторить его… через 15 лет, «считывая» значения с использованных образов, показывает, какое значение получили для него описанные приемы…
Чтение только что приведенных протоколов может создать естественное впечатление об огромной, хотя и очень своеобразной логической работе, которую Ш. проводит над запоминаемым материалом.
Нет ничего более далекого от истины, чем такое впечатление. Вся большая и виртуозная работа, многочисленные примеры которой мы только что привели, носит у Ш. характер работы над образом, или, как мы это обозначили в заголовке раздела, – своеобразной эйдотехники, очень далекой от логических способов переработки получаемой информации. Именно поэтому Ш., исключительно сильный в разложении предложенного материала на осмысленные образы и в подборе этих образов, оказывается совсем слабым в логической организации запоминаемого материала, и приемы его «эйдотехники» оказываются не имеющими ничего общего с логической мнемотехникой, развитие и психологическое строение которой было предметом такого большого числа психологических исследований [2]. Этот факт можно легко показать на той удивительной диссоциации огромной образной памяти и полном игнорировании возможных приемов логического запоминания, которую можно было легко показать у Ш.
Мы приведем лишь два примера опытов, посвященных этой задаче.
В самом начале работы с Ш. – в конце 20-х годов – Л. С. Выготский предложил ему запомнить ряд слов, в число которых входило несколько названий птиц. Через несколько лет – в 1930 г. – А. Н. Леонтьев, изучавший тогда память Ш., предложил ему ряд слов, в число которых было включено несколько названий жидкостей.
После того как эти опыты были проведены, Ш. было предложено отдельно перечислить названия птиц в первом и названия жидкостей во втором опыте.
В то время Ш. еще запоминал преимущественно «по линиям», – и задача избирательно выделять слова одной категории оказалась совершенно недоступной ему: самый факт, что в число предъявленных ему слов входят сходные слова, оставался незамеченным и стал осознаваться им только после того, как он «считал» все слова и сопоставил их между собой…
Мы сказали об удивительной памяти Ш. почти все, что мы узнали из наших опытов и бесед. Она стала для нас такой ясной – и осталась такой непонятной. Мы узнали многое о ее сложном строении… И все же как мало мы знаем об этой удивительной памяти! Как можем мы объяснить ту прочность, с которой образы сохраняются у Ш. многими годами, если не десятками лет? Какое объяснение мы можем дать тому, что сотни и тысячи рядов, которые он запоминал, не тормозят друг друга, и что Ш. практически мог избирательно вернуться к любому из них через 10, 12, 17 лет? Откуда взялась эта нестираемая стойкость следов?
Его исключительная память, бесспорно, остается его природной и индивидуальной особенностью [3], и все технические приемы, которые он применяет, лишь надстраиваются над этой памятью, а не «симулируют» ее иными, не свойственными ей приемами.
До сих пор мы описывали выдающиеся особенности, которые проявлял Ш. в запоминании отдельных элементов – цифр, звуков и слов.
Сохраняются ли эти особенности при переходе к запоминанию более сложного материала – наглядных ситуаций, текстов, лиц? Сам Ш. неоднократно жаловался на… плохую память на лица.
«Они такие непостоянные, – говорил он. – Они зависят от настроения человека, от момента встречи, они все время изменяются, путаются по окраске, и поэтому их так трудно запомнить».
В этом случае синестезические переживания, которые в описанных раньше опытах гарантировали нужную точность припоминания удержанного материала, здесь превращаются в свою противоположность и начинают препятствовать удержанию в памяти. Та работа по выделению существенных, опорных пунктов узнавания, которую проделывает каждый из нас при запоминании лиц (процесса, который еще очень плохо изучен психологией [4]), по-видимому, выпадает у Ш., и восприятие лиц сближается у него с восприятием постоянно меняющихся изменений света и тени, которые мы наблюдаем, когда сидим у окна и смотрим на колышущиеся волны реки. А кто может «запомнить» колышущиеся волны?..
Не менее удивительным может показаться и тот факт, что запоминание целых отрывков оказывается у Ш. совсем не таким блестящим.
Мы уже говорили, что при первом знакомстве с Ш. он производил впечатление несколько несобранного и замедленного человека. Это проявлялось особенно отчетливо, когда ему читался рассказ, который он должен был запомнить.
Если рассказ читался быстро – на лице Ш. появлялось выражение озадаченности, которое сменялось выражением растерянности.
«Нет, это слишком много… Каждое слово вызывает образы, и они находят друг на друга, и получается хаос… Я ничего не могу разобрать… а тут еще ваш голос… и еще пятна… И все смешивается».
Поэтому Ш. старался читать медленнее, расставляя образы по своим местам, и, как мы увидим ниже, проводя работу, гораздо более трудную и утомительную, чем та, которую проводим мы: ведь у нас каждое слово прочитанного текста не вызывает наглядных образов и выделение наиболее существенных смысловых пунктов, несущих максимальную информацию, протекает гораздо проще и непосредственнее, чем это имело место у Ш. с его образной и синестезической памятью.
«В прошлом году, – читаем мы в одном из протоколов бесед с Ш. (14 сентября 1936 года), – мне прочитали задачу: “Торговец продал столько-то метров ткани…” Как только произнесли “торговец” и “продал”, я вижу магазин и вижу торговца по пояс за прилавком… Он торгует мануфактурой… и я вижу покупателя, стоящего ко мне спиной… Я стою у входной двери, покупатель передвигается немножко влево… и я вижу мануфактуру, вижу какую-то конторскую книжку и все подробности, которые не имеют к задаче никакого отношения… и у меня не удерживается суть…»
Искусство забывать
Мы подошли вплотную к последнему вопросу, который нам нужно осветить, характеризуя память Ш. Этот вопрос сам по себе парадоксален, а ответ на него остается неясным. И все-таки мы должны обратиться к нему.
Многие из нас думают: как найти пути для того, чтобы лучше запомнить. Никто не работает над вопросом: как лучше забыть?
С Ш. происходит обратное. Как научиться забывать? – вот в чем вопрос, который беспокоит его больше всего…
Ш. часто выступает в один вечер с несколькими сеансами, и иногда эти сеансы происходят в одном и том же зале, а таблицы с цифрами пишутся на одной и той же доске.
«Я боюсь, чтобы не спутались отдельные сеансы. Поэтому я мысленно стираю доску и как бы покрываю ее пленкой, которая совершенно непрозрачна и непроницаема. Эту пленку я как бы отнимаю от доски и слышу ее хруст. Когда кончается сеанс, я смываю все, что было написано, отхожу от доски и мысленно снимаю пленку… Я разговариваю, а в это время мои руки как бы комкают эту пленку. И все-таки, как только я подхожу к доске, эти цифры могут снова появиться. Малейшее похожее сочетание – и я сам не замечаю, как продолжаю читать ту же таблицу».
…Ш. пошел дальше; он начал выбрасывать, а потом даже сжигать бумажки, на которых было написано то, что он должен был забыть…
Однако «магия сжигания» не помогала, и когда один раз, бросив бумажку с записанными на ней цифрами в горящую печку, он увидел, что на обуглившейся пленке остались их следы, – он был в отчаянии: значит и огонь не может стереть следы того, что подлежало уничтожению!
Проблема забывания, не разрешенная наивной техникой сжигания записей, стала одной из самых мучительных проблем Ш. И тут пришло решение, суть которого осталась непонятной в равной степени и самому Ш., и тем, кто изучал этого человека.
«Однажды – это было 23 апреля – я выступал 3 раза за вечер. Я физически устал и стал думать, как мне провести четвертое выступление. Сейчас вспыхнут таблицы трех первых… Это был для меня ужасный вопрос… Сейчас я посмотрю, вспыхнет ли у меня первая таблица или нет… Я боюсь, как бы этого не случилось. Я хочу – я не хочу… И я начинаю думать: доска ведь уже не появляется, – и это понятно почему: ведь я же не хочу! Ага!.. Следовательно, если я не хочу, значит, она не появляется… Значит, нужно было просто это осознать»
Удивительно, но этот прием дал свой эффект. Возможно, что здесь сыграла свою роль фиксация на отсутствие образа, возможно, что это было отвлечение от образа, его торможение, дополненное самовнушением, – нужно ли гадать о том, что остается нам неясным?… Но результат был налицо…
Вот и все, что мы можем сказать об удивительной памяти Ш., о роли синестезий, о технике образов и о «мнемотехнике», механизмы которой до сих пор остаются для нас неясными…
Примечания
1. По такой технике «наглядного размещения» и «наглядного считывания» образов Ш. был очень близок к другому мнемонисту Ишихара, описанному в свое время в Японии. Tukasa SusuKita. Untersuchungen eines auborordentichen Gedachtnisses in Japan. “Tohoku Psychological Folia”, I. Sendai, 1933–1934, pp.15–42, 111–134.
2. См.: Леонтьев А. Н. Развитие памяти. М., 1931; Он же. Проблемы развития психики. М., 1959; Смирнов А. А. Психология запоминания. М., 1948; и др.
3. Есть данные, что памятью, близкой к описанной, отличались и родители Ш. Его отец – в прошлом владелец книжного магазина, – по словам сына, легко помнил место, на котором стояла любая книга, а мать могла цитировать длинные абзацы из Торы. По сообщению проф. П. Дале (1936), наблюдавшего семью Ш., замечательная память была обнаружена у его племянника. Однако достаточно надежных данных, говорящих о генотипической природе памяти Ш., у нас нет.
4. Стоит вспомнить тот факт, что изучение случаев патологического ослабления узнавания лиц – так называемые агнозии на лица, или «прозопагнозии», большое число которых появилось за последнее время в неврологической печати, не дает еще никаких опор для понимания этого сложнейшего процесса.
П. Я. Гальперин. К вопросу о внутренней речи[9]
В отечественной психологии знаниями о внутренней речи мы обязаны главным образом Л. С. Выготскому. Согласно его исследованиям, внутренняя речь образуется из внешней речи путем изменения ее функции и вследствие этого – ее структуры. Из средства сообщения мыслей другим людям речь становится средством мышления «для себя». Из нее устраняется все, что «я и так знаю», речь становится сокращенной и прерывистой, «эллиптической» и – предикативной (последний признак С. Л. Рубинштейн считает не всеобщим). Большей частью внутренняя речь происходит про себя, «внутри», но может совершаться и вслух, например, при затруднениях в мышлении; когда мы остаемся наедине или забываем об окружающих. Этот естественный выход внутренней речи наружу Л. С. Выготский сделал приемом исследования, который в свое время имел принципиальное значение, показав внешнее происхождение внутренней речи и ее понятные связи с мышлением. Согласно такому пониманию, внутренняя речь предполагает, с одной стороны, речь-сообщение, с другой – все то, что «подразумевается» и о чем думают уже без помощи речи, т. е. свободные от речи мысли и мышление. Именно сопоставление с ними дает объяснение и характеристику внутренней речи: по сравнению с «чистым» мышлением – это еще речь, а по сравнению с речевым сообщением – это особая речь, форма мышления; от внешней речи она происходит, а благодаря скрытому за ней мышлению ее бессвязные частицы выполняют осмысленную роль; и генетически, и функционально внутренняя речь служит переходом от внешней речи к чистой мысли и от нее к внешней речи. Без них обеих и без непосредственной связи с ними внутренняя речь (в понимании Выготского) не может ни существовать, ни быть понята. Но со времени Выготского наши знания о мышлении и речи и наше понимание их связи намного продвинулись вперед.
Отечественное языкознание и отечественная психология не признают существования «оголенных мыслей», мышления, свободного от языка. К этому общему положению психология добавляет ряд специальных фактов. Так, например, оказалось, что даже наглядные представления не могут стать надежной опорой умственного действия, если не будут предварительно отработаны на основе речи. Вторая сигнальная система является непременным условием формирования отдельного внутреннего плана сознания наряду с планом внешнего восприятия. Во всяком случае, несомненно, что специфически человеческое мышление является полностью речевым. И если оно выглядит «чистым» от речи (в определенной внутренней своей форме), то это должно получить специальное объяснение.
Мнение, будто существуют «чистое мышление» и мысли, которые трудно выразить словами, имеет давнее происхождение и было почти общепризнанным во времена Выготского. Оно опиралось не только на широко распространенное переживание «муки слова», о котором часто и красочно рассказывают поэты и писатели, но и на экспериментальные данные. Что касается последних, то они представляли собой результаты исследований, проведенных с применением «систематического самонаблюдения» над процессом решения задач (даже самых простых и с непосредственно наличным чувственным материалом). Эти результаты подтверждались всякий раз, когда умственный процесс наблюдался «изнутри» (что считалось равнозначным его изучению «в его собственном виде»). С другой стороны, попытки зарегистрировать участие речедвигательных органов в процессе мышения (см., например, интересные исследования А. Н. Соколова) приводят к заключению, что если задания относятся к хорошо освоенной области, то производимая в уме интеллектуальная работа не сопровождается участием этих органов (по крайней мере, таким, которое можно уловить современными средствами).
Общий вывод из этих разнородных исследований сводится к тому, что когда интеллектуальная деятельность не встречает затруднений, то ни самонаблюдение, ни регистрация состояния речедвигательных органов не обнаруживают участия речи в процессе мышления.
С этими фактами, конечно, нельзя не считаться, но дело в том, что сами по себе они совершенно недостаточны, чтобы сделать обоснованное заключение о существовании «чистого мышления» и «чистых мыслей». Для этого нужно еще одно предположение: по линии самонаблюдения – что его показания непосредственно раскрывают природу психических явлений, по линии периферических органов речи – что их состояние однозначно связано с центральным процессом речевого мышления. Правда, такая оценка самонаблюдения широко распространена в буржуазной психологии, однако даже там она не является общепризнанной. В отечественной психологии она считается ложной. Данные самонаблюдения, как и данные всякого другого наблюния, признаются только явлениями, а не сущностью наблюдаемых процессов. В нашем случае эти явления говорят о том, как выглядит мышление (в самонаблюдении), а не каково оно на самом деле. Точно так же в советской психологии и физиологии никто не думает, что между периферическими органами и процессами коры головного мозга всегда существует одно и то же отношение. Наоборот, является элементарным положение, что при известных условиях эти отношения меняются; в частности, они меняются при образовании динамического стереотипа, т. е. при образовании навыка. Поэтому, если в известных случаях мышление «про себя» происходит без участия голосовых органов, то это еще не говорит о том, что и центральный процесс мышления не связан с центральным представительством. Итак, из того факта, что при определенных условиях ни самонаблюдение, ни объективная регистрация речедвигательных органов не обнаруживают участия речи в процессе мышления, не следует, что существует «чистое мышление» и «оголенные» от словесной оболочки мысли. Научных фактов, которые доказывали бы их существование, нет. Но что положительного может сказать психология (психология, а не языкознание!) о речевой природе мышления, которое прежде считалось «чистым» от речи? Очевидно, для этого нужны знания, которые были бы получены из других источников, чем самонаблюдение или регистрация деятельности периферических органов. Здесь перед нами во всем значении выступает проблема методики исследования. Психологическая убедительность мнения о существовании «чистого мышления» как раз и была обусловлена тем, что психологические сведения о мышлении и речи ограничивались только явлениями: явлениями мышления – на его субъективном «конце», явлениями речи – на ее эффекторном конце. А центральные процессы мышления и речи оставались за пределами объективного исследования.
Проведенные за последнее время исследования по формированию умственных действий открывают в этом отношении некоторые возможности. Согласно этим исследованиям, последним этапом и завершающей формой умственного действия является особый вид речи, который по всем признакам должен быть назван внутренней речью и который сопровождается явлениями так называемого «чистого мышления». Но так как теперь мы знаем, из чего и каким способом все это получается, то понимаем и действительное содержание процессов и причину того, почему, в конечном счете, он приобретает такую видимость! Вкратце говоря, эти преобразования происходят следующим образом.
Формирование умственного действия проходит пять этапов. Первый из них можно было бы назвать составлением как бы «проекта действия» – его ориентировочной основы, которой в дальнейшем ученик руководствуется при его выполнении. На втором этапе образуется материальная (или материализованная) форма этого действия – его первая реальная форма у данного ученика. На третьем этапе действие отрывается от вещей (или их материальных изображений) и переносится в план громкой, диалогической речи. На четвертом этапе действие выполняется путем беззвучного проговаривания про себя, но с четким словесно-понятийным его расчленением. Это действие в плане «внешней речи про себя» на следующем этапе становится автоматическим процессом и вследствие этого именно в своей речевой части уходит из сознания; речевой процесс становится скрытым и в полном смысле внутренним. Таким образом, речь участвует на всех этапах формирования умственного действия, но по-разному. На первых двух этапах, «перед лицом вещей» и материального действия, она служит только системой указаний на материальную действительность. Впитав в себя опыт последней, речь на трех дальнейших этапах становится единственной основой действия, выполняемого только в сознании. Однако и на каждом из них она образует особый вид речи. Действие в плане «громкой речи без предметов» образуется под контролем другого человека и прежде всего как сообщение ему об этом действии. Для того, кто учится его выполнять, это означает формирование объективно-общественного сознания данного действия, отлитого в установленные формы научного языка, – формирование объективно-общественного мышления о действии. Таким образом, на первом собственно речевом этапе мышление и сообщение составляют неразделимые стороны единого процесса совместного теоретического действия. Но уже здесь психологическое ударение может быть перенесено то на одну, то на другую сторону, и соответственно этому формы речи меняются от речи-сообщения другому до речи-сообщения себе; в последнем случае целью становится развернутое изложение действия, идеальное восстановление его объективного содержания. Затем это «действие в речи без предметов» начинают выполнять про себя, беззвучно; в результате получается «внешняя речь про себя». Она и здесь является сначала обращением к воображаемому собеседнику, однако по мере освоения действия в этой новой форме воображаемый контроль другого человека все более отходит на задний план, а момент умственного преобразования исходного материала, т. е. собственно мышление, все более становится главенствующим. Как и на всех этапах, действие во «внешней речи про себя» осваивается с разных сторон: на разном материале, в разном речевом выражении, с разной полнотой составляющих действие операций. Постепенно человек переходит ко все более сокращенным формам действия и, наконец, к его наиболее сокращенной форме – к действию по формуле, когда от действия остается, собственно, только переход от исходных данных к результату, известному по прошлому опыту.
В таких условиях наступает естественная стереотипизация действия, а с нею и быстрая его автоматизация. Последняя в свою очередь ведет к отодвиганию действия на периферию сознания, а далее и за его границы. Явно речевое мышление про себя становится скрыто речевым мышлением «в уме». Теперь результат его появляется как бы «сразу» и без видимой связи с речевым процессом (который остается за пределами сознания), «просто» как объект. Согласно глубокому указанию И. П. Павлова, течение автоматизированного процесса (динамического стереотипа) отражается в сознании в виде чувства. Это чувство имеет контрольное значение, и за речевым процессом, получившим указанную форму, как за всяким автоматизированным процессом, сохраняется контроль по чувству. По той же причине (отсутствие в сознании речевого процесса) это чувство нашей активности теперь относится непосредственно к его продукту и воспринимается как идеальное действие в отношении его, как мысль о нем. В итоге всех этих изменений скрытое речевое действие представляется в самонаблюдении как «чистое мышление».
Особый интерес представляет физиологическая сторона этого процесса. Автоматизация речевого действия означает образование его динамического стереотипа, а последний образование непосредственной связи между центральными звеньями речевого процесса, которые прежде были отделены работой исполнительных органов. До образования динамического стереотипа нужно было произнести слово, чтобы в сознании отчетливо выступило его значение, – теперь между звуковым образом слова и его значением образуется прямая связь, возбуждение непосредственно переходит от нервного пункта, связанного со звуковым образом слова, к нервному пункту, связанному с его значением, минуя обходный путь через речедвигательную периферию. На это сокращение физиологического процесса обращает особое внимание П. К. Анохин. Очевидно, в таком случае центральный речевой процесс может и не сопровождаться изменениями речедвигательных органов.
Так свойства последней формы умственного действия объясняют те особенности скрыторечевого мышления, которые вызывают столько недоразумений в понимании мышления и речи, когда они рассматриваются без учета их происхождения – как готовые наличные явления.
Процесс автоматизации не сразу захватывает весь состав речевого действия, и даже потом, когда этот процесс закончился, действие происходит описанным способом лишь при условии, что его применение к новой задаче не встречает препятствий. Если же они возникают, то ориентировочный рефлекс, внимание переключаются на затруднение и это вызывает на данном участке переход действия к более простому и раннему уровню (в нашем случае – к неавтоматизированному выполнению «во внешней речи про себя»). Этот факт, давно известный в психологии, с психофизиологической стороны хорошо объяснен А. Н. Леонтьевым как результат растормаживания прежде заторможенных участков вследствие отрицательной индукции из нового очага, соответствующего новому объекту внимания. Но так как это касается лишь отдельных участков более широкого процесса, то соответствующие им частицы «внешней речи про себя» появляются разрозненно и для наблюдателя представляются бессвязными речевыми фрагментами.
Итак, эти речевые фрагменты представляют собой результат частичного перехода от скрыторечевого и автоматизированного мышления к мышлению явно речевому и «произвольному», т. е. частичное возвращение от внутренней речи к «внешней речи про себя». И по функции, и по механизмам, и по способу выполнения они принадлежат «к внешней речи про себя», одну из сокращенных форм которой они и составляют. Не располагая данными ни об этом виде речи, ни о действительной природе того, что представляется «чистым мышлением», Выготский считал эти фрагменты особым видом речи – внутренней речью. Но теперь мы видим, что они не составляют ни внутреннюю речь, ни вообще отдельный вид речи.
Внутренней речью в собственном смысле слова может и должен называться тот скрытый речевой процесс, который ни самонаблюдением, ни регистрацией речедвигательных органов уже не открывается. Эта собственно внутренняя речь характеризуется не фрагментарностью и внешней непонятностью, а новым внутренним строением – непосредственной связью звукового образа слова с его значением и автоматическим течением, при котором собственно речевой процесс остается за пределами сознания; в последнем сохраняются лишь отдельные его компоненты, выступающие поэтому без видимой связи с остальной речью и на фоне как бы свободных от нее значений, словом, в причудливом виде «чистого мышления».
Для исследования этого скрытого речевого мышления изучение умственных действий в процессе их формирования открывает новые методические возможности. В общих чертах они сводятся к двум приемам, с помощью которых мы планомерно управляем ходом этого процесса. Это – систематическое изменение условий, при которых предлагается выполнить действие, и систематическое выяснение условий, благодаря которым оно становится возможно. Система, о которой в обоих случаях идет речь, определяется последовательностью основных свойств действия, его параметров, а внутри каждого из них – их показателей. Опираясь на знание этой последовательности, мы строим умственное действие, обладающее определенными свойствами, которые оно проявляет в четко определенных условиях. И так как мы сами его строим, то в точности знаем, из чего и каким путем оно на каждой ступени образуется и что на самом деле представляет собой в каждой новой своей форме, – знаем это по результату действия даже тогда, когда уже не видим его самого и не получаем симптомов о его физиологической периферии.
О мышлении в образах, которое представляет собой совсем иной вид мышления, ни здесь, ни в последующем мы не говорим.
Вопрос об эйдетизме мы оставляем в стороне. Это явление частного порядка и притом неясного как раз в отношении зависимости эйдетических образов от характера речевой обработки.
К. Дункер. Структура и динамика процессов решения задач (о процессах решения практических проблем)[10]
Проблема возникает, например, тогда, когда у живого существа есть какая-либо цель и оно «не знает», как эту цель достигнуть. Мышление выступает на сцену во всех тех случаях, когда переход от данного состояния к желаемому нельзя осуществить путем непосредственного действия (выполнения таких операций, целесообразность которых не вызывает никаких сомнений). Мышление должно наметить ведущее к цели действие прежде, чем это действие будет выполнено. «Решение» практической проблемы должно поэтому удовлетворять двум требованиям: во-первых, его осуществление (воплощение в практике) должно иметь своим результатом достижение желаемого состояния, и, во-вторых, оно должно быть таким, чтобы, исходя из данного состояния, его можно было осуществить путем «соответствующего действия».
Практическая проблема, на которой я наиболее детально изучал процесс нахождения решения, такова: надо найти прием для уничтожения неоперируемой опухоли желудка такими лучами, которые при достаточной интенсивности разрушают органические ткани, при этом окружающие опухоль здоровые части тела не должны быть разрушены.
Таким практическим проблемам, в которых спрашивается: «Как этого достигнуть?» – родственны теоретические задачи, в которых стоит вопрос: «Из чего это следует?» Если там (в практических задачах) проблема возникала из того, что не было видно прямого пути, ведущего от наличной действительности к цели, то здесь (в теоретических задачах) проблема возникает из того, что не видно пути, ведущего от данных условий к определенному утверждению или предположению (или константному факту).
В нашем исследовании речь идет о том, каким образом из проблемной ситуации возникает решение, какие бывают пути к решению определенной проблемы.
Методика эксперимента. Испытуемым – это были по преимуществу студенты или школьники – предлагались различные интеллектуальные задачи с просьбой думать вслух. Эта инструкция «думать вслух» не совпадает с обычным при экспериментальном изучении мышления требованием самонаблюдения. При самонаблюдении испытуемый делает самого себя как мыслящего индивида предметом наблюдения; мышление же думающего вслух направлено непосредственно на существо вопроса, оно лишь выражено вербально.
Когда кто-либо при размышлении непроизвольно говорит, ни к кому не обращаясь: «Надо, пожалуй, посмотреть, нельзя ли…» или «Было бы прекрасно, если бы можно было показать, что…», то никто не назовет это самонаблюдением; и, тем не менее, в таких высказываниях отражается то, что является, как мы увидим далее, «развитием проблемы».
Испытуемому настойчиво предлагалось не оставлять без вербализации никакой мысли, какой бы беглой или неразумной она ни была. Когда испытуемый считал себя недостаточно подготовленным, он должен был спокойно спросить экспериментатора (эксп.). Но для решения задач не нужно было никаких специальных предварительных знаний.
Протокол решения задачи на «облучение». Начнем с задачи на «облучение». Обычно при этой задаче показывался схематический чертеж (рис. 1). В самый первый момент каждый представлял себе задачу примерно таким образом (поперечный разрез через тело, в середине – опухоль, слева – аппарат, из которого идут лучи). Но, очевидно, так задача не решается.
Из имеющихся у меня протоколов я выбираю протокол такого процесса решения, который особенно богат типическими ходами мысли и притом особенно длинен и полон (обычно процесс протекал более связно и с меньшей помощью экспериментатора).
Рис. 1
Протокол
1. Пустить лучи через пищевод.
2. Сделать здоровые ткани нечувствительными к лучам путем введения химических веществ.
3. Путем операции вывести желудок наружу.
4. Надо уменьшить интенсивность лучей, когда они проходят через здоровые ткани, например (можно так?) полностью включить лучи лишь тогда, когда они достигнут опухоли (Эксп.: Неверное представление, лучи – не шприц).
5. Взять что-либо неорганическое (не пропускающее лучей) и защитить таким образом здоровые стенки желудка (Эксп.: Надо защитить не только стенки желудка).
6. Что-нибудь одно: или лучи должны пройти внутрь, или желудок должен быть снаружи. Может быть, можно изменить местоположение желудка? Но как? Путем давления? Нет.
7. Ввести (в полость живота) трубочку? (Эксп.: Что, вообще говоря, делают, когда надо вызвать каким-либо агентом на определенном месте такое действие, которого надо избежать на пути, ведущем к этому месту?)
8. Нейтрализуют действие на этом пути. Я все время стараюсь это сделать.
9. Вывести желудок наружу (см. 6). (Эксп. повторяет задачу, подчеркивается «при недостаточной интенсивности»).
10. Интенсивность должна быть такова, чтобы ее можно было изменять (см. 4).
11. Закалить здоровые части предварительным слабым облучением (Эксп.: Как сделать, чтобы лучи разрушали только область опухоли?).
12. Я вижу только две возможности: или защитить здоровые ткани, или сделать лучи безвредными. (Эксп.: Как можно было бы уменьшить интенсивность лучей на пути до желудка?) (см. 4).
13. Как-нибудь отклонить их диффузное излучение – рассеять… стойте…. Широкий и слабый пучок света пропустить через линзу таким образом, чтобы опухоль оказалась в фокусе и, следовательно, под сильным действием лучей (Это предложение ближе к «лучшему» решению: перекрещивание многих слабых пучков лучей в области опухоли; таким образом, только здесь достигается нужная для разрушения интенсивность. Тот факт, что имеющиеся здесь в виду лучи не могут преломляться обычной линзой, не имеет для нас (т. е. с точки зрения психологии мышления) значения).
Группировка предложенных решений. Из приведенного протокола видно прежде всего следующее. Весь процесс, от постановки проблемы до окончательного решения, представляет собой ряд более или менее конкретных предложений решения. Если сопоставить различные содержащиеся в протоколе решения, то, естественно, выделяются некоторые группы очень сходных друг с другом решений. Очевидно, что решения 1, 3, 5, 6, 7 и 9 сходны между собой в том, что в них делается попытка устранить контакт между лучами и здоровыми тканями. Это достигается весьма различным образом: в 1-м случае с помощью проведения лучей таким путем, на котором нет никаких тканей, в 3-м – с помощью оперативного устранения здоровых тканей с пути лучей, в 5-м – посредством введения защитного экрана (что в невысказанной форме подразумевалось уже в 1-м и 3-м), в 6-м – с помощью перемещения желудка к поверхности тела, наконец, в 7-м – с помощью комбинации 3-го и 5-го. Совсем иначе схвачена проблема в предложениях 2 и 11. Здесь возможность разрушения здоровых тканей должна быть устранена путем понижения их чувствительности. В предложениях 4 и 8, 10 и 13 реализуется третий подход понижения интенсивности лучей на пути, ведущем к опухоли. Из протокола видно, что процесс обдумывания все время колеблется между этими тремя подходами.
В целях большей наглядности описанные нами отношения приведены на схеме (рис. 2).
Рис. 2. Родословное дерево решения задачи на облучение
Функциональное значение решений и понимание. В только что приведенной классификации предложенные решения сгруппированы по виду и способу, с помощью которых предполагается решить проблему, по их «благодаря чему», по их функциональному значению. Рассмотрим для примера предложение: «Послать лучи через пищевод». Испытуемый здесь ничего не говорит об устранении контакта или о пути, свободном от тканей.
И тем не менее, пищевод получает в этой связи характер решения проблемы только в силу того свойства, что он представляет собой свободный от тканей путь к желудку. Он фигурирует как «воплощение» именно этого свойства, которое и есть в данной ситуации – «благодаря чему», есть функциональное значение пищевода.
Функциональным значением «концентрации диффузных лучей на опухоли» является «малая интенсивность лучей на пути к опухоли, большая на самой опухоли».
Функциональное значение какого-либо решения необходимо для понимания того, почему оно является решением. Это как раз то, что называют «солью», принципом, тем, в чем заключается суть дела. Подчиненные, специальные свойства и особенности решения «воплощают» этот принцип, «применяют его» к специальным условиям ситуации. Так, например, пищевод (как решение) есть приложение принципа «свободный путь в желудок» к специальным условиям человеческого тела.
Понять какое-либо решение как решение – это значит понять его как воплощение его функционального значения.
С этой точки зрения можно отличить друг от друга «хорошие» и «глупые» ошибки (в келеровском смысле): при умных, осмысленных ошибках правильно намечается хотя бы общее функциональное значение, лишь конкретное воплощение оказывается непригодным (например, обезьяна ставит под высоко висящей приманкой ящик на ребро, потому что он таким образом оказывается ближе к цели; конечно, приближение достигается за счет устойчивости). При «глупой» же ошибке обычно слепо осуществляется внешний вид ранее выполненного или виденного решения без понимания функционального значения. (Например, обезьяна прыгает вверх с ящика, но приманка висит не над ящиком, а совсем в другом месте.)
Процесс решения как развитие проблемы. Из сказанного уже ясно, что окончательная форма определенного предлагаемого решения достигается не сразу: обычно сначала возникает принцип, функциональное значение решения и лишь с помощью последовательного конкретизирования (воплощения) этого принципа развивается окончательная форма соответствующего решения. Другими словами, общие, «существенные» черты решения генетически предшествуют более специальным, и эти последние организуются с помощью первых. Приведенная выше классификация представляет собой, следовательно, нечто вроде «родословного дерева решения» для задачи на «облучение».
Нахождение определенного общего свойства решения всегда равносильно определенному преобразованию первоначальной проблемы. Рассмотрим, например, четвертое предложение из приведенного нами протокола. Здесь совершенно ясно, что сначала возникает лишь очень общее функциональное значение решения: «Надо уменьшить интенсивность лучей по пути». Но возникновение этой мысли есть не что иное, как решительное преобразование первоначальной задачи. Теперь испытуемый ищет не просто «способа облучения опухоли, не разрушая здоровых тканей», как это было вначале, но уже ищет, сверх того, способ понизить интенсивность лучей по пути к опухоли. Поставленная задача, таким образом, заострилась, специализировалась; и именно как решение этой новой, преобразованной задачи возникает (правда, весьма нелепое) предложение: включить лучи на полную интенсивность лишь после того, как они достигнут опухоли. Из того же самого преобразования проблемы возникает в конце всего процесса пригодное решение: «Концентрировать на опухоли диффузные лучи».
Сходным образом обстоит дело и со всеми остальными предложениями, приведенными в протоколе: находимые в первую очередь свойства решения, т. е. функциональные значения, всегда являются продуктивными преобразованиями первоначальной проблемы.
Мы можем, следовательно, рассматривать процесс решения не только как развитие решения, но и как развитие проблемы. Конечная форма определенного решения в типическом случае достигается путем, ведущим через промежуточные фазы, из которых каждая обладает в отношении к предыдущим фазам характером решения, а в отношении к последующим – характером проблемы.
Недостаточность протокола. Здесь уместно высказать несколько основных положений относительно протоколов. Всякий протокол более или менее достоверен лишь в отношении того, что в нем есть, но не в отношении того, чего в нем нет. Ибо даже самый тщательный протокол представляет собой лишь в высшей степени неполную регистрацию того, что действительно происходило. Основания этой недостаточности протокола, отражающего процесс мышления вслух, интересуют нас вместе с тем и как свойство процесса решения. Промежуточные этапы часто не указываются в протоколе в тех случаях, когда они сейчас же получают свою окончательную форму. Там же, где они в течение некоторого времени должны были существовать как задачи, прежде чем нашли свое окончательное «применение» в ситуации, там больше шансов на то, что они получат выражение в речи. Далее, многие подчиненные фазы потому не получают своего выражения в протоколе, что ситуация, по мнению решающего, не обещает успеха для реализации данного принципа. И, наконец, в очень многих случаях промежуточные фазы не указываются потому, что испытуемый даже и не замечает, как он уже модифицировал первоначально поставленную проблему. Дело может зайти так далеко, что испытуемый сам, к своей невыгоде, лишает себя свободы движения, ибо он, не давая себе в том отчета, заменяет поставленную задачу более узкой и поэтому остается в рамках этой более узкой задачи именно потому, что он не отличает ее от первоначальной.
«Побуждение снизу». Бывают случаи, когда окончательная форма решения достигается не путем, ведущим сверху вниз, т. е. не через функциональное значение этого решения. Очевидно, это бывает при «привычных» решениях. Если окончательное решение определенной проблемы привычно для думающего, то его не надо «строить», оно прямо «репродуцируется» сознаванием задачи в целом.
Но бывают и еще более интересные случаи. Всякое решение имеет в известном смысле два корня, один – в том, что требуется, другой – в том, что дано. Точнее: всякое решение возникает из рассмотрения данных под углом зрения требуемого. Причем эти два компонента очень сильно варьируют по своему участию в возникновении определенной фазы решения. Определенное свойство решения иногда очень ясно осознается раньше, чем оно обнаруживается в особенностях ситуации, а иногда не осознается. Пример из задачи на облучение: пищевод может обратить на себя внимание именно потому, что испытуемый ищет уже свободный путь в желудке. Но может случиться, что испытуемый как бы «натолкнется на пищевод» при еще сравнительно неопределенном, беспрограммном рассмотрении особенностей ситуации. Выделение пищевода в этих случаях влечет за собой – так сказать, снизу – соответствующее функциональное значение «свободный доступ в желудок»; другими словами, здесь воплощение предшествует функциональному значению. Подобного рода случаи встречаются нередко, так как «анализ ситуации» часто (и не без пользы, поскольку надо найти новые подходы) протекает сравнительно «беспрограммно».
Научение из ошибок (корригирующие фазы). До сего времени мы имели в виду лишь движения от более общих этапов решения к более конкретным (или наоборот), т. е. движение по генетической линии решения. Приведенный нами протокол достаточно убедительно показывает, что это не единственный тип следования друг за другом фаз решения. Из протокола видно, что линия развития постоянно изменяется, испытуемый все время переходит от одного подхода к другому. Такой переход к соподчиненным фазам имеет место обычно тогда, когда какое-либо предложенное решение не удовлетворяет или когда по данному направлению не удается идти дальше. Тогда испытуемый ищет какого-либо (более или менее определенного) другого решения.
Такой переход заключает всегда в себе некоторое движение вспять к уже бывшей ранее фазе проблемы. Разумеется, мышление никогда не возвращается в точности к тому же самому пункту, на котором оно уже однажды находилось. Неудача определенного предложения имеет своим следствием по крайней мере то, что теперь пробуют решить задачу «иначе». Испытуемый ищет – в рамках прежней постановки вопроса – другой зацепки для решения. Иногда же изменяется старая постановка вопроса – и притом в совершенно определенном направлении, в силу вновь присоединившегося к ней требования – устранить то свойство предложенного неверного решения, которое противоречит условиям задачи.
Это «учение на ошибках» играет в процессе решения задачи такую же важную роль, как и в жизни. В то время как простое понимание, что «так не годится», может привести лишь к непосредственной вариации старого приема; выяснение того, почему это не годится, осознание основ конфликта имеет своим следствием соответствующую определенную вариацию, корригирующую осознанный недостаток предложенного решения.
Эвристические методы мышления, анализ ситуации как анализ конфликта. Посмотрим, какое в действительности существует отношение между решением и проблемой. Мы найдем следующее: решение всегда есть вариация какого-либо критического момента ситуации. Так, например, при решении задачи на облучение изменяется или пространственное расположение лучей, опухоли и здоровых тканей, или интенсивность (концентрация) лучей, или чувствительность тканей. И в первом случае может изменяться или путь лучей, или положение здоровых тканей, или положение опухоли (этим в задаче на облучение примерно исчерпываются первичные «конфликтные моменты»).
Каждое решение возникает, следовательно, из конкретного специфического субстрата, составляющего ситуацию задачи.
«Настойчивый» анализ ситуации, в особенности стремление осмысленно варьировать соответствующие свойства ситуации под углом зрения цели, должен входить в собственную сущность возникновения решения, находимого мышлением. Такие относительно общие приемы решения мы будем называть «эвристическими методами мышления».
Вопрос относительно того, какие именно свойства ситуации надо варьировать, идентичен с вопросом «почему, собственно, это не годится?» или «что является причиной затруднения (конфликта)?».
Анализ ситуации как анализ материала. Конечно, анализ ситуации не исчерпывается анализом конфликта. Проблемная ситуация содержит в себе, вообще говоря, в более или менее развернутой форме также и всевозможный материал для различных решений. Наряду со свойствами ситуации, которые при решении устраняются или изменяются, существуют и такие свойства, которые в решении применяются. На относительно спонтанной действенности этих последних основывается то, что мы называли выше «побуждением снизу». В то время как конфликтные моменты отвечают на вопросы: «Почему не получается? Что я должен изменить?», материал отвечает на вопрос: «Что я могу использовать?» Таким образом, анализ ситуации выступает в двух видах: как анализ противоречий и как анализ материала.
Анализ цели. Наряду с анализом ситуации в его двух указанных формах, для типичного процесса мышления характерным является анализ цели, требуемого, вопрос «чего, собственно, я хочу?» и часто дополнительный вопрос «без чего я могу обойтись?». Например, при задаче на облучение решающему может стать ясно, что вовсе не необходимо направлять лучи одним пучком, как это показано на исходной модели, что без этого можно обойтись.
Сходную роль играет намеренное обобщение постановки проблемы, цели, т. е. вопрос: «Что, вообще говоря, делают, когда…» При задаче на облучение я не раз, когда испытуемый «из-за деревьев не видел леса», рекомендовал этот эвристический метод обобщения, говоря: «А что вообще делают, когда хотят с помощью какого-либо агента осуществить в определенном месте некоторый эффект, который вместе с тем желают устранить на пути к этому месту?» Хотя испытуемый часто отвечал: «Да я все время пробую это сделать», все же вопрос ему помогал, являясь в известной мере устранением фиксации.
Таким образом, в типическом процессе мышления решающую роль играют определенные эвристические «методы», которые обусловливают возникновение следующих друг за другом стадий решения. Эти эвристические методы не указаны в приведенных выше «родословных» решений задачи. Они не являются фазами или свойствами решения, а «путями» к нему. Они спрашивают: «как мне найти решение», а не «как мне достигнуть цели» (решение есть путь к цели, которая поставлена задачей, а эвристический метод – путь к решению).
Податливость (рыхлость) моментов ситуации. По какому направлению в каждый данный момент пойдет процесс решения – это зависит от психологического рельефа ситуации, от «податливости», или «рыхлости» соответствующих моментов ситуации. Для многих испытуемых задача на облучение, по крайней мере в первый момент, представляется так, что соответствующая вариация пути лучей является безусловно необходимым и единственным приемом решения. Остальные критические моменты ситуации (таковыми являются интенсивность лучей, внутренние свойства тканей) остаются «неизменными», «устойчивыми», «не относящимися к вопросу».
От каких незначительных нюансов постановки вопроса может зависеть направление процесса решения, показывают следующие опыты: две группы испытуемых получили задачу на облучение с одним и тем же текстом и одинаковыми рисунками: лишь две фразы, которые должны были пояснить непригодность прямого «решения» задачи, были сформулированы по-разному. Группа 1 получила такую формулировку: «При этом лучи разрушили бы и здоровые ткани. Как можно было бы не допустить, чтобы лучи причинили вред здоровым тканям?» Группа II получила вместо этой такую формулировку: «При этом и здоровые ткани были бы разрушены. Как можно было бы сделать так, чтобы здоровые ткани не были разрушены лучами?» То есть те же самые мысли были выражены один раз в действительном залоге, а другой раз – в страдательном. В первом случае ударение лежит на лучах, во втором – на здоровых тканях.
Чтобы установить, повлияло ли такое различие в ударении на направление решения, я подсчитал в обеих группах протоколы, в которых интенсивность лучей, так или иначе, являлась исходным пунктом решения.
Оказалось следующее: вариацией интенсивности лучей занимались 10 из 22 испытуемых первой группы (43 %) и только 3 из 21 (14 %) испытуемых второй группы, кроме того, в первой группе интенсивность лучей играла гораздо более важную роль.
«Однопучковость» лучей (один пучок из одного источника) почти для всех испытуемых была таким очевидным, твердым условием решения, что уже по одному этому мысль о «концентрации нескольких слабых пучков лучей на опухоли» почти не могла возникнуть. Если бы я достаточно рано заметил это, то я при основных опытах не давал бы рисунка, который фиксирует определенные свойства и потому является помехой. Чтобы проверить это подозрение, было поставлено несколько коллективных опытов.
1. 11 испытуемых получили задачу с приложением рисунка, 11 других – без рисунка. (Испытуемыми были ученики предпоследнего класса реального училища.) Результат: с рисунком – 9 % решений путем концентрации, без рисунка – 36 %.
2. В двух других коллективных опытах (проводившихся без рисунка) 28 испытуемых получили задачу в старой формулировке, тогда как 30 испытуемых получили вариант, в котором «лучи» заменены «частицами». Результат: в опытах с пучком лучей – 18 % решений, в опытах с частицами – 37 %. (Испытуемыми были частично студенты, частично ученики шестого класса.) Правильность подозрения подтвердилась.
Конечно, конфликтный момент может обладать такой степенью устойчивости, которая оказывается сильнее почти всех противодействующих влияний. В этом случае мы говорим о «фиксировании». Прекрасный пример дает известная задача, в которой требуется из шести спичек построить четыре равносторонних треугольника. Решением является тетраэдр (пирамида, образованная четырьмя треугольниками). Все испытуемые (у нас было 5 испытуемых в индивидуальных опытах и около 40 в коллективных) вначале пытаются решать задачу построением в одной плоскости, как если бы задача гласила: «… выложить на плоскости четыре равносторонних треугольника».
Следует заметить, что «рельеф устойчивости», свойственный определенной проблемной ситуации, не зависит от произвольного распределения внимания. Напротив, непроизвольный рельеф ситуации управляет вниманием.
Переструктурирование материала. Всякое решение есть какое-то изменение данной ситуации. При этом изменяются не только те или другие части ситуации, но изменяется, кроме того, общая психологическая структура ситуации (или определенных, имеющих значение для решения ее частей). Такие изменения называют «переструктурированием».
Например, в ходе решения испытывает процесс переструктурирования ее «рельеф» («фигура – фон»). Части и моменты ситуации, которые раньше или совсем не сознавались, или сознавались лишь на заднем плане, вдруг выделяются, становятся главными, темой, «фигурой», и наоборот.
Кроме акцентов изменяются предметные свойства или «функции». Вновь выделяющиеся части ситуации обязаны своим выделением некоторым (сравнительно общим) функциям: одно становится «препятствием» – тем, «за что надо взяться» (конфликтом), другое – «средством» и т. д. Одновременно изменяются и более специальные функции (например, пищеварительный канал становится «путем лучей» или треугольник из спичек становится «основанием тетраэдра»).
Неоднократно указывалось, что такие переструктурирования играют важную роль в процессах мышления, при решении задач. Решающие моменты в процессах мышления, моменты внезапного понимания, «ага-переживаний», возникновения чего-то нового, всегда являются вместе с тем и моментами, когда происходит внезапное переструктурирование мыслимого материала, моментами, когда что-то «переворачивается». Очень вероятно, что глубочайшие различия между людьми в том, что называют «способностью к мышлению», «умственной одаренностью», имеют свою основу в большей или меньшей легкости таких переструктурирований.
Г. Линдсей, К. С. Халл, Р. Ф. Томпсон. Творческое и критическое мышление[11]
Творческое мышление – это мышление, результатом которого является открытие принципиально нового или усовершенствованного решения той или иной задачи. Критическое мышление представляет собой проверку предложенных решений с целью определения области их возможного применения. Творческое мышление направлено на создание новых идей, а критическое – выявляет их недостатки и дефекты. Для эффективного решения задач необходимы оба вида мышления, хотя используются они раздельно: творческое мышление является помехой для критического, и наоборот.
Мозговой штурм
Если вы хотите мыслить творчески, вы должны научиться предоставлять своим мыслям полную свободу и не пытаться направить их по определенному руслу. Это называется свободным ассоциированием. Человек говорит все, что приходит ему в голову, каким бы абсурдным это ни казалось. Свободное ассоциирование первоначально использовалось в психотерапии, сейчас оно применяется также для группового решения задач, и это получило название «мозгового штурма».
Мозговой штурм широко используется для решения ряда промышленных, административных и других задач. Процедура проста. Собирается группа людей для того, чтобы «ассоциировать» на заданную тему: как ускорить сортировку корреспонденции, как достать деньги для строительства нового центра или как продать больше чернослива. Каждый участник предлагает все то, что приходит ему на ум и иногда кажется не относящимся к проблеме. Критика запрещена. Цель – получить как можно больше новых идей, так как чем больше идей будет предложено, тем больше шансов для появления по-настоящему хорошей идеи. Идеи тщательно записываются и по окончанию мозгового штурма критически оцениваются, причем, как правило, другой группой людей.
Творческое мышление в группе основывается на следующих психологических принципах (Осборн, 1957).
1. Групповая ситуация стимулирует процессы выработки новых идей, что является примером своего рода социальной помощи. Было обнаружено, что человек средних способностей, работая в группе, может придумать почти вдвое больше решений, чем когда он работает один. В группе он находится под воздействием многих различных решений, мысль одного человека может стимулировать другого и т. д. Вместе с тем эксперименты показывают, что наилучшие результаты дает оптимальное чередование периодов индивидуального и группового мышления.
2. Кроме того, групповая ситуация вызывает соревнование между членами группы. До тех пор пока это соревнование не вызовет критических и враждебных установок, оно способствует интенсификации творческого процесса, так как каждый старается превзойти другого в выдвижении новых предложений.
3. По мере увеличения количества идей повышается их качество. Последние 50 идей являются, как правило, более полезными, чем первые 50. Очевидно, это связано с тем, что задание все больше увлекает участников группы.
4. Мозговой штурм будет эффективнее, если участники группы в течение нескольких дней будут оставаться вместе. Качество идей, предложенных ими на следующем собрании, будет выше, чем на первом. По-видимому, для появления некоторых идей требуется определенный период их «созревания».
5. Психологически правильно, что оценка предложенных идей выполняется другими людьми, так как обычно недостатки собственного творчества замечаются с большим трудом.
Препятствия на пути творческого мышления
Конформизм – желание быть похожим на другого – основной барьер для творческого мышления. Человек опасается высказывать необычные идеи из-за боязни показаться смешным или не очень умным. Подобное чувство может возникнуть в детстве, если первые фантазии, продукты детского воображения, не находят понимания у взрослых, и закрепиться в юности, когда молодые люди не хотят слишком отличаться от своих сверстников.
Цензура – в особенности внутренняя цензура – второй серьезный барьер для творчества. Последствия внешней цензуры идей бывают достаточно драматичными, но внутренняя цензура гораздо сильнее внешней. Люди, которые боятся собственных идей, склонны к пассивному реагированию на окружающее и не пытаются творчески решать возникающие проблемы. Иногда нежелательные мысли подавляются ими в такой степени, что вообще перестают осознаваться. Superego – так назвал Фрейд этого интернализованного цензора.
Третий барьер творческого мышления – это ригидность, часто приобретаемая в процессе школьного обучения. Типичные школьные методы помогают закрепить знания, принятые на сегодняшний день, но не позволяют научить ставить и решать новые проблемы, улучшать уже существующие решения.
Четвертым препятствием для творчества может быть желание найти ответ немедленно. Чрезмерно высокая мотивация часто способствует принятию непродуманных, неадекватных решений. Люди достигают больших успехов в творческом мышлении, когда они не связаны повседневными заботами. Поэтому ценность ежегодных отпусков состоит не столько в том, что, отдохнув, человек будет работать лучше, сколько в том, что именно во время отпуска с большей вероятностью возникают новые идеи.
Конечно, эффективность результатов свободной творческой фантазии и воображения далеко не очевидна; может случиться так, что из тысячи предложенных идей только одна окажется применимой на практике. Разумеется, открытие такой идеи без затрат и создание тысячи бесполезных идей было бы большой экономией. Однако эта экономия мало вероятна, тем более, что творческое мышление часто приносит удовольствие независимо от использования его результатов.
Критическое мышление
Чтобы выделить по-настоящему полезные, эффективные решения, творческое мышление должно быть дополнено критическим. Цель критического мышления – тестирование предложенных идей: применимы ли они, как можно их усовершенствовать и т. п. Ваше творчество будет малопродуктивным, если вы не сможете критически проверить и отсортировать полученную продукцию. Чтобы провести соответствующий отбор надлежащим образом, необходимо, во-первых, соблюдать известную дистанцию, т. е. уметь оценивать свои идеи объективно, и, во-вторых, учитывать критерии, или ограничения, определяющие практические возможности внедрения новых идей. Какие препятствия стоят на пути критического мышления? Одним из них является опасение быть слишком агрессивным. Мы часто учим наших детей, что критиковать – значит быть невежливым. Тесно связан с этим следующий барьер – боязнь возмездия: критикуя чужие идеи, мы можем вызвать ответную критику своих. А это, в свою очередь, может породить еще одно препятствие – переоценку собственных идей. Когда нам слишком нравится то, что мы создали, мы неохотно делимся с другими нашим решением. Добавим, что чем выше тревожность человека, тем более он склонен ограждать свои оригинальные идеи от постороннего влияния.
И, наконец, необходимо отметить, что при чрезмерной стимуляции творческой фантазии критическая способность может остаться неразвитой. К сожалению, неумение думать критически – это один из возможных непредвиденных результатов стремления повысить творческую активность учащихся. Следует помнить, что большинству людей в жизни требуется разумное сочетание творческого и критического мышления.
Критическое мышление нужно отличать от критической установки. Несмотря на то, что в силу специфики своего подхода к решению задач критическое мышление запрещает некоторые идеи или отбрасывает их за негодностью, его конечная цель конструктивна. Напротив, критическая установка деструктивна по своей сути. Стремление человека критиковать единственно ради критики имеет скорее эмоциональный, чем когнитивный характер.
Раздел 3. Регуляция поведения и деятельности
П. Жане. Шоковые эмоции[12]
Эмоция появляется вслед за восприятием некоторого внешнего происшествия, цепочки событий, в которую оказывается вовлечен человек. Исследователи часто пытаются объяснять эмоции, исходя из характера этих обстоятельств. Несомненно, провоцирующее событие может вполне восприниматься как определяющее эмоциональную реакцию, когда оно вызывает эмоции, рассматриваемые нами как нормальные и оправданные. Приведем классический пример Джеймса: на повороте дороги мы нос к носу сталкиваемся с огромным медведем и переживаем эмоциональное потрясение, мы внезапно узнаем о смерти близкого человека, теряем все свое состояние, работу – эти ситуации вызывают острую эмоциональную реакцию у большинства людей. Но наблюдения показывают, что эмоциональные расстройства могут случаться и когда обстоятельства не кажутся нам провоцирующими такое поведение, что утверждает нас в необходимости искать условие возникновения эмоций отнюдь не только во внешней ситуации.
Девушка 23 лет, Ib, сидела за столом со своим отцом, когда он вдруг почувствовал себя плохо и пожаловался, что левая рука стала тяжелой: «Неужели я буду парализован?», – сказал он. Девушка вскрикнула, зарыдала, заметалась по комнате, у нее начались конвульсии. Она пришла в себя через два часа в своей постели, перенесенная в комнату отцом. Позже она сказала: «То, что произошло со мной, вполне естественно: моего отца парализовало, затем он умирает, для меня это большое несчастье и одиночество, я не могу ничего сделать, все бесполезно, конечно же, у меня было сильное эмоциональное потрясение». У девушки некоторое время еще оставалась слабость и безразличие, и восстановление длилось достаточно долго.
Вот пример более сложной эмоции. Gib, 23 года, присутствовала при попытке самоубийства своих родителей, выбросившихся из окна. Она вскрикнула, у нее начались судороги, и в течение нескольких минут продолжалось временное помутнение рассудка, судя по произносимым ею несвязным словам. Впоследствии в течение пятнадцати дней она чувствовала себя хорошо, казалось, что расстройство миновало. Но по истечении этого времени начались систематические конвульсивные кризы, сомнамбулические расстройства, нарушения воли и памяти.
Iren, девушка 26 лет, присутствовала при трагической смерти матери. У нее сразу случились конвульсии и временное помешательство, позже состояние несколько восстановилось, оставаясь, однако, странным, и через неделю возникли состояние безразличия и чувство пустоты, а также ретроградная амнезия на события нескольких последних месяцев. Время от времени повторялись периоды конвульсий и бредовые состояния, при которых Iren снова и снова воспроизводила события смерти матери. Это тяжелое расстройство тянулось в течение нескольких лет.
В эволюции эмоционального расстройства прослеживаются три стадии. Первая группа поведенческих расстройств появляется сразу или почти сразу после события, например, после слов отца в случае Ib. Эта первая фаза обычно непродолжительна и длится от нескольких минут до одного-двух дней. Во второй период эмоциональное равновесие, казалось бы, более или менее полностью восстанавливается; этот инкубационный этап может протекать от нескольких дней до нескольких недель (иногда месяцев). Разворачивающееся в третий период эмоциональное расстройство уже не является эмоцией в полном смысле этого слова; оно может длиться годами.
На протяжении многих лет меня неизменно поражали те особенности эмоций, которые могут быть выявлены при изучении неврозов. Я описывал их во многих работах, но, полагаю, необходимо обращать больше внимания, придавать большее значение теории эмоций. В работах, касающихся психического состояния истериков (1892), я подчеркиваю тот факт, что эмоции больных все время одни и те же, они не обнаруживают адаптации к обстоятельствам, они просты, сильны и имеют разрушительное влияние на более сложные, тонкие чувства, осознание чувств, память, произвольные решения. Эмоция, видимо, играет роль, обратную воле и вниманию, которые способствуют синтетической активности, созданию все более сложных образований при участии мышления. Эмоции же, напротив, представляют собой дезорганизующую силу.
С давних пор люди замечали, что человек, охваченный эмоцией, становится как бы ниже самого себя: психическое состояние, образование, моральное воспитание могут существенно меняться под влиянием эмоции. Laycock в 1876 году говорил о любопытном случае человека, который в эмотивном состоянии начинал снова говорить на местном наречии. Я приводил множество подобных примеров, а также и случаев, когда человек терял орфографические навыки. Иногда эмоция полностью подавляет речь, но чаще всего разрушаются лишь определенные ее формы, адаптированные к тем или иным обстоятельствам: затрудняется доклад на конференции, ответ на экзамене, не находится нужное в данный момент слово. Могут меняться и голосовые особенности: голос становится выше или ниже обычного, появляется заикание, икота, всхлипывания.
Многие наблюдения за обыденной жизнью подтверждают эти замечания: удивление, неожиданность, необходимость быстрого реагирования, играющие существенную роль в эмоциях, часто вынуждают нас перейти от высокоуровневых, точных к более общим и простым формам поведения. Так, обычно мы одеваемся аккуратно, но если мы боимся опоздать на поезд, ни о какой тщательности и изощренности речи быть уже не может. Мы удерживаемся от мести и не ударяем противника, но, когда опасность действительно велика, мы защищаемся всеми возможными средствами. Подобная подмена более сложных, совершенных действий более грубыми часто встречается в случае эмоций. Они приводят к исчезновению действия, которое необходимо было выполнить в сложившихся обстоятельствах, и замене его на более элементарные реакции. Ib, услышав жалобу отца, должна была бы встать из-за стола, подойти к отцу, расспросить, осмотреть руку, позаботиться о нем, помочь. Она, безусловно, была способна на все эти действия и не раз ухаживала за отцом и матерью, когда они болели. Но ничего подобного она не сделала в тот момент, что характерно для всех ситуаций, когда человек охвачен эмоцией. Именно эти процессы убеждают нас в мысли, что эмоция развивается по поводу событий, к которым человек оказывается не готов и не может адаптироваться. Конечно, мы не можем быть идеально адаптированы ко всему потоку новых обстоятельств, с которыми нам приходится сталкиваться, но мы что-то меняем, ищем новые способы поведения. Охваченный же эмоцией человек «отказывается» от всякого рода подобных попыток – впадает в ступор, засыпает, бьется в истерике, производит множество бесполезных движений. Здесь мы сталкиваемся с исчезновением актов адаптации, любых ее попыток, с диффузной активностью всего организма, возвращением к примитивным формам поведения. В ситуации эмоционального криза мы сталкиваемся с одними и теми же древними, старыми действиями, не соответствующими изменчивости настоящего момента. Больной снова и снова проигрывает, воспроизводит сцену насилия или смерть матери – события, произошедшие годы назад.
Рассматривая эмоции с точки зрения иерархии форм поведения, можно сказать, что неотъемлемой характеристикой эмоций является регрессия к низшим формам поведения. «Эмоция, – говорю я в Obsessions, – представляет собой существенное изменение уровня психического, приводящее не только к потере синтетической функции и сведению поведения к автоматическому, что ярко видно в случаях истерии, но и к подавлению высших форм поведения и снижению психического напряжения до уровня низших реакций» (Janet, Obsessions, I, p. 523). К наиболее примитивным проявлениям психического относятся конвульсивные движения, и еще ниже располагаются изменения дыхания и кровообращения. В связи с этим сильная эмоция приводит к конвульсивным реакциям или висцеральным изменениям. Эти процессы могут быть как косвенным следствием подавления высших функций, так и следствием непосредственного возбуждения, которое испытывает организм. Эта регрессия частично объясняет последующее состояние истощения. Активированные в эмоциях тенденции являются примитивными тенденциями самосохранения, нападения или бегства. Они всегда обладают большим энергетическим зарядом и склонны к прекращению действия только при полной разрядке.
Эмоциональные трудности и регрессию к более примитивным формам поведения часто описывают как механическое следствие обстоятельств. Так происходит при исследовании эмоциональных расстройств у солдат, прошедших войну, проблем, вызванных разного рода потрясениями. Но само по себе событие не объясняет тех трудностей, которые можно наблюдать. Событие приобретает эмотивный статус, поскольку за ним следует аффективная реакция. Само по себе оно не имеет этой характеристики, и в тех же обстоятельствах многие другие люди не испытывают затруднений. Эмоция не является простым следствием события, но должна рассматриваться как активная реакция человека.
Сегодня мы говорим об эмоции как о проявлении трудностей регуляции поведения, но, возможно, это не всегда было так. Все регуляторы действия имеют свое развитие, свою эволюцию. Они не нужны в простой механической системе, отвечающей каждый раз одним и тем же движением на одну и ту же стимуляцию и не реагирующей на стимульные воздействия, на которые она непосредственно не настроена. Высшие акты появлялись очень постепенно, они были вначале немногочисленны и трудны для реализации. При благоприятных обстоятельствах могли осуществляться эти изящные и в чем-то более совершенные формы поведения, но в случае опасности не было ли благоразумнее вернуться к более элементарным актам, пусть более грубым, примитивным, но обеспечивающим немедленную защиту? Эти примитивные поведенческие акты сослужили добрую службу нашим предкам, при некоторых обстоятельствах человек снова обращается к ним. Рефлекторное поведение, простые реакции использовались веками. Не естественно ли то, что в какой-то момент человек, находящийся на более высокой стадии развития, но по той или иной причине не способный воспользоваться высшими формами поведения, инстинктивно возвращается к этим примитивным актам? Они обладают огромным энергетическим зарядом. Для примитивного существа важны были не усовершенствования, не усложнения действия, не надстройки и «излишества», но его сила, что отражает способ преодоления трудности путем задействования сильных и многочисленных движений всего тела, вместо движения небольшого, но верного и точного. Эмоция подавляет усложненные и часто рискованные, ненадежные формы поведения и заменяет их множеством простых действий, ценность которых ограничена, но надежность несомненна. Она подменяет качество количеством и на мгновение создает иллюзорное ощущение силы. Возвращение назад связано также с уничтожением проблемы, поставленной внешними обстоятельствами. Стимуляция действия является сама по себе частью действия. Так, для существа, не имеющего речевой функции, вопрос не является стимуляцией к сложному действию, вопрос – ничто, его не существует. Это происходит и при аффективной реакции, когда исчезают вопросы приличия или благопристойности, а также многие другие социальные проблемы; это способ разрешения вопроса путем его ликвидации.
Таким образом, регрессия поведения, которую мы наблюдаем в случае эмоции, может быть полезной в определенного рода обстоятельствах, а дезорганизация высших форм поведения не может рассматриваться как просто реакция на событие, но служит проявлением активности человека. Эмоциональная регуляция может рассматриваться как примитивная форма регуляции поведения, характеризующаяся полной энергетической разрядкой. Позднее появятся возможности сделать ее более точной и не такой жесткой и прямолинейной. Предпосылки к эмоциональным формам реагирования находятся скорее не в ситуации, но в самом человеке, в его поведении, реакции на ситуацию.
И. Изард. Когнитивные теории эмоций и личности[13]
По меньшей мере, два больших класса теорий могут рассматриваться в качестве когнитивных: теория Я и теории, рассматривающие разум как причину или компонент эмоции. Центральной и широко распространенной переменной в теории Я является Я-концепция – восприятие индивидом самого себя и его размышления по поводу своего «Я», организованные в целостный и интегральный феномен, которому придается огромное объяснительное значение (Snygg, Combs, 1949; Rogers, 1951; Combs, Snygg, 1959).
Теория Я, чувство и эмоция. Чем больше восприятие или познание связаны с ядром личности, тем в большей степени они включают в себя чувства или эмоции. Когда Я-концепция подвергается критике, индивид склонен к страху или к принятию оборонительной позиции, когда же Я-концепция подтверждается и одобряется, индивид испытывает интерес или радость. Теории Я постоянно подчеркивают важность изучения «чувственного содержания» (как противоположного строгому семантическому) для понимания индивида. Они находят, что это особенно важно для психотерапевтов. Действительно, подобный принцип используется несколькими направлениями современной психотерапии, например в группах психологического тренинга, группах знакомств, в гештальттерапии.
Эмоция как функция разума. Некоторые современные теории рассматривают эмоцию в основном как ответ или как комплекс ответов, обусловленных когнитивными процессами. Эти теории имеют общий корень со взглядами на природу человека, которые могут быть прослежены от Аристотеля, Фомы Аквинского, Дидро, Канта и других философов. Это идеи о том, что: (а) человек прежде всего и в наибольшей степени – рациональное существо; (б) рациональное по своей сущности хорошо, а эмоциональное – плохо; (в) когнитивные процессы должны использоваться как фактор, контролирующий и замещающий эмоции. Одна из наиболее разработанных теорий эмоций и личности в этой традиции – теория Арнолд (Arnold, 1960). По Арнолд, эмоция возникает как результат последовательности событий, описываемых при помощи понятий восприятия и оценки. Арнолд использовала термин восприятие в значении «простого понимания объекта». Понимать что-нибудь – это знать, что из себя представляет данный объект вне зависимости от того, как он влияет на воспринимающего. До того, как эмоция возникнет, объект должен быть воспринят и оценен. В ответ на оценку объекта, так или иначе влияющего на воспринимающего, возникает эмоция как нерациональное принятие или отвержение. Различия между эмоцией, восприятием и оценкой признаются несмотря на тот факт, что оценка сама по себе характеризуется как прямая и интуитивная и едва ли не столь же непосредственная, как и восприятие. «Последовательность восприятие – оценка – эмоция настолько жестка, что наш повседневный опыт не располагает строго объективным знанием вещей; это всегда либо знание и принятие, либо знание и неприязнь… Интуитивная оценка ситуации побуждает действие, что ощущается как эмоция, выражается в различных телесных изменениях и обычно может вести к внешнему действию» (Arnold, 1960, р. 177). Арнолд делала различие между эмоцией и мотивом. Эмоция – это чувственно-действенная тенденция, тогда как мотив – это действенный импульс плюс разум. Таким образом, мотивированное действие является функцией и эмоцией и когнитивных процессов.
Эмоции как интерпретация физиологического возбуждения. Шехтер и его соавторы (1966, 1971; Schachter, Singer, 1962) предположили, что эмоции возникают на основе физиологического возбуждения и когнитивной оценки. Некоторое событие или ситуация вызывают физиологическое возбуждение, и у индивида возникает необходимость оценить содержание ситуации, которая это возбуждение вызвала. Тип или качество эмоции, испытываемой индивидом, зависит не от ощущения, возникающего при физиологическом возбуждении, а от того, как индивид оценивает ситуацию, в которой это происходит. Оценка («узнавание или определение») ситуации дает возможность индивиду назвать испытываемое ощущение возбуждения радостью или гневом, страхом или отвращением или любой другой подходящей к ситуации эмоцией. По Шехтеру, то же самое физиологическое возбуждение может испытываться, как радость или как гнев (или как любая другая эмоция) в зависимости от трактовки ситуации. Мандлер (Mandler, 1975) предложил похожее рассмотрение эмоциональной активности. В одном хорошо известном эксперименте Шехтер и Сингер (Schachter, Singer, 1962) проверяли свою теорию следующим образом: в одной группе испытуемым вводили эпинефрин, вызывающий возбуждение, другой – плацебо. Затем часть испытуемых получила «объяснение» о действии введенного препарата – либо истинное, либо ложное. Части испытуемых информации относительно влияния препарата не давали. Непосредственно после этого половина испытуемых попадала в общество человека, демонстрировавшего эйфорическое поведение, а другая половина – в общество человека, находившегося в ярости. Оказалось, что дезинформированные или не получившие вообще никакой информации индивиды были более склонны имитировать настроение и поведение, а субъекты, точно знавшие действие эпинефрина, были относительно устойчивы. Среди испытуемых, следовавших эйфорической модели, дезинформированные или лишенные информации группы давали более высокие оценки хорошего настроения, чем верно информированная группа, но в группе, принимавшей плацебо, дезинформация к имитации эмоционального поведения не привела. Аналогичные результаты были получены и на второй части испытуемых, оказавшихся в обществе человека, демонстрировавшего ярость.
Теория Шехтера оказала огромное влияние на изучение эмоций, особенно в социальной психологии. Тем не менее рядом авторов она критиковалась. Так, Плутчик и Акс (Plutchik, Ax, 1967; Izard, 1971) проверяли предположение Шехтера, рассматривая физиологические эффекты эпинефрина, а автор поднял вопрос о том, почему повышенная аналитическая деятельность дезинформированных и вообще неинформированных групп не является объяснением возникновения эмоций. Эти испытуемые находились в незнакомой ситуации, созданной физиологическими ощущениями, которые не были объяснены или были искажены. Ряд авторов (Mandler, 1962, 1964; Mandler, Watson, 1966; Atkinson, 1964) доказали, что в таких неопределенных ситуациях сообразительность субъектов или их тревожность могут привести к выбору чего угодно взамен продолжающейся неопределенности. Далее, если субъекты следуют модели и неосознанно имитируют ее мимические и пантомимические выражения, то нейронная обратная связь от их выразительного поведения может вызвать наблюдаемую эмоцию (Tomkins, 1962; Izard, 1971). Предположение о причинной зависимости дифференцированной сенсорной обратной связи от комплекса лицевых изменений выглядит более убедительным, чем допущение сомнительных сигналов от недифференцированного физиологического возбуждения. Более значимым, однако, чем упомянутые опровержения, является тот факт, что два эксперимента, представляющие впервые описанные повторения эксперимента Шехтера – Сингера, не воспроизвели полученные этими авторами результаты. Маслач в неопубликованной работе показал, что необъясненное гипнотически внушенное автономное возбуждение вызывает отрицательно интерпретируемые внутренние состояния. Не все испытуемые сообщали о возникновении гнева или радости в зависимости от действия модели. Маршалл (Marshall, 1976) использовал ту же, что и Шехтер с Сингером, наркотически-возбуждающую технику и обнаружил результаты, очень схожие с Малачом.
Эмоция как комплексный ответ, являющийся результатом оценки. Лазарус и его сотрудники (Averill, Opton, Lazarus, 1969; Lazarus, Averill, 1972) представили теоретическую конструкцию, в которой каждая эмоция является комплексным ответом, составленным из трех различных подсистем. Объяснение ими активации или причины эмоции аналогичны принятым в классической психоаналитической теории Фрейда и, в сущности, идентичны схеме, предложенной Арнолд (Arnold, 1960). Первый компонент их системы эмоционального ответа состоит из сигнальных переменных или стимульных свойств.
Второй компонент – оценивающая подсистема. Она определена как функция мозговых процессов, с помощью которых индивид оценивает стимульную ситуацию.
Третий компонент системы эмоционального ответа включает три типа категорий ответа: когнитивный, экспрессивный и инструментальный. Лазарус и его сотрудники определяют первый из них (когнитивные реакции) как синоним того, что обычно описывается как механизмы защиты, такие как подавление, отказ, проекция. Они наиболее полно исследованы в патологии эмоций и поведения. Экспрессивные ответы включают прежде всего мимические выражения, которые рассматриваются как поведение, не преследующее определенной цели. Средства выражения разделены на два типа: биологические и приобретенные.
Третий тип ответа – инструментальная реакция – может относиться к одной из трех категорий: символам, средствам и обычаям. Все они целенаправленны. Функция символов – сигнализировать о наличии некоторого аффекта, когда нет других форм коммуникации. Символы могут также маскировать нежелательный аффект. Средства – сложные целенаправленные инструментальные действия, такие как агрессия и избегание. Обычаи – культурно обусловленные средства, такие как траур или способы ухаживания.
К. Роджерс. Эмпатия[14]
Есть много попыток определить понятие «эмпатия», и мне самому принадлежит несколько. Более чем двадцать лет назад я предложил одно из определений в ходе систематизированного изложения моих взглядов. Оно заключается в следующем.
Быть в состоянии эмпатии означает воспринимать внутренний мир другого точно, с сохранением эмоциональных и смысловых оттенков. Как будто становишься этим другим, но без потери ощущения «как будто». Так, ощущаешь радость или боль другого, как он их ощущает, и воспринимаешь их причины, как он их воспринимает. Но обязательно должен оставаться оттенок «как будто»: как будто это я радуюсь или огорчаюсь. Если этот оттенок исчезает, то возникает состояние идентификации.
Для формулировки моего современного представления я буду опираться на понятие непосредственного опыта, или переживания (experiencing), как оно было введено Гендлиным. Это понятие обогатило мое представление в целом ряде пунктов.
Суммируя кратко, Гендлин считает, что в любой момент времени человек испытывает состояния, к которым он может многократно обращаться в процессе поиска их смысла. Они служат своего рода субъективным ориентиром в этом поиске.
Эмпатичный терапевт проницательно улавливает смысл состояния, переживаемого пациентом в данный конкретный момент, и указывает на этот смысл, чтобы помочь пациенту сконцентрироваться на нем и побудить пациента к дальнейшему более полному и беспрепятственному переживанию.
Небольшой пример может пояснить как само понятие переживания, так и его отношение к эмпатии.
Один участник психотерапевтической группы довольно негативно высказался в адрес своего отца. Ведущий говорит: «Создается впечатление, что ты сердит на своего отца». Тот отвечает: «Нет, я не думаю». – «Может быть, ты не удовлетворен им?» – «Ну, может быть» (с сомнением). – «Может быть, ты разочаровался в нем?» Следует быстрый ответ: «Да, я разочаровался тем, что он слабый человек. Я думаю, я давно разочаровался в нем, еще в детстве».
С чем этот человек сверялся, устанавливая правильность разных предлагавшихся слов? Гендлин считает, и я согласен с ним, что это было некое наличное психофизиологическое состояние. Обычно оно субъективно достаточно определено, и человек может хорошо пользоваться им для сравнения с подбираемыми обозначениями. В нашем случае «сердит» не подходит, «неудовлетворен» – оказывается ближе, и слово «разочарован» – вполне точно. Будучи найдено, оно, как это часто бывает, побуждает к дальнейшему течению переживаний.
На основе изложенного позвольте мне попробовать описать эмпатию более удовлетворительным для меня сейчас образом. Я больше не говорю «состояние эмпатии», потому что думаю, что это скорее процесс, чем состояние. Попытаюсь описать его суть.
Эмпатический способ общения с другой личностью имеет несколько граней. Он подразумевает вхождение в личный мир другого и пребывание в нем, «как дома». Он включает постоянную чувствительность к меняющимся переживаниям другого – к страху или гневу, или растроганности, или стеснению – одним словом, ко всему, что испытывает он или она. Это означает временную жизнь другой жизнью, деликатное пребывание в ней без оценивания и осуждения. Это означает улавливание того, что другой сам едва осознает. Но при этом отсутствуют попытки вскрыть совершенно неосознаваемые чувства, поскольку они могут оказаться травмирующими. Это включает сообщение ваших впечатлений о внутреннем мире другого, когда вы смотрите свежим и спокойным взглядом на те его элементы, которые волнуют или пугают вашего собеседника. Это подразумевает частое обращение к другому для проверки своих впечатлений и внимательное прислушивание к получаемым ответам. Вы – доверенное лицо для другого. Указывая на возможные смыслы переживаний другого, вы помогаете ему переживать более полно и конструктивно. Быть с другим таким способом означает на некоторое время оставить в стороне свои точки зрения и ценности, чтобы войти в мир другого без предвзятости. В некотором смысле это означает, что вы оставляете свое «Я». Это могут осуществить только люди, чувствующие себя достаточно безопасно в определенном смысле: они знают, что не потеряют себя в порой странном или причудливом мире другого и что смогут успешно вернуться в свой мир, когда захотят.
Может быть, это описание делает понятным, что быть эмпатичным трудно. Это означает быть ответственным, активным, сильным и в то же время тонким и чутким.
К. Хорни. Тревожность[15]
Для тех, кто, подобно Фрейду, склонен объяснять психические проявления исключительно органическими причинами, тревожность является чрезвычайно интересной проблемой из-за своей тесной связи с физиологическими процессами.
Действительно, тревожность часто сопровождается физиологическими симптомами, такими как сердцебиение, испарина, понос, учащенное дыхание. Эти физические признаки появляются как при осознанной тревоге, так и при неосознанной. Например, перед экзаменом у пациента может быть понос, и он может полностью сознавать наличие тревоги. Но сердцебиение или частые позывы к мочеиспусканию могут возникать и без какого-либо осознания тревоги, и лишь позднее человек начинает понимать, что испытывал тревогу.
Хотя физические проявления эмоций особенно заметно выражены в тревоге, они характерны не только для нее. При депрессии замедляются физические и психические процессы; бурная радость изменяет напряженность тканей или делает походку легче; сильная ярость вызывает дрожь или приток крови к голове. Демонстрируя связь тревоги с физиологическими факторами, нередко указывают на то, что тревожность может стимулироваться химическими препаратами. Однако и это относится не к одной лишь тревожности. Химические препараты вызывают также приподнятое настроение или сон, и их воздействие не представляет психологической проблемы. Психологическая проблема может быть поставлена лишь следующим образом: каковы психические условия для возникновения таких состояний, как тревожность, сон, приподнятое настроение?
Во-первых, тревожность, как и страх, является эмоциональной реакцией на опасность. В отличие от страха тревожность характеризуется, прежде всего, расплывчатостью и неопределенностью. Даже если имеется конкретная опасность, как при землетрясении, тревожность связана с ужасом перед неизвестным. То же самое качество присутствует в невротической тревоге, независимо от того, является ли опасность неопределенной или же она воплощена в чем-то конкретном, например, в страхе высоты.
Во-вторых, тревога, как отмечал Гольдштейн, вызывается такой опасностью, которая угрожает самой сущности или ядру личности.
Так как различные индивиды считают своими жизненно важными ценностями совершенно разные вещи, можно обнаружить самые разнообразные вариации и в том, что они переживают как смертельную угрозу. Хотя определенные ценности чуть ли не повсеместно воспринимаются как жизненно важные – например жизнь, свобода, дети – однако лишь от условий жизни данного человека и от структуры его личности зависит, что станет для него высшей ценностью: тело, собственность, репутация, убеждения, работа, любовные отношения. Как мы вскоре увидим, осознание этого условия тревожности дает нам ориентир для понимания тревоги при неврозах.
В-третьих, как справедливо подчеркивал Фрейд, тревога, в противоположность страху, характеризуется чувством беспомощности перед надвигающейся опасностью. Беспомощность может быть обусловлена внешними факторами, как в случае землетрясения, или внутренними, такими как слабость, трусость, безынициативность. Таким образом, одна и та же ситуация может вызывать либо страх, либо тревогу, в зависимости от способности или готовности индивида бороться с опасностью. Проиллюстрирую это историей, рассказанной мне пациенткой: однажды ночью она услышала шум в соседней комнате, и ей показалось, будто грабители пытаются взломать дверь. Она отреагировала на это сердцебиением, испариной и чувством тревоги. Спустя некоторое время она встала и пошла в комнату своей старшей дочери. Дочь также была напугана, но решилась пойти навстречу опасности и направилась в комнату, где орудовали незваные гости. В результате ей удалось прогнать грабителей. Мать ощущала себя беспомощной при одной мысли об опасности, а дочь – нет; у матери имела место тревога, у дочери – страх.
Поэтому удовлетворительное описание любого рода тревоги должно дать ответ на три вопроса: что подвергается угрозе? каков источник угрозы? чем объясняется беспомощность перед лицом опасности?
Загадочность невротической тревоги заключается в отсутствии вызывающей ее опасности, или, во всяком случае, в диспропорции между действительной опасностью и интенсивностью тревоги. Складывается впечатление, что опасности, которых боится невротик, – всего лишь продукт его воображения. Однако невротическая тревога может быть, по меньшей мере, столь же интенсивной, как и тревога, вызванная действительно опасной ситуацией. Именно Фрейд проложил путь к пониманию этой запутанной проблемы. Он утверждал, что, независимо от внешнего впечатления, опасность, которой страшатся при невротической тревоге, является столь же реальной, как и та, что вызывает «объективную» тревогу. Различие заключается в том, что при неврозе опасность конституирована субъективными факторами.
Исследуя природу субъективных факторов, Фрейд, как обычно, связывает невротическую тревогу с инстинктивными источниками. Говоря вкратце, источником опасности, согласно Фрейду, является величина инстинктивного напряжения или карающая сила Сверх-Я; опасности подвергается Я; беспомощность порождается слабостью Я, его зависимостью от Оно и Сверх-Я.
Поскольку страх перед Сверх-Я будет обсуждаться в связи с концепцией Сверх-Я, здесь я рассмотрю в первую очередь взгляды Фрейда на то, что он называет невротической тревогой в более строгом значении слова, а именно, страх Я оказаться поглощенным инстинктивными притязаниями Оно. Эта теория основывается, в конечном счете, на той же самой механистической концепции, что и доктрина Фрейда об инстинктивном удовлетворении: удовлетворение является результатом уменьшения инстинктивного напряжения; тревожность является результатом его увеличения. Напряжение, порождаемое запретными вытесненными влечениями, является реальной угрозой, вызывающей невротическую тревогу: когда ребенок, оставленный в одиночестве матерью, испытывает тревогу, он бессознательно антиципирует накопление либидинозных влечений вследствие их фрустрации.
Фрейд находит поддержку этой механистической концепции в наблюдении, что пациент освобождается от тревоги, когда обретает способность выражать ранее вытесненную враждебность, направленную против аналитика: по мнению Фрейда, именно эта запретная враждебность вызывала тревогу, а разрядка ее рассеяла. Фрейд осознает, что облегчение может быть обусловлено и тем, что аналитик не прореагировал на враждебность упреками или гневом, но не замечает, что данное объяснение лишает механистическую концепцию единственного свидетельства в ее пользу. Отказ Фрейда от очевидного вывода еще раз демонстрирует, насколько теоретические предрассудки мешают развитию психологии.
Хотя вполне справедливо, что страх перед упреками или наказанием может ускорять развитие тревоги, одного лишь этого для объяснения недостаточно. Почему невротик так боится последствий? Если мы принимаем предположение, что тревога является ответом на угрозу жизненно важным ценностям, мы должны исследовать, оставив в стороне теоретические предпосылки Фрейда, что же, по ощущениям пациента, подвергнется опасности вследствие проявленной им враждебности.
Для разных пациентов ответ будет разный. Если у пациента преобладают мазохистские наклонности, он может ощущать столь же сильную зависимость от аналитика, как прежде от матери, начальника, жены; он чувствует, что, пожалуй, не сможет жить без аналитика, что аналитик обладает магической силой либо уничтожить его, либо осуществить все его ожидания.
При той структуре личности, которая у него сложилась, его чувство безопасности зависит от этой зависимости. Таким образом, сохранение таких взаимоотношений является для него вопросом жизни и смерти. По другим веским причинам, содержащимся в нем самом, такой пациент чувствует, что любая враждебность с его стороны вызовет угрозу оказаться покинутым. Поэтому любое проявление враждебных импульсов будет вызывать тревогу.
Если, однако, преобладает потребность казаться совершенным, безопасность пациента основывается на соответствии своим особым стандартам или на том, чего, по его мнению, от него ожидают.
Если, например, его совершенство покоится на рациональности поведения, безмятежности и кротости, тогда даже перспективы эмоционального взрыва враждебности достаточно, чтобы спровоцировать тревогу, ведь подобное отклонение влечет за собой опасность осуждения, которая является такой же смертельной угрозой для перфекционистского типа, как опасность быть покинутым для мазохистского.
Другие наблюдения тревоги при неврозах постоянно подтверждают тот же общий принцип. Для человека нарциссического типа, чья безопасность основывается на том, что его ценят и им восхищаются, смертельной угрозой является утрата этого привилегированного положения. У него может возникнуть тревога, если он оказывается в окружении, которое его не признает, – это наблюдается у многих беженцев, к которым на родине относились с большим почтением. Если безопасность индивида основывается на слиянии с другими людьми, у него может возникать тревога, когда он остается в одиночестве. Если безопасность человека основывается на его скромности, у него может возникнуть тревога, если он оказывается на виду.
В свете этих данных представляется оправданной следующая формулировка: при невротической тревоге угрозе подвергаются особые наклонности невротика, на следовании которым покоится его безопасность.
Такая интерпретация того, что подвергается угрозе при невротической тревоге, позволяет ответить и на вопрос об источниках опасности. Ответ будет общим для всех случаев: тревогу вызывает то, что ставит под сомнение специфические защитные действия индивида, его специфические невротические наклонности. Если нам понятны основные для данного человека средства достижения безопасности, мы можем предсказать, при каких провокациях он склонен испытывать тревогу.
Источник опасности может быть во внешних обстоятельствах, как в случае беженца, внезапно утратившего престиж, в котором он нуждается для сохранения чувства безопасности. Сходным образом женщина, мазохистски зависимая от мужа, может ощутить тревогу, если возникает опасность его потери вследствие внешних обстоятельств, будь то болезнь, отъезд из страны или другая женщина.
Понимание тревоги при неврозах осложняется тем, что источники угрозы могут находиться в самом невротике. Любой фактор внутри него – самое обычное чувство, реактивная враждебность, внутренний запрет, противоположная невротическая наклонность – может стать источником опасности, если не срабатывает предохранительный механизм, обеспечивающий безопасность.
Такая тревога может быть вызвана у невротика тривиальной ошибкой, обычным чувством или побуждением. Например, у человека, безопасность которого основывается на непогрешимости, она может возникнуть, если он совершит ошибку, допустимую для любого, в частности, перепутав имя или не сумев учесть все возможности при подготовке к путешествию. Точно так же у человека, нуждающегося в демонстрации своего альтруизма, законное и вполне скромное желание может породить тревогу; человек, чья безопасность основывается на отчужденности, может испытывать тревогу при возникновении любви или привязанности.
Х. Хекхаузен. Мотив и мотивация: восемь основных проблем[16]
Что же приходится вводить в схему как необъяснимое в субъекте, чтобы облегчить объяснение индивидуальных различий в поведении, его однородности или отсутствия таковой по отношению к ситуациям и стабильности во времени? Для этого привлекались всевозможные понятия, обозначавшие разного рода диспозиции, например: черты характера, установки, убеждения, интересы, способности, особенности темперамента и многое другое.
Возьмем для примера специфическую способность, называемую когнитивной структурированностью [О. Harvey, D. Hunt, H. Schroder, 1961; Н. Schroder, M. Driver, S. Stenfert, 1967]. Она обусловливает индивидуальные различия способности к переработке информации, а именно: 1) по какому числу измерений анализируется информация (дифференцированность); 2) степень градаций шкалы каждого из измерений (дискриминированность) и 3) организованность и связность получающейся многомерной структуры (интегрированность). Так, люди с низкой когнитивной структурированностью действуют стереотипно, не способны гибко перестроиться на новые требования ситуации, склонны к широким обобщениям, часто оказываются зависимыми от внешних обстоятельств и т. д. Введение такого конструкта, как когнитивная структурированность, конечно, свидетельствует не только об индивидоцентристской, но и об интеракционистской трактовке. Ведь определяющая поведение актуальная «способность к переработке информации» является результатом двусторонней зависимости «структурированности когнитивной системы» субъекта и сиюмоментной «сложности окружающего мира». «При усложнении ситуации у людей с высокой когнитивной структурированностью темп переработки информации будет возрастать быстрее, чем у людей с низкой когнитивной структурированностью. Первые сумеют справиться с более сложной обстановкой прежде, чем их способность к переработке информации снизится или истощится [Н. Krohne, 1977]. Подобные попытки объяснения поведения, исходящие из способностей, установок [I. Ajzen, M. Fishbein, 1977], интересов и т. п., в этой книге рассматриваться не будут, по крайней мере сами по себе. Вместо этого в ней анализируется широкий класс подходов, привлекавшихся с незапамятных времен для объяснения поведения, в особенности его индивидуальных различий, и объединяемых довольно просто обоснуемой предпосылкой: поведение направляется ожиданием, оценкой предполагаемых результатов своих действий и их более отдаленных последствий. Значимость, которую субъект при этом приписывает следствиям, определяется присущими ему ценностными диспозициями, которые чаще всего обозначают словом «мотивы». Понятие «мотив» в данном случае включает такие понятия, как потребность, побуждение, влечение, склонность, стремление и т. д. При всех различиях в оттенках значения этих терминов указывают на «динамический» момент направленности действия на определенные целевые состояния, которые независимо от их специфики всегда содержат в себе ценностный момент и которые субъект стремится достичь, какие бы разнообразные средства и пути к этому ни вели. При таком понимании можно предположить, что мотив задается таким целевым состоянием отношения «индивид – среда», которое само по себе (хотя бы в данный момент времени) желательнее или удовлетворительнее наличного состояния. Из этого весьма общего представления можно вывести ряд следствий об употреблении понятий «мотив» и «мотивация» при объяснении поведения или, по меньшей мере, вычленить некоторые основные проблемы психологического исследования мотивации. Если понимать мотив как желаемое целевое состояние в рамках отношения «индивид – среда», то исходя из этого можно наметить основные проблемы психологии мотивации.
Существует столько различных мотивов, сколько существует содержательно эквивалентных классов отношений «индивид – среда». Эти классы можно разграничить, основываясь на характерных целевых состояниях, стремление к которым часто наблюдается у людей. (Наряду с желаемыми целевыми состояниями мотивы в рамках некоторых отношений «индивид – среда» можно определить и через избегаемые состояния.) В данном случае мы имеем дело с проблемой содержательной классификации мотивов, составления их перечня.
Мотивы формируются в процессе индивидуального развития как относительно устойчивые оценочные диспозиции. Необходимо выяснить, на основании каких возможностей и активирующих воздействий среды возникают индивидуальные различия в мотивах, а также выяснить возможности изменения мотивов путем целенаправленного вмешательства. В данном случае мы имеем дело с проблемой развития и изменения мотивов.
Люди различаются по индивидуальным проявлениям (характеру и силе) тех или иных мотивов. У разных людей возможны различные иерархии мотивов. В данном случае перед нами встают проблемы измерения мотивов.
Поведение человека в определенный момент времени мотивируется не любыми или всеми возможными его мотивами, а тем из самых высоких мотивов в иерархии (т. е. из самых сильных), который при данных условиях ближе всех связан с перспективой достижения соответствующего целевого состояния или, наоборот, достижение которого поставлено под сомнение. Такой мотив активируется, становится действенным. (Одновременно могут активироваться и другие мотивы, соподчиненные ему или находящиеся с ним в конфликте. Но ради простоты побочными мотивами мы пренебрежем.) В данном случае мы сталкиваемся с проблемой актуализации мотива, т. е. с проблемой выделения ситуационных условий, приводящих к такой актуализации.
Мотив остается действенным, т. е. участвует в мотивации поведения, до тех пор, пока либо не будет достигнуто целевое состояние соответствующего отношения «индивид – среда», либо индивид к нему не приблизится, насколько позволят условия ситуации, либо целевое состояние не перестанет угрожающе отдаляться, либо изменившиеся условия ситуации не сделают другой мотив более насущным, в результате чего последний активируется и становится доминирующим. Действие, как и мотив, нередко прерывается до достижения желаемого состояния или распадается на разбросанные во времени части; в последнем случае оно обычно спустя определенное время возобновляется. Здесь мы сталкиваемся с проблемой выделения в потоке поведения частей действия, т. е. с проблемой смены мотивации, возобновления или последействия уже имевшей место мотивации.
Побуждение к действию определенным мотивом обозначается как мотивация. Мотивация мыслится как процесс выбора между различными возможными действиями, процесс, регулирующий, направляющий действие на достижение специфических для данного мотива целевых состояний и поддерживающий эту направленность. Короче: мотивация объясняет целенаправленность действия. В этом случае мы имеем дело с проблемой мотивации как общей целенаправленности деятельности и в особых случаях с проблемой мотивационного конфликта между различными целями.
Мотивация безусловно не является единым процессом, равномерно от начала и до конца пронизывающим поведенческий акт. Она, скорее, складывается из разнородных процессов, осуществляющих функцию саморегуляции на отдельных фазах поведенческого акта, прежде всего до и после выполнения действия. Так, вначале работает процесс взвешивания возможных исходов действия, оценивания их последствий. В данном случае мы сталкиваемся с проблемой аналитической реконструкции мотивации через гипотетические промежуточные процессы саморегуляции, характеризующие отдельные фазы протекания действия.
Деятельность мотивирована, т. е. направлена на достижение цели мотива, однако ее не следует смешивать с мотивацией. Деятельность складывается из отдельных функциональных компонентов – восприятия, мышления, научения, воспроизведения знаний, речи или моторной активности, а они обладают собственным накопленным в ходе жизни запасом возможностей (умений, навыков, знаний), которыми психология мотивации не занимается, принимая их как данное. От мотивации зависит, как и в каком направлении будут использованы различные функциональные способности. Мотивацией также объясняется выбор между различными возможными действиями, между различными вариантами восприятия и возможными содержаниями мышления, кроме того, ею объясняется интенсивность и упорство в осуществлении выбранного действия и достижении его результатов. В данном случае мы сталкиваемся с проблемой многообразия влияний мотивации на наблюдаемое поведение и его результаты.
Таковы кратко узловые проблемы, распутать которые пытается психология мотивации и которыми нам предстоит заниматься далее. Как бы различно они ни выглядели, ни формулировались и ни вводились, как бы ни была запутана их история и к каким бы сильным расхождениям ни приводил теоретический поиск их решения в психологии, к этим восьми проблемам можно свести все усилия в данной области исследований. Необходимо также сделать некоторые дополнения и предостережения.
Первое. Избранный нами способ изложения, например принятие в качестве объяснительных понятий отношения «индивид – среда» или мотива и мотивации, и даже наши теоретические представления, например, о константности мотивов, направленных на целевые состояния, об их активации ситуацией и влиянии на действие посредством изменчивого, кратковременного процесса мотивации, никоим образом не будут единодушно приняты всеми исследователями мотивации. Впрочем, избранный нами способ изложения и наши теоретические представления сформулированы достаточно общо, более того, восемь основных проблем вполне четко отделены друг от друга и их можно легко соотнести с другими способами изложения и другими теоретическими представлениями, не теряя при этом их специфики. Отчасти дело заключается просто в выборе терминологии. Аналогичное объяснение можно осуществить и в других понятиях. Вместо мотивов можно говорить о потребностях или установках, вместо мотивации – о направленном влечении, а целенаправленность поведения можно отдать на откуп, как в классической теории научения, хорошо освоенным связям «стимул – реакция». Можно даже отказаться от понятий «мотив» и «мотивация» и положить в основу, как это делает Келли [G. Kelly, 1955, 1958], «системы личностных конструктов». Проблемы остаются в сущности те же, лишь несколько меняются подходы к их решению.
Второе. Использованные форма изложения и теоретические представления – это не более (но и не менее), чем способ осмысления проблем, которые обозначались и обозначаются в наивных и научных объяснениях действий общим словом «мотивация». Они представляют собой нечто вымышленное, их научную объяснительную ценность еще необходимо выявить и доказать. Приведенные восемь пунктов, скорее, содержат то, что нуждается в объяснении, а не то, что само претендует на объяснение. Это же верно для всех дефиниций мотивации: они описывают проблемы, нуждающиеся в объяснении, но сами ничего не объясняют. Это хорошо видно на примере такого перечисления проблем: «…как возникает поведение, как оно энергетически обеспечивается, поддерживается, направляется, прекращается и какого рода субъективные реакции происходят в организме, пока все это осуществляется» [М. Jones, 1955, Р. VII]. Как мы еще увидим, принципиальная трудность состоит в том, что мотив и мотивация (или их эквиваленты) напрямую ненаблюдаемы и тем самым недоступны непосредственному познанию. В качестве объяснительных понятий они являются гипотетическими конструктами. Необходимо эмпирически доказать, что использование этих конструктов плодотворно. Для этого требуются особые методологические предпосылки и экспериментальные построения.
Третье. Значение, которое приписывалось тем или иным взглядам на проблему, с течением времени заметно менялось. Если, например, при зарождении психологии мотивации интересы были в основном сосредоточены на классификации мотивов, то теперь это считается малоплодотворным, а достаточным считается тщательное вычленение отдельного мотива. Применительно же к конкретным мотивам большое внимание привлекает седьмая проблема, а именно анализ опосредующих мотивационных процессов саморегуляции.
Четвертое. Не только по выбранной проблематике, но и по уровню и дифференцированности теоретических и методических подходов психология мотивации и по сей день представляет собой довольно пеструю и разнородную картину. Многие исследователи не идут дальше чисто описательного уровня, боясь подвергнуть теоретические конструкты опасности разбиться об эмпирию, поэтому фрагментарность подходов к психологическому исследованию мотивации скорее является правилом, чем исключением.
Порочный круг в использовании понятия мотивации
Описательное, вместо объяснительного, использование понятий мотива и мотивации особенно отчетливо можно продемонстрировать на примере шестой проблемы – общей целенаправленности поведения. Легко показать, как выжимки из описаний наблюдаемых поведенческих феноменов по сути отождествляются с их объяснением, что замыкает определения этих понятий в порочный круг.
Если на заре научных исследований, а в обыденной речи и сегодня, понятие мотива обозначало осознанное побуждение к действию, рефлексию его замысла, то позднее профессионалы от такого понимания отказались. Ведь действие оказывается мотивированным, в смысле его целенаправленности, даже не сопровождаясь сознательным намерением субъекта или даже когда вообще трудно себе представить какое-либо намерение. Должно существовать нечто, что позволяет выбрать между различными вариантами действия, «запускает» действие, направляет, регулирует и доводит его до конца, после чего начинается новая последовательность действий, в которой снова можно усмотреть уже другую целенаправленность. Это нечто, называемое пока просто мотивацией (не мотивом), – понятие, используемое прежде всего для объяснения последовательности поведенческих актов, направленных на определенную цель, которая в зависимости от наличных обстоятельств может достигаться весьма разными путями. Целенаправленность поведения особенно бросается в глаза, когда один и тот же человек пытается достичь одну и ту же цель совершенно различными способами. В случае, когда непосредственная попытка достижения цели наталкивается на преграду, избирается другой, иногда обходный, путь. Таким образом, совершенно различные способы действия могут обнаружить одну и ту же целенаправленность (мотивацию). Брунсвик [Е. Brunswik, 1952; 1956] назвал это эквифинальностью и проиллюстрировал ее на так называемой модели линзы (см. рис. 1), разработав тем самым вероятностную модель, позволявшую при наличии данных наблюдения чрезвычайно разнообразных последовательностей действий определить их целенаправленную эквифинальность. Однако отождествление четкой целенаправленности с мотивацией еще ничего не объясняет, мотивация так и остается проблемой. Ничего не меняет и попытка трактовать мотивацию, т. е. целенаправленный характер наблюдаемого поведения, через приписывание субъекту мотива. Подобное выведение мотивации из определенного мотива будет бесполезным, видимостью объяснения, или, как говорят, будет страдать ошибкой порочного круга. Мы даем название наблюдаемому поведению и считаем, что это название содержит его сокровенную сущность. В действительности же мы всего лишь обозначаем определенные факты наблюдаемого действия, а именно факт его целенаправленности. Такие псевдообъяснения сплошь и рядом встречаются в психологическом обыденном языке. Ребенок играет, потому что у него есть «потребность в игре», люди экономят, потому что у них есть «мотив бережливости», кто-то занимается работой и в свободное время, потому что у него высокая «мотивация достижения», и т. д. Подобные рассуждения не имеют никакой научной ценности, они – простая игра словами, которая определяется стремлением людей свести наблюдаемые явления к конечным причинам. Однако заключить из этого, что мы все одержимы «мотивом объяснения», значит опять впасть в порочный круг.
Научный подход в психологии мотивации долгое время также нуждался в освобождении от порочного круга псевдообъяснений: целенаправленное поведение объявлялось мотивированным, а мотивация сводилась к лежащему в ее основе мотиву. Спрашивается: почему же и сегодня еще употребляются понятия «мотив» и «мотивация»? Дело в том, что эти понятия приобретают объяснительную ценность, если мы начинаем относиться к ним как к гипотетическим конструктам и выполняем все вытекающие отсюда требования.
Рис. 3. Модель линзы Брунсвика, иллюстрирующая так называемую эквифинальность, в которой выражается целенаправленность поведения. Совершенно различные пути и средства, которые мы наблюдаем в процессе осуществления действия, могут вести к одной и той же цели.
Мотивы и мотивация как гипотетические конструкты
В действительности никаких мотивов не существует. Эта, быть может, озадачивающая формулировка нуждается в двояком разъяснении. Во-первых, как уже отмечалось, мотивы не наблюдаемы непосредственно и в этом смысле они не могут быть представлены как факты действительности. Во-вторых, они не являются фактами в смысле реальных предметов, доступных нашему прямому наблюдению. Они суть условные, облегчающие понимание, вспомогательные конструкты нашего мышления, или, говоря языком эмпиризма, гипотетические конструкты (мы не следуем здесь введенному Мак-Коркодайлом и Милом различению промежуточных переменных и гипотетических конструктов [К. MakCorquodale, P. Meehl, 1948]). Гипотетический конструкт есть условная, по Толмену – «промежуточная», переменная, которая может вставляться в схему объяснения действия между исходными наблюдаемыми обстоятельствами ситуации и последующими наблюдаемыми явлениями в самом поведении. Гипотетический конструкт нельзя выдумать и произвольно поместить в мир. Если мы хотим использовать понятие «мотив» в качестве гипотетического конструкта, то сначала должны установить, при каких специфических исходных условиях срабатывает мотив, а затем определить, какие из наблюдаемых после этого эффектов поведения произведены именно мотивами. Так, в исследованиях научения у животных оказалось плодотворным введение в качестве гипотетического конструкта мотивационного понятия «потребность». Например, потребностью объясняется зависимость между длительностью лишения животного пищи до эксперимента и его успехами в научении. При более длительном лишении пищи животные делали меньше ошибок, быстрее бежали к месту кормления и т. п. Пример по психологии человека можно заимствовать из исследований так называемого мотива достижения. Начальные условия должны предоставлять субъекту возможности для деятельности, результаты которой он мог бы приписать себе, а не чистой случайности, и мог бы оценить степень использования своих способностей. Чтобы проявился мотив достижения, т. е. возникло соотнесение выполнения со шкалой своих способностей, задачи должны быть не слишком трудными и не слишком легкими. Этот вывод был сделан на основании таких внешних проявлений деятельности, как усилия и настойчивость в получении хороших результатов. Но чтобы введение гипотетического конструкта было обоснованным, необходимо наряду с исходными («антецедентными») условиями специфицировать также последующие эффекты в наблюдаемом поведении, т. е. установить, что должно последовать. Так, если опять воспользоваться примером с мотивом достижения, то необходимо установить, что у человека выраженный мотив достижения должен проявляться в предпочтении такой деятельности (он занимается ею дольше и упорнее), которая не слишком легка, не слишком трудна и результат которой больше зависит от собственной сноровки, чем от случая. Из этого примера можно видеть, что познавательная ценность гипотетического конструкта определяется не чем иным, как его местом. Его промежуточное положение между исходными условиями ситуации, индивидуальными особенностями субъекта, с одной стороны, и наступающим действием, с другой, позволяет объяснить последовательно наблюдаемый ряд показателей. Понятие мотива имеет свое место во всеобщей сети наблюдаемых связей типа «если…, то…». Гипотетические процессы (или их гипотетические результаты), объясняющие комплекс связей «если…, то…», с которыми мы сталкиваемся в конкретной поведенческой ситуации, обычно (как это было предложено выше) называются мотивацией, а индивидуальные особенности гипотетического процесса – мотивом. Но понятие мотива будет плодотворным, если позволит предсказать и обнаружить неизвестные связи «если…, то…». В результате исследователь может выявить (и это уже сделано) более плотную сеть связей «если…, то…», что в конце концов заставляет расчленить изначально целостный конструкт «мотив» на более частные, связанные друг с другом конструкты. Такое расчленение позволяет лучше объяснить особенности целенаправленности действий индивида, точнее, их предсказать. Так, сегодня от мотива достижения отличают ряд так называемых промежуточных когнитивных процессов, также представляющих собой гипотетические конструкты. Поскольку такие промежуточные когнитивные процессы носят личностный характер, т. е. дают информацию об индивидуальных различиях, они входят как составная часть в понятие мотива.
Раздел 4. Общее и индивидуальное в психике человека
Г. Олпорт. Личность: проблема науки или искусства?[17]
Имеются два принципиальных подхода к детальному изучению личности: литературный и психологический.
Ни один из них не «лучше» другого: каждый имеет определенные заслуги и горячих приверженцев. Слишком часто, однако, поклонники одного подхода презрительно относятся к поклонникам другого. Эта статья является попыткой их примирить и таким путем создать научно-гуманистическую систему изучения личности.
Один из наиболее значимых успехов первой части двадцатого столетия состоял в открытии того, что личность является доступным объектом для научного исследования. Это, на мой взгляд, как раз то событие, которое, кроме всех прочих, будет, вероятно, иметь наибольшие последствия для обучения, этики и психического здоровья.
Личность, как бы ее ни понимали, прежде всего, реальная, существующая, конкретная часть психической жизни, существующая в формах строго единичных и индивидуальных. На протяжении веков феномен человеческой индивидуальности описывался и изучался гуманитарными науками. Наиболее эстетически настроенные философы и наиболее философски настроенные художники всегда делали это своей специфической областью интересов.
Постепенно на сцену вышли психологи. Можно сказать, что они опоздали на две тысячи лет. Со своим скудным оснащением современный психолог выглядит как самонадеянный самозванец. И таковым он и является, по мнению многих литераторов. Стефан Цвейг, например, говоря о Прусте, Амилье, Флобере и других великих мастерах описания характеров, замечает: «Писатели, подобные им, – это гиганты наблюдения и литературы, тогда как в психологии проблема личности разрабатывается маленькими людьми, сущими мухами, которые находят себе защиту в рамках науки и вносят в нее свои мелкие банальности и незначительную ересь».
Это правда, что по сравнению с гигантами литературы психологи, занимающиеся изображением и объяснением личности, выглядят как бесплодные и порой немного глупые. Только педант может предпочесть необработанный набор фактов, который психология предлагает для рассмотрения индивидуальной психической жизни, великолепным и незабываемым портретам, которые создаются знаменитыми писателями, драматургами или биографами. Художники творят; психологи только собирают. В одном случае – единство образов, внутренняя последовательность даже в тончайших деталях. В другом случае – нагромождение плохо согласованных данных.
Один критик ярко представил ситуацию. Стоит психологии, замечает он, коснуться человеческой личности, как она повторяет лишь то, что всегда говорилось литературой, но делает это гораздо менее искусно.
Является ли это нелестное суждение целиком правильным, мы вскоре увидим. В данный момент оно помогает, по крайней мере, обратить внимание на тот значительный факт, что литература и психология являются в некотором смысле конкурентами; они являются двумя методами, имеющими дело с личностью. Метод литературы – это метод искусства; метод психологии – это метод науки. Наш вопрос в том, какой подход наиболее адекватен для изучения личности.
Становление литературы происходило веками, она развивалась гениями высшего порядка. Психология молода, и она развивается пока лишь немногими (если они вообще есть) гениями описания и объяснения человеческой личности. Так как психология молода, ей следовало бы поучиться немного у литературы.
Чтобы показать, что может быть ей здесь полезным, приведу конкретный пример. Я выбрал его из древних времен с тем, чтобы ясно показать зрелость и законченность литературной мудрости. Двадцать три столетия назад Феофраст, ученик и преемник Аристотеля в афинском лицее, написал много коротких характеристик своих афинских знакомых. Сохранилось тридцать из его описаний.
Описание, которое я выбираю, называется «Трус». Заметьте его непривязанность ко времени. Сегодняшний трус в своей сущности тот же, что и трус античности. Отметьте также замечательную простоту и краткость портрета. Ни одного лишнего слова. Это похоже на сонет в прозе. Нельзя ни добавить, ни отнять ни одно предложение без того, чтобы он стал хуже.
Трус
Трусость – это некая душевная слабость, выражающаяся в неспособности противостоять страху, а трус вот какой человек. В море он принимает утесы за пиратские корабли. А едва начинают подыматься волны, спрашивает, нет ли среди плывущих непосвященного в мистерии. И, подымая затем голову к кормчему, выспрашивает у того, держит ли он правильный курс в открытом море и что думает о погоде, а своему соседу говорит, что видел зловещий сон. Затем снимает свой хитон, отдает рабу и умоляет высадить его на берег. А на войне, когда отряд, в котором он находится, вступает в бой, он призывает земляков остановиться рядом с ним и, прежде всего, оглядеться; трудно, говорит он, распознать и отличить своих от врагов. Слыша боевые крики и видя, как падают люди, он говорит стоящим возле воинам, что в спешке забыл захватить свой меч, и бежит к палатке; затем посылает раба с приказанием разузнать, где неприятель. В палатке он прячет меч под подушку и потом долго мешкает, как бы разыскивая его. Если увидит, что несут раненым одного из друзей, то, подбежав, ободряет, подхватывает и помогает нести. Затем начинает ухаживать за раненым; обмывает рану губкой и, сидя у изголовья, отгоняет мух от раны – словом, делает все, лишь бы не сражаться с врагами. А когда труба затрубит сигнал к бою, то сидя в палатке бормочет: «Чтобы тебя черти побрали! Не даешь человеку заснуть, только и знаешь трубить». И весь в крови от чужой раны, он выбегает навстречу воинам, возвращающимся с поля боя, распространяется о том, что он с опасностью для жизни спас одного из друзей. Потом приводит земляков и граждан своей филы поглядеть на раненого и при этом каждому рассказывает, что сам своими руками принес его в палатку (Феофраст. Характеры. Л., 1974.).
Есть одна черта в этом классическом описании, на которую я особенно хочу обратить внимание. Заметьте, что Феофраст избрал для своего описания две ситуации. В одной трус путешествует, в другой – против воли участвует в сражении. В первой ситуации описывается семь типичных эпизодов: иллюзия труса, когда он все скалы принимает за пиратские корабли, его суеверный страх, как бы кто-нибудь из пассажиров не принес несчастья кораблю из-за неаккуратного исполнения религиозных обрядов, его стремление оказаться, по крайней мере, на середине пути этого опасного путешествия, его обращение к мнению специалистов относительно погоды, его страх по поводу собственных снов, его приготовления к беспрепятственному плаванию и, наконец, эмоциональный страх, проявившийся в мольбе о том, чтобы его спустили на берег. Еще более тонки семь эпизодов предательства в течение битвы. Итак, всего описывается четырнадцать ситуаций; все они для труса равноценны: какому бы воздействию он ни подвергался – возникает одно и то же доминирующее состояние духа. Его отдельные действия сами по себе отличны друг от друга, но все они схожи в том, что являются проявлением одного и того же главного свойства – трусости.
Короче говоря, Феофраст более двух тысяч лет назад использовал метод, который психологами найден только сейчас: метод выяснения – с помощью соответствующих воздействий и соответствующих ответов – главных черт характера.
Вообще говоря, почти все литературные описания характеров (письменный ли это скетч, как в случае Феофраста, или фантастика, драма или биография) исходят из психологического допущения о том, что каждый характер имеет определенные черты, присущие именно ему, и что эти черты могут быть показаны через описание характерных эпизодов жизни. В литературе личность никогда не описывается так, как это бывает порой в психологии, а именно, с помощью последовательных, не связанных между собой особенных действий. Личность – это не водная лыжа, мчащаяся в разных направлениях по поверхности водоема, с ее неожиданными отклонениями, не имеющими между собой внутренней связи. Хороший писатель никогда не допустит ошибки смешения личности человека с «личностью» водной лыжи. Психология часто делает это.
Итак, первый урок, который психология должна получить у литературы, это кое-что о природе существенных, устойчивых свойств, из которых состоит личность. Это проблема черт личности; вообще говоря, я придерживаюсь мнения, что эта проблема трактовалась более последовательно в литературе, чем в психологии. Если говорить конкретнее, мне кажется, что концепция соответствующего воздействия и соответствующего ответа, столь ясно представленная в античных скетчах Феофраста, может служить прекрасным руководством для научного исследования личности, где закономерности могут быть определены с большей точностью и большей надежностью, чем это делается в литературе. Используя возможности лаборатории и контролируемого внешнего наблюдения, психология сможет гораздо точнее, чем литература, установить для каждого индивидуума четкий набор различных жизненных ситуаций, которые для него эквивалентны, а также четкий набор ответов, имеющих одинаковое значение.
Следующий важный урок из литературы касается внутреннего содержания ее произведений. Никто никогда не требовал от авторов доказательства того, что характеры Гамлета, Дон-Кихота, Анны Карениной истинны и достоверны. Великие описания характеров в силу своего величия доказывают свою истинность. Они умеют внушать доверие; они даже необходимы. Каждое действие каким-то тончайшим путем кажется и отражением, и завершением одного хорошо вылепленного характера. Эта внутренняя логика поведения определяется теперь как самоконфронтация: один элемент поведения поддерживает другой, так что целое может быть понято как последовательно связанное единство. Самоконфронтация – это только метод придания законной силы, применяемый в работах писателей (исключая, возможно, работы биографов, у которых действительно имеются определенные нужды во внешней надежности утверждения). Но метод самоконфронтации едва начинает применяться в психологии.
Однажды, комментируя описание характера, сделанное Тэккереем, Г. Честертон заметил: «Она выпивала, но Тэккерей не знал об этом». Колкость Честертона связана с требованием, чтобы все хорошие характеры обладали внутренней последовательностью. Если дается один набор фактов о личности, то должны последовать другие соответствующие факты. Описывающий должен точно знать, какие наиболее глубокие мотивационные черты имели место в данном случае. Для этой наиболее центральной и, следовательно, наиболее объединяющей сердцевины любой личности Вертгеймер предложил понятие основы, или корня, из которого произрастают все стебли. Он проиллюстрировал это понятие случаем со школьницей, которая была рьяной ученицей и в то же время увлекалась косметикой. С первого взгляда здесь определенно не видно никакой систематической связи. Кажется, что сталкиваются две противоречивые линии поведения. Но кажущееся противоречие разрешается в данном случае путем выявления скрытого основного корня: оказалось, что школьница глубоко восхищалась (психоаналитик может сказать «была фиксирована на») одной учительницей, которая в добавление к тому, что была учительницей, обладала еще яркой внешностью. Школьница просто хотела быть похожей на нее.
Конечно, не всегда проблема так проста. Не все личности имеют базисную целостность. Конфликт, способность к изменению, даже распад личности – обычные явления. Во многих произведениях художественной литературы мы видим преувеличение постоянства, согласованности личности – скорее карикатуры, чем характерные образы. Сверхупрощение встречается в драме, фантастике и биографических описаниях. Конфронтации кажутся приходящими слишком легко. Описание характеров Диккенсом – хороший пример сверхупрощения. У них никогда не бывает внутренних конфликтов, они всегда остаются тем, что они есть. Они обычно противостоят враждебным силам среды, но сами по себе совершенно постоянны и цельны.
Но если литература часто ошибается из-за своего особого преувеличения единства личности, то психология из-за отсутствия интереса и ограниченности методик в общем терпит неудачу в раскрытии или исследовании той целостности и последовательности характеров, которые в действительности существуют. Величайший недостаток психолога в настоящее время – это неспособность доказать истинность того, что он знает. Не хуже художника литературы он знает, что личность – сложная, хорошо скомпонованная и более или менее устойчивая психическая структура, но он не может это доказать. Он не использует, в отличие от писателей, очевидный метод самоконфронтации фактов. Вместо того, чтобы стремиться превзойти писателей в этом деле, он обычно находит безопасное убежище в чащобах статистической корреляции.
Один психолог, намереваясь исследовать мужественность своих испытуемых, скоррелировал для всей популяции ширину бедер и плеч со спортивными интересами; другой, отыскивая основу интеллекта, тщательно сопоставлял уровень интеллекта в детстве с окостенением запястных костей; третий сопоставлял вес тела с хорошим нравом или склонностью к руководству. Исследования, подобные этим, хотя относятся к психологии личности, тем не менее, целиком переходят на подличностный уровень. Увлечение микроскопом и математикой ведет исследователя к избеганию сложности, стандартным формам поведения и мышления, даже если вся сложность состоит в признании того, что личность вообще существует. Будучи запуганы инструментами естественных наук, многие психологи отвергают более тонкий регистрирующий инструмент, специально предназначенный для сопоставления и правильной группировки фактов, – свой собственный разум.
Итак, психология нуждается в методиках самоконфронтации – методиках, посредством которых может быть определено внутреннее единство личности.
Следующий важный урок для психологов, который они должны извлечь из литературы, – как сохранить непрерывный интерес к данной индивидуальности на длительный период времени. Один известный английский антрополог сказал, что хотя он пишет о дикарях, он никогда их не видел. Он идет в атаку и добавляет: «И я уповаю на Бога, что никогда их и не увижу». Огромное количество психологов в качестве профессионалов никогда в действительности не видели индивидуума; и многие из них, я должен с сожалением признать, надеются, что никогда его и не увидят. Следуя более старым наукам, они считают, что индивидуальность при исследовании должна быть вынесена за скобки. Наука, утверждают они, имеет дело только с общими законами. Индивидуальность – это помеха. Необходима универсальность.
Эта традиция привела к созданию огромной, неясной психологической абстракции, называемой «обобщенно-зрелая человеческая психика». Человеческая психика, конечно, не такова, она существует только в конкретной, очень личностной форме. Это не обобщенная психика. Абстракция, которую совершает психолог в измерении и объяснении несуществующей «психики-в-общем», – это абстракция, которую никогда не совершают литераторы. Писатели прекрасно знают, что психика существует только в единичных и особенных формах.
Здесь мы, конечно, сталкиваемся с основным разногласием между наукой и искусством. Наука всегда имеет дело с общим, искусство – всегда с особенным, единичным. Но если это разделение верно, то как же нам быть с личностью? Личность никогда не «общее», она всегда «единичное». Должна ли она в таком случае быть отдана целиком искусству? Что же, психология ничего не может с ней поделать? Я уверен, что очень немногие психологи примут это решение. Однако мне кажется, что дилемма непреклонна. Или мы должны отказаться от индивидуума, или мы должны учиться у литературы подробно, глубже останавливаться на нем, модифицировать настолько, насколько это будет нужно, нашу концепцию объема науки таким образом, чтобы предоставлять место единичному случаю более гостеприимно, чем раньше.
Вы могли заметить, что психологи, которых вы знаете, несмотря на их профессию, не лучше других разбираются в людях. Они и не особенно проницательны, и не всегда способны дать консультацию по проблемам личности. Это наблюдение, если вы его сделали, безусловно, правильно. Я пойду дальше и скажу, что вследствие своих привычек к чрезмерной абстракции и обобщению многие психологи в действительности стоят ниже других людей в понимании единичных жизней.
Когда я говорю, что в интересах правильной науки о личности психологи должны учиться подробно, глубже останавливаться на единичном случае, может показаться, что я вторгаюсь в область биографических описаний, ясная цель которых состоит в исчерпывающем, подробном описании одной жизни.
В Англии биографические описания начались как описания жития святых и как рассказы о легендарных подвигах. Английская биография пережила периоды взлетов и падений. Некоторые биографии так же плоски и безжизненны, как хвалебная надпись на могильном камне; другие сентиментальны и фальшивы.
Однако биография во все большей степени становится строгой, объективной и даже бессердечной. Для этого направления психология, без сомнения, была более важна. Биографии все больше и больше походят на научные анатомирования, совершаемые скорее с целью понимания, чем для воодушевления и шумных возгласов. Теперь есть психологическая и психоаналитическая биографии и даже медицинские и эндокринологические биографии.
Психологическая наука оказала свое влияние и на автобиографию. Было много попыток объективного самоописания и самообъяснения.
Я упомянул три урока, которые психолог может почерпнуть из литературы для улучшения своей работы. Первый урок – это концепция относительно природы черт, которая широко встречается в литературе. Второй урок касается метода самоконфронтации, который хорошая литература всегда использует, а психология почти всегда избегает. Третий урок призывает к более длительному интересу к одной личности в течение большего периода времени.
Представляя эти три преимущества литературного метода, я мало сказал об отличительных достоинствах психологии. В заключение я должен добавить хотя бы несколько слов, чтобы похвалить мою профессию. Иначе вы можете сделать вывод, что я хочу и даже страстно желаю совсем отбросить психологию ради экземпляра «Мадам Бовари» и свободного входа в Athenaum.
У психологии имеется целый ряд потенциальных преимуществ по сравнению с литературой. Она имеет строгий характер, который компенсирует субъективный догматизм, присущий художественным описаниям. Иногда литература идет на самоконфронтацию фактов слишком легко. Например, в нашем сравнительном изучении биографий одного и того же лица было найдено, что каждая версия его жизни казалась достаточно правдоподобной, но только небольшой процент событий и истолкований, данных в одной биографии, мог быть найден в других. Никто не может знать, какой портрет, если он вообще был, является истинным.
Для хороших писателей необязательна та мера согласованности в наблюдениях и объяснениях чего-либо, которая необходима для психологов. Биографы могут дать широко различающиеся истолкования жизни, не дискредитируя литературный метод, в то время как психология будет осмеяна, если ее эксперты не смогут согласиться друг с другом.
Психологу сильно надоели произвольные метафоры литературы. Многие метафоры часто гротескно-ложны, но их редко осуждают. В литературе можно найти, например, что послушание определенного персонажа объясняется тем, что «в его жилах течет лакейская кровь», горячность другого – тем, что у него «горячая голова», и интеллектуальность третьего – «высотой его массивного лба». Психолог был бы разорван на куски, если бы он позволил себе подобные фантастические высказывания относительно причин и следствий.
Писателю, далее, разрешается, и он даже поощряется в этом, развлекать и занимать читателей. Он может передавать свои собственные образы, выражать свои собственные пристрастия. Его успех измеряется реакцией читателей, которые часто требуют только того, чтобы слегка узнать себя в персонаже или убежать от своих насущных забот. Психологу, с другой стороны, никогда не разрешается развлекать читателя. Его успех измеряется более жестким критерием, чем восторг читателя.
Собирая материал, писатель исходит из своих случайных наблюдений жизни, обходит молчанием свои данные, отбрасывает неприятные факты по своей воле. Психолог должен руководствоваться требованием верности фактам, всем фактам; от психолога ожидают, что он может гарантировать, что его факты взяты из проверяемого и контролируемого источника. Он должен доказывать свои выводы шаг за шагом. Его терминология стандартизирована, и он почти полностью лишен возможности использовать красивые метафоры. Эти ограничения содействуют надежности, проверяемости выводов, уменьшают их пристрастность и субъективность.
Я согласен, что психологи, изучающие личность, по существу стараются сказать то, что литература всегда говорила, и они по необходимости говорят это гораздо менее художественно. Но о том, в чем они продвинулись, пусть пока немного, они стараются говорить более точно и с точки зрения человеческого прогресса – с большей пользой.
Название этой статьи, как и название многих других статей, совсем точно. Личность – это не проблема исключительно для науки или исключительно для искусства, но это проблема и для того и для другого. Каждый подход имеет свои достоинства, и оба нужны для комплексного изучения богатства личности.
Если в интересах педагогики ожидается, что я закончу статью каким-нибудь важным советом, то он будет таким. Если вы студент-психолог, читайте много-много романов и драм характеров и читайте биографии. Если вы не студент, изучающий психологию, читайте их, но интересуйтесь и работами по психологии.
В. Д. Небылицын. Темперамент[18]
Темперамент (лат. temperamentum – надлежащее соотношение черт от tempero – смешиваю в надлежащем соотношении) – характеристика индивида со стороны динамических особенностей его психической деятельности, т. е. темпа, быстроты, ритма, интенсивности составляющих эту деятельность психических процессов и состояний.
Анализ внутренней структуры темперамента представляет значительные трудности, обусловленные отсутствием у темперамента (в его обычных психологических характеристиках) единого содержания и единой системы внешних проявлений. Попытки такого анализа приводят к выделению трех главных, ведущих, компонентов темперамента, относящихся к сферам общей активности индивида, его моторики и его эмоциональности. Каждый из этих компонентов, в свою очередь, обладает весьма сложным многомерным строением и разными формами психологических проявлений.
Наиболее широкое значение в структуре темперамента имеет тот его компонент, который обозначается как общая психическая активность индивида. Сущность этого компонента заключается главным образом в тенденции личности к самовыражению, эффективному освоению и преобразованию внешней действительности; разумеется, при этом направление, качество и уровень реализации этих тенденций определяются другими («содержательными») особенностями личности: ее интеллектуальными и характерологическими особенностями, комплексом ее отношений и мотивов. Степени активности распределяются от вялости, инертности и пассивного созерцательства на одном полюсе до высших степеней энергии, мощной стремительности действий и постоянного подъема – на другом.
К группе качеств, составляющих первый компонент темперамента, вплотную примыкает (или даже, возможно, входит в нее как составная часть) группа качеств, составляющих второй – двигательный, или моторный, – его компонент, ведущую роль в котором играют качества, связанные с функцией двигательного (и специально-речедвигательного) аппарата. Необходимость специального выделения в структуре темперамента этого компонента вызывается особым значением моторики как средства, с помощью которого актуализируется внутренняя динамика психических состояний со всеми ее индивидуальными градациями. Среди динамических качеств двигательного компонента следует выделить такие, как быстрота, сила, резкость, ритм, амплитуда и ряд других признаков мышечного движения (часть из них характеризует и речевую моторику). Совокупность особенностей мышечной и речевой моторики составляет ту грань темперамента, которая легче других поддается наблюдению и оценке и поэтому часто служит основой для суждения о темпераменте их носителя.
Третьим основным компонентом темперамента является «эмоциональность», представляющая собой обширный комплекс свойств и качеств, характеризующих особенности возникновения, протекания и прекращения разнообразных чувств, аффектов и настроений. По сравнению с другими составными частями темперамента этот компонент наиболее сложен и обладает разветвленной собственной структурой. В качестве основных характеристик «эмоциональности» выделяют впечатлительность, импульсивность и эмоциональную стабильность. Впечатлительность выражает аффективную восприимчивость субъекта, чуткость его к эмоциогенным воздействиям, способность найти почву для эмоциональной реакции там, где для других такой почвы не существует. Термином «импульсивность» обозначается быстрота, с которой эмоция становится побудительной силой поступков и действий без их предварительного обдумывания и сознательного решения выполнить их. Под эмоциональной лабильностью обычно понимается скорость, с которой прекращается данное эмоциональное состояние или происходит смена одного переживания другим.
Основные компоненты темперамента образуют в актах человеческого поведения то своеобразное единство побуждения, действия и переживания, которое позволяет говорить о целостности проявлений темперамента и дает возможность относительно четко отграничить темперамент от других психических образований личности – ее направленности, характера, способностей и др.
Вопрос о проявлениях темперамента в поведении неразрывно связан с вопросом о факторах, эти проявления обусловливающих. В истории учения о личности можно выделить три основные системы взглядов на этот вопрос. Древнейшими из них являются гуморальные теории, связывающие темперамент со свойствами тех или иных жидких сред организма. Наиболее ярко эту группу теорий темперамента представляла классификация темперамента, основанная на учении Гиппократа. Он считал, что уровень жизнедеятельности организма определяется соотношением между четырьмя жидкостями, циркулирующими в человеческом организме, – кровью, желчью, черной желчью и слизью (лимфой, флегмой). Соотношение этих жидкостей, индивидуально своеобразное у каждого организма, обозначалось по-гречески термином «красис» (смесь, сочетание), который в переводе на латинский язык звучит как «temperament». На основе теории Гиппократа постепенно сформировалось учение о четырех типах темперамента по количеству главных жидкостей, гипотетическое преобладание которых в организме и дало название основным типам темперамента: сангвиническому (от латинского sanguis – кровь), холерическому (от греческого chole – желчь), меланхолическому (от греческого melas – черный и chole – желчь) и флегматическому (от греческого phlegma – слизь).
В новое время психологическая характеристика этих типов темперамента была обобщена и систематизирована впервые немецким философом И. Кантом («Антропология», 1789), допустившим, однако, в своих толкованиях смешение черт темперамента и характера. Органической основой темперамента Кант считал качественные особенности крови, т. е. разделял позицию сторонников гуморальных теорий.
Близко к гуморальным теориям темперамента стоит сформулированная П. Ф. Лесгафтом идея о том, что в основе проявлений темперамента, в конечном счете, лежат свойства системы кровообращения, в частности, толщина и упругость стенок кровеносных сосудов, диаметр их просвета, строение и форма сердца и т. д. При этом малому просвету и толстым стенкам сосудов соответствует холерический темперамент, малому просвету и тонким стенкам – сангвинический, большому просвету и толстым стенкам – меланхолический и, наконец, большому просвету и тонким стенкам – флегматический. Калибром сосудов и толщиной их стенок определяются, согласно теории Лесгафта, быстрота и сила кровотока, затем (как производное) скорость обмена веществ при питании и, наконец, сама индивидуальная характеристика темперамента как меры возбудимости организма и продолжительности его реакций при действии внешних и внутренних стимулов.
Большое влияние на формирование современных буржуазных теорий личности и ее индивидуальных особенностей оказала теория темперамента, выдвинутая Э. Кречмером.
Анализируя совокупности морфологических признаков, Кречмер выделяет на основе разработанных им критериев основные конституционные типы телосложения и делает попытку определить темперамент именно через эти типы морфологических конституций.
Например, астеническому типу конституции, характеризующемуся длинной и узкой грудной клеткой, длинными конечностями, удлиненным лицом, слабой мускулатурой, соответствует, по Кречмеру, шизоидный (шизотемический) темперамент, которому свойственны индивидуальные особенности, располагающиеся в основном вдоль «психоэтетической» шкалы, – от чрезмерной ранимости, аффективности и раздражительности до бесчувственной холодности и тупого, «деревянного» равнодушия. Для шизоидов характерны также замкнутость, уход во внутренний мир, несоответствие реакций внешним стимулам, контрасты между судорожной порывистостью и скованностью действий.
Другому основному конституциональному типу – пикническому, характеризующемуся широкой грудью, коренастой, широкой фигурой, круглой головой, выступающим животом, отвечает, по Кречмеру, циклоидный (циклотимический) темперамент, которому свойственны, прежде всего, индивидуальные особенности, идущие вдоль «диатетической» шкалы, т. е. от постоянно повышенного, веселого настроения у маниакальных субъектов до постоянно сниженного, печального и мрачного состояния духа у депрессивных индивидов. Для циклоидов характерны также соответствие реакций стимулам, открытость, умение слиться с окружающей средой, естественность, мягкость и плавность движений. Э. Кречмер ошибочно определил роль конституциональных особенностей как факторов психического развития личности. Его теория неизбежно приводит к порочной идее фатального предрасположения индивида к тому психологическому складу, который уготован ему наследственно заданным телесным обликом, и носит по существу реакционный характер.
К морфологическим теориям темперамента относится и концепция американского психолога У. Шелдона, который выделяет три основных типа соматической конституции («соматотипа»): эндоморфный, мезоморфный и эктоморфный. Для эндоморфного типа, по его мнению, характерны мягкость и округлость внешнего облика, слабое развитие костной и мускульной систем; ему соответствует висцеротонический темперамент с любовью к комфорту, с чувственными устремлениями, расслабленностью и медленными реакциями. Мезоморфный тип характеризуется жестокостью и резкостью поведения, преобладанием костно-мускульной системы, атлетичностью и силой; с ним связан соматотонический темперамент, с любовью к приключениям, склонностью к риску, жаждой мускульных действий, активностью, смелостью, агрессивностью. Эктоморфному типу конституции свойственны изящество и хрупкость телесного облика, отсутствие выраженной мускулатуры; этому соматотипу соответствует церебротонический темперамент, характеризующийся малой общительностью, склонностью к обособлению и одиночеству, повышенной реактивностью. Шелдон, так же как и Кречмер, проводит мысль о фатальной соматической обусловленности самых разнообразных психических черт личности, в том числе таких, которые целиком определяются условиями воспитания и социальной средой.
Основным недостатком гуморальных и морфологических теорий является то, что они принимают в качестве первопричины поведенческих проявлений темперамента такие системы организма, которые не обладают и не могут обладать необходимыми для этого свойствами.
Основу для разработки действительно научной теории темперамента создало учение И. П. Павлова о типологических свойствах нервной системы животных и человека. Крупнейшей заслугой Павлова явилось детальное теоретическое и экспериментальное обоснование положения о ведущей роли и динамических особенностях поведения центральной нервной системы – единственной из всех систем организма обладающей способностью к универсальным регулирующим и контролирующим влияниям. Павлов выделил три основных свойства нервной системы: силу, уравновешенность и подвижность возбудительного и тормозного процессов. Из ряда возможных сочетаний этих свойств Павлов выделил четыре, по его данным, основные, типичные комбинации в виде четырех типов высшей нервной деятельности. Их проявления в поведении Павлов поставил в прямую связь с античной классификацией темперамента. Сильный, уравновешенный, подвижный тип нервной системы рассматривался им как соответствующий темперамент сангвиника; сильный, уравновешенный, инертный – темперамент флегматика; сильный, неуравновешенный – темперамент холерика; слабый – темперамент меланхолика.
Советские психологи (Б. М. Теплов и др.) отмечают, что первостепенное научное значение работ И. П. Павлова заключается в выяснении основной роли свойств нервной системы как первичных и самых глубоких параметров психофизиологической организации индивидуума. На современном этапе развития науки сделать окончательные научные выводы относительно числа основных типов нервной системы, равно как и числа типичных темпераментов, еще не представляется возможным. Исследования советских ученых показывают, что сама структура свойств нервной системы как нейрофизиологических измерений темперамента много сложнее, чем это представлялось ранее, а число основных комбинаций этих свойств гораздо больше, чем это предполагалось И. П. Павловым.
Однако для практического (в том числе психолого-педагогического) изучения личности деление на четыре основных типа темперамента и их психологическая характеристика могут служить достаточно хорошей основой. В соответствии с этим следует отметить, что для сангвинического темперамента характерны довольно высокая нервно-психическая активность, разнообразие и богатство мимики движений, эмоциональность, впечатлительность и лабильность. Вместе с тем эмоциональные переживания сангвиника, как правило, неглубоки, а его подвижность при отрицательных воспитательных влияниях приводит к отсутствию должной сосредоточенности, к поспешности, а иногда и поверхностности.
Для холерического темперамента характерны высокий уровень нервно-психической активности и энергии действий, резкость и стремительность движений, а также сила, импульсивность и яркая выраженность эмоциональных переживаний.
Недостаточная эмоциональная и двигательная уравновешенность холерика может выливаться при отсутствии надлежащего воспитания в несдержанность, вспыльчивость, неспособность к самоконтролю при эмоциогенных обстоятельствах.
Темперамент флегматика характеризуется обычно сравнительно низким уровнем активности поведения и трудностью переключений, медлительностью и спокойствием действий, мимики и речи, ровностью, постоянством и глубиной чувств и настроений. В случае неудачных воспитательных влияний у флегматика могут развиться такие отрицательные черты, как вялость, бедность и слабость эмоций, склонность к выполнению одних лишь привычных действий.
Меланхолический темперамент связывается обычно с такими характеристиками поведения, как малый уровень нервно-психической активности, сдержанность и приглушенность моторики и речи, значительная эмоциональная реактивность, глубина и устойчивость чувств при слабом внешнем их выражении. На почве этих особенностей при недостатке соответствующих воспитательных воздействий у меланхолика могут развиться повышенная до болезненности эмоциональная ранимость, замкнутость и отчужденность, склонность к тяжелым внутренним переживаниям таких жизненных обстоятельств, которые вовсе этого не заслуживают.
Приведенные данные показывают, что в зависимости от условий формирования личности каждый тип темперамента может характеризоваться комплексом как положительных, так и отрицательных психологических черт: «лучших» или «худших». Только положительных или только отрицательных темпераментов не существует. Задача воспитателя заключается, следовательно, не в том, чтобы в процессе индивидуальной работы с ребенком переделывать один тип темперамента на другой, а в том, чтобы планомерной и систематической работой добиваться, с одной стороны, развития свойственных каждому темпераменту положительных качеств, а с другой стороны, ликвидации или ослабления тех недостатков, которые уже начали проявляться в поведении ребенка.
Поскольку формирование особенностей темперамента есть процесс, в огромной степени зависящий от развития волевых черт личности, первостепенное значение для воспитания темперамента имеет формирование морально-волевых сторон характера. Овладение своим поведением и будет означать формирование положительных качеств темперамента.
Вместе с тем воспитателю следует иметь в виду, что темперамент надо строго отличать от характера. Темперамент ни в коей мере не характеризует содержательную сторону личности (мировоззрение, взгляды, убеждения, интересы и т. п.), не определяет ценность личности или предел возможных для данного человека достижений. Он имеет отношение лишь к динамической стороне деятельности. Характер же неразрывно связан с содержательной стороной личности.
Включаясь в развитие характера, свойства темперамента претерпевают изменения, в силу чего одни и те же исходные свойства могут привести к различным свойствам характера в зависимости от условий жизни и деятельности. Так, при соответствующем воспитании и условиях жизни у человека с нервной системой слабого типа может образоваться сильный характер, и, наоборот, черты слабохарактерности могут развиться при «тепличном», изнеживающем воспитании у человека с сильной нервной системой. Во всех своих проявлениях темперамент опосредствован и обусловлен всеми реальными условиями и конкретным содержанием жизни человека. Например, отсутствие выдержки и самообладания в поведении человека не обязательно говорит о холерическом темпераменте. Оно может быть недостатком воспитания. Непосредственно темперамент проявляется в том, что у одного человека легче, у другого труднее вырабатываются необходимые реакции поведения, что для одного человека нужны одни приемы выработки тех или иных психических качеств, для другого – другие.
Бесспорно, что при любом темпераменте можно развить все общественно ценные свойства личности. Однако конкретные приемы развития этих свойств существенно зависят от темперамента. Поэтому темперамент – важное условие, с которым надо считаться при индивидуальном подходе к воспитанию и обучению, к формированию характера, к всестороннему развитию умственных и физических способностей.
Д. Н. Левитов. Проблема характера в современной психологии[19]
Проблема характера занимает видное место в психологии начиная с древности, когда Теофраст, которого с полным основанием можно считать пионером в постановке данной проблемы, написал свою знаменитую по резонансу в науке книгу «Характеры». В XVIII в. развернулась интересная полемика о происхождении характера между К. Гельвецием и Д. Дидро. Особое внимание психологии характера уделялось в XIX в. Достаточно указать на работы английских ученых Дж. Ст. Милля, Гальтона, Бэна, французских исследователей Пере, Фулье, Рибо, Полана, Малапера, занимавшихся по преимуществу типологией характера, монографии немецких ученых В. Штерна, Кречмера, Гофмана, Эвальда, Клягеса. В свое время Дж. Ст. Милль предложил выделить как особую науку этологию, подразумевая под ней характерологию, поскольку до Теофраста для обозначения тех свойств или черт характера, которые впоследствии получили название «характер», употреблялся термин «этос». Популярности изучения характера способствовало большое значение этой проблемы в жизни. Поэтому она издавна привлекала внимание не только психологов, но и моралистов (Монтень, Лярошфуко, Лябрюйер, Вовенарг). Характер – одно из стержневых понятий и в литературоведении. Большое место проблема характера занимала и в нашей отечественной психологии, в работах Лесгафта, Ушинского, Каптерева и особенно Лазурского, предложившего выделить особую науку о характере, или характерологию. Можно сказать, что в нашей психологии создалась своего рода традиция рассмотрения психических особенностей человека в характерологическом аспекте, причем в противоположность французским психологам-функционалистам наши психологи, не ограничиваясь аналитическим рассмотрением характера, делали акцент на его целостности и индивидуальном своеобразии. Предложенные Лесгафтом и Лазурским типологии характеров не маскировали, а скорее обнажали многообразие индивидуальных характеров в пределах одного и того же типа.
С 40—50-х годов в советской психологии наблюдается резкий подъем интереса к проблеме характера. Свидетельством этому служат четыре докторские диссертации, трактующие тему о характере с разных сторон, но во всех случаях достаточно широко: И. В. Страхова «Эмоциональные компоненты характера школьника в связи с общей характерологией» (1940), Н. Д. Левитова «Проблема характера в психологии» (1942), В. С. Филатова «Учение о характере и его формировании в условиях социалистического общества» (1952), А. Г. Ковалева «Типические особенности характера старшего школьника» (1953).
Большая обзорная статья В. А. Крутецкого «Проблема характера в советской психологии» (1960) содержит в себе тщательно проанализированный итог всего сделанного советскими психологами по проблеме характера. Этот анализ завершается указаниями на перспективы дальнейших исследований, которые должны быть направлены на многие еще не получившие решения вопросы. Однако после отмеченного периода повышенного интереса к характерологии в советской науке произошло достаточно резко выраженное падение интереса, хотя глава «Характер» продолжала занимать свое место в учебниках и учебных пособиях по психологии. Возникает вопрос: как обстоит дело с характерологией в зарубежной науке?
В 1957 г. вышла книга «Перспективы теории личности», содержащая материалы симпозиума, в котором приняли участие психологи США, Англии, Франции, ФРГ, Италии, Швейцарии и Голландии. Этот симпозиум дает достаточный материал для суждения о состоянии проблемы характера за рубежом. Общее впечатление от симпозиума таково, что в США интерес к проблеме характера значительно ниже, чем в Западной Европе – во всяком случае, термин «характер» у психологов США менее употребителен.
Если посмотреть вышедшие за последнее время в США монографии по психологии личности, например, Кэттела, Мэрфи, Мюррей, Дреджера, Лазаруса, то ни в одной из них не только нет главы, посвященной характеру, но проблема характера серьезно даже не обсуждается. Мэрфи недвусмысленно высказался за то, чтобы термин «характер», как и термин «темперамент», изъять из употребления в науке. В периодической американской психологической литературе за последние годы не помещались статьи по исследованию характера, знаменательно, что слово «характер» снято из заголовка журнала «Характер и личность» (оставлено лишь наименование «личность»).
Следует выяснить причины, побудившие ряд ученых изъять из актуальной проблематики психологии проблему характера: то ли психологам не с чем выступать по этой проблеме, то ли они придают ей второстепенное значение, считая нецелесообразным выделять характер в структуре и динамике личности. Основных причин такого положения можно выделить три: а) тенденция отождествлять характер с личностью, которая будто бы является более изученной, чем характер; б) отнесение характера к этике и тем самым признание незакономерности его включения в систему психологии; в) сомнение в возможности изучения характера как уникального явления.
Нередко психологи склонны считать личность и характер синонимическими понятиями и поэтому не находят нужным выделять характер. Так, Дреджер пишет, что нельзя отчетливо дифференцировать «характер» и «личность». Немецкий термин означает приблизительно то же самое, что «личность» для многих английских и американских авторитетов. Согласно Кендлеру, личность – «организация конфигураций поведения, которая характеризует личность как индивидуума в различных ситуациях». Данное определение с полным основанием может быть отнесено к характеру. Такое же значение имеет и определение, сделанное Дон Байроном. «Сфера личности» определяется как та отрасль психологии, которая имеет дело с измерениями индивидуальных различий. Эти измерения понимаются как варианты личности. Не отождествляя характер в широком и скорее формальном смысле с личностью, можно считать его особым аспектом личности. Согласно нашему определению, характер представляет собой «индивидуальные ярко выраженные и качественно своеобразные психологические черты человека, влияющие на его поведение и поступки».
Подобным же образом понимает характер и К. К. Платонов: «Совокупность наиболее ярко выраженных и относительно устойчивых ее (личности. – Д.Л.) черт, типичных для данного человека и систематически проявляющихся в его действиях и поступках». Не считая правомерным интерпретировать характер как компонент личности, К. К. Платонов дает такое конденсированное определение: «Характер – это личность в своеобразии ее деятельности». Мы предпочитаем в определении характера говорить об индивидуально своеобразных и ярко выраженных психических чертах не личности, а человека, потому что, хотя область личности в настоящее время является одной из самых популярных, если не самой популярной в психологии, все же остается еще много нерешенных и запутанных вопросов в самом понимании того, что такое личность и какова ее психологическая структура.
Как правильно говорит К. К. Платонов, «единого общепризнанного понимания личности еще нет». Олпорт еще в 1937 г. нашел свыше 50 разных определений личности. Следует отметить, что в понимании характера у советских психологов наблюдается значительно большее единство и определенность, хотя и в этой области немало нерешенных вопросов. Во всех учебниках и учебных пособиях и монографиях характер определяется примерно так, как у К. К. Платонова и в нашей книге. Вся разница заключается в том, что в одних случаях говорится о характере в широком смысле слова, в других – в более строгом. В зарубежной психологии нередко характер определяется как личность в ее этическом аспекте и на этом основании делается неправильный вывод, что характер – предмет изучения не психологии, а этики. Эта точка зрения, прежде всего, принадлежит Г. Олпорту. Он пишет: «Мы предпочитаем определять характер как личность оцениваемую, а личность, если хотите, как характер неоцениваемый». И продолжает: «Этическая теория – важная отрасль философии, но ее не следует смешивать с психологией личности». Таким образом, Олпорт относит изучение характера к компетенции этики.
Нельзя свести характер только к моральным чертам, и это признают даже те психологи, которые считают характерологию моральной концепцией. Олпорт, чувствуя неправомерность сведения характера к одним этическим чертам, предложил называть ярко выраженные черты личности ее конфигурацией, а индивидуальный стиль жизни – характеристикой. Характер – не только аспект, но и компонент личности. К сожалению, нет общепринятого понимания структуры личности. К. К. Платонов сделал попытку детально разработать структуру личности, представив ее как объединение нескольких субструктур, но эта попытка вызывает большие сомнения. Следует признать, что до настоящего времени сохраняет свою убедительность та структура личности, которую предложил С. Л. Рубинштейн в пятой части своей книги «Основы общей психологии». Он различал в личности направленность, способности, темперамент, характер и самосознание. Несколько искусственно к этим действительно важнейшим компонентам личности присоединен ее жизненный путь, который имеет большое значение для понимания генезиса личности, но не идет в одном ряду с направленностью, способностями, темпераментом, характером и самосознанием. Фактически понимание компонентов личности, выдвинутое С. Л. Рубинштейном, разделяет А. Г. Ковалев, когда он говорит о сложных структурах, противопоставляя эти структуры простым и в этом отношении сближаясь с Айзенком, предложившим иерархическую структуру личности, начинающуюся с простых реакций и кончающуюся сложными чертами и типами.
Понимание характера не только как аспекта, но и как компонента личности вполне оправданно. Как компонент личности, характер в работах всех советских психологов трактуется как выражение черт направленности или системы отношений и волевых черт. В нашей монографии характер в строгом смысле слова определяется как «психологический склад личности, выраженный в ее направленности и воле». В других определениях характера, например В. А. Крутецкого в учебнике психологии под ред. А. А. Смирнова или в учебном пособии под ред. А. Г. Ковалева, указывается лишь направленность или система отношений, но при раскрытии структуры характера самое существенное значение придается воле. По существу, В. А. Крутецкий столько же внимания уделяет чертам характера, выражающим направленность человека (отношение к обществу, коллективу, другим людям), сколько и волевым чертам (целеустремленность, настойчивость, выдержка, дисциплинированность, мужество и смелость). Английский психолог Вебб еще в 1915 г. отметил волевой фактор, а в 1939 г. Берт при изучении детей выделил фактор, названный им «общая эмоциональность», под которой понимал, с одной стороны, невротическую неустойчивость, а с другой – настойчивость.
Психологи США обычно не выделяют характер в качестве компонента личности, хотя есть и исключения. Так, Р. Гилфорд к характерологическим факторам личности отнес факторы потребности в самоопределении, в свободе и самостоятельности, сознательность, дисциплинированность и честность. Эти факторы принадлежат скорее моральной сфере, но имеют не только этическое, но и волевое содержание. Кэттел среди основных факторов («первичных черт») личности указывает силу и слабость «сверх-я», что, по его заявлению, «соответствует общепринятому значению характера». Сила «сверх-я» в данном случае означает силу воли человека, действующего твердо и принципиально, а слабость «сверх-я» – слабость воли человека, неустойчивого в своих действиях, непринципиального.
Несомненно, волевые черты наиболее проявляются в характере как компоненте личности, где они варьируют в зависимости от черт направленности и потому должны изучаться в целостном характере. Следует восстановить в правах психологию характера как предмет человековедения, что, несомненно, должно помочь глубже понять личность во всем многообразии ее индивидуальных и типических вариантов.
Б. М. Теплов. Способности и одаренность[20]
При установлении основных понятий учения об одаренности наиболее удобно исходить из понятия «способность».
Три признака, как мне кажется, всегда заключаются в понятии «способность» при употреблении его в практически разумном контексте.
Во-первых, под способностями разумеются индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого; никто не станет говорить о способностях там, где дело идет о свойствах, в отношении которых все люди равны. В таком смысле слово «способность» употребляется основоположниками марксизма-ленинизма, когда они говорят: «От каждого по способностям».
Во-вторых, способностями называют не всякие вообще индивидуальные особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей. Такие свойства, как, например, вспыльчивость, вялость, медлительность, которые, несомненно, являются индивидуальными особенностями некоторых людей, обычно не называются способностями, потому что не рассматриваются как условия успешности выполнения каких-либо деятельностей.
В-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам или умениям, которые уже выработаны у данного человека. Нередко бывает, что педагог не удовлетворен работой ученика, хотя этот последний обнаруживает знания не меньшие, чем некоторые из его товарищей, успехи которых радуют того же самого педагога. Свое недовольство педагог мотивирует тем, что этот ученик работает недостаточно; при хорошей работе ученик, «принимая во внимание его способности», мог бы иметь гораздо больше знаний. <…>
Когда выдвигают молодого работника на какую-либо организационную работу и мотивируют это выдвижение «хорошими организаторскими способностями», то, конечно, не думают при этом, что обладать «организаторскими способностями» – значит обладать «организаторскими навыками и умениями». Дело обстоит как раз наоборот: мотивируя выдвижение молодого и пока еще неопытного работника его «организаторскими способностями», предполагают, что, хотя он, может быть, и не имеет еще необходимых навыков и умений, благодаря своим способностям он сможет быстро и успешно приобрести эти умения и навыки.
Эти примеры показывают, что в жизни под способностями обычно имеют в виду такие индивидуальные особенности, которые не сводятся к наличным навыкам, умениям или знаниям, но которые могут объяснять легкость и быстроту приобретения этих знаний и навыков. <…>
Мы не можем понимать способности… как врожденные возможности индивида, потому что способности мы определили как «индивидуально-психологические особенности человека», а эти последние по самому существу дела не могут быть врожденными. Врожденными могут быть лишь анатомо-физиологические особенности, т. е. задатки, которые лежат в основе развития способностей, сами же способности всегда являются результатом развития.
Таким образом, отвергнув понимание способностей как врожденных особенностей человека, мы, однако, нисколько не отвергаем тем самым того факта, что в основе развития способностей в большинстве случаев лежат некоторые врожденные особенности, задатки.
Понятие «врожденный», выражаемое иногда и другими словами – «прирожденный», «природный», «данный от природы» и т. п., – очень часто в практическом анализе связывается со способностями. <…>
Важно лишь твердо установить, что во всех случаях мы разумеем врожденность не самих способностей, а лежащих в основе их развития задатков. Да едва ли кто-нибудь и в практическом словоупотреблении разумеет что-нибудь иное, говоря о врожденности той или другой способности. Едва ли кому-нибудь приходит в голову думать о «гармоническом чувстве» или «чутье к музыкальной форме», существующих уже в момент рождения. Вероятно, всякий разумный человек представляет себе дело так, что с момента рождения существуют только задатки, предрасположения или еще что-нибудь в этом роде, на основе которых развивается чувство гармонии или чутье музыкальной формы.
Очень важно также отметить, что, говоря о врожденных задатках, мы тем самым не говорим еще о наследственных задатках. Чрезвычайно широко распространена ошибка, заключающаяся в отождествлении этих двух понятий. Предполагается, что сказать слово «врожденный» все равно, что сказать «наследственный». Это, конечно, неправильно. Ведь рождению предшествует период утробного развития… Слова «наследственность» и «наследственный» в психологической литературе нередко применяются не только в тех случаях, когда имеются действительные основания предполагать, что данный признак получен наследственным путем от предков, но и тогда, когда хотят показать, что этот признак не есть прямой результат воспитания или обучения, или когда предполагают, что этот признак сводится к некоторым биологическим или физиологическим особенностям организма. Слово «наследственный» становится, таким образом, синонимом не только слову «врожденный», но и таким словам, как «биологический», «физиологический» и т. д.
Такого рода нечеткость или невыдержанность терминологии имеет принципиальное значение. В термине «наследственный» содержится определенное объяснение факта, и поэтому-то употреблять этот термин следует с очень большой осторожностью, только там, где имеются серьезные основания выдвигать именно такое объяснение.
Итак, понятие «врожденные задатки» ни в коем случае не тождественно понятию «наследственные задатки». Этим я вовсе не отрицаю законность последнего понятия. Я отрицаю лишь законность употребления его в тех случаях, где нет веских доказательств того, что данные задатки должны быть объяснены именно наследственностью.
Далее, необходимо подчеркнуть, что способность по самому своему существу есть понятие динамическое. Способность существует только в движении, только в развитии. В психологическом плане нельзя говорить о способности, как она существует до начала своего развития, так же как нельзя говорить о способности, достигшей своего полного развития, закончившей свое развитие. <…>
Приняв, что способность существует только в развитии, мы не должны упускать из виду, что развитие это осуществляется не иначе, как в процессе той или иной практической или теоретической деятельности. А отсюда следует, что способность не может возникнуть вне соответствующей конкретной деятельности. Только в ходе психологического анализа мы различаем их друг от друга. Нельзя понимать дело так, что способность существует до того, как началась соответствующая деятельность, и только используется в этой последней. Абсолютный слух как способность не существует у ребенка до того, как он впервые стал перед задачей узнавать высоту звука. До этого существовал только задаток как анатомо-физиологический факт. <…>
Не в том дело, что способности проявляются в деятельности, а в том, что они создаются в этой деятельности. <…>
Развитие способностей, как и вообще всякое развитие, не протекает прямолинейно: его движущей силой является борьба противоречий, поэтому на отдельных этапах развития вполне возможны противоречия между способностями и склонностями. Но из признания возможности таких противоречий вовсе не вытекает признание того, что склонности могут возникать и развиваться независимо от способностей или, наоборот, способности – независимо от склонностей.
Выше я уже указывал, что способностями можно называть лишь такие индивидуально-психологические особенности, которые имеют отношение к успешности выполнения той или другой деятельности. Однако не отдельные способности как таковые непосредственно определяют возможность успешного выполнения какой-нибудь деятельности, а лишь своеобразное сочетание этих способностей, которое характеризует данную личность.
Одной из важнейших особенностей психики человека является возможность чрезвычайно широкой компенсации одних свойств другими, вследствие чего относительная слабость какой-нибудь одной способности вовсе не исключает возможности успешного выполнения даже такой деятельности, которая наиболее тесно связана с этой способностью. Недостающая способность может быть в очень широких пределах компенсирована другими, высокоразвитыми у данного человека…
Именно вследствие широкой возможности компенсации обречены на неудачу всякие попытки свести, например, музыкальный талант, музыкальное дарование, музыкальность и тому подобное к какой-либо одной способности.
Для иллюстрации этой мысли приведу один очень элементарный пример. Своеобразной музыкальной способностью является так называемый абсолютный слух, выражающийся в том, что лицо, обладающее этой способностью, может узнавать высоту отдельных звуков, не прибегая к сравнению их с другими звуками, высота которых известна. Имеются веские основания к тому, чтобы видеть в абсолютном слухе типичный пример «врожденной способности», т. е. способности, в основе которой лежат врожденные задатки. Однако можно и у лиц, не обладающих абсолютным слухом, выработать умение узнавать высоту отдельных звуков. Это не значит, что у этих лиц будет создан абсолютный слух, но это значит, что при отсутствии абсолютного слуха можно, опираясь на другие способности – относительный слух, тембровый слух и т. д., выработать такое умение, которое в других случаях осуществляется на основе абсолютного слуха. Психические механизмы узнавания высоты звуков при настоящем абсолютном слухе и при специально выработанном, так называемом «псевдоабсолютном» слухе будут совершенно различными, но практические результаты могут в некоторых случаях быть совершенно одинаковыми.
Далее надо помнить, что отдельные способности не просто сосуществуют рядом друг с другом и независимо друг от друга. Каждая способность изменяется, приобретает качественно иной характер в зависимости от наличия и степени развития других способностей.
Исходя из этих соображений, мы не можем непосредственно переходить от отдельных способностей к вопросу о возможности успешного выполнения данным человеком той или другой деятельности. Этот переход может быть осуществлен только через другое, более синтетическое понятие. Таким понятием и является «одаренность», понимаемая как то качественно своеобразное сочетание способностей, от которого зависит возможность достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или другой деятельности.
Своеобразие понятий «одаренность» и «способности» заключается в том, что свойства человека рассматриваются в них с точки зрения тех требований, которые ему предъявляет та или другая практическая деятельность. Поэтому нельзя говорить об одаренности вообще. Можно только говорить об одаренности к чему-нибудь, к какой-нибудь деятельности. Это обстоятельство имеет особенно большое значение при рассмотрении вопроса о так называемой «общей одаренности»…
То соотнесение с конкретной практической деятельностью, которое с необходимостью содержится в самом понятии «одаренность», обусловливает исторический характер этого понятия. Понятие «одаренность» лишается смысла, если его рассматривать как биологическую категорию. Понимание одаренности существенно зависит от того, какая ценность придается тем или другим видам деятельности и что разумеется под «успешным» выполнением каждой конкретной деятельности. <….>
Существенное изменение претерпевает и содержание понятия того или другого специального вида одаренности в зависимости от того, каков в данную эпоху и в данной общественной формации критерий «успешного» выполнения соответствующей деятельности. Понятие «музыкальная одаренность» имеет, конечно, для нас существенно иное содержание, чем то, которое оно могло иметь у народов, не знавших иной музыки, кроме одноголосой. Историческое развитие музыки влечет за собой и изменение музыкальной одаренности.
Итак, понятие «одаренность» не имеет смысла без соотнесения его с конкретными, исторически развивающимися формами общественно-трудовой практики.
Отметим еще одно очень существенное обстоятельство. От одаренности зависит не успех в выполнении деятельности, а только возможность достижения этого успеха. Даже ограничиваясь психологической стороной вопроса, мы должны сказать, что для успешного выполнения всякой деятельности требуется не только одаренность, т. е. наличие соответствующего сочетания способностей, но и обладание необходимыми навыками и умениями. Какую бы феноменальную и музыкальную одаренность ни имел человек, но, если он не учился музыке и систематически не занимался музыкальной деятельностью, он не сможет выполнять функции оперного дирижера или эстрадного пианиста.
В связи с этим надо решительно протестовать против отождествления одаренности с «высотой психического развития» – отождествления, широко распространенного в буржуазной психологии. <…>
Имеется большое различие между следующими двумя положениями: «данный человек по своей одаренности имеет возможность весьма успешно выполнять такие-то виды деятельности» и «данный человек своей одаренностью предрасположен к таким-то видам деятельности». Одаренность не является единственным фактором, определяющим выбор деятельности (а в классовом обществе она у огромного большинства и вовсе не влияет на этот выбор), как не является она и единственным фактором, определяющим успешность выполнения деятельности.
Е. А. Климов. Индивидуальный стиль деятельности[21]
Наиболее общепризнанными формальными признаками индивидуального стиля можно считать следующие:
а) устойчивая система приемов и способов деятельности;
б) эта система обусловлена определенными личными качествами;
в) эта система является средством эффективного приспособления к объективным требованиям.
Вообще говоря, под индивидуальным стилем следовало бы понимать всю систему отличительных признаков деятельности данного человека, обусловленных особенностями его личности. Но мы сознательно ограничиваем свою задачу и в дальнейшем, без специальных оговорок, будем рассматривать лишь те особенности стиля деятельности, которые обусловлены какими-либо типологическими свойствами нервной системы.
Итак, в узком смысле слова индивидуальный стиль деятельности есть обусловленная типологическими особенностями устойчивая система способов, которая складывается у человека, стремящегося к наилучшему осуществлению данной деятельности. При этом, говоря о способах, не обязательно иметь в виду только исполнительные и тем более двигательные акты – это и гностические, ориентировочные действия, и смена функциональных состояний, если они выступают как средство достижения цели (например, «самовозбуждение» у некоторых ораторов, актеров). Иначе говоря, индивидуальный стиль есть индивидуально-своеобразная система психологических средств, к которым сознательно или стихийно прибегает человек в целях наилучшего уравновешивания своей (типологически обусловленной) индивидуальности с предметными, внешними условиями деятельности.
Наиболее общая структура индивидуального стиля сводится к следующему. Прежде всего, существуют такие особенности, способы деятельности, которые непроизвольно или без заметных субъективных усилий (как бы стихийно) провоцируются в данной объективной обстановке на основе имеющегося у человека комплекса типологических свойств нервной системы. Эти особенности можно обозначить как ядро индивидуального стиля, они-то и обусловливают первый приспособительный эффект и, таким образом, существенно определяют направление дальнейшего уравновешивания со средой. Но они не обеспечивают всего необходимого приспособительного эффекта, и в меру необходимости возникает другая группа особенностей деятельности, которые вырабатываются в течение некоторых более или менее продолжительных поисков (сознательных или стихийных). Эта группа составляет своеобразную пристройку к ядру индивидуального стиля. Например, на основе инертности сама собой возникает склонность не отрываться от начатой работы, а значит, и такая особенность деятельности, которая может быть осмыслена как своеобразный способ эффективного уравновешивания со средой, как доведение действий до конца. На основе инертности легко осуществляются медленные и плавные движения, возникает предпочтение стереотипных способов действия, пунктуальное соблюдение однажды принятого порядка. Аналогичным способом и на основе подвижности стихийно складываются противоположные черты деятельности.
Среди особенностей такого рода, составляющих ядро индивидуального стиля, всегда оказываются две их категории: особенности, благоприятствующие успеху в данной обстановке (обозначим их литерой «А»), и особенности, противодействующие успеху («Б»). При этом следует подчеркнуть чисто функциональный характер этого деления, т. е. одна и та же особенность деятельности может оказаться в одном случае в категории «А», в другом – в категории «Б» в зависимости от характера объективных требований. Предпочтение однообразных неторопливых движений у инертных окажется в категории «А», например при ручной полировке изделия, и в категории «Б», если стоит задача срочно и часто менять характер движений, например при удержании равновесия на неустойчивой опоре.
Если мы имеем дело с особенностью, противодействующей успешному осуществлению деятельности, то рано или поздно, стихийно или сознательно она «обрастает» компенсаторными механизмами. Так, обусловленная инертностью недостаточная расторопность возмещается предусмотрительностью, более высоким уровнем ориентировочной деятельности. Сниженная сопротивляемость действию монотонной ситуации компенсируется тем, что человек искусственно разнообразит свою деятельность и т. д.
Однако в силу наличия у человека типологически обусловленных особенностей деятельности, благоприятствующих успешному ее выполнению, возникают и другие элементы пристройки к ЯДРУ стиля, а именно поиски и максимальное использование всех возможностей, которые открываются в связи с этой категорией особенностей деятельности. Так, например, инертные спортсмены-акробаты предпочитают упражнения, включающие статические позы, медленные и плавные движения, и добиваются здесь наибольшего эффекта. Рабочие-станочники инертного типа доводят до совершенства стереотипную упорядоченность рабочего места и систематичность в работе. Подвижные максимально используют свои скоростные ресурсы и способность часто переключаться с одной ситуации на другую и именно на этом пути «находят себя». Таким образом, среди особенностей, составляющих пристройку к ядру индивидуального стиля, также можно выделить две их категории: особенности, имеющие компенсаторное значение («В»), и особенности, связанные с максимальным использованием положительных приспособительных возможностей («Г»).
Таким образом, индивидуальный стиль тем в большей степени сформирован и выражен, чем больше наблюдается особенностей, относящихся к категориям «А», «В», «Г», и чем меньше остается нескомпенсированных особенностей категории «Б».
Если бы индивидуальный стиль деятельности в труде, учении, спорте однозначно определялся комплексом природных особенностей человека, то задача описания его детальной структуры, классификации и даже предсказания его особенностей была бы и относительно простой, и актуальной. Однако думается, что такого индивидуального стиля просто не существует. Если же под индивидуальным стилем понимать интегральный эффект взаимодействия человека с предметной и социальной средой, то более насущной представляется несколько иная задача, а именно: мы должны в каждом конкретном случае уметь быстро распознать, где есть или где должен быть сформирован индивидуальный стиль, под которым понимается некоторая (не обязательно всеобъемлющая) система индивидуально-своеобразных приемов и способов решения задачи (будет ли задача двигательной или гностической, будет ли она предполагать взаимодействие с вещами или людьми, будет ли связана с однократными или повторяющимися разнообразными или монотонными действиями, потребует ли отдельных реакций или сложного иерархического плана поведения – все это зависит от стечения обстоятельств). Наиболее общий путь, ведущий нас к ситуациям, где есть или возможен индивидуальный стиль, состоит в следующем.
Необходимо выделить, определить конкретную систему «субъект – объект» и определить то желательное состояние, к которому она должна прийти (иначе говоря, указать цель управления).
Выделить как можно больше существенных условий, от которых зависит достижение желаемого результата (т. е. указать определенную группу входных воздействий, как управляющих, так и возмущающих).
Выделить такие (из упомянутых в предыдущем пункте) управляющие воздействия, в отношении которых какое-либо типологическое свойство или сочетание свойств является по своему биологическому смыслу противодействующим фактором (например, частому переключению внимания противодействует инертность, длительному поддержанию внимания в монотонной обстановке – подвижность и т. п.). Кроме того, выделить и такие особенности деятельности, в отношении которых определенные типологические особенности являются благоприятным или хотя бы нейтральным (явно не противодействующим) фактором.
После того как все это проделано, остается искать пути управления формированием индивидуального стиля за счет конструирования необходимых элементов пристройки к его ядру (см. общую схему основных этапов научно-практической работы по организации индивидуального подхода). Формирование индивидуального стиля продвигает личность на все более высокие уровни осуществления деятельности, а значит, и способствует обоснованной реализации принципа «от каждого по способностям»…
Могут сказать, что мы рекомендуем слишком хлопотный способ (разбираться в каждом, буквально отдельном, единичном случае индивидуального стиля), и спросить: где же представление о детальной типовой структуре индивидуального стиля? Спросим и мы: а почему она должна быть, если стиль действительно индивидуальный?
Если астроном изучает Солнце, то вполне допустимо, что его может занимать вопрос, как познать именно это конкретное светило и предсказать его поведение. Думается, что факт неповторимости каждой личности дает аналогичное право и психологу. В идеале мы должны уметь быстро, оперативно конструировать программу воспитательных, формирующих воздействий, адресуемых не просто представителю типа, группы, а именно конкретному человеку. В этом, вероятно, и состоит одна из специфических черт психологии: началом и концом проблемы для нее может быть познание данного человека.
Раздел 5. Личность в социальной среде
В. Франкл. О неповторимости человека[22]
Подобно тому, как существование каждого человека не похоже на существование других, так и сам по себе человек неповторим. Но так же, как и смерть, ограничивая жизнь во времени, не лишает ее смысла, а скорее является тем самым, что составляет смысл жизни, так и внутренние пределы делают жизнь человека более осмысленной. Если бы все люди были идеальны, тогда каждого человека всегда можно было бы заменить любым другим.
Именно из людского несовершенства следует незаменимость и невосполнимость каждого индивида – поскольку каждый из нас несовершенен на свой манер. Не существует универсально одаренных людей – более того, человек неповторим именно в силу своего отклонения от нормы и средних стандартов.
Поясним это примером из биологии. Хорошо известно, что, когда одноклеточные организмы эволюционируют в многоклеточные, это оборачивается для них потерей бессмертия. Они лишаются и своего всемогущества. Они меняют свою универсальность на специфичность. К примеру, исключительно дифференцированные клетки в сетчатке глаза выполняют такие функции, которые не может выполнить ни один другой вид клеток. Известный принцип разделения труда лишает отдельную клетку исходно присущей ей функциональной автономии и универсальности, однако утраченная клеткой способность независимого функционирования компенсируется ее относительной специфичностью и незаменимостью внутри организма.
Аналогичная картина и в мозаике, где каждая частица, каждый отдельный камушек остается неполноценным, несовершенным сам по себе – и по форме, и по цвету. Смысл отдельного элемента мозаики определяется только тем местом, которое он занимает в целой картине. Если все эти элементарные фигурки составляют единое целое подобно миниатюре, например, – тогда каждая из них могла бы быть заменена любой другой. Форма природного кристалла может быть совершенной, и именно поэтому его можно заменить любым другим экземпляром той же кристаллической формы: какой ни взять восьмигранник, он похож на все остальные.
Чем более специфичен человек, тем менее он соответствует норме – как в смысле средней нормы, так и в смысле идеальной. Свою индивидуальность люди оплачивают отказом от нормальности, а случается и отказом от идеальности. Однако значимость этой индивидуальности, смысл и ценность человеческой личности всегда связаны с сообществом, в котором она существует. Подобно тому, как даже неповторимость мозаичного элемента представляет ценность лишь в отношении к целостному мозаичному изображению, неповторимость человеческой личности обнаруживает свой внутренний смысл в той роли, которую она играет в целостном сообществе. Таким образом, смысл человеческого индивида как личности трансцендирует его собственные границы в направлении к сообществу: именно направленность к сообществу позволяет смыслу индивидуальности превзойти собственные пределы.
Людям присуще чувство некоторой эмоциональной стадности; однако человеческое сообщество этим не ограничивается: перед ним стоит более общая, выходящая за пределы этой стадности задача. Но не только личности необходимо сообщество, ибо лишь в нем ее существование обретает смысл; но и, наоборот, сообщество, чтобы иметь смысл, не может обойтись без отдельных личностей. Именно в этом существенное различие между сообществом и просто толпой. Толпа отнюдь не обеспечивает человеку такой сферы отношений, в которой он мог бы развиваться как личность, масса не терпит индивидуальности. Если отношения между человеком и сообществом можно сравнить с целым мозаичным рисунком, то взаимоотношения человека и толпы подобны серому булыжнику, которым выкладывают мостовую: все камни имеют одинаковый цвет и форму, каждый из них может быть заменен любым другим; для хорошего качества мостовой совершенно не обязательно, чтобы ее мостил именно этот, отдельно взятый булыжник. Мостовая сама по себе не является целостным образованием, это всего лишь множество камней. Однородное дорожное покрытие не обладает эстетической ценностью мозаики; оно обладает лишь ценностью утилитарной – ведь толпа потопляет в себе достоинства и истинную ценность людей, извлекая из них чисто утилитарную пользу.
Существование личности в полной мере обретает смысл лишь в сообществе. Таким образом, в этом смысле ценность человека зависит от сообщества. Но коль скоро сообщество само должно иметь смысл, оно вынуждено мириться с индивидуальными особенностями людей, его составляющих. В толпе же, напротив, особенности отдельной личности, ее непохожесть затираются, должны быть затерты, поскольку ярко выраженная индивидуальность представляет собой разрушительный фактор для любой толпы. Смысл сообщества держится на индивидуальности каждого его члена, а смысл личности проистекает из смысла сообщества, смысл толпы разрушается индивидуальными особенностями составляющих ее людей, а смысл отдельной личности топится толпой (в то время как сообщество помогает этому смыслу проявиться).
Как мы сказали, неповторимость каждого человека и своеобразие всей его жизни являются неотъемлемыми составляющими смысла человеческого бытия. Следует отличать своеобразие, о котором идет речь, от чисто внешней непохожести на других, ибо последняя сама по себе ценности не представляет. Тот факт, что один человек отличается от другого по рисунку отпечатков пальцев, еще не выделяет его как личность.
Таким образом, когда мы говорим, что благодаря своей неповторимости человеческое существование не бессмысленно, мы имеем в виду совсем иной тип неповторимости. Мы могли бы по аналогии с гегелевской хорошей и плохой бесконечностью – говорить о хорошей и плохой неповторимости. Хорошая неповторимость это такая, которая была бы направлена к обществу, для которого человек представляет большую ценность именно в силу своей непохожести на остальных.
Человеческое существование представляет собой особый вид бытия, не похожий на бытие любого другого объекта. К примеру, дом состоит из этажей, а этажи из комнат. Таким образом, мы можем рассматривать дом как сумму этажей, а комнату – как часть этажа. Итак, мы можем более или менее произвольно разграничивать элементы бытия, намеренно сводя какое-либо конкретное явление или предмет к более общему или же, наоборот, вычленяя его из общего. И только человеческая личность, ее существование не подвластны подобной процедуре; человек представляет собой нечто, завершенное в себе, существующее само по себе, – его нельзя ни разделить, ни сложить с другими предметами или явлениями.
Чему человек отдает предпочтение, его образ жизни – все это можно описать, исходя из нашей первоначальной идеи о том, что быть – значит отличаться. Можно сформулировать это так: существование человека как личности означает абсолютную непохожесть его на других. Ибо своеобразие (уникальность) каждого означает, что он отличается от всех остальных людей.
Таким образом, человека нельзя ввести составляющим элементом ни в какую систему высшего порядка – ведь при этом он неизбежно теряет особое качество, которое отличает собственно человеческое бытие, – чувство достоинства. Наиболее ярко это проявляется в феномене массы, или толпы. Толпа как таковая не имеет ни сознания, ни ответственности. И именно поэтому она лишена существования. Несмотря на то, что толпа может действовать и в этом смысле она реальна, она не действует ни внутри себя, ни сама по себе. Социологические законы действуют не поверх людских голов, а напротив, люди сами являются проводниками этих законов. Возможно, подобные законы и кажутся имеющими силу, но они являются таковыми лишь в той степени, в какой действенны вероятностные расчеты для массовой психологии, и только в той мере, в какой является предсказуемым среднестатистический человек. Но этот среднестатистический человек – выдумка ученых, а не реальная личность. Он никак не может быть реальным человеком именно в силу своей предсказуемости.
Скрываясь и растворяясь в толпе, человек утрачивает важнейшее из присущих ему качеств – ответственность. С другой стороны, когда он берет на себя задачу, поставленную обществом, он добивается совсем иного – увеличения собственной ответственности. Бегство в толпу – это способ скинуть с себя бремя собственной ответственности. Как только кто-нибудь начинает вести себя так, как будто он всего лишь частица высшего целого и только это целое играет определяющую роль, он начинает получать истинное наслаждение от того, что удалось сбросить с себя хотя бы часть ответственности. Эта тенденция к избеганию бремени ответственности оказывается мотивом для любых форм коллективизма. Истинное сообщество, в сущности, – это сообщество ответственных личностей; толпа – это просто множество обезличенных существ.
Когда дело доходит до оценки человеческих поступков, коллективизм нередко приводит к нелепым заблуждениям. Вместо конкретного, персонально ответственного индивида идея коллективизма подставляет лишь усредненный тип, а вместо личной ответственности – конформность и уважение к социальным нормам. В этом процессе ответственность утрачивается не только объектом оценки, но в не меньшей степени и субъектом такого оценочного суждения.
Оценка с помощью типов упрощает задачу тому, кто оценивает, поскольку она освобождает человека от ответственности за это оценочное суждение. Если мы оцениваем какого-то конкретного индивида как представителя определенного человеческого типа, нам даже не требуется сколько-нибудь подробно рассматривать данный индивидуальный случай, и это оказывается весьма удобным способом такой оценки. Это столь же удобно, как и, к примеру, оценка автомобиля по его марке или типу салона. Если вы сидите за рулем автомобиля какой-то определенной марки, вам хорошо известны собственные возможности в связи с этим. Если вам известна марка пишущей машинки, вам легко представить, что от нее можно ожидать. Даже породу собаки можно для себя выбрать подобным образом: пудель будет иметь совершенно определенные черты и определенные наклонности, у волкодава они будут существенно другими. Только в случае с человеком такие вещи не проходят. Отдельный человек не детерминирован своим происхождением; его поведение нельзя вычислить, исходя из его типа. Такой расчет никогда не будет точным, никогда не сойдется нацело – обязательно будет какой-то остаток. Этот остаток и выражается в свободе человека избегать ограниченных рамок собственного типа. Истинно человеческое начинается в человеке там, где он обретает свободу противостоять зависимости от собственного типа. Ибо только там, именно в этой свободе, в ощущении своего свободного и ответственного бытия возникает подлинный человек. Чем более стандартизована некоторая машина или устройство, тем они лучше; но чем больше стандартизована личность, чем больше она растворяется в своем классе, национальности, расе или характерологическом типе, тем больше она соответствует некоему стандартному среднему – и тем ниже она в нравственном отношении.
В нравственном плане идея коллективизма приводит к понятию коллективной вины. С людей спрашивают за то, за что они в действительности ответственности не несут. Тот, кто судит людей подобным образом или даже обвиняет их, ответственности за свой приговор не несет. Конечно, гораздо проще возвышать или унижать расы целиком, чем пытаться оценить каждого отдельного человека – то есть отнести его к одной из двух групп, на которые с точки зрения нравственности делятся все люди: к расе людей порядочных или к расе нравственно испорченных.
Д. Элкинд. Теория личности Э. Эриксона[23]
Прошло почти десятилетие, прежде чем Эриксон систематизировал свои клинические наблюдения. Он выдвинул три новых положения, каждое из которых стало важным вкладом в изучение человеческого Я. Во-первых, Эриксон предположил, что наряду с описанными Фрейдом фазами психосексуального развития (оральной, анальной, фаллической и генитальной), в ходе которого меняется направленность влечения (от аутоэротизма к внешнему объекту), существуют и психологические стадии развития Я, в ходе которого индивид устанавливает основные ориентиры по отношению к себе и своей социальной среде. Во-вторых, Эриксон утверждал, что становление личности не заканчивается в подростковом возрасте, но растягивается на весь жизненный цикл. И наконец, Эриксон говорил, что каждой стадии присущи свои собственные параметры развития, способные принимать положительные и отрицательные значения.
Доверие и недоверие
Первая стадия развития человека соответствует оральной фазе классического психоанализа и обычно охватывает первый год жизни. В этот период, считает Эриксон, развивается параметр социального взаимодействия, положительным полюсом которого служит доверие, а отрицательным – недоверие. Степень доверия, которым ребенок проникается к окружающему миру, к другим людям и к самому себе, в значительной степени зависит от проявляемой к нему заботы. Младенец, который получает все, что хочет, потребности которого быстро удовлетворяются, который никогда долго не испытывает недомогания, которого баюкают и ласкают, с которым играют и разговаривают, чувствует, что мир, в общем, место уютное, а люди – существа отзывчивые и услужливые. Если же ребенок не получает должного ухода, не встречает любовной заботы, то в нем вырабатывается недоверие – боязливость и подозрительность по отношению к миру вообще, а к людям в частности, и недоверие это он несет с собой в другие стадии своего развития. Необходимо подчеркнуть, однако, что вопрос о том, какое начало одержит верх, не решается раз и навсегда в первый год жизни, но возникает заново на каждой последующей стадии развития. Это и несет надежду, и таит угрозу. Ребенок, который приходит в школу с чувством настороженности, может постепенно проникнуться доверием к какой-нибудь учительнице, не допускающей несправедливостей по отношению к детям. При этом он может преодолеть первоначальную недоверчивость. Но зато и ребенок, выработавший в младенчестве доверчивый подход к жизни, может проникнуться к ней недоверием на последующих стадиях развития, если, скажем, в случае развода родителей в семье создается обстановка, полная взаимных обвинений и скандалов.
Достижение равновесия
Самостоятельность и нерешительность. Вторая стадия охватывает второй и третий год жизни, совпадая с анальной фазой фрейдизма. В этот период, считает Эриксон, у ребенка развивается самостоятельность на основе развития его моторных и психических способностей. На этой стадии ребенок осваивает различные движения, учится не только ходить, но и лазать, открывать и закрывать, толкать и тянуть, держать, опускать и бросать. Малыши наслаждаются и гордятся своими новыми способностями и стремятся все делать сами: разворачивать леденцы, доставать витамины из пузырька, спускать в туалете воду и т. д. Если родители предоставляют ребенку делать то, на что он способен, а не торопят его, у ребенка вырабатывается ощущение, что он владеет своими мышцами, своими побуждениями, самим собой и в значительной мере своей средой, то есть у него появляется самостоятельность.
Но если воспитатели проявляют нетерпение и спешат сделать за ребенка то, на что он и сам способен, у него развивается стыдливость и нерешительность. Конечно, не бывает родителей, которые ни при каких условиях не торопят ребенка, но не так уж неустойчива детская психика, чтобы реагировать на редкие события. Только в том случае, если в стремлении оградить ребенка от усилий родители проявляют постоянное усердие, неразумно и неустанно браня его за «несчастные случаи», будь то мокрая постель, запачканные штанишки или пролитое молоко, у ребенка закрепляется чувство стыда перед другими людьми и неуверенность в своих способностях управлять собой и окружением.
Если из этой стадии ребенок выйдет с большей долей неуверенности, то это неблагоприятно отзовется в дальнейшем на самостоятельности и подростка, и взрослого человека. И наоборот, ребенок, вынесший из этой стадии гораздо больше самостоятельности, чем стыда и нерешительности, окажется хорошо подготовлен к развитию самостоятельности в дальнейшем. И опять-таки соотношение между самостоятельностью, с одной стороны, и стыдливостью и неуверенностью, с другой, установившееся на этой стадии, может быть изменено в ту или другую сторону последующими событиями.
Предприимчивость и чувство вины
Третья стадия обычно приходится на возраст от четырех до пяти лет. Дошкольник уже приобрел множество физических навыков, он умеет и на трехколесном велосипеде ездить, и бегать, и резать ножом, и камни швырять. Он начинает сам придумывать себе занятия, а не просто отвечать на действия других детей и подражать им. Изобретательность его проявляет себя и в речи, в способности фантазировать. Социальный параметр этой стадии, говорит Эриксон, развивается между предприимчивостью на одном полюсе и чувством вины на другом.
От того, как в этой стадии реагируют родители на затеи ребенка, во многом зависит, какое из этих качеств перевесит в его характере. Дети, которым предоставлена инициатива в выборе моторной деятельности, которые по своему желанию бегают, борются, возятся, катаются на велосипеде, на санках, на коньках, вырабатывают и закрепляют предприимчивость. Закрепляет ее и готовность родителей отвечать на вопросы ребенка (интеллектуальная предприимчивость) и не мешать ему фантазировать и затевать игры. Но если родители показывают ребенку, что его моторная деятельность вредна и нежелательна, что вопросы его назойливы, а игры бестолковы, он начинает чувствовать себя виноватым и уносит это чувство вины в дальнейшие стадии жизни.
Умелость и неполноценность
Четвертая стадия – возраст от шести до одиннадцати лет, годы начальной школы. Классический психоанализ называет их латентной фазой. В этот период любовь сына к матери и ревность к отцу (у девочек наоборот) еще находится в скрытом состоянии. В этот период у ребенка развивается способность к дедукции, к организованным играм и регламентированным занятиям. Только теперь, например, дети как следует учатся играть в камешки и другие игры, где надо соблюдать очередность. Эриксон говорит, что психосоциальный параметр этой стадии характеризуется умелостью, с одной стороны, и чувством неполноценности, с другой.
В этот период у ребенка обостряется интерес к тому, как вещи устроены, как их можно освоить, приспособить к чему-нибудь. Этому возрасту понятен и близок Робинзон Крузо; в особенности отвечает пробуждающемуся интересу ребенка к трудовым навыкам энтузиазм, с которым Робинзон описывает во всех подробностях свои занятия. Когда детей поощряют мастерить что угодно, строить шалаши и авиамодели, варить, готовить и рукодельничать, когда им разрешают довести начатое дело до конца, хвалят и награждают за результаты, тогда у ребенка вырабатывается умелость И способности к техническому творчеству. Напротив, родители, которые видят в трудовой деятельности детей одно «баловство» и «пачкотню», способствуют развитию у них чувства неполноценности.
В этом возрасте, однако, окружение ребенка уже не ограничивается домом. Наряду с семьей важную роль в его возрастных кризисах начинают играть и другие общественные институты. Здесь Эриксон снова расширяет рамки психоанализа, до сих пор учитывающего лишь влияние родителей на развитие ребенка. Пребывание ребенка в школе и отношение, которое он там встречает, оказывает большое влияние на уравновешенность его психики. Ребенок, не отличающийся сметливостью, в особенности может быть травмирован школой, даже если его усердие и поощряется дома. Он не так туп, чтобы попасть в школу для умственно отсталых детей, но он усваивает учебный материал медленнее, чем сверстники, и не может с ними соревноваться. Непрерывное отставание в классе несоразмерно развивает у него чувство неполноценности. Зато ребенок, склонность которого мастерить что-нибудь заглохла из-за вечных насмешек дома, может оживить ее в школе благодаря советам и помощи чуткого и опытного учителя. Таким образом, развитие этого параметра зависит не только от родителей, но и от отношения других взрослых.
Кризис подросткового возраста
Идентификация личности и путаница ролей
При переходе в следующую, 5-ю стадию (12–18 лет) ребенок сталкивается, как утверждает классический психоанализ, с пробуждением «любви и ревности» к родителям. Успешное решение этой проблемы зависит от того, найдет ли он предмет любви в собственном поколении. Эриксон не отрицает возникновения этой проблемы у подростков, но указывает, что существуют и другие. Подросток созревает физиологически и психически, и в добавление к новым ощущениям и желаниям, которые появляются в результате этого созревания, у него развиваются и новые взгляды на вещи, новый подход к жизни. Важное место в новых особенностях психики подростка занимает его интерес к мыслям других людей, к тому, что они сами о себе думают. Подростки могут создавать себе мысленный идеал семьи, религии, общества, по сравнению с которым весьма проигрывают далеко не совершенные и реально существующие семьи, религии и общества. Подросток способен вырабатывать или перенимать теории и мировоззрения, которые сулят примирить все противоречия и создать гармоничное целое. Короче говоря, подросток – это нетерпеливый идеалист, полагающий, что создать идеал на практике не труднее, чем вообразить его в теории.
Эриксон считает, что, возникающий в этот период параметр связи с окружающим колеблется между положительным полюсом идентификации Я и отрицательным полюсом путаницы ролей. Иначе говоря, перед подростком, обретшим способность к обобщениям, встает задача объединить все, что он знает о себе самом как о школьнике, сыне, спортсмене, друге, бойскауте, газетчике и так далее. Все эти роли он должен собрать в единое целое, осмыслить его, связать с прошлым и проецировать в будущее. Если молодой человек успешно справится с этой задачей психосоциальной идентификации, то у него появится ощущение того, кто он есть, где находится и куда идет.
В отличие от предыдущих стадий, где родители оказывали более или менее прямое воздействие на исход кризисов развития, влияние их теперь оказывается гораздо более косвенным. Если благодаря родителям подросток уже выработал доверие, самостоятельность, предприимчивость и умелость, то шансы его на идентификацию, то есть на опознание собственной индивидуальности, значительно увеличиваются. Обратное справедливо для подростка недоверчивого, стыдливого, неуверенного, исполненного чувства вины и сознания своей неполноценности. Поэтому подготовка к всесторонней психосоциальной идентификации в подростковом возрасте должна начинаться, по сути, с момента рождения.
Если из-за неудачного детства или тяжелого быта подросток не может решить задачу идентификации и определить свое Я, он начинает проявлять симптомы путаницы ролей и неуверенность в понимании того, кто он такой и к какой среде принадлежит. Такая путаница нередко наблюдается у малолетних преступников. Девочки, проявляющие в подростковом возрасте распущенность, очень часто обладают фрагментарным представлением о своей личности и свои беспорядочные половые связи не соотносят ни со своим интеллектуальным уровнем, ни с системой ценностей. В некоторых случаях молодежь стремится к негативной идентификации, то есть отождествляет свое Я с образом, противоположным тому, который хотели бы видеть родители и друзья. Но иногда лучше идентифицировать себя с «хиппи», «малолетним преступником», даже с «наркоманом», чем вообще не обрести своего Я.
Однако тот, кто в подростковом возрасте не приобретет ясного представления о своей личности, еще не обречен оставаться неприкаянным до конца жизни. А тот, кто опознал свое Я еще подростком, обязательно будет сталкиваться на жизненном пути с фактами, противоречащими или даже угрожающими сложившемуся у него представлению о себе. Пожалуй, Эриксон больше всех других психологов-теоретиков подчеркивает, что жизнь представляет собой непрерывную смену всех ее аспектов и что успешное решение проблем на одной стадии еще не гарантирует человека от возникновения новых проблей на других этапах жизни или появления новых решений для старых, уже решенных, казалось, проблем.
Конфликты среднего возраста
Близость и одиночество. Шестой стадией жизненного цикла является начало зрелости – иначе говоря, период ухаживания и ранние годы семейной жизни, то есть от конца юности до начала среднего возраста. Об этой стадии и следующей за ней классический психоанализ не говорит ничего нового или, во всяком случае, ничего важного. Но Эриксон, учитывая уже совершившееся на предыдущем этапе опознание Я и включение человека в трудовую деятельность, указывает на специфический для этой стадии параметр, который заключен между положительным полюсом близости и отрицательным – одиночества.
Под близостью Эриксон понимает не только физическую близость. В это понятие он включает способность заботиться о другом человеке и делиться с ним всем существенным без боязни потерять при этом себя. С близостью дело обстоит так же, как с идентификацией: успех или провал на этой стадии зависит не прямо от родителей, но лишь от того, насколько успешно человек прошел предыдущие стадии. Так же как в случае идентификации, социальные условия могут облегчать или затруднять достижение близости. Это понятие не обязательно связано с сексуальным влечением, но распространяется и на дружбу. Между однополчанами, сражавшимися бок о бок в тяжелых боях, очень часто образуются такие тесные связи, которые могут служить образчиком близости в самом широком смысле этого понятия. Но если ни в браке, ни в дружбе человек не достигает близости, тогда, по мнению Эриксона, уделом его становится одиночество – состояние человека, которому не с кем разделить свою жизнь и не о ком заботиться.
Общечеловечность и самопоглощенность
Седьмая стадия – зрелый возраст, то есть тот период, когда дети стали подростками, а родители прочно связали себя с определенным родом занятий. На этой стадии появляется новый параметр личности с общечеловечностью на одном конце шкалы и самопоглощенностью на другом.
Общечеловечностью Эриксон называет способность человека интересоваться судьбами людей за пределами семейного круга, задумываться над жизнью грядущих поколений, формами будущего общества и устройством будущего мира. Такой интерес к новым поколениям не обязательно связан с наличием собственных детей – он может существовать у каждого, кто активно заботится о молодежи и о том, чтобы в будущем людям легче жилось и работалось. Тот же, у кого это чувство сопричастности человечеству не выработалось, сосредоточивается на самом себе, и главной его заботой становится удовлетворение своих потребностей и собственный комфорт.
Цельность и безнадежность
На восьмую и последнюю стадию в классификации Эриксона приходится период, когда основная работа жизни закончилась, для человека наступает время размышлений и забав с внуками, если они есть. Психосоциальный параметр этого периода заключен между цельностью и безнадежностью. Ощущение цельности и осмысленности жизни возникает у того, кто, оглядываясь на прожитое, ощущает удовлетворение. Тот же, кому прожитая жизнь представляется цепью упущенных возможностей и досадных промахов, осознает, что начинать все сначала уже поздно и упущенного не вернуть. Такого человека охватывает отчаяние при мысли о том, как могла бы сложиться, но не сложилась его жизнь.
Новый вклад в психоанализ
Таковы основные стадии жизненного цикла в классификации Эриксона. Его подход вызывает далеко идущие изменения в традиционных взглядах психоанализа на формирование личности и эмоциональные кризисы у взрослых. Распространяя период формирования личности на весь жизненный цикл, Эриксон говорит, что каждому возрасту, в том числе среднему и пожилому, присущи свои эмоциональные кризисы. Это позволяет психологу видеть в эмоциональных проблемах взрослого человека не просто (и уже, во всяком случае, не только) неустранимые последствия разочарований и потрясений детства, но конфликты, типичные для зрелого возраста, может быть, поддающиеся лечению.
Л. Д. Росс, Т. М. Эймэбайл, Дж. Л. Стейнмец. Социальные роли, социальный контроль и искажения в процессах социального восприятия[24]
Примечание редактора. Предположим, что мы видим, как начальник властно отдает приказы подчиненным и во всеуслышание отчитывает кого-то из них за совершенную ошибку. Какие личностные качества мы, скорее всего, припишем этому человеку? По-видимому, мы решим, что начальник – человек властный, жесткий, холодный и невосприимчивый к чувствам других людей. Таким образом, мы были бы очень удивлены, если бы обнаружили, что тот же человек сердечен и нежен по отношению к членам своей семьи и друзьям, добровольно участвует в благотворительной деятельности и тому подобное. В описанной ситуации мы не сознавали, что поведение на работе является частью социальной роли начальника и вовсе не обязательно отражает внутренние черты личности. Человек может даже ощущать неловкость, публично распекая кого-либо, но будет делать это, потому что именно такого поведения ожидают от начальника. Несмотря на то что социальные роли могут оказывать огромное влияние на поведение людей, их власть не всегда признается внешними наблюдателями. В экспериментах, о которых сообщается в этой статье, Ли Д. Росс, Тереза М. Эймэбайл и Джулия Л. Стейнмец демонстрируют, как такое невнимание к влиянию социальных ролей может искажать суждения.
Межличностные взаимодействия дают важную информацию, необходимую для самооценки и социальных суждений. Однако часто наше поведение при таких взаимодействиях формируется социальными ролями, которые мы должны играть, и ограничивается их рамками. Как правило, роли по-разному влияют на стиль, содержание и длительность взаимодействия; такой социальный контроль, в свою очередь, обычно способствует проявлению знаний, умений, проницательности, ума и сенситивности, в то же время позволяя скрывать недостатки. Поэтому точные социальные оценки основаны на способности воспринимающего человека вносить адекватные поправки на преимущества и недостатки, связанные с социальной ролью другого лица при его самопрезентации.
В данной статье сообщается об исследованиях, результаты которых позволяют сделать следующий вывод: формируя суждения о людях, играющих определенные роли, воспринимающие их другие люди систематически не делают адекватных поправок на то, что социальные роли оказывают влияние на поведение. В конкретном демонстрационном эксперименте, о котором говорится в данной статье, исследовали частные роли «спрашивающего» и «отвечающего» и искаженное восприятие общей эрудиции при случайном распределении и выполнении этих ролей. Испытуемые участвовали в викторине, вопросы которой проверяли их общую эрудицию, причем одному человеку приписывалась роль задающего вопросы («ведущего»), а другому человеку – роль отвечающего, или «конкурсанта». «Ведущий» сначала составлял набор трудных вопросов для проверки общей эрудиции, а затем задавал их «конкурсанту»; после этого обоих участников (а затем, при последующем воспроизведении викторины, и двух наблюдателей) просили оценить общую эрудицию спрашивавшего и отвечавшего.
Следует подчеркнуть, что экспериментаторы никак не скрывали и не маскировали тот факт, что при демонстрации своей общей эрудиции участники викторины в зависимости от роли попадают либо в выгодное, либо в невыгодное положение. Позволялось и даже приветствовалось, чтобы «ведущие» демонстрировали широту своей общей эрудиции, задавая сложные вопросы, касавшиеся малоизвестных фактов, а их роль служила естественной гарантией того, что сами они знали ответы на вопросы викторины. Роль конкурсанта, наоборот, не допускала выборочной демонстрации собственных знаний и делала фактически неизбежной демонстрацию неосведомленности. Из-за случайного распределения и исполнения ролей участникам в некотором смысле приходилось иметь дело с нерепрезентативными и чрезвычайно тенденциозными выборками из совокупности познаний ведущего и конкурсанта.
Исходная гипотеза эксперимента заключалась в том, что как сами участники, так и наблюдатели, воспринимая викторину, сформируют относительно положительное впечатление об общей эрудиции ведущих и относительно отрицательное впечатление о познаниях конкурсантов. Подчеркнем еще раз: такой прогноз следует из предположения, что реципиенты викторины будут систематически недооценивать тот факт, что имеющаяся у участника возможность в выгодном для себя свете продемонстрировать свою общую эрудицию зависит от того, какую роль он играет – роль ведущего или роль конкурсанта – и/или они будут вносить неадекватные поправки на эту зависимость.
Эксперимент 1: Восприятие конкурсантов и ведущих
В первом эксперименте испытуемые исполняли случайным образом распределенные роли участников устной викторины, проверяющей их общую эрудицию, – роли ведущих и конкурсантов. В экспериментальной группе ведущие задавали вопросы, которые они составили сами; в контрольной группе они задавали вопросы, сформулированные предыдущим ведущим. По окончании тура викторины все испытуемые оценивали свою общую эрудицию и эрудицию своих партнеров. Затем они в письменной форме отвечали на вопросы второй викторины, составленной экспериментатором и также предназначенной для проверки общей эрудиции, после чего выставляли оценки снова.
Методика
Испытуемые и распределение ролей
В эксперименте приняли участие студенты Стэнфордского университета, посещавшие вводный курс психологии: 18 пар испытуемых-женщин и 18 пар испытуемых-мужчин. Когда испытуемые приходили в лабораторию, их встречал экспериментатор одного с ними пола, который объяснял, что данное исследование касается процессов, посредством которых «люди формируют впечатление об общей эрудиции». Затем экспериментатор знакомил испытуемых с порядком проведения викторины и объяснял, что один из испытуемых будет исполнять «роль конкурсанта», а другой – «роль ведущего». Участники понимали, что роли распределяются случайным и произвольным образом, так как каждый из них должен был вытянуть для себя карточку («ведущий» или «конкурсант»), которые были перетасованы и в перевернутом виде лежали на столе.
Роли ведущего и конкурсанта
Ведущий и конкурсант в каждом туре сидели за отдельными столами в одной и той же комнате. Каждый из них получал устную инструкцию экспериментатора и каждый слышал инструкцию, которую получал его партнер. Кроме устных инструкций участники получали также более подробные письменные описания их задач и ролей.
В экспериментальную группу входили по 12 пар испытуемых каждого пола. В этой группе ведущие получали инструкцию составить для конкурсантов десять трудных, но имеющих ответы вопросов. Их инструктировали избегать как простых (например, сколько дней в апреле), так и нечестных (например, как зовут брата ведущего) вопросов, и черпать вопросы из любой области знаний, которой они интересуются и в которой обладают познаниями (например, кино, книги, спорт, музыка, литература, психология, история, наука и т. д.). Ведущий получал инструкцию составить за 10–15 минут десять вопросов, на которые можно ответить одним-двумя словами, а при возникновении затруднения обратиться за помощью к экспериментатору. Чтобы помочь ведущему в выполнении его задачи, экспериментатор предлагал несколько примеров вопросов (например, «Как называется столица штата Нью-Мексико?») и некоторые возможные темы или формы вопросов (например, «Вы можете спросить о чем-нибудь, что вы прочитали в новостях, или о географии конкретного штата, или о чем-нибудь самом большом, самом высоком и т. д.»).
В течение того времени, пока ведущий составлял трудные вопросы викторины, конкурсант также занимался подготовкой вопросов. Однако задача конкурсанта заключалась в том, чтобы придумать простые вопросы, которые якобы не должны были использоваться в эксперименте и поэтому не могли дать ему в дальнейшем каких-либо преимуществ при самопрезентации. В инструкции участникам подчеркивалась разница между их задачами:
Ваша задача как конкурсанта – отвечать на вопросы, которые сейчас составляет ведущий. Однако мы бы хотели, чтобы вы пока что «размялись» перед викториной, придумав несколько собственных вопросов. Эти вопросы не будут использоваться во время эксперимента; они предназначены только для того, чтобы вы прониклись духом нашей работы. Ведущий получил указания составить 10 трудных вопросов такого типа, какие используются в телевизионных викторинах. От вас же мы хотим, чтобы вы придумали десять относительно простых вопросов – таких, на какие могли бы ответить 90 % старшеклассников.
В контрольной группе было по шесть пар испытуемых мужского и женского пола. В этой группе как ведущие, так и конкурсанты были проинформированы, что при проведении викторины ведущий будет задавать вопросы, заранее подготовленные другим человеком. В этом случае оба участника в течение 15 минут перед началом викторины подготавливали простые вопросы «на проверку общей эрудиции», то есть их подготовительная задача была идентична задаче конкурсантов (но не задаче ведущих) из экспериментальной группы. Опять-таки оба участника полностью осознавали смысл полученных ими заданий и задачи викторины.
После периода подготовки начиналась сама викторина: как описывалось ранее, ведущие из экспериментальной группы задавали свои собственные вопросы конкурсантам; в контрольной группе каждый ведущий задавал вопросы, подготовленные кем-либо другим. Следует подчеркнуть, что конкурсанты всегда знали, подготовлены ли вопросы их партнером-ведущим или другим человеком. Во время викторины ведущий сидел напротив конкурсанта и примерно 30 секунд ждал ответа на каждый вопрос, подтверждая правильные ответы или сообщая их, когда конкурсант не мог ответить или отвечал неправильно. Чтобы свести к минимуму демонстрацию общей эрудиции, не имеющей отношения к викторине, всем участникам были даны указания не говорить ничего, кроме вопросов и ответов, которых требовали назначенные им роли. На протяжении тура викторины экспериментатор записывал все ответы, которые давал конкурсант, и следил за правильным исполнением участниками своих ролей. После завершения тура экспериментатор вслух сообщал количество правильных ответов, данных конкурсантом.
Оценка зависимых переменных и заключительные процедуры
Непосредственно после окончания викторины участники оценивали свою общую эрудицию и эрудицию своих партнеров по нескольким шкалам в диапазоне от «значительно выше средней» до «значительно ниже средней». Кроме того, участники должны были оценить собственную общую эрудицию и эрудицию своих партнеров «по сравнению со средним стэнфордским студентом».
Сеанс эксперимента завершался подробным отчетом экспериментатора, в котором излагались исследовательские гипотезы и предположения об искажениях восприятия, а также содержалась просьба к участникам не обсуждать процедуру и цели эксперимента с потенциальными испытуемыми.
Результаты
Выступление конкурсантов
Викторина в первом эксперименте была спланирована таким образом, чтобы поставить ведущих в более выгодное по сравнению с конкурсантами положение при демонстрации своей общей эрудиции. Это означает, что в намерения экспериментаторов входило, чтобы конкурсанты не смогли ответить на большинство вопросов, заданных ведущими, и ожидался именно такой результат. Это условие, необходимое для проверки нашей исходной гипотезы, было выполнено: конкурсанты правильно отвечали в среднем только на четыре из десяти вопросов, заданных ведущими. Такой низкий уровень правильных ответов соответствовал уровню трудности многих из заданных вопросов (например, «Что означают инициалы У.X. в имени У. Х. Оден?» или «Какую протяженность имеет самый длинный в мире ледник?»).
Оценки общей эрудиции
Главными зависимыми переменными были оценки общей эрудиции, которые выставлялись сразу же после окончания тура викторины…
Сопоставление результатов эксперимента показывает, насколько подтвердилась главная экспериментальная гипотеза. В 18 из 24 пар испытуемых экспериментальной группы самооценка конкурсанта была ниже, чем самооценка ведущего, и только в четырех случаях имела место обратная ситуация. Аналогичным образом в 18 из 24 случаев (лишь с пятью исключениями) конкурсанты оценили эрудицию своих ведущих выше, чем ведущие оценили эрудицию своих конкурсантов.
Эти результаты можно объяснить с помощью сравнительного анализа самооценок испытуемых и оценок, которые они давали своим партнерам. Такой анализ показывает, что конкурсанты оценивали себя значительно ниже, чем своих ведущих, в то время как ведущие оценивали себя незначительно выше, чем своих конкурсантов. Более того, 20 конкурсантов оценили себя ниже, чем своего ведущего, и только 1 конкурсант оценил себя выше, чем ведущего; с другой стороны, 12 ведущих оценили себя выше и 9 ведущих оценили себя ниже, чем своих партнеров-конкурсантов. Эти данные почти не оставляют сомнений в том, что исполнение предложенных ролей исказило социальное восприятие именно конкурсантов, а не ведущих.
Результаты, полученные в контрольной группе, позволяют точнее оценить характер и масштабы этих искажений. Повторим, что ведущие из контрольной группы были лишены возможности продемонстрировать своим конкурсантам запасы своих знаний о малоизвестных фактах. Они могли лишь задавать вопросы, подготовленные другим человеком. Поэтому по сравнению с конкурсантами из экспериментальной группы конкурсанты из контрольной группы были менее склонны оценивать себя ниже, чем своих партнеров. Ведущие из контрольной группы, наоборот, выставляли себе и партнеру оценки, которые фактически не отличались от оценок, выставленных ведущими из экспериментальной группы.
Эксперимент 2: Восприятие наблюдателей
Во втором демонстрационном эксперименте наблюдателям были показаны точные инсценировки взаимодействий между ведущими и конкурсантами в первом эксперименте. Таким образом, второй эксперимент позволил сравнить относительно безличные и объективные оценки наблюдателей с оценками двух действующих лиц, которые сами участвовали в первом эксперименте. Экспериментальная гипотеза была аналогична гипотезе первого эксперимента. Прогнозировалось, что наблюдатели, как и сами действующие лица, будут вносить неадекватные поправки на то, что в зависимости от исполняемой роли участники викторины поставлены в выгодное или невыгодное положение; поэтому наблюдатели будут оценивать общую эрудицию конкурсантов ниже, чем общую эрудицию ведущих.
Методика
Участники и процедуры
Две помощницы экспериментатора инсценировали 12 туров первого эксперимента, в которых участвовали женские пары из экспериментальной группы. Каждую инсценировку показывали одному студенту и одной студентке, причем инсценировка каждого из подлинных туров повторялась дважды (что позволяло двум помощницам экспериментатора меняться ролями ведущего и конкурсанта). На роли наблюдателей для второго эксперимента были выбраны в общей сложности 48 испытуемых – 24 студента и 24 студентки, посещавших вводный курс психологии.
Эксперимент был поставлен таким образом, чтобы испытуемые верили, будто они видят не инсценировку, а подлинный тур викторины – будто они лично путем случайного распределения только что получили роли наблюдателей, будто две помощницы экспериментатора только что получили роли двух участников, будто викторина проводится на самом деле, а не является имитацией. Распределение ролей проводилось с помощью процедуры, которая, по крайней мере с точки зрения испытуемых, была аналогична процедуре из первого эксперимента. Все четыре участника наугад вытягивали по одной из четырех перемешанных и помещенных перед ними в перевернутом виде карточек. На всех карточках на самом деле было написано «Наблюдатель», но помощницы экспериментатора заявляли, что на их карточках написано «Ведущий» и «Конкурсант», как требовал план эксперимента.
Инсценировка протекала так же, как сеансы первого эксперимента. Согласно устной инструкции экспериментатора (которую слышали наблюдатели), помощница, играющая роль ведущего, притворялась, что составляет 10 вопросов для тура викторины, в то время как «конкурсантка» изображала, что она готовит набор простых вопросов. В течение периода подготовки вопросов испытуемые-наблюдатели тоже составляли простые вопросы так, как это делали конкурсанты в первом эксперименте. Вопросы ведущего викторины и ответы конкурсанта были идентичны вопросам и ответам, которые были записаны за испытуемыми в первом эксперименте. Во время тура викторины, согласно инструкции экспериментатора, испытуемые внимательно наблюдали за участниками и не разговаривали. После воспроизведения викторины наблюдатели оценивали общую эрудицию конкурсанта и ведущего. Инструкция экспериментатора и описание цели эксперимента практически ничем не отличались от первого эксперимента.
Результаты
Впечатления наблюдателей об участниках викторины свидетельствовали о том же искажении, которое с такой очевидностью присутствовало в собственном восприятии участников. В целом ведущие производили впечатление чрезвычайно эрудированных людей; конкурсанты воспринимались лишь как чуть менее эрудированные, чем средний стэнфордский студент…
Эти результаты также служат подтверждением и объяснением закономерностей, обнаруженных в первом эксперименте: в некотором смысле наблюдатели были вынуждены разделить точку зрения конкурсантов. Как и конкурсанты, наблюдатели почти во всех случаях обнаруживали, что они не могут ответить на трудные вопросы, которые задавали ведущие. Наблюдатели, как и конкурсанты, не смогли осознать, что ведущие не обладали никаким превосходством в общей эрудиции – они просто пользовались возможностью выбирать определенные темы и конкретные вопросы, которые позволяли им продемонстрировать себя в наиболее благоприятном свете.
Обсуждение результатов
Ошибка атрибуции и тенденциозность выборки
Два эксперимента, о которых сообщается в этой статье, ясно показывают, что при социальном восприятии люди иногда не умеют вносить адекватные поправки на связанные с ролями преимущества при самопрезентации, которые предоставлены ведущим, но не предоставлены конкурсантам. Такое неумение продемонстрировали конкурсанты и наблюдатели, но не ведущие. Когда роль ведущего сохраняла свое название, но теряла преимущества при самопрезентации (то есть в контрольной группе), искажения в суждениях исчезали.
Для интерпретации демонстрационных экспериментов, описанных в данной статье, можно воспользоваться следующей концепцией: при социальном восприятии человек действует как «интуитивный психолог» – он должен делать вывод из социальной информации, которую он отбирает, хранит в памяти, извлекает и анализирует (Ross, 1977). Оценки общей эрудиции были сделаны на основе данных, полученных при проведении викторины. На самом же деле очевидно, что искаженные суждения об участниках игры были основаны на совершенно нерепрезентативной, тенденциозной выборке данных, из-за которой ведущие систематически попадали в более благоприятное положение. Рассмотрим вопросы викторины, подготовленные ведущими. Это, несомненно, была самая тенденциозная выборка из их познаний, какую только можно вообразить; ведь вопрос задавался конкурсанту (и был инсценирован перед наблюдателями) только в том случае, если ведущий сам знал ответ и в то же время предполагал, что конкурсант, скорее всего, его не знает. Данные результаты свидетельствуют о том, что эта чрезвычайно тенденциозная выборка из познаний ведущего тем не менее рассматривалась конкурсантом, а в дальнейшем и наблюдателями, как вполне репрезентативная. В оценках, очевидно, отсутствовали адекватные поправки на тот факт, что если бы участники поменялись ролями, то конкурсанты могли бы с такой же легкостью подготовить вопросы, которые поставили бы в тупик ведущих и позволили бы в самом выгодном свете представить их собственные знания.
Суждения о ведущих
Как конкурсанты, так и наблюдатели могли воспользоваться лишь одной выборкой из познаний ведущего – той благоприятной для него выборкой, состоявшей из 10 трудных вопросов, которые он подготовил для викторины. Конкурсанты и наблюдатели знали, конечно, что эта выборка не была случайной; ведь они точно знали, как она была получена и почему она тенденциозна. Несмотря на это, они систематически оценивали ведущих как высоко эрудированных людей.
В отличие от конкурсантов и наблюдателей ведущие не были вынуждены формировать свои суждения только на основе выборки из 10 элементов, которая была в распоряжении конкурсантов и наблюдателей. Ведущие при оценке собственной эрудиции могли опираться на весь свой жизненный опыт и сравнивать себя с другими людьми; более того, они знали, что в их познаниях существуют большие пробелы, которые они обошли при поиске оптимальных тем и специфических вопросов. Поэтому тот факт, что ведущие не оценивали себя выше среднего из своих сверстников, является подтверждением наших выводов.
Суждения о конкурсантах
Выборка из познаний конкурсантов, полученная в результате викторины, не была сколько-нибудь тенденциозной или нерепрезентативной. Это была достаточно случайная выборка, характеризующая способность отвечать на сравнительно трудные и касавшиеся малоизвестных фактов вопросы, требующие общей эрудиции. Ведущие и наблюдатели в основном оценивали общую эрудицию конкурсантов как «среднюю», что вполне соответствовало нашим прогнозам. Интересно отметить, что после участия в викторине конкурсанты несколько занижали оценку своих знаний. Возможно, что это происходило не из-за их искаженного самовосприятия, а скорее из-за той базы для сравнения («средний стэнфордский старшекурсник»), которая использовалась при оценке. Яркий и конкретный опыт участия конкурсантов в викторине мог стать источником завышенной оценки эрудиции популяции, представителем которой был их партнер.
Социальные роли и социальное восприятие
Очевидно, что эффект, продемонстрированный в этих двух экспериментах, сказывается и на ролевых взаимодействиях во внелабораторных условиях. Действительно, между специфическими отношениями находящихся в выгодном положении ведущих и поставленных в невыгодное положение конкурсантов можно привести очевидную параллель применительно к академической среде. Преподаватели постоянно пользуются прерогативами ведущих, а студенты, как правило, попадают в затруднительное положение конкурсантов (хотя некоторые студенты всячески стремятся поменяться ролями с преподавателями). В качестве особенно яркого примера рассмотрим ролевые взаимодействия, характерные для типичного устного экзамена на ученую степень. Кандидат должен без подготовки отвечать на вопросы, относящиеся к своеобразным, а иногда и малоизвестным областям интересов и познаний каждого из экзаменаторов. В отличие от экзаменатора у кандидата сравнительно мало времени на размышления, и у него почти нет возможности определить или ограничить области, которых касаются вопросы. В свете продемонстрированных результатов можно ожидать, что типичный кандидат после испытания ощущает скорее облегчение, чем гордость, в то время как его экзаменаторы уходят с экзамена с чувством возросшего уважения другу к другу и к глубине и широте своих познаний. Такие оценки, конечно, часто могут быть вполне оправданными. Тем не менее, иногда в них могут отсутствовать поправки на выгоды или невыгоды положения, в котором находится человек при самопрезентации. Если изменить процедуру устного экзамена так, чтобы кандидат сначала задавал вопросы своим экзаменаторам, а затем исправлял ошибки в их ответах и указывал на упущения, то, возможно, кандидаты уходили бы с экзамена, окрыленные успехом. При такой процедуре у экзаменаторов могло бы сложиться лучшее впечатление о кандидате и не столь хорошее впечатление друг о друге.
В описанных экспериментах демонстрировались взаимодействия между людьми, задающими вопросы и отвечающими на эти вопросы, но существует множество других контекстов, в которых социальные роли оказывают влияние на межличностные взаимодействия, а следовательно, и на социальные суждения. Основа для ролевой дифференциации поведения при взаимодействии может быть формальной, как при взаимодействиях между начальником и подчиненными, или неформальной, как при взаимодействиях между доминирующим индивидом и индивидом молчаливым и сдержанным. Однако, что бы ни лежало в ее основе, в результате такой ролевой дифференциации участники взаимодействия получают неодинаковый контроль над ситуацией и неравные возможности представить себя в выгодном свете. Например, начальник может рассказывать о своих успехах, любимых занятиях и вещах, в которых он отлично разбирается, не рискуя, что его перебьют, в то время как подчиненный лишен такой возможности. Аналогичным образом, если один из друзей занимает доминирующее положение, то он может выбрать поприще для самопрезентации – например, поэзия или игра в покер – и, скорее всего, сделает этот выбор в свою пользу. Опять-таки, мы не утверждаем, что участники или наблюдатели взаимодействия никогда не обращают внимания на неравенство имеющихся у участников возможностей представить себя в выгодном свете. Скорее мы утверждаем, что в социальных суждениях тех, кто поставлен в невыгодное положение, и в суждениях наблюдателей будут обнаруживаться неадекватные скидки или поправки на это неравенство.
Следует воздержаться от преждевременных обобщений и выводов, основанных на описанных специфических демонстрационных экспериментах. Но если дальнейшие исследования покажут, что внесение неадекватных поправок на преимущества при самопрезентации, которые дает роль или должность, является общей тенденцией для наблюдателей и участников социальных взаимодействий, находящихся в невыгодном положении, то выводы совершенно ясны. Индивиды, которые за счет своего происхождения, политической поддержки или даже собственных усилий занимают положение, дающее им власть, пользуются также и преимуществами при самопрезентации. Наблюдатели таких социальных взаимодействий и их участники, находящиеся в невыгодном положении (если данные результаты репрезентативны, то сказанное не относится к тем, кто находится в выгодном положении), склонны недооценивать то, до какой степени видимые положительные качества обладающих властью людей являются простым отражением преимуществ, которые дает социальный контроль. На самом деле такое искажение социальных суждений может незаметно и коварно препятствовать социальной мобильности, поскольку те, кто находится в невыгодном положении и не обладает властью, переоценивают способности обладающих властью, которые, в свою очередь, необоснованно полагают, что члены их касты хорошо подходят для выполнения своих лидерских задач.
Л. Фестингер. Введение в теорию Диссонанса[25]
Равно замечено, что любой человек стремится к со хранению достигнутой им внутренней гармонии. Его взгляды и установки имеют свойство объединяться в систему, характеризующуюся согласованностью входящих в нее элементов. Конечно, нетрудно найти исключения из этого правила. Так, некий человек может полагать, что чернокожие американцы ничем не хуже белых сограждан, однако этот же человек предпочел бы, чтобы они не жили с ним в ближайшем соседстве. Или другой пример: некто может считать, что дети должны вести себя тихо и скромно, однако он же испытывает явную гордость, когда его любимое чадо энергично привлекает внимание взрослых гостей. Подобные факты несоответствия между убеждениями и актуальным поведением (а оно порой может принимать достаточно драматичные формы) представляют научный интерес главным образом потому, что они резко контрастируют с распространенным мнением о тенденции к внутренней согласованности между когнитивными элементами. Тем не менее – и это достаточно твердо установленный самыми разными исследованиями факт – связанные между собой установки человека стремятся именно к согласованности.
Существует согласованность также между тем, что человек знает и чему он верит, и тем, что он делает.
Например, человек, убежденный в том, что университетское образование – это образец наиболее качественного образования, будет всячески побуждать своих детей поступать в университет. Ребенок, который знает, что вслед за проступком неминуемо последует наказание, будет стараться не совершать его или, по крайней мере, попытается скрыть содеянное. Все это настолько очевидно, что мы принимаем примеры такого поведения как должное. Наше внимание, прежде всего, привлекают различного рода исключения из последовательного в целом поведения. Человек может сознавать вред курения для своего здоровья, но продолжать курить; многие люди совершают преступления, полностью отдавая себе отчет в том, что вероятность наказания за эти преступления весьма высока.
Принимая стремление индивида к внутренней согласованности как данность, что же можно сказать о подобного рода исключениях? Очень редко случаи несогласованности признаются самим субъектом как противоречия в его системе знаний. Гораздо чаще индивид предпринимает более или менее успешные попытки каким-либо образом рационализировать подобное противоречие. Так, человек, который продолжает курить, зная, что это вредно для его здоровья, может рационализировать свое поведение несколькими способами. Он может считать, что удовольствие, которое получает от курения, слишком велико, чтобы его лишиться, или что изменения здоровья курильщика не столь фатальны, как утверждают врачи, ибо он все еще жив и здоров. И наконец, если он бросит курить, то может прибавить в весе, а это тоже плохо для здоровья. Таким образом, привычку к курению он вполне успешно согласует со своими убеждениями. Однако люди не всегда столь успешны в попытках рационализации своего поведения; по той или иной причине попытки обеспечить согласованность могут быть неудачными. Здесь-то и возникает противоречие в системе знаний, что неизбежно ведет к появлению психологического дискомфорта.
Итак, мы подошли к тому, чтобы сформулировать основные положения теории. Однако, прежде чем сделать это, я хотел бы уточнить некоторые термины. Прежде всего, давайте заменим слово несоответствие термином меньшей логической коннотации, а именно: термином диссонанс.
Аналогичным образом вместо слова соответствие я буду употреблять более нейтральный термин консонанс. Формальное определение этих понятий будет дано ниже.
Итак, основные гипотезы я хочу сформулировать следующим образом.
1. Возникновение диссонанса, порождающего психологический дискомфорт, будет мотивировать индивида к попытке уменьшить степень диссонанса и по возможности достичь консонанса.
2. В случае возникновения диссонанса, помимо стремления к его уменьшению, индивид будет активно избегать ситуаций и информации, которые могут вести к его возрастанию.
Прежде чем перейти к подробному анализу теории диссонанса, необходимо разъяснить природу диссонанса как психологического феномена, характер концепции, с ним связанной, а также возможности ее применения и развития. Сформулированные выше основные гипотезы являются хорошей отправной точкой для этого. Их трактовка имеет предельно общее значение, поэтому термин диссонанс можно свободно заменить на иное понятие сходного характера, например, на голод, фрустрацию или неравновесие. При этом сами гипотезы будут полностью сохранять свой смысл.
Я предполагаю, что диссонанс, то есть существование противоречивых отношений между отдельными элементами в системе знаний, сам по себе является мотивирующим фактором. Когнитивный диссонанс может пониматься как условие, приводящее к действиям, направленным на его уменьшение (например, голод вызывает активность, направленную на его утоление). Это – совершенно иной вид мотивации, чем тот, с которым привыкли иметь дело психологи. Но, как мы увидим далее, это чрезвычайно сильный побудительный фактор.
Под термином знание я буду понимать любое мнение или убеждение индивида относительно окружающего мира, самого себя, своего собственного поведения.
Возникновение и устойчивость диссонанса
Когда и почему возникает диссонанс? Почему люди совершают поступки, которые не соответствуют их мыслям, которые противоречат убеждениям, входящим в их систему ценностей? Ответ на этот вопрос может быть найден при анализе двух наиболее типичных ситуаций, в которых возникает хотя бы сиюминутный диссонанс со знанием, мнением или представлением человека относительно собственного поведения.
Во-первых, это ситуации, когда человек становится очевидцем непредсказуемых событий или когда ему становится известна какая-либо новая информация.
Например, некий субъект планирует поездку на пикник в полной уверенности, что погода будет теплой и солнечной. Однако перед самым его выездом может начаться дождь. Так, знание о том, что идет дождь, будет противоречить его планам съездить за город.
Или другой пример. Представьте себе, что человек, совершенно уверенный в неэффективности автоматической коробки передач, случайно наталкивается на статью с убедительным описанием ее преимуществ. И снова в системе знаний индивида пусть на короткое мгновение, но возникнет диссонанс.
Даже в отсутствие новых, непредвиденных событий или информации диссонанс, несомненно, является феноменом каждодневным. Очень мало на свете вещей полностью черных или полностью белых. Очень мало в жизни ситуаций настолько очевидных, чтобы мнения о них не были бы до некоторой степени смесью противоречий. Так, некий американский фермер-республиканец может быть не согласен с позицией его партии по поводу цен на сельскохозяйственную продукцию. Человек, покупающий новый автомобиль, может отдать предпочтение экономичности одной модели и в то же время с вожделением смотреть на дизайн другой. Предприниматель, желающий выгодно вложить свободные денежные средства, хорошо знает, что результат его капиталовложения зависит от экономических условий, находящихся вне пределов его личного контроля. В любой ситуации, которая требует от человека сформулировать свое мнение или сделать какой-либо выбор, неизбежно создается диссонанс между осознанием предпринимаемого действия и теми известными субъекту мнениями, которые свидетельствуют в пользу иного варианта развития событий. Спектр ситуаций, в которых диссонанс является почти неизбежным, довольно широк, но наша задача состоит в том, чтобы исследовать обстоятельства, при которых диссонанс, однажды возникнув, сохраняется какое-то время, то есть ответить на вопрос, при каких условиях диссонанс перестает быть мимолетным явлением. Для этого рассмотрим различные возможные способы, с помощью которых диссонанс может быть уменьшен. А в качестве примера используем случай с заядлым курильщиком, который однажды столкнулся с информацией о вреде курения.
Возможно, он прочитал об этом в газете или журнале, услышал от друзей или от врача. Это новое знание будет, конечно, противоречить тому факту, что он продолжает курить. Если гипотеза о стремлении уменьшить диссонанс верна, то каким в этом случае будет поведение нашего воображаемого курильщика?
Во-первых, он может изменить свое поведение, то есть бросить курить, и тогда его представление о своем новом поведении будет согласовано со знанием того, что курение вредно для здоровья.
Во-вторых, он может попытаться изменить свое знание относительно эффектов курения, что звучит достаточно странно, но зато хорошо отражает суть происходящего. Он может просто перестать признавать то, что курение наносит ему вред, или же он может попытаться найти информацию, свидетельствующую о некоей пользе курения, тем самым уменьшая значимость информации о его негативных последствиях. Если этот индивид сумеет изменить свою систему знаний каким-либо из этих способов, он может уменьшить или даже полностью устранить диссонанс между тем, что он делает, и тем, что он знает.
Достаточно очевидно, что курильщик из приведенного выше примера может столкнуться с трудностями в попытке изменить свое поведение либо свое знание. И именно это является причиной того, что диссонанс, однажды возникнув, может достаточно долго сохраняться. Нет никаких гарантий того, что человек будет в состоянии уменьшить или устранить возникший диссонанс. Гипотетический курильщик может обнаружить, что процесс отказа от курения слишком болезнен для него, чтобы он мог это выдержать. Он может попытаться найти конкретные факты или мнения других людей о том, что курение не приносит такого уж большого вреда, однако эти поиски могут закончиться и неудачей. Тем самым этот индивид окажется в таком положении, когда он будет продолжать курить, вместе с тем хорошо сознавая, что курение вредно. Если же подобная ситуация вызывает у индивида дискомфорт, то его усилия, направленные на уменьшение существующего диссонанса, не прекратятся.
Определение понятий: диссонанс и консонанс
Оставшаяся часть этой главы будет посвящена более формальному представлению теории диссонанса. Я буду стараться формулировать положение этой теории в максимально точных и однозначных терминах. Но так как идеи, которые лежат в основе этой теории, до сих пор еще далеки от окончательного определения, некоторые неясности будут неизбежны.
Термины диссонанс и консонанс определяют тот тип отношений, которые существуют между парами «элементов». Следовательно, прежде чем мы определим характер этих отношений, необходимо точно определить сами элементы.
Эти элементы относятся к тому, что индивид знает относительно самого себя, относительно своего поведения и относительно своего окружения. Эти элементы, следовательно, являются знаниями. Некоторые из них относятся к знанию самого себя: что данный индивид делает, что он чувствует, каковы его потребности и желания, что он вообще представляет собой и т. п. Другие элементы знания касаются мира, в котором он живет: что доставляет данному индивиду удовольствие, а что – страдания, что является несущественным, а что – важным и т. д.
Термин знание использовался до сих пор в очень широком смысле и включал в себя явления, обычно не связываемые со значением этого слова, – например, мнения. Человек формирует какое-либо мнение только в том случае, если полагает, что оно истинно и, таким образом, чисто психологически не отличается от «знания» как такового. То же самое можно сказать относительно убеждений, ценностей или установок, которые служат достижению определенных целей. Это ни в коем случае не означает, что между этими разнородными терминами и явлениями нет никаких важных различий. Некоторые из таких различий будут приведены ниже. Но для целей формального определения все эти явления – суть «элементы знания», и между парами этих элементов могут существовать отношения консонанса и диссонанса.
Другими словами, элементы знания соответствуют по большей части тому, что человек фактически делает или чувствует, и тому, что реально существует в его окружении. В случае мнений, убеждений и ценностей реальность может состоять в том, что думают или делают другие; в иных случаях действительным может быть то, с чем человек сталкивается на опыте, или то, что другие сообщают ему.
Нерелевантные отношения
Два элемента могут просто не иметь ничего общего между собой. Иными словами, при таких обстоятельствах, когда один когнитивный элемент нигде не пересекается с другим элементом, эти два элемента являются нейтральными, или нерелевантными, по отношению друг к другу.
В центре нашего внимания будут находиться только те пары элементов, между которыми возникают отношения консонанса или диссонанса.
Релевантные отношения: диссонанс и консонанс
Два элемента являются диссонантными по отношению друг к другу, если по той или иной причине они не соответствуют один другому.
Сейчас мы можем перейти к тому, чтобы сделать попытку более формального концептуального определения.
Давайте рассмотрим два элемента, которые существуют в знании человека и релевантны по отношению друг к другу. Теория диссонанса игнорирует существование всех других когнитивных элементов, которые являются релевантными к любому из двух анализируемых элементов, и рассматривает только эти два элемента отдельно. Два элемента, взятые по отдельности, находятся в диссонантном отношении, если отрицание одного элемента следует из другого. Можно сказать, что Х и Y находятся в диссонантном отношении, если не Х следует из Y. Так, например, если человек знает, что в его окружении находятся только друзья, но, тем не менее, испытывает опасения или неуверенность, это означает, что между этими двумя когнитивными элементами существует диссонантное отношение. Или другой пример: человек, имея крупные долги, приобретает новый автомобиль; в этом случае соответствующие когнитивные элементы будут диссонантными по отношению друг к другу. Диссонанс может существовать вследствие приобретенного опыта или ожиданий, либо по причине того, что считается приличествующим или принятым, либо по любой из множества других причин.
Побуждения и желания также могут быть факторами, определяющими, являются ли два элемента диссонантными или нет. Например, человек, играя на деньги в карты, может продолжать играть и проигрывать, зная, что его партнеры являются профессиональными игроками. Это последнее знание было бы диссонантным с осознанием его собственного поведения, а именно того, что он продолжает играть. Но для того чтобы в данном примере определить эти элементы как диссонантные, необходимо принять с достаточной степенью вероятности, что данный индивид стремится выиграть. Если же по некоей странной причине этот человек хочет проиграть, то это отношение было бы консонантным.
Приведу ряд примеров, где диссонанс между двумя когнитивными элементами возникает по разным причинам.
1. Диссонанс может возникнуть по причине логической несовместимости. Если индивид полагает, что в ближайшем будущем человек высадится на Марс, но при этом считает, что люди до сих пор не в состоянии сделать космический корабль, пригодный для этой цели, то эти два знания являются диссонантными по отношению друг к другу. Отрицание содержания одного элемента следует из содержания другого элемента на основании элементарной логики.
2. Диссонанс может возникнуть по причине культурных обычаев. Если человек на официальном банкете берет рукой ножку цыпленка, знание того, что он делает, является диссонантным по отношению к знанию, определяющему правила формального этикета во время официального банкета. Диссонанс возникает по той простой причине, что именно данная культура определяет, что прилично, а что нет. В другой культуре эти два элемента могут и не быть диссонантными.
3. Диссонанс может возникать тогда, когда одно конкретное мнение входит в состав более общего мнения. Так, если человек – демократ, но на данных президентских выборах голосует за республиканского кандидата, когнитивные элементы, соответствующие этим двум наборам мнений, являются диссонантными по отношению друг к другу, потому что фраза «быть демократом» включает в себя, по определению, необходимость поддержания кандидатов демократической партии.
4. Диссонанс может возникать на основе прошлого опыта. Если человек попадает под дождь и, однако, надеется остаться сухим (не имея при себе зонта), то эти два знания будут диссонантными по отношению друг к другу, поскольку он знает из прошлого опыта, что нельзя остаться сухим, стоя под дождем. Если бы можно было представить себе человека, который никогда не попадал под дождь, то указанные знания не были бы диссонантными.
Этих примеров достаточно для того, чтобы проиллюстрировать, как концептуальное определение диссонанса может использоваться эмпирически, чтобы решить, являются ли два когнитивных элемента диссонантными или консонантными. Конечно, ясно, что в любой из этих ситуаций могут существовать другие элементы знания, которые могут быть в консонантном отношении с любым из двух элементов в рассматриваемой паре. Тем не менее, отношение между двумя элементами является диссонантным, если, игнорируя все остальные элементы, один из элементов пары ведет к отрицанию значения другого.
Степень диссонанса
Один очевидный фактор, определяющий степень диссонанса, – это характеристики тех элементов, между которыми возникает диссонантное отношение. Если два элемента являются диссонантными по отношению друг к другу, то степень диссонанса будет прямо пропорциональна важности данных когнитивных элементов. Чем более значимы элементы для индивида, тем больше будет степень диссонантного отношения между ними. Так, например, если человек дает десять центов нищему, хотя и видит, что этот нищий вряд ли по-настоящему нуждается в деньгах, диссонанс, возникающий между этими двумя элементами, довольно слаб. Ни один из этих двух когнитивных элементов не является достаточно важным для данного индивида. Намного больший диссонанс возникает, например, если студент не стремится подготовиться к очень важному экзамену, хоть и знает, что уровень его знаний является, несомненно, неадекватным для успешной сдачи экзамена. В этом случае элементы, которые являются диссонантными по отношению друг к другу, гораздо более важны для данного индивида, и, соответственно, степень диссонанса будет значительно большей.
Достаточно уверенно можно предположить, что в жизни очень редко можно встретить какую-либо систему когнитивных элементов, в которой диссонанс полностью отсутствует. Почти для любого действия, которое человек мог бы предпринять, или любого чувства, которое он мог бы испытывать, почти наверняка найдется по крайней мере один когнитивный элемент, находящийся в диссонантном отношении с этим «поведенческим» элементом.
Даже совершенно тривиальные знания, как, например, осознание необходимости воскресной прогулки, весьма вероятно, будут иметь некоторые элементы, диссонирующие с этим знанием. Человек, вышедший на прогулку, может сознавать, что дома его ждут какие-либо неотложные дела, или, например, во время прогулки он замечает, что собирается дождь, и так далее. Короче говоря, существует так много других когнитивных элементов, релевантных по отношению к любому данному элементу, что наличие некоторой степени диссонанса – самое обычное дело.
Давайте рассмотрим теперь ситуацию самого общего рода, в которой может возникнуть диссонанс или консонанс. Принимая на время в рабочих целях то, что все элементы, релевантные по отношению к рассматриваемому когнитивному элементу, одинаково важны, мы можем сформулировать общую гипотезу. Степень диссонанса между данным конкретным элементом и всеми остальными элементами когнитивной системы индивида будет прямо зависеть от количества тех релевантных элементов, которые являются диссонантными по отношению к рассматриваемому элементу. Таким образом, если подавляющее большинство релевантных элементов являются консонантными по отношению к, скажем, поведенческому элементу когнитивной системы, то степень диссонанса с этим поведенческим элементом будет небольшой. Если же доля элементов, консонантных по отношению к данному поведенческому элементу, будет гораздо меньшей, нежели доля элементов, находящихся в диссонантном отношении с данным элементом, то степень диссонанса будет значительно выше. Конечно, степень общего диссонанса будет также зависеть от важности или ценности тех релевантных элементов, которые имеют консонантные или диссонантные отношения с рассматриваемым элементом.
Уменьшение диссонанса
Существование диссонанса порождает стремление к тому, чтобы уменьшить, а если это возможно, то и полностью устранить диссонанс. Интенсивность этого стремления зависит от степени диссонанса. Другими словами, диссонанс действует ровно таким же образом, как мотив, потребность или напряженность. Наличие диссонанса приводит к действиям, направленным на его уменьшение, точно так же, как, например, чувство голода ведет к действиям, направленным на то, чтобы устранить его. Чем больше степень диссонанса, тем больше будет интенсивность действия, направленного на уменьшение диссонанса, и тем сильнее будет выражена склонность к избеганию любых ситуаций, которые могли бы увеличить степень диссонанса.
Чтобы конкретизировать наши рассуждения относительно того, каким образом может проявиться стремление к уменьшению диссонанса, необходимо проанализировать возможные способы, с помощью которых возникший диссонанс можно уменьшить или устранить. В общем смысле, если диссонанс возникает между двумя элементами, то этот диссонанс может быть устранен посредством изменения одного из этих элементов. Существенным является то, каким образом эти изменения могли бы быть осуществлены. Существует множество возможных способов, с помощью которых этого можно достичь, что зависит от типа когнитивных элементов, вовлеченных в данное отношение, и от общего когнитивного содержания данной ситуации.
Изменение поведенческих когнитивных элементов
Когда диссонанс возникает между когнитивным элементом, относящимся к знанию относительно окружающей среды, и поведенческим когнитивным элементом, то он может быть устранен только посредством изменения поведенческого элемента таким образом, чтобы он стал консонантным с элементом среды. Самый простой и легкий способ добиться этого состоит в том, чтобы изменить действие или чувство, которое этот поведенческий элемент представляет. Принимая, что знание является отражением реальности, полагаем, что если поведение индивида изменяется, то когнитивный элемент (или элементы), соответствующий этому поведению, меняется аналогичным образом. Этот способ уменьшения или устранения диссонанса является очень распространенным. Наши поведение и чувства часто изменяются в соответствии с полученной новой информацией. Если человек выехал за город на пикник и заметил, что начинается дождь, он вполне может просто вернуться домой. Существует достаточно много людей, бесповоротно отказавшихся от табака, как только они узнали, что это очень вредно для здоровья.
Однако далеко не всегда бывает возможным устранить диссонанс или даже существенно его уменьшить, только изменяя соответствующее действие или чувство. Трудности, связанные с изменением поведения, могут быть слишком велики, либо же, например, само это изменение, совершенное с целью устранения некоего диссонанса, может, в свою очередь, породить целое множество новых противоречий. Эти вопросы ниже будут рассмотрены более подробно.
Изменение когнитивных элементов окружающей среды
Точно так же, как можно изменить поведенческие когнитивные элементы, изменяя поведение, которое они отражают, иногда возможно изменить когнитивные элементы среды посредством изменения соответствующей им ситуации. Конечно, этот процесс является более трудным, чем изменение поведения, по той простой причине, что для этого нужно иметь достаточную степень контроля над окружающей средой, что встречается достаточно редко.
Изменить среду с целью уменьшения диссонанса гораздо проще в том случае, когда диссонанс связан с социальным окружением, чем тогда, когда он связан с физической средой.
Если изменяется когнитивный элемент, а некая реалия, которую он представляет в сознании индивида, остается неизменной, то должны использоваться средства игнорирования или противодействия реальной ситуации.
Например, человек может изменить свое мнение о неком политическом деятеле, даже если его поведение и политическая ситуация остаются неизменными. Обычно для того, чтобы это могло произойти, человеку бывает достаточно найти людей, которые согласятся с ним и будут поддерживать его новое мнение. Вообще, для формирования представления о социальной реальности необходимы одобрение и поддержка со стороны других людей. Это один из основных способов, с помощью которого знание может быть изменено. Легко заметить, что в случаях, когда бывает необходима подобная социальная поддержка, наличие диссонанса и, как следствие, стремление изменить когнитивный элемент приводят к различным социальным процессам.
Добавление новых когнитивных элементов
Итак, мы установили, что для полного устранения диссонанса необходимо изменение определенных когнитивных элементов. Понятно, что это не всегда возможно. Но даже если полностью устранить диссонанс нельзя, всегда можно его уменьшить, добавляя новые когнитивные элементы в систему знаний индивида.
Например, если существует диссонанс между когнитивными элементами, касающимися вреда курения и отказа бросить курить, то общий диссонанс можно уменьшить добавлением новых когнитивных элементов, согласующихся с фактом курения. Тогда при наличии подобного диссонанса от человека можно ожидать активного поиска новой информации, которая могла бы уменьшить общий диссонанс. При этом он будет избегать той информации, которая могла бы увеличить существующий диссонанс. Легко догадаться, что данный индивид получит удовлетворение от чтения любого материала, ставящего под сомнение вред курения. В то же время он критично воспримет любую информацию, подтверждающую негативное воздействие никотина на организм.
Сопротивление уменьшению диссонанса
Если бы никакие когнитивные элементы системы знаний индивида не оказывали сопротивления изменению, то не было бы и оснований для возникновения диссонанса. Мог бы возникнуть кратковременный диссонанс, но если когнитивные элементы данной системы не сопротивляются изменениям, то диссонанс будет немедленно устранен. Рассмотрим главные источники сопротивления уменьшению диссонанса.
Пределы увеличения диссонанса
Максимальный диссонанс, который может существовать между любыми двумя элементами, определяется величиной сопротивления изменению наименее стойкого элемента. Как только степень диссонанса достигнет своего максимального значения, наименее стойкий когнитивный элемент изменится, тем самым устраняя диссонанс.
Это не означает, что степень диссонанса часто будет приближаться к этому максимально возможному значению. Когда возникает сильный диссонанс, степень которого меньше, чем величина сопротивления изменениям, свойственного любому из его элементов, уменьшение этого диссонанса для общей когнитивной системы вполне может быть достигнуто за счет добавления новых когнитивных элементов. Таким образом, даже в случае наличия очень сильного сопротивления изменениям общий диссонанс в системе может сохраняться на довольно низком уровне.
Рассмотрим в качестве примера человека, который истратил значительную сумму денег на приобретение нового дорогого автомобиля. Представим себе, что после совершения этой покупки он обнаруживает, что двигатель автомобиля работает плохо и что его ремонт обойдется очень дорого. Более того, оказывается, что эксплуатация этой модели гораздо дороже, чем эксплуатация других автомобилей, и вдобавок ко всему его друзья утверждают, что автомобиль просто безвкусен, если не сказать уродлив. Если степень диссонанса станет достаточно большой, то есть соотносимой с величиной сопротивления изменению наименее стойкого элемента (который в данной ситуации, скорее всего, будет элементом поведенческим), то этот индивид может в конце концов продать автомобиль, несмотря на все неудобства и финансовые потери, связанные с этим.
Теперь давайте рассмотрим противоположную ситуацию, когда степень диссонанса для индивида, купившего новый автомобиль, была достаточно большой, но все-таки меньше, чем максимально возможный диссонанс (то есть меньше величины сопротивления изменению, свойственного наименее стойкому к изменениям когнитивному элементу). Ни один из существующих когнитивных элементов, следовательно, не изменился бы, но этот индивид мог бы сохранять степень общего диссонанса достаточно низкой посредством добавления новых знаний, являющихся консонантными с фактом владения новым автомобилем. Этот индивид мог бы прийти к заключению, что мощность и ходовые характеристики автомобиля более важны, нежели его экономичность и дизайн. Он начинает ездить быстрее, чем обычно, и совершенно убеждается в том, что способность развивать высокую скорость является самой важной характеристикой автомобиля. С помощью подобных знаний этот индивид вполне мог бы преуспеть в поддерживании диссонанса на незначительном уровне.
Заключение
1. Основная суть теории диссонанса, которую мы описали, довольно проста и в краткой форме состоит в следующем:
2. Могут существовать диссонансные отношения, или отношения несоответствия между когнитивными элементами.
3. Возникновение диссонанса вызывает стремление к тому, чтобы его уменьшить и попытаться избежать его дальнейшего увеличения.
4. Проявления подобного стремления состоят в изменении поведения, изменении отношения или в намеренном поиске новой информации и новых мнений относительно породившего диссонанс суждения или объекта.
Примечания
1
Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. М., 1988. С. 7—19.
(обратно)2
Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. М., 1988. С. 65–67; 72–77; 87–93.
(обратно)3
Фрейд З. Психоанализ и русская мысль. М.: Республика, 1994. С. 29–34.
(обратно)4
Леонтьев АН. Проблемы развития психики. М.: Мысль, 1965. С. 151–182. Печатается с сокращениями.
(обратно)5
Бергсон А. Две памяти: узнавание образов. Память и мозг // Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. М., 1979. С. 61–75.
(обратно)6
Узнадзе Д. Н. Психология установки. СПб., 2001. С. 248, 289–292.
(обратно)7
Рибо Т. Творческое воображение. СПб., 1901. С. 132–140.
(обратно)8
Лурия А. Р. Маленькая книжка о большой памяти // Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. М., 1979. С. 193–207.
(обратно)9
Гальперин П. Я. К вопросу о внутренней речи // Доклады АПН РСФСР. 1957. № 4.
(обратно)10
Дункер К. Структура и динамика процессов решения задач (о процессах решения практических проблем) // Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. В. Петухова. М., 1981. С. 258–268.
(обратно)11
Линдсей Г., Халл К. С., Томпсон Р. Ф. Творческое и критическое мышление // Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. В. Петухова. М., 1981. С. 149–152.
(обратно)12
Жане П. Шоковые эмоции // Хрестоматия по психологии. Психология мотивации и эмоций / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, М. Ф. Фаикман. М., 2002. С. 165–171.
(обратно)13
Изард И. Эмоции человека. СПб., 2000. С. 42–45.
(обратно)14
Роджерс К. Эмпатия // Хрестоматия по психологии. Психология мотивации и эмоций. М.: МПСИ, 2002. С. 428–430.
(обратно)15
Хорни К. Собр. соч.: В 3 т. М.: Смысл, 1997. Т. 2. С. 174–180.
(обратно)16
Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. Т. 1. М.: Педагогика, 1986. С. 33–48.
(обратно)17
Олпорт Г. Психология личности: проблема науки или искусства? Психология личности. Тексты / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея. М.: Изд-во МГУ, 1988. С. 228–236.
(обратно)18
Небылицын В. Д. Темперамент // Психология индивидуальных различий. Тексты / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. М.: Изд-во МГУ, 1982. С. 153–159.
(обратно)19
Левитов Д. Н. Проблема характера в современной психологии // Психология индивидуальных различий. Тексты / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. М.: Изд-во МГУ, 1981. С. 111–114.
(обратно)20
Теплов Б. М. Способности и одаренность // Психология индивидуальных различий. Тексты / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. М.: Изд-во МГУ, 1981. С. 9—20.
(обратно)21
Климов Е. А. Индивидуальный стиль деятельности // Психология индивидуальных различий. Тексты / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. М.: Изд-во МГУ, 1981. С. 74–77.
(обратно)22
Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник: Пер. с англ. и нем. / Общ. ред. Л. Я. Гозмана и Д. А. Леонтьева. М.: Прогресс, 1990. С. 197–200.
(обратно)23
Элкинд Д. Эрик Эриксон и восемь стадий человеческой жизни // Д. Я. Райгородский. Психология личности. Самара: Бахрах, 1999. С. 297–304.
(обратно)24
Росс Л. Д., Эймэбайл Т., Стейнмец Дж. Л. Социальные роли, социальный контроль и искажения в процессах социального восприятия // Практикум по социальной психологии / Э. Пайнс, К. Маслач. СПб., 2000. С. 197–119.
(обратно)25
Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса. СПб.: Ювента, 1999. С. 15–52.
(обратно)




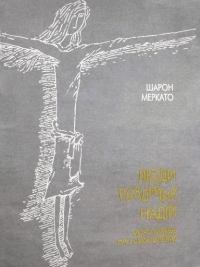




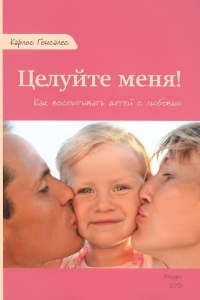

Комментарии к книге «Общая психология», Татьяна Александровна Сергеева
Всего 0 комментариев