Карл-Густав Юнг
О ПСИХОЛОГИИ
ВОСТОЧНЫХ РЕЛИГИЙ И ФИЛОСОФИЙ
Составитель В. Бакусев
М.: "МЕДИУМ", 1994
От составителя
К ПСИХОЛОГИИ ВОСТОЧНОЙ МЕДИТАЦИИ ЙОГА И ЗАПАД ОБ ИНДИЙСКОМ СВЯТОМ КОММЕНТАРИЙ К "БАРДО ТХОДОЛ" КОММЕНТАРИЙ К "ТИБЕТСКОЙ КНИГЕ ВЕЛИКОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ" КОММЕНТАРИЙ К "ТАЙНЕ ЗОЛОТОГО ЦВЕТКА" ПРЕДИСЛОВИЕ К "И ЦЗИН"
Приложение к HTML-версии: К.-Г.Юнг. СЕМЬ НАСТАВЛЕНИЙ МЕРТВЫМ
Ссылки и примечания
От составителя
Представленные в настоящем сборнике работы почти исчерпывают перечень произведений, темами которых К. Г. Юнг избрал Восток, а точнее, психологический опыт, заключенный в религиях, философских системах и самоощущении восточного человека вообще. Иными словами, Юнга в этих работах интересуют основы психологической культуры Востока, классическим выражением которой он считает сакральные тексты буддизма, даосизма и т.д. (Под Востоком Юнг понимает Индию, Тибет и Китай – ислам, похоже, для него не существует, хотя, возможно, это отношение было осмысленным.)
Заметно, что преобладающим в "востоковедческих" работах Юнга является типологический подход, и с этим связана специфика общей позиции ученого: он пытается не столько выяснить саму по себе сущность психологии Востока, сколько установить, как, чем и почему эта психология отличается от европейской, а в чем можно усмотреть их сходство. Это, в свою очередь, необходимо, по Юнгу, для того, чтобы наиболее точно найти возможное собственное место западной "культуры духа". Последовательно проводя эту линию, он вовлекает свое изложение, а вместе и читателя, в полемику по разнообразным вопросам и частного, и общего характера.
Второй особенностью публикуемых текстов является то, что очень часто они представляют собой, с точки зрения мотива их написания, не "монографические", а сопроводительные работы – введения, предисловия, комментарии. Чтобы разъяснить собственную позицию, Юнг вынужден по необходимости сжато воспроизвести в них основные моменты своего учения, разъяснить некоторые понятия и термины, которыми он пользуется при анализе материала. Ведь по замыслу автора эти работы адресованы не узкому кругу профессионалов, а, наоборот, как можно более широкому кругу читателей – с целью вызвать крупномасштабный терапевтический эффект (Юнг – очевидно, по праву – был убежден в том, что западная культура давно сошла с естественного пути психического развития, в то время как Восток еще не окончательно сбился с этого пути).
Наконец, следует обратить внимание читателя на осторожность, с какой Юнг (в том числе как практикующий психиатр) подходил к теме контакта Восток – Запад. Видимо, недалеко от истины предположение о том, что изучение восточной психической культуры, по Юнгу, – не столько самоцель, сколько повод для того, чтобы разобраться в процессах, происходящих в коллективной психологии людей на Западе, и таким образом, возможно, вновь найти забытый "западный путь". В этом отношении "восточный цикл" Юнга имеет много общего с его "алхимическим циклом". Поэтому можно сказать, что эти работы в подлинном смысле адресованы душе западного человека, а не просто западному человеку как возможному читателю: они написаны специально в его интересах.
Все тексты, входящие в настоящий сборник, переведены с немецкого языка по изданию: С. G. Jung. Gesammelte Werke. Walter-Verlag. Olten und Freiburg im Breisgau ("Комментарий к "Тайне Золотого Цветка"" – XIII том этого собрания сочинений, остальные работы – XI том). В первой сноске к каждой работе читатель найдет сведения о годе создания и первом издании этой работы... Сноски под звездочками составлены переводчиками и почти всегда являются переводами иноязычных элементов юнговского текста (если они не переведены уже в самом тексте).
Перевод работ "К психологии восточной медитации" и "Йога и Запад" принадлежит А.М. Руткевичу, остальные переводы – В.М. Бакусеву.
К ПСИХОЛОГИИ ВОСТОЧНОЙ МЕДИТАЦИИ [1]
В книге "Форма искусства и йога" [2] моего безвременно умершего друга Генриха Циммера уже рассматривалась глубокая связь между индийской иератической литературой и йогой.
Всякому, кто посетил Боробудур или видел ступы в Бхархуте или Санчи, трудно избавиться от впечатления, что здесь поработала чуждая европейцу установка сознания, иное видение – если он не пришел к этой мысли еще раньше под воздействием тысячи других впечатлений от индийской жизни. В бесчисленных гранях бьющего через край богатства индийской духовности отображается видение души, которое поначалу кажется чуждым и недоступным для получившего греческую выучку рассудка европейцев. Наш ум воспринимает вещи, наш глаз, как говорит Готтфрид Келлер, "пьет то, что удержали ресницы от златой полноты мира". Мы делаем выводы относительно внутреннего мира на основании полноты внешних впечатлений. Мы даже выводим содержание внутреннего из внешнего согласно принципу: "нет ничего в рассудке, чего ранее не было в чувствах". В Индии этот принцип, кажется, не работает. Индийские мышление и образность лишь явлены в чувственном мире, но не выводятся из него. Несмотря на часто поразительную чувственность этих образов, по своей подлинной сущности они нечувственны, если не сказать сверхчувственны. Это не чувственный мир тел, цветов и звуков, не человеческие страсти, возрождаемые творческой силой индийской души в преображенной форме или с реалистическим пафосом. Скорее, это мир метафизической природы, лежащей ниже или выше земного, и из него прорываются в знакомую нам земную картину странные образы. Если внимательно приглядеться к производящим необычайное впечатление воплощения богов, представленных танцорами Катхакали с юга Индии, то мы не видим ни одного естественного жеста. Все тут странно, недо- или сверх-человечно. Они не ходят по-людски, но скользят, они думают не головой, но руками. Даже их человеческие лица исчезают за голубой эмалью масок. Знакомый нам мир не предлагает ничего хоть сколько-нибудь сравнимого с этим гротескным великолепием. Такого рода зрелище как бы переносит нас в мир сновидений – единственное место встречи с хоть чем-то похожим. Но танцы Катхакали или храмовые скульптуры никоим образом не ночные фантомы – это динамически напряженные фигуры, законообразные и органичные до мельчайших деталей. Это не пустые схемы и не отпечатки какой-то реальности; скорее, это еще не бывшие, потенциальные реальности, которые в любое мгновение готовы переступить порог бытия.
Тот, кто всем сердцем предается этим впечатлениям, скоро замечает, что индийцам эти образы кажутся не сном, а реальностью в полном смысле слова. Они и в нас затрагивают нечто безымянное своей почти ужасающей жизненностью. И чем глубже они захватывают, тем заметнее сновидческий характер нашего чувственного мира – мы пробуждаемся от снов нашей самой непосредственной действительности и вступаем в мир богов.
Сначала европеец замечает в Индии во всем явленную телесность. Но не эту Индию видит сам индиец, не такова его действительность. Действительность – это то, что действует. Для нас действенно то, что связано с миром явлений, для индийца действительна душа. Мир для него – видимость, его реальность близка тому, что мы называем сновидением.
Это странное противоречие между Востоком и Западом находит свое выражение прежде всего в религиозной политике. Мы говорим о религиозном поучении или подъеме. Бог для нас – Господь Вселенной, у нас есть религия любви к ближнему, в наших вознесшихся ввысь церквах возвышаются алтари. Индиец же говорит о дхьяне, медитации и погружении, божество пребывает внутри всех вещей и прежде всего человека. От внешнего здесь движутся к внутреннему; в старых индийских храмах алтари опущены на два-три метра ниже уровня земли; то, что мы стыдливо скрываем, то для индийца священный символ. Мы верим в деяние, индиец – в неподвижное бытие. Наша религиозная практика заключается в молитве, почитании, превознесении; главнейшим упражнением индийца является йога, погружение в состояние, которое мы назвали бы бессознательным, но которое сам он полагает состоянием наивысшего сознания. С одной стороны, йога есть самое выразительное проявление индийского духа, с другой стороны, она выступает как тот самый инструмент, с помощью которого и достигается это состояние.
Что же такое йога? Слово буквально означает "обуздание", а именно дисциплинирование душевных влечений, обозначаемых на санскрите как клеши. Обуздание имеет своей целью овладение теми силами, которые привязывают человека к миру. На языке Св. Августина клеши соответствовали бы superbia и concupiscentia. Имеются многообразные формы йоги, но все они преследуют одну и ту же цель. Я не стану все их рассматривать, но лишь упомяну, что помимо чисто психических упражнений имеется и хатха-йога, представляющая собой своего рода гимнастику (в основном это дыхательные упражнения и позы). В своем докладе я берусь лишь за описание одного йогического текста, дающего глубокое представление о психических процессах йоги. Это сравнительно малоизвестный буддистский текст на китайском языке, являющийся, однако, переводом с оригинала на санскрите, датируемом 424 г.н.э. Он называется "Амитаюрдхьянасутра", в переводе – "Трактат по медитации об Амитабхе". [3] Эта сутра, особо ценимая в Японии, принадлежит к так называемому теистическому буддизму, в котором содержится учение об Адибудде или Махабудде, изначальном Будде, воплощающемся затем в пяти Дхьянибуддах или Бодхисаттвах. Одним из них является Амитабха – "Будда заходящего солнца несравненного света", властитель Сукхавати, земли блаженства. Он является протектором нашего нынешнего мирового цикла, а Шакьямуни, исторический Будда, является его учителем. В культе Амитабхи можно обнаружить своего рода тайную вечерю с освящением хлеба. Его изображают держащим в руке сосуд с дающей жизнь пищей бессмертия или со святой водой.
Текст начинается с вводного рассказа, к содержанию которого мы в дальнейшем практически не будем возвращаться. Принц-наследник пытается лишить жизни своих родителей, и королева призывает Будду, чтобы тот послал ей на помощь двух своих учеников – Маудгальяяну и Ананду. Будда исполняет желание, оба они являются, а одновременно перед ее глазами предстает и Шакьямуни, сам Будда. Он показывает ей в видении все десять миров, чтобы она могла выбрать тот, в каком хотела бы вновь родиться. Она выбирает западное царство Амитабхи. Тогда Будда обучает ее йоге, которая позволит ей родиться вновь в этом царстве. После различных моральных предписаний он делится с ней следующим:
Ты и все прочие существа должны, сосредоточив всю свою мысль, стремиться к единственной своей цели, к восприятию западною царства. Ты спрашиваешь, как образуется такое восприятие. Теперь я расскажу тебе об этом. Все существа, если только они не слепы от рождения, равным образом наделены зрением и все они видят заходящее солнце. Ты должна правильно сесть, смотря на Запад, и подготовить свою мысль к медитации о Солнце. Пусть ум твой сосредоточится на нем, когда оно садится и выглядит как подвешенный барабан. После того, как ты увидела Солнце таким, пусть этот образ останется ясным и фиксированным, открыты твои глаза или закрыты. Таково восприятие Солнца и такова первая медитация.
Как мы уже видели, заходящее солнце – это аллегория приносящего бессмертие Амитабхи. Дальнейший текст таков:
Затем ты должна создать восприятие воды; смотри на ясную и чистую воду и пусть этот образ также остается чистым и неизменным. Не позволяй твоим мыслям отвлекать тебя и теряться.
Как было сказано выше, Амитабха является также подателем воды бессмертия.
После того, как ты увидела воду, ты должна создать восприятие льда. Когда ты увидишь лед сверкающим и прозрачным, то вообрази появление камня лазурита. Когда это сделано, ты увидишь основание из лазурита, прозрачное и сияющее и внутри, и снаружи. Под ним ты увидишь золотой стяг с семью алмазами, бриллиантами и другими драгоценными камнями, поддерживающими основание. Этот флаг растянут по восьми направлениям компаса, и все восемь углов совершеннейшим образом полны. Каждая из восьми сторон состоит из тысячи алмазов, у каждого алмаза тысяча лучей, а у каждого луча 84000 цветов, которые, отражаясь на основании лазурита, выглядят как 1000 миллионов Солнц и трудно разглядеть их по отдельности. На поверхности лазоревого основания протянуты золотые канаты, они крестообразно сплетаются; нити с семью алмазами делят их на части, и каждая из них ясна и отчетлива...
Когда это восприятие образовалось, ты должна медитировать над каждой составной частью по одиночке, и картины должны быть по возможности ясными, чтобы они никогда не распускались и не терялись, открыты ли твои глаза, закрыты ли. Все время, пока ты не спишь, ты всегда должна держать их в уме. Тем, кто достиг этой стадии восприятия, говорится, что он в тумане увидел Землю Высшего Блаженства (Сукхавати). Тот, кто достиг самадхи, видит землю Будды ясно и отчетливо; это состояние полностью не объяснишь. Таково восприятие зелий и такова Третья Медитация.
Самадхи – это "удаленность", то есть состояние, при котором все связи с миром поглощаются. Самадхи есть восьмая ступень восьмеричного пути. Затем следует медитация об Алмазном Древе земли Амитабхи, а за нею следует медитация о воде:
Эта вода находится в восьми озерах. Вода в каждом озере состоит из семи алмазов, которые мягки и податливы. Источником воды является король алмазов, исполняющий всякое желание Chintamani (Чинтамани, "жемчужина желаний"). Посреди каждою озера находятся 60 миллионов цветков лотоса, каждый из них состоит из семи алмазов. Все цветы имеют форму совершенного круга и в точности равны друг другу. Текущая между цветками вода издает мелодичные и приятные звуки, слагающиеся в превознесение всех совершеннейших добродетелей – "страдание", "не-существование", "изменчивость" и "отсутствие Я". Они выражают также похвалу знакам совершенства, а также меньшим знакам отличия всех Будд. От короля алмазов (Chintamani) текут окрашенные золотом лучи необычайной красоты. Их сияние преображается в птиц, цвета коих имеют оттенки ста алмазов. Они поют песнь гармонии, сладостно и восхитительно прославляя память Будды, а равно и память о законе и память о церкви. Таково восприятие воды восьми добрых свойств и такова Пятая Медитация.
В медитации о самом Амитабхе Будда так наставляет королеву: "Образуй восприятие цветка лотоса на основании из семи алмазов". У цветка 84000 листков, у каждого из них 84000 прожилок, а каждая из них имеет 84000 лучей – "и каждый из них может быть ясно увиден".
Затем ты должна воспринять самого Будду. Ты спрашиваешь: как? Всякий Будда Татхагата есть тот, чье духовное тело является принципом природы (Dharmаdhatu-kaya) (Дхармадхату-кайя, где "дхату" – начало), так что он может войти в сознание любого существа. Затем, когда ты восприняла Будду, тогда твое сознание действительно владеет 32 знаками совершенства и 80 меньшими знаками отличия, которые ты воспринимаешь от Будды. Наконец, твое сознание станет Буддой, лучше сказать, твое сознание -это и есть Будда. Океан истинном и всеобщего знания всех Будд имеет своим истоком сознание и мысль каждого. Поэтому ты должна с безраздельным вниманием предаваться медитации о том Будде Татхагате, Архате, который свят и совершеннейшим образом просветлен. Формируя восприятие этого Будды, ты должна сначала воспринять его образ, открыты твои глаза или закрыты. Смотри на него, как на золото Джамбупади (сок дерева Джамбу) [4]
Он сидит на цветке. Когда ты увидишь эту фигуру сидящего, твой духовный взор прояснится и ты сможешь ясно и отчетливо видеть красоту земли Будды. Пусть все видимое тобою будет столь же тебе ясно, как собственные ладони...
Когда ты испытаешь это, то увидишь одновременно всех Будд десяти миров. О практиковавших эту медитацию говорят, что они созерцали тела всех Будд. Медитация о теле Будды позволит увидеть и его ум. Великим состраданием именуют ум Будды. Всеобъемлющим страданием улавливает он все существа. Практиковавшие эту медитацию после смерти возродятся в другой жизни перед ликом Будды, и обретут дух отречения, с которым встретят все последствия этого. Поэтому наделенные мудростью должны направить свои мысли на тщательную медитацию о Будде Амитайю.
О тех, кто практикует эту медитацию, говорится, что они живут уже не в эмбриональном состоянии, но получают свободный доступ в великие и чудесные земли Будд.
Когда ты достигла этого восприятия, ты должна вообразить себя саму, как ты рождаешься в западном мире высшего счастья, как ты сидишь там, скрестив ноги на цветке лотоса. Затем представь, как этот цветок вместе с тобой закрывается, а потом вновь раскрывается. Когда же он вновь открылся, твое тело осветится 500 лучами множества красок, а глаза твои открыты, дабы видеть Будд и Боддхисаттв, заполняющих все небо. Ты услышишь шум вод и деревьев, песнь птиц и голоса многих Будд.
Будда говорит затем Ананде и Вайдейи (королеве):
Желающие посредством чистоты своей мысли возродиться в западной земле, должны сначала медитировать над образом Будды, высотою в 16 локтей, сидящего на цветке лотоса в водах озера. Как было сказано раньше, действительное его тело и размеры безграничны и невообразимы для обычного ума. Но действенностью древних молитв о Татхагате думающие о нем наверняка сумеют достичь своей цели.
Текст продолжается:
Когда Будда завершил эту речь, королева Вайдейи и 500 ее спутниц, направляемые словами Будды, смогли узреть отблеск уходящего вдаль мира высшего блаженства, сумели увидеть тела Будд и обоих Боддхисаттв. Преисполненная радости, она восславила их и сказала: "Никогда не видела я такого чуда". И тут же она просветилась и достигла духа отречения, готовая принять, что бы ни произошло. 500 ее спутниц также возрадовались мысли о достижении совершенного познания и пожелали возродиться в той земле Будды. Всем миром почитаемый предсказал, что все они вновь родятся в той земле, и достигнут самадхи (сверхъестественного покоя) перед ликом многих Будд.
В отступлении о судьбе непросветленных Будда так подводит итог размышлениям о йогических упражнениях:
Но тому, кто охвачен болями, не будет времени помыслить о Будде. Добрый друг скажет ему тогда: "Даже если ты не можешь упражняться в памяти о Будде, то можешь, по крайней мере, произнести имя: "Будда Амитаюс" Пусть делает это спокойно непрерывающимся голосом; пусть думает о Будде непрерывно, пока десять раз не завершится его мысль, повторяя: "Намо (А)митаюсхе Буддхайя" (Слава Будде Амитаюсу). Силою этой заслуги – произнесения имени Будды – с каждым повторением будут искореняться его грехи, в которые был он вовлечен рождениями и смертями на протяжении 80 миллионов Кальп. Умирая, он увидит золотой цветок лотоса, подобный диску солнца, и в единый миг возродится в Сукхавати, мире высшею блаженства.
Нас интересует в данном случае преимущественно содержание йогических упражнений. Текст подразделяется на 16 медитаций, из которых я выбрал лишь несколько мест. Их, впрочем, достаточно для того, чтобы дать представление о возрастании по ступеням медитаций, ведущих к самадхи, высшему восхищению и просветлению.
Упражнения начинаются с концентрации на заходящем солнце. В южных широтах интенсивность лучей заходящего солнца столь велика, что достаточно краткого их созерцания, чтобы создался интенсивный отпечаток. Даже с закрытыми глазами какое-то время видишь солнце. Как известно, один из гипнотических методов заключается в фиксации на блестящем объекте, например, бриллианте или кристалле. Можно предположить, что фиксация на солнце производит сходный гипнотический эффект. Правда, этот эффект не должен быть усыпляющим, поскольку с фиксацией должна быть связана "медитация" о солнце. Медитация – это размышление о солнце, его "прояснение", реализация его образа, его свойств и значений. Поскольку круглая форма в последующих разделах играет столь значительную роль, то можно предположить, что солнечный диск должен служить образцом для последующих фантастических образований круглой формы. Диск должен подготавливать и интенсивный свет последующих лучистых видений. Так происходит, как говорится в тексте, "образование восприятии".
Следующая медитация (о воде) уже не опирается на какое-то чувственное впечатление, но с помощью активного воображения создает образ играющих водных поверхностей, которые, как это известно по опыту, совершенным образом отражают солнечный свет. Теперь можно представить, что вода превращается в "Светящийся и прозрачный" лед. С помощью этой процедуры нематериальный свет солнечного образа трансформируется в материю вод, а они, наконец, обретают плотность льда. Очевидной целью является конкретизация и овеществление видения, а тем самым создания фантазии обретают материальность, которая замещает физическую природу известного нам мира. Иная действительность созидается, так сказать, из вещества души. Лед, обладающий от природы голубоватым цветом, преобразуется теперь в лазурит, в крепкую камневидную субстанцию, "светящееся и прозрачное" основание. Появляется неизменный, абсолютно реальный фундамент. Это голубое прозрачное основание подобно стеклянному озеру, сквозь прозрачные слои которого взгляд свободно проникает в глубины. Там проступает "золотой стяг", как он называется в тексте. Стоит заметить, что слово "Дхвайя" на санскрите имеет значение не только флага, но и более общее значение – "знака" и "символа". В равной степени можно было бы говорить о появлении в глубинах "символов". Очевидно, что символ, протянутый "по восьми направлениям компаса", представляет собой систему из восьми лучей. Как говорится в тексте, он "совершеннейшим образом заполняет восемь углов фундамента". Система сияет как "тысяча миллионов солнц". Сияющий отпечаток солнца обрел теперь огромную энергию лучей и безмерную силу света. Странные образы "золотых канатов", которые как сеть охватывают всю систему, предположительно означают взаимосвязанность и закрепленность системы. Она уже не может распасться. К сожалению, в тексте ничего не говорится о возможных осечках при употреблении этого метода, о распадении системы в результате ошибки. Подобные помехи в процессе воображения не являются чем-то неожиданным для знакомых с ними; они случаются часто. Не удивительно поэтому, что в этом йогическом видении предусмотрены золотые канаты для закрепления образа.
Хотя в тексте об этом прямо не сказано, система восьми лучей уже представляет собой землю Амитабхи. Там растут чудесные деревья, как это должно быть в раю. Особая важность придается водам страны Амитабхи. В соответствии с октогональной системой, они распределены по восьми озерам. Источником этих вод является центральный драгоценный камень, Чинтамани, "жемчужина желаний", символ "труднодостижимого сокровища" [5] и высшей ценности. В китайском искусстве это лунный образ, часто связуемый с драконом. [6]
Чудесные "звуки" вод составляют две пары оппозиций, выражающих основные догматические истины буддизма: "страдание" и "не-существование", "изменчивость" и "не-Я". Они означают, что всякое бытиё полно страдании, а все привязанное к "Я" – преходяще. От всех заблуждений освобождает учение о не-бытии и не-Я-бытии. Мелодичная вода, некоторым образом, есть учение Будды вообще – освобождающая вода мудрости, "aqua doctrinae", если воспользоваться выражением Оригена. Источником этих вод, несравненной жемчужиной, является Татхагата, сам Будда. Затем отсюда проистекает воображаемая реконструкция образа Будды: вместе с его возвышением в медитирующей психике йогина появляется понимание того, что Будда есть никто иной, как сам медитирующий. Из "собственных сознания и помыслов" проистекает не только образ Будды, но также душа, созидающая эти мысленные образы – она и есть сам Будда.
Образ Будды помещен сидящим на круглый лотос, в центр восьмиугольной земли Амитабхи. Будда отличается великим состраданием, коим он "улавливает все существа", включая и медитирующего, то есть самую внутреннюю сущность Будды, которая проступает и выявляется в видении как самость медитирующего. Он испытывает себя как единственно сущего, как высшее сознание, каковым и является Будда. Для достижения этой последней цели и был нужен весь этот трудный путь духовных упражнений по реконструкции, чтобы освободиться от искажающего сознания Я, несущего на себе полную страданий иллюзию мира, чтобы достичь иного полюса души, при достижении которого мир снимается как иллюзия.
Наш текст не является музейной древностью: в подобных и во многих других формах все это живо в душе индийцев. Пронизывающая их души до мельчайших деталей мысль – такая жизнь кажется совершенно чуждой европейцам. Эта душа была сформирована и воспитана не буддизмом, а йогой. Сам буддизм есть порождение духа йоги, которая много старше и универсальнее исторической Реформации, осуществленной Буддой. С этим духом так или иначе должен сдружиться всякий, кто стремится понять изнутри индийские искусство, философию и этику. Наше привычное понимание, основанное на наружном, внешнем здесь отказывает, оно безнадежно расходится с сутью индийского духа. Но в особенности мне хотелось бы предостеречь от попыток подражания восточным практикам (ныне столь частых). Как правило, из этого ничего не выходит, кроме искусственного отступления нашего западного рассудка. Конечно, кто готов во всем отказаться от Европы и действительно сделаться только йогином, со всеми вытекающими этическими и практическими последствиями, кто готов сидеть на шкуре газели под деревом баньяна и проводить свои дни в безмятежном не-бытии – за таким человеком я готов признать, что он понял йогу на индийский манер. Но тому, кто на это не способен, не следует и делать вид, будто он понимает йогу. Он не может и не должен отрекаться от своего западного рассудка, но напротив, укреплять его, чтобы опытным путем, без подражательства и обезьянничанья, понять из йоги ровно столько, сколько это возможно для нашего рассудка. Ведь тайны йоги значат для индийца столько же, или даже больше, чем таинства христианской веры для нас; и так же как мы не позволяем всякому чужаку смеяться и осквернять mysterium нашей христианской веры, мы не можем недооценивать или принимать за абсурдные заблуждения эти странные индийские представления и практики. Тем самым мы лишь закроем себе доступ к разумному их пониманию. Правда, у себя в Европе мы настолько далеко зашли по этому пути, что даже духовное содержание христианских догматов в ощутимой степени сокрыто от нас рационалистическим и "просвещенческим" туманом. Поэтому мы с такой легкостью недооцениваем все то, что нам незнакомо и непонятно.
Если мы вообще хотим понять, то делать это способны только по-европейски. Верно, многое постигается сердцем, но разуму трудно угнаться за ним с интеллектуальными формулировками, чтобы придать понятому подобающий вид. Имеются и такие понятия, производимые головой, в особенности научным разумом, которые часто непостижимы для сердца. Мы предоставляем самому читателю пользоваться то одним, то другим. Попробуем сначала обратиться к голове, чтобы найти или выстроить мост, по которому можно перейти от йоги к европейскому разумению.
Для этого нам нужно вернуться к уже упомянутым символам, но на сей раз мы рассмотрим их смысловое содержание. Солнце, с которого начинается этот ряд, является источником тепла и света и представляет собой несомненное средоточие видимого нами мира. Как податель жизни, оно всегда и повсюду было либо самим божеством, либо его образом. Даже в мире христианских представлений оно – излюбленная allegorie Christi. Вторым источником жизни, особенно в южных землях, является вода, играющая заметную роль и в христианских аллегориях, например, как четыре реки рая или как те воды, которые проистекают из-под бока храма (Иезекииль, 47:1). Последние воды приравнивались крови, стекающей по боку Христа. В этой связи мне вспоминаются также разговор Христа с самаритянкой у колодца (Иоанн, 4, 5) и реки живой воды, проистекающие от "чрева Христова" (Иоанн, 7:38). Медитация о солнце и воде, без сомнения, пробуждает такие и сходные с ними смысловые связи, так что медитирующий движется от видимых явлений к подпочве, то есть к скрытому за объектом медитации духовному смыслу. Тем самым он переносится в сферу психического, где солнце и вода утрачивают свою физическую предметность и становятся символами душевного содержания, а именно, образами источников жизни в собственной душе. Ведь наше сознание не творит само себя, но проистекает из неведомых глубин. Оно постепенно пробуждается у ребенка и оно пробуждается каждое утро из глубин сна, бессознательного состояния. Оно подобно ребенку, который ежедневно рождается из материнской первоосновы – бессознательного. Как показывает строгое исследование бессознательных процессов, сознание не просто находится под их влиянием, но и постоянно вытекает из бессознательного в форме бесчисленных спонтанных представлений. Медитация о солнце и воде является чем-то вроде спуска к душевным истокам, даже к самому бессознательному.
Правда, тут дает о себе знать различие между восточным и западным духом. С этим различием мы уже встречались: между высоким алтарем и глубоким алтарем. Запад всегда ищет возвышения, вознесения; Восток – погружения и углубления. Внешняя действительность с ее духом телесности и тяжести кажется европейцу куда более сильной и требовательной, чем индийцу. Поэтому первый ищет превознесения над миром, последний же охотно возвращается к материнским недрам природы.
Поэтому христианское созерцание, например, "Духовные Упражнения" св. Игнатия Лойолы, стремится уловить во всей конкретности священный лик, а йогин уплотняет воду сначала в лед, затем в лазурит, из коего делает прочное "основание", как он его называет. Из своего взгляда он, так сказать, творит прочное тело, придавая внутреннему, а именно, образам своего душевного мира, конкретную реальность, замещающую внешний мир. Сначала он видит только зеркальную голубую поверхность, вроде озера или океана – это и в сновидениях европейцев излюбленный символ бессознательного. Но затем за зеркальной поверхностью вод обнаруживаются неведомые глубины, темные и таинственные.
Как говорится в тексте, голубой камень прозрачен – взгляд медитирующего пробивается в глубины душевных тайн. Там он усматривает ранее невиданное, то есть бессознательное. Подобно тому, как солнце и вода суть физические источники жизни, то и в качестве символов они выражают важнейшие тайны бессознательной жизни. В стяге, символе, увиденном йога-ном сквозь фундамент голубого камня, он улавливает какой-то образ ранее невиданного и безОбразного источника сознания. Посредством дхьяны, то есть погружения и углубленного созерцания, бессознательное, кажется, приобретает обличие. Словно свет сознания прекращает высвечивать предметы чувственно данного мира и начинает светить в темноту бессознательного. Вместе с угасанием чувственного мира и всякой мысли о нем, отчетливей проступает внутреннее.
Здесь восточный текст совершает скачок через психический феномен, являющийся истоком бесконечных трудностей для европейца. Стоит последнему попробовать наложить запрет на представления о внешнем мире, очистить свой дух от всего внешнего, он сразу становится добычей собственных субъективных фантазий, которые не имеют ничего общего с содержанием нашего текста. Фантазии не пользуются доброй славой, они считаются дешевыми, ничего не стоящими, а потому отбрасываются как бесполезные и бессмысленные. Это клеши, те беспорядочные и хаотичные силы влечений, которые как раз и желает "обуздать" йога. Ту же цель преследуют "Духовные Упражнения", а именно, оба метода предоставляют медитирующему объект созерцания, образ, на котором он мог бы сконцентрироваться и исключить полагаемые бесполезными фантазии.
Оба метода, и восточный, и западный, стремятся достичь цели прямым путем. Пока упражнения в медитации осуществляются в четких рамках той или иной церкви, они не ставятся мною под сомнение. Но за пределами церкви, как правило, ничего не получается, либо результаты являются печальными. Высвечивание бессознательного начинается со сферы хаотичного личностного бессознательного, в котором содержится все то, что хотелось бы поскорее забыть, в чем никак нельзя признаться себе или другому, что вообще отрицается. Наилучшим выходом считается по возможности не заглядывать в этот темный угол. Понятно, что в таком случае нельзя и обогнуть его, а все то, что обещает йога, остается недостижимым. Лишь тому, кто прошел сквозь эту темноту, можно надеяться на дальнейшее продвижение. Я принципиально против некритичного принятия европейцами йоги, поскольку слишком хорошо знаю, что с ее помощью они надеются избежать собственных темных углов. Но такое предприятие совершенно бессмысленно и ничего не стоит.
В этом глубинная причина и того, что на Западе (за исключением иезуитских "Упражнений" с очень узким кругом применимости) не развилось ничего сравнимого с йогой. Мы испытываем бездонный страх перед чудовищностью нашего личностного бессознательного. Поэтому европеец предпочитает советовать другим, что надо делать, но ему и в голову не приходит, что улучшение целого начинается с индивида, с него самого. Многие даже считают, что заглядывать внутрь себя самого болезнетворно – это вызывает меланхолию, как уверял меня некогда один теолог.
Я только что сказал об отсутствии у нас чего-либо сравнимого с йогой. Это не совсем верно. В соответствии с европейскими предрассудками у нас развилась медицинская психология – именно она имеет дело с клешами. Мы называем ее "психологией бессознательного". Это направление, возглавляемое Фрейдом, признало значимость теневой стороны и ее влияния на сознание, но запуталось в данной проблеме. Психология эта занята исключительно тем, что молчаливо опускается нашим текстом, полагается уже давно пройденным. Йога прекрасно знакома с миром клеш, но в силу привязанности к природному она не знает морального конфликта, каковым выступают для нас клеши. Моральная дилемма отделяет нас от нашей тени. Индийский дух вырастает из природы, наш дух природе противостоит.
Основание из голубого камня для нас не прозрачно именно потому, что нам сначала требуется ответ на вопрос о зле в природе. Ответ дать можно, но только не плоско-рационалистическими аргументами или интеллектуальной болтовней. Достойным ответом может быть моральная ответственность индивида, однако тут нет рецептов и предписаний, и каждый сам должен расплачиваться до последнего гроша. Лишь тогда станет прозрачным основание из голубого камня. Наша сутра предполагает, что теневой мир наших личных фантазий, иначе говоря, личностное бессознательное, уже пройден, и она идет дальше, к описанию символической фигуры, которая поначалу кажется нам странной. Речь идет о радиальной геометрической восьмичастной фигуре, так называемой Огдоаде или "восьмерице". В середине ее лотос с сидящим Буддой; решающим является опыт познания того, что Буддой является сам медитирующий, а этим развязываются и узлы судеб, вплетенные в ткань рассказа. Концентрически построенный символ выражает высшую степень концентрации, достигаемую только вослед ранее описанному отдалению, переносу интереса с чувственного мира и его объектов на скрытое основание сознания. Держащийся объектов мир сознания растворяется вместе со своим центром, "Я", а на его место приходит все возрастающий блеск земли Амитабхи.
Психологически это означает, что за или под миром личностных фантазий и влечений появляется еще более глубокий слой бессознательного. В противоположность хаотичному беспорядку клеш он наделен высшим порядком и гармонией; в противоположность множественности первого, во втором представлено всеохватывающее единство, символом которого является "бодхимандала" – чудесный круг просветления.
Что может сказать наша психология в ответ на индийское утверждение о сверхличностном, мирообъемлющем бессознательном, которое появляется лишь с достижением прозрачности той тьмы, каковой было личностное бессознательное? Наша современная психология знает, что личностное бессознательное является лишь верхним слоем, покоящимся на фундаменте совсем иной природы. Он обозначается нами как коллективное бессознательное. Основанием для такого обозначения служит то обстоятельство, что, в отличие от личностного бессознательного с его чисто личностным содержанием, образы глубинного бессознательного имеют отчетливо мифологический характер. Иначе говоря, по форме и содержанию они совпадают с теми повсюду разлитыми, изначальными представлениями, которые лежат в основании мифов. Они имеют уже не личностную, но надличную природу и присущи всем людям. Поэтому они обнаруживаются во всех мифах и сказках всех времен и народов, а равно и у тех индивидов, которые не имеют ни малейшего представления о мифологии.
Наша западная психология на деле достигла того же, что и йога, а именно: она в состоянии достичь глубинного слоя бессознательного и дать его научное описание. Мифологические мотивы, наличие которых установлено исследованием бессознательного, многообразны, но они соединяются в концентрически-радиальном порядке, в центре, или в сущности, коллективного бессознательного. В силу удивительного согласия между воззрениями йоги и результатами психологического исследования я избрал для этого центрального символа санскритский термин "мандала", что значит "круг".
Здесь вероятен вопрос: но как же наука дошла до таких утверждений? На это можно ответить двояко. Во-первых, исторически. При изучении, скажем, средневековой натурфилософии, мы видим, что для символизации центрального принципа она постоянно прибегает к форме круга, чаще всего поделенного на четыре части. Это представление, очевидно, позаимствовано из церковных аллегорий четверичности, которая обнаруживается в бесчисленных образах Rex gloriae с четырьмя евангелистами, в четырех сторонах рая, четырех ветрах и т.д.
Второй путь является эмпирико-психологическим. На определенной стадии психологического лечения пациенты начинают спонтанно изображать такие мандалы – либо потому, что они им снятся, либо по причине неожиданно ощутимой нужды в изображении упорядоченного единства, чтобы компенсировать душевный хаос. Сходный процесс протекал, например, у нашего национального, швейцарского святого – блаженного брата Николая фон дер Флюэ. Результаты мы доныне можем видеть в Заксельнской приходской церкви, в изображении видения о троице. Ему удалось упорядочить ужасающее видение, потрясшее его до самых глубин, с помощью символики круга, почерпнутой из книжки одного немецкого мистика. [7]
Но что скажет наша психология о сидящем в лотосе Будде? Тогда бы и западный Христос сидел на троне в центре мандалы. Такое случалось в Средние века. Но наблюдаемые нами сегодня мандалы, спонтанно возникающие у бесчисленных индивидов без всякого к тому повода или вмешательства извне, не содержат фигуры Христа, не говоря уж о Будде в позе лотоса. Зато часто встречаются равносторонний греческий крест или даже безошибочно узнаваемая свастика. Я не имею возможности обсуждать здесь это необычное явление, представляющее сегодня понятный интерес. [8]
Между христианской и буддистской мандалами имеется тонкое, однако огромное различие. Христианин никогда не скажет по ходу созерцания: "Я есмь Христос", но вместе с Павлом признает: "И уже не я живу, но живет во мне Христос" (Гал. 2:20). В нашей же сутре сказано: "Ты узнаешь, что ты – Будда". В основе своей оба исповедания тождественны, поскольку буддист достигает этого знания лишь когда он уже "анатман", то есть лишен самости. Но в формулировке содержится и безграничное отличие: христианин достигает своей цели в Христе, буддист узнает, что он Будда. Христианин выходит из преходящего и привязанного к "Я" мира сознания, буддист же остается на вечном основании своей внутренней природы, единство которой с божеством или универсальной сущностью явлено и в других индийских исповеданиях.
ЙОГА И ЗАПАД [1]
Менее века прошло с тех пор, как Западу стала известна йога. Хотя всякого рода истории о легендарной стране Индии – стране мудрецов, гимнософистов и омфалоскептиков – были известны в Европе уже две тысячи лет, о реальном знании индийской философии и философской практики нельзя было говорить до тех пор, пока усилиями француза Анкетиля дю Перрона Запад не получил Упанишады. Что же касается более глубокого и всестороннего знания, то оно стало возможным благодаря трудам Макса Мюллера, издавшего в Оксфорде "Священные книги Востока". Вначале это знание оставалось привилегией специалистов – санскритологов и философов, однако очень скоро теософское движение, вдохновляемое г-жой Блаватской, завладело восточными традициями и донесло их до самой широкой публики. С тех пор вот уже несколько десятилетий знания о йоге развиваются по двум различным направлениям: с одной стороны, йога – предмет самой строгой академической науки, с другой – она стала чем-то вроде религии, хотя и не развилась в церковную организацию, несмотря на все усилия Анни Безант и Рудольфа Штейнера. Хотя Штейнер был основателем антропософской секты, начинал он как последователь г-жи Блаватской. [2]
Этот продукт развития йоги в западном варианте весьма трудно сравнивать с тем, что представляет собой йога в Индии. Дело в том, что восточное учение встретилось на Западе с особой ситуацией, с таким состоянием умов, которого Индия никогда не знала ранее. Для этой ситуации характерно строгое размежевание между наукой и философией, которое в той или иной мере существовало на протяжении примерно трехсот лет до того времени, как йога стала известна Западу. Начало этого раскола – специфически западного феномена – в действительности относится к Возрождению, к XV в. Именно в это время пробуждается широкий и страстный интерес к античности, вызванный падением Византийской империи под ударами ислама. Впервые в Европе не осталось, пожалуй, ни одного уголка, где бы не знали греческий язык и греческую литературу. Великая схизма в Римской церкви была прямым результатом этого вторжения так называемой языческой философии. Появляется протестантизм, который вскоре охватит всю Северную Европу. Но даже такое обновление христианства не могло удержать в рабстве освобожденные умы европейцев.
Начался период мировых открытий, как географических, так и научных – мысль все в большей степени освобождалась от оков религиозной традиции. Конечно, церкви продолжали существовать, поддерживаемые религиозными нуждами населения, но они утратили лидерство в сфере культуры. В то время как Римская церковь сохранила единство благодаря своей непревзойденной организации, протестантство раскололось чуть ли не на четыреста деноминации. С одной стороны, это было свидетельством его банкротства, с другой – говорило о его неудержимой религиозной жизненности.
Постепенно, в течение XIX в., этот процесс привел к появлению ростков синкретизма, а также к широкомасштабному импорту экзотических религиозных систем, таких как религии бабизма, суфийских сект, "Миссии Рамакришны", [3] буддизма и т.д. Многие из этих систем, например, антропософия, содержали в себе элементы христианства. Возникшая в итоге ситуация чем-то напоминала эллинистический синкретизм III-IV вв. н.э., в котором также присутствовали следы индийской мысли (ср. Аполлоний Тианский, орфико-пифагорейские тайные учения, гностицизм и т.д.).
Все эти системы подвизались на поприще религии и рекрутировали большую часть своих сторонников из протестантов. Поэтому в своей основе они являются протестантскими сектами. Своими атаками на авторитет Римской церкви протестантизм в значительной мере разрушил веру в Церковь как необходимое орудие божественного спасения. Вся тяжесть авторитета была возложена, таким образом, на индивида, а вместе с тем – и невиданная ранее религиозная ответственность. Отсутствие исповеди и отпущения грехов обострило моральный конфликт, отяготило индивида проблемами, которые ранее за него решала церковь. В самом деле, таинства, в особенности церковная месса, гарантировали индивиду спасение посредством священного ритуала, имеющего силу благодаря священнослужителям. Единственное, что требовалось от индивида, – это исповедь, покаяние, епитимья. Теперь же, с распадом ритуала, осуществлявшего за индивида всю эту работу, он стал вынужден обходиться без божественного отклика на свои поступки и мысли. Вот этой-то неудовлетворенностью индивида и объясняется спрос на системы, которые обещали бы хоть какой-то ответ, явную или хотя бы поданную знаком благосклонность к нему иной силы (высшей, духовной или божественной).
Европейская наука не уделяла ни малейшего внимания этим надеждам и чаяниям. Она жила своей интеллектуальной жизнью, которая не касалась религиозных нужд и убеждений. Этот исторически неизбежный раскол западного сознания также оказал влияние на йогу, стоило только ей закрепиться на западной почве. С одной стороны, она сделалась объектом научного исследования, с другой – ее приветствовали как путь спасения. Что касается самого религиозного движения, то его история знает немало попыток соединить науку с верой и практикой религии, например, в "Христианской науке", [4] теософии и антропософии. Последняя особенно любит придавать себе научную видимость, а потому, как и "Христианская наука", она легко проникает в круги интеллектуалов.
Поскольку у протестанта нет заранее предопределенного пути, он готов приветствовать чуть ли не всякую систему, которая обещает успех. Он должен теперь делать сам то, что ранее исполняла, как посредник, церковь, – однако он не знает, как это делается. И если он всерьез испытывает нужду в религии, то вынужден предпринимать чрезвычайно большие усилия, чтобы обрести веру, – ведь протестантская доктрина ставит веру исключительно высоко. Однако вера – это харизма, дар благодати, а не метод. Протестанты настолько лишены метода, что многие из них серьезно интересовались чисто католическими упражнениями Игнатия Лойолы. Но что бы протестант ни делал, более всего угнетает противоречие между религиозной доктриной и научной истиной. Конфликт веры и знания вышел далеко за пределы протестантизма, он затронул и католицизм. Этот конфликт обусловлен историческим расколом в европейском сознании. С точки зрения психологии, у этого конфликта не было бы никаких оснований, не будь столь неестественного принуждения верить и столь же неестественной веры в науку. Вполне можно вообразить себе такое состояние сознания, когда мы просто знаем, а вдобавок и верим в то, что кажется нам по тем или иным основаниям вероятным. Для конфликта между верой и знанием нет никакой почвы, обе стороны необходимы, ибо по отдельности нам недостаточно ни только знания, ни одной лишь веры.
Поэтому, когда "религиозный" метод в то же время рекомендуется в качестве метода "научного", можно быть уверенным, что он найдет на Западе широкую публику. Йога вполне отвечает этим чаяниям. Помимо притягательности всего нового и очарования полупонятного, есть еще немало причин того, что к йоге стекаются поклонники. Прежде всего она не только предлагает долгожданный путь, но также обладает непревзойденной по глубине философией. Кроме того, йога содержит в себе возможность получать контролируемый опыт, а тем самым удовлетворяет страсть ученого к "фактам". Более того, глубокомысленность йоги, ее почтенный возраст, широта доктрины и метода, покрывающих все сферы жизни, – все это обещает неслыханные возможности, каковые не устают подчеркивать ее миссионеры.
Я не стану распространяться о том, что значит йога для Индии, поскольку не могу судить о чем бы то ни было, не имея личного опыта. Я могу говорить лишь о том, что она значит для Запада. Отсутствие духовной ориентации граничит у нас с психической анархией, поэтому любая религиозная или философская практика равнозначна хоть какой-то психологической дисциплине; иными словами, это метод психической гигиены. Многие чисто физические процедуры йоги представляют собой также средство физиологической гигиены, намного превосходящее обычную гимнастику или дыхательные упражнения, так как йога представляет собой не просто механику, но имеет философское содержание. Тренируя различные части тела, йога соединяет их в единое целое, подключает их к сознанию и духу, как то с очевидностью следует из упражнений пранаямы, где прана – это и дыхание, и универсальная движущая сила космоса. Если любое деяние индивида является одновременно событием космическим, то "легкое" состояние тела (иннервация) сочетается с подъемом духа (всеобщая идея), и благодаря такому сочетанию рождается жизненное целое. Его никогда не произвести никакой "психотехнике", будь она даже самой что ни на есть научной. Практика йоги немыслима – да и неэффективна – без тех идей, на которых она базируется. В ней удивительно совершенным образом сливаются воедино физическое и духовное.
На Востоке, где лежат источники этих идей и этой практики, где непрерывная традиция на протяжении более четырех тысячелетий создавала необходимые состояния духа, йога является превосходным методом слияния тела и сознания. Такое их единение вряд ли можно поставить под сомнение, и я охотно готов это признать. Тем самым создаются предрасположенности, делающие возможным интуитивное видение, трансцендирующее само сознание. Индийское мышление с легкостью оперирует такими понятиями, как прана. Иное дело – Запад. Обладая дурной привычкой верить и развитым научным и философским критицизмом, он неизбежно оказывается перед дилеммой: либо попадает в ловушку веры и без малейшего проблеска мысли заглатывает такие понятия, как прана, атман, чакры, самадхи и т.п., либо его научный критицизм разом отбрасывает их как "чистейшую мистику". Раскол западного ума с самого начала делает невозможным сколько-нибудь адекватное использование возможностей йоги. Она становится либо исключительно религиозным делом, либо чем-то вроде гимнастики, контроля за дыханием, эуритмики и т.п. Мы не находим здесь и следа того единства этой природной целостности, которые столь характерны для йоги. Индиец никогда не забывает ни о теле, ни об уме, тогда как европеец всегда забывает то одно, то другое. Благодаря этой забывчивости он завоевал сегодня весь мир. Не так с индийцем: он помнит не только о собственной природе, но также о том, что он и сам принадлежит природе. Европеец, наоборот, располагает наукой о природе и удивительно мало знает о собственной сущности, о своей внутренней природе. Для индийца знание метода, позволяющее ему контролировать высшую силу природы внутри и вовне самого себя, представляется дарованным свыше благом. Для европейца же подавление собственной природы, и без того искаженной, добровольное превращение себя в некое подобие робота показалось бы чистейшим адом.
Говорят, йоги могут двигать горы, хотя было бы, пожалуй, затруднительно найти тому доказательства. Власть йога ограничена тем, что приемлемо для его окружения. Европеец, тот способен поднимать горы на воздух, и мировая война принесла горькое осознание того, на что он может быть способен, когда интеллект, сделавшийся чуждым природе, утрачивает всякую узду. Как европеец, я не пожелал бы другим европейцам еще больших "контроля" и власти над природой, будь она внутренней или внешней. К стыду своему, я должен признаться, что самые светлые мои прозрения (бывали среди них и совсем недурные) обязаны своим появлением тому обстоятельству, что я всегда поступал как раз противоположно предписаниям йоги. Пройдя свой путь исторического развития, европеец настолько удалился от своих корней, что ум его в конце концов раскололся на веру и знание: подобно тому, как всякое психологическое преувеличение всегда разрывается на внутренне ему присущие противоположности. Европейцу нужно возвращаться не к Природе – на манер Руссо, – а к своей собственной натуре. Он должен заново открыть в себе естественного человека. Однако вместо этого европеец обожает системы и методы, способные лишь еще более подавить в человеке естественное, которое все время становится европейцу поперек дороги. Поэтому он наверняка станет употреблять йогу во зло, ибо психические предрасположенности у него совсем иные, нежели у человека Востока. Я готов сказать каждому: "Изучай йогу, и ты многому научишься, но не пытайся применять ее, поскольку мы, европейцы, попросту не так устроены, чтобы правильно употреблять эти методы. Индийский гуру все тебе объяснит, и ты сможешь во всем ему подражать. Но знаешь ли ты, кто применит йогу? Иными словами, знаешь ли ты, кем являешься, как ты сам устроен?"
Сила науки и техники в Европе столь велика и несомненна, что нет нужды упоминать все то, что благодаря им сделано или может быть сделано, перечислять все изобретенное. Перед лицом таких изумительных возможностей можно лишь содрогнуться. Сегодня совсем иной вопрос приобретает тревожный смысл: кто применяет всю эту технику? В чьих руках находится эта сила? Временным средством защиты в настоящий момент выступает государство – ведь это оно охраняет гражданина от огромных запасов ядовитых газов и прочих адских машин разрушения, каковые можно изготовить к любому необходимому моменту времени. Наши технические навыки сделались настолько опасными, что самым настоятельным является вопрос не о том, что еще можно сделать, но о том человеке, которому доверен контроль над всеми этими достижениями. Это и вопрос о том, каким образом изменить сознание западного человека, чтобы он смог избавиться от чувства привычности этих ужасающих возможностей техники. Куда важнее лишить его иллюзии всевластия, нежели еще более усиливать в нем ложную идею, будто все ему доступно, – все, чего он ни пожелает. В Германии мы часто слышим: "Там, где есть воля, найдется и путь" – этот лозунг стоил жизни миллионам людей.
Западный человек не нуждается в большем господстве над природой, внешней или внутренней. Господство над обеими достигло у него чуть ли не дьявольского совершенства. К сожалению, при этом отсутствует ясное понимание собственной неполноценности по отношению к природе вокруг себя и к своей внутренней природе. Он должен понять, что не может делать все, что ему заблагорассудится. Если он не дойдет до осознания этого, то будет сокрушен собственной природой. Он не ведает того, что против него самоубийственно восстает его собственная душа.
Так как западный человек с легкостью обращает все в технику, то, в принципе, верно, что все, имеющее видимость метода, для него или опасно или бесполезно. Поскольку йога есть форма гигиены, она столь же полезна, как и всякая другая система. Однако в более глубоком смысле йога означает нечто совсем иное, куда большее. Если я правильно ее понимаю, йога – это освобождение сознания от всякого порабощения, отрешение от субъекта и объекта. Но так как мы не можем отрешиться от того, что является для нас бессознательным, европеец должен для начала выяснить, что он собой представляет как субъект. На Западе мы называем его бессознательным. Техника йоги применима исключительно к сознательным уму и воле. Такое предприятие обещает успех лишь в том случае, если бессознательное не обладает заслуживающим внимания потенциалом; иначе говоря, если в нем не содержится значительная часть личности. В противном случае сознательные усилия останутся тщетными. Все судороги ума породят карикатуру или вызовут прямую противоположность желаемому результату.
Богатая метафизическая и символическая мысль Востока выражает важнейшие части бессознательного, уменьшая тем самым его потенциал. Когда йог говорит "прана", он имеет в виду нечто много большее, чем просто дыхание. Слово "прана" нагружено для него всею полнотой метафизики, он как бы сразу знает, что означает прана и в этом отношении. Европеец его только имитирует, он заучивает идеи и не может выразить с помощью индийских понятий свой субъективный опыт. Я более чем сомневаюсь в том, что европеец станет выражать свой соответствующий опыт, даже если он способен получить его посредством таких интуитивных понятий, как "прана".
Первоначально йога представляла собой естественный интровертивный процесс, в котором имеются различные вариации. Интроверсия ведет к своеобразным внутренним процессам, которые изменяют личность. На протяжении нескольких тысячелетий интроверсия организовывалась как совокупность достаточно сильно отличающихся друг от друга методов. Сама индийская йога принимает многочисленные и крайне разнообразные формы. Причиной этого является изначальное многообразие индивидуального опыта. Не всякий из этих методов пригоден, когда речь идет об особой исторической структуре, каковую представляет собой европеец. Скорее всего, соприродная европейцу йога имеет неведомые Востоку исторические образцы. Сравнимые с йогой методы возникли в двух культурных образованиях, которые на Западе соприкасались с душой, так сказать, практически – в медицине и в католическом врачевании души. Я уже упоминал упражнения Игнатия Лойолы. Что же касается медицины, то ближе всего к йоге подошли методы современной психотерапии. Психоанализ Фрейда возвращает сознание пациента во внутренний мир детских воспоминаний, к вытесненным из сознания желаниям и влечениям. Его техника это логическое развитие исповеди, искусственная интроверсия, нацеленная на осознание бессознательных компонентов субъекта.
Несколько отличается метод так называемой аутогенной тренировки, предложенный профессором Шульцем, – этот метод сознательно сочетается с йогой. [5] Главная цель здесь – сломать перегородки сознания, которые служат причиной подавления бессознательного.
Мой собственный метод, подобно фрейдовскому, основывается на практике исповеди. Как и Фрейд, я уделяю особое внимание сновидениям, но стоит подойти к бессознательному, как наши пути расходятся. Для Фрейда оно представляет собой какой-то придаток сознания, куда свалено все, что несовместимо с сознанием индивида. Для меня бессознательное есть коллективная психическая предрасположенность, творческая по своему характеру. Столь фундаментальное различие точек зрения ведет и к совершенно различной оценке символики и методов ее истолкования. Процедуры Фрейда в основном аналитические и редукционистские. Я добавляю к этому синтез, подчеркивающий целесообразный характер бессознательных тенденций развития личности. В этих исследованиях обнаружились важные параллели с йогой особенно с Кундалини-йогой, а также с символикой тантрической, ламаистской йоги и параллели с китайской йогой даосов. Эти формы йоги со своею богатой символикой дают мне бесценный сравнительный материал при истолковании бессознательного. Но в принципе я не применяю методов йоги, поскольку у нас на Западе ничто не должно насильно навязываться бессознательному. Нашему сознанию присущи ущербные интенсивность и ограниченная узость действия, а потому эту, и без того доминирующую, тенденцию нет нужды еще более усиливать. Напротив, нужно делать все для выхода бессознательного в сознание, для освобождения от жестких препон сознания. С этой целью я использую метод активного воображения, заключающийся в особого рода тренировке способности выключать сознание (хотя бы относительно), что предоставляет бессознательному возможность свободного развития.
Мое столь критичное неприятие йоги вовсе не означает, что я не вижу в ней одного из величайших достижений восточного духа, изобретений человеческого ума. Надеюсь, я достаточно ясно дал понять, что моя критика направлена лишь против применения йоги западными народами. Духовное развитие Запада шло совсем иными путями, чем на Востоке, а потому оно создало, пожалуй, самые неблагоприятные условия для применения йоги. Западная цивилизация едва достигла возраста одного тысячелетия, она должна прежде избавиться от своей варварской односторонности. Это означает в первую очередь более глубокое видение человеческой природы. Посредством подавления и контроля над бессознательным никакого видения не добьешься – и тем менее путем имитации методов, взращенных совсем иными психологическими условиями. Со временем Запад изобретет собственную йогу, и она будет опираться на фундамент, заложенный христианством.
ОБ ИНДИЙСКОМ СВЯТОМ [1]
Уже несколько лет назад Циммер заинтересовался Махариши из Тируваннамалаи, и первый же вопрос, который он задал мне по моем возвращении из Индии, относился к этому современному святому и мудрецу с юга Индии. Не знаю, счел ли мой друг непростительным или как минимум необъяснимым грехом, что я не нанес визита Шри Рамане. У меня было такое ощущение, что уж он-то, наверное, вряд ли упустил бы случай нанести этот визит, – настолько живым было его участие в судьбе и учении этого святого. Для меня это было тем менее удивительным, что я знал, сколь глубоко Циммер проникся духом Индии. Его страстное желание увидеть эту страну своими глазами, к сожалению, так никогда и не осуществилось, а вероятность этого исчезла в последний час перед началом разразившейся мировой войны. Зато тем более величественным был его образ духовной Индии. В ходе нашей совместной работы он дал мне неоценимую возможность заглянуть в душу Востока – благодаря не только своим богатым специальным познаниям, но главным образом гениальному пониманию смыслового содержания индийской мифологии. Увы, и над ним исполнилось слово о рано умирающих любимцах богов, а нам остается лишь скорбь об утрате духа, который преодолел ограниченность своего предмета и, повернувшись лицом к человечеству, предложил ему благодетельный дар "бессмертных плодов".
С древних времен носителем мифологической и философской истины в Индии был "святой" – это западное выражение, правда, не совсем точно передает суть и характерные особенности параллельной фигуры на Востоке. Образ святого воплощает в себе духовную Индию и постоянно встречается в литературе. Поэтому неудивительно, что Циммер страстно заинтересовался новейшей и наиболее чистой инкарнацией этого типа в человеческом облике Шри Раманы. В этом йоге он увидел аватара – образную реализацию этой бредущей из тысячелетия в тысячелетие, сколь легендарной, столь же и исторической фигуры риши, провидца и философа.
Вероятно, мне все-таки следовало посетить Шри Раману. Но я боялся, что если когда-нибудь снова приеду в Индию, дабы наверстать упущенное, то все произойдет точно так же: несмотря на уникальность и неповторимость этого, без сомнения, значительного человека, я не смогу собраться с силами, чтобы увидеть его самому. Дело в том, что я сомневаюсь в его уникальности: он типичен, а этот тип был и будет. Поэтому-то у меня и не было необходимости навещать его; я видел его в Индии повсюду – в образе Рамакришны, в его учениках, в буддистских монахах и в бесчисленных иных формах индийской будничной жизни, а слова его мудрости суть некое "sous-entendu"* индийской душевной жизни.
* Подоплека (фр.)
В этом смысле Шри Раману можно, пожалуй, назвать "hominum homo", настоящим "сыном человеческим" индийской земли. Он – "подлинный", а вдобавок – "феномен", что с точки зрения Европы претендует на уникальность. Но в Индии он – белейший просвет на белой ткани (белизна которой упомянута потому, что ведь таким же образом существует и черная ткань). Вообще в Индии видишь так много всего, что в конце концов начинаешь хотеть видеть хоть чуть-чуть меньше, и чудовищная пестрота местностей и людей возбуждает тоску по чему-то совсем простому. И это простое есть: оно пронизывает душевную жизнь Индии, как аромат или мелодия; оно повсюду все то же, но никогда не бывает монотонным, а всегда бесконечно разнообразно. Чтобы его узнать, довольно прочесть какую-нибудь из Упанишад или несколько бесед Будды. То, что звучит в них, звучит всюду, отражается в миллионах глаз, проявляется в бесчисленных жестах, и нет такой деревушки или тропинки, рядом с которыми не стояло бы раскидистое дерево, в тени которого Я размышляет о своем собственном упразднении, топя мир многих вещей во Вселенной и Всеедином бытии. Этот зов был до того ясно слышен мне в Индии, что вскоре я уже не мог избавиться от ощущения его убедительности. Поэтому-то я был совершенно уверен в том, что никто не в состоянии достичь большего, и менее всех – сам индийский мудрец; и если бы Шри Рамана высказал нечто не согласующееся с этой мелодией или претендовал на большее знание, то этот просветленный человек в любом случае был бы неправ. Руководствуясь этой не требующей усилий, климатически соответствующей зною Южной Индии, аргументацией – если святой прав, то он воспроизводит древний мотив Индии, а если от него исходит что-то другое, то он неправ, – я без сожалений удержался от визита в Тируваннамалаи.
Сама неисчерпаемость Индии позаботилась о том, чтобы я все-таки повстречал святого, и притом в более подходящей мне форме, т.е. не нанося ему визита: в Тривандраме, столице Траванкора*, я познакомился с учеником Махариши.
* Ныне столица штата Керала на самом юге Индии, еще южнее Тируваннамалаи (штат Тамиланд).
Это был скромный мужчина, по своему социальному положению соответствующий учителю младших классов, живейшим образом вызвавший в моей памяти того сапожника из Александрии, которого (в романе Анатолия Франса) в качестве примера еще большей святости приводил святому Анатолию ангел. Как и тот, мой маленький святой имел перед большим то преимущество, что воспитал многочисленных детей и с особенным рвением заботился о том, чтобы его старший сын мог учиться. (Я не стану вдаваться здесь в обсуждение связанного с этим вопроса о том, всегда ли святой мудр, и наоборот, все ли мудрецы непременно святы. В этом отношении имеются некоторые сомнения). Во всяком случае, в этой скромной, любезной, детски благочестивой натуре я увидел человека, который, с одной стороны, с полной самоотдачей впитывал в себя мудрость Махариши, а с другой – превосходил своего учителя тем, что помимо всякой учености и святости "вкушал" также и "от мира сего". Я с большим чувством благодарности думаю об этой встрече – ведь ничего лучшего со мной не могло и случиться. Дело в том, что только мудрец или только святой интересуют меня примерно столько же, сколько какой-нибудь редкостный костяк допотопного ящера, который совсем не может растрогать меня до слез. Зато это дурацкое противоречие – между отвратившимся от майи бытием в космической самости и милыми слабостями, которые, суля обильный урожай, погружены множеством корней в черную землю, чтобы на все будущие времена повторять, как вечную мелодию Индии, плетение и раздирание покрывала, – это противоречие трогает меня; ибо как же можно увидеть свет без тени, ощутить тишину – без грохота, достичь мудрости – без глупости? Пожалуй, самое мучительное – это переживание святости. Мой знакомец был, слава Богу, только маленьким святым – не сияющей вершиной над мрачными безднами, не потрясающей воображение игрой природы, а примером того, как мудрость, святость и человечность могут "уживаться дружно" – поучительно, ласково, восприимчиво, ладно и терпеливо, без судорог, без желания выделяться, ровно, безо всякой сенсационности, не нуждаясь в особой огласке, но основываясь на том, что от века, на культуре – под нежный шелест колышущихся на морском ветру кокосовых пальм, смыслом – в мельтешащей фантасмагории бытия, спасением – в связанности, победой – в поражении.
Только-мудрость и только-святостъ, боюсь, в наиболее выгодном освещении являются в литературе, и там их слава неоспорима. Лао-цзы превосходно и непревзойденно читается в "Дао дэ цзин"; Лао-цзы со своей танцовщицей на западном склоне горы, празднующий вечер жизни, уже не столь замечателен. С запущенным телом только-святого по вполне понятным причинам уже и вовсе невозможно примириться, особенно если не можешь не верить, что красота – одно из самых благородных творений бога.
Читать мысли Шри Раманы – прекрасно. В них перед нами встает настоящая Индия с ее дыханием отвратившейся и отвращающейся от мира вечности, песнь тысячелетий, подхватываемая миллионами живых существ, словно напев цикад в летней ночи. Эта мелодия надстраивается над единым великим мотивом, что без устали, пряча свое однообразие под пленкой тысячи цветовых отражений, вечно обновляется в индийском духе; его новейшей инкарнацией и является сам Шри Рамана: это драма ахамкары ("действующего Я", т.е. сознания Я), противостоящего атману (самости, или Non-ego*) и одновременно в нерасторжимо связанного с ним. Махариши называет атман также "Я – Я": это характерное название, ибо самость переживается как субъект субъекта, как собственный источник и лестница, ведущая Я, чье (ложное) стремление всегда заключается в присвоении той автономии, предчувствием которой оно обязано именно самости.
* Не-Я (лат.)
Подобный конфликт известен и европейцу: для него это отношение человека к богу. Современная Индия, как подтверждает мой собственный опыт, в значительной степени усвоила европейское словоупотребление: "самость", или атман, и бог – существенно синонимичны. Но некоторым образом в отличие от западного "человек и бог" эта пара противоположностей или гармония гласит: "Я и самость". "Я" в противоположность "человеку" – понятие откровенно психологическое, так же как и "самость", как она предпочитает являться нам. Поэтому перед нами соблазн признать, что метафизическая проблема "человек и бог" в Индии сдвинута в психологическую плоскость. При ближайшем рассмотрении это выглядит все же иначе, так как индийское понятие "Я" и "самости" на самом деле не психологическое, а, можно сказать, столь же метафизическое, как "человек и бог". Индус так же далек от познавательно-критической точки зрения, как и наш религиозный язык. Он, индус, находится еще в "до-кантовском" состоянии. Эта проблема в Индии неизвестна, так же как она еще в значительной степени неизвестна у нас. Поэтому в Индии еще нет психологии в нашем смысле слова. Индия находится на "до-психологической" стадии, т.е., говоря о "самости", она ее полагает. Психология этого не делает. Тем самым она вовсе не отрицает существования этого драматического конфликта, но оставляет за собой право на нищету или богатство незнания о самости. Мы, вероятно, знаем своеобразную и парадоксальную феноменологию самости, но отдаем себе отчет в том обстоятельстве, что познаем нечто неизвестное ограниченными средствами и вторгаемся в психические структуры, о которых не знаем, соответствуют ли они природе того, что мы хотим познать, или нет.
Это познавательно-критическое ограничение удаляет нас от того, что мы обозначаем как "самость" или как "бог". Уравнение "самость=богу" должно казаться европейцу возмутительным. Поэтому, как показывают высказывания Шри Раманы и многое другое, оно является специфически восточной интуицией, к которой психологии нечего больше добавить, кроме того, что в принципе такие суждения находятся далеко за пределами ее компетенции. С точки зрения психологии можно лишь констатировать, что феномен "самость" обнаруживает религиозную симптоматологию, как и все те высказывания, которые связаны с термином "бог". Несмотря на то, что религиозный феномен "охваченности благоговением" не умещается в рамки любой критики познания, будучи несоизмерим с нею, что роднит это состояние с прочими эмоциональными проявлениями, познавательный напор человека все же вновь и вновь берет верх "богоборческой", или "люциферовской" жестоковыйностью, своенравием, даже непреклонностью, будь то во благо или во вред любому, кто мыслит. Поэтому рано или поздно человек окажется в познавательной противоположности собственной охваченности и попытается ускользнуть от охватывающей хватки, чтобы получить возможность разобраться в происходящем. Если при этом он будет вести себя осмотрительно и добросовестно, то все вновь будет обнаруживать, что по меньшей мере часть его переживания есть человечески ограниченное толкование, как это, к примеру, произошло у Игнатия Лойолы с его видением многоглазой змеи, происхождение которого он оценил поначалу как божественное, а затем – как сатанинское [2].
Индусу ясно, что самость как исток души неотличима от бога и что в той мере, в какой человек существует в собственной самости, он не только содержится в боге, но и есть сам бог. Шри Рамана, например, в этом отношении высказывается определенно. Без сомнения, это уравнение есть толкование. Равным образом толкованием является концепция самости как "высшего блага" или как совершенной, желанной цели, хотя феноменология такого переживания не оставляет сомнений в том, что эти качества априорно наличны и представляют собой необходимые составные части благоговейных чувств. Но и это не может заставить критический разум удержаться от вопроса о том, являются ли эти свойства общезначимыми. Разумеется, невозможно заранее сказать, как он ответит на этот вопрос в том или ином случае, – ведь для такого ответа у него нет никакой мерки. А то, что могло бы служить этой меркой, в свою очередь, вновь вызовет критический вопрос об общезначимости. Решающим здесь является исключительно господство психических фактов.
Цель у восточной практики та же, что и у западной мистики: центр тяжести смещается от Я к самости, от человека – к богу, что должно означать исчезновение Я в самости, а человека – в боге. Очевидно, что Шри Рамана либо действительно в значительной степени поглощен самостью, либо по крайней мере всеми силами в течение всей жизни стремится растворить свое Я в самости. Подобное стремление обнаруживают и "Духовные Упражнения", в максимально возможной степени подчиняя "частное владение", т.е. бытие в качестве Я, вступающему во владение Христу.
У старшего современника Шри Раманы, Рамакришны, в смысле отношения к самости та же установка, только дилемма между Я и самостью выступает у него, кажется, в более ясном виде. В то время как Шри Рамана, демонстрируя, правда, "понимающее" терпение по отношению к светской профессии своих учеников, все же недвусмысленно превращает растворение Я в прямую цель духовного упражнения, Рамакришна проявляет в этом отношении несколько более неопределенную позицию. Правда, он говорит: "Покуда есть эгоизм, невозможны ни познания (джняна), ни освобождение (мукти), а рождениям и смертям нет конца" [3].
Однако ему приходится признать фатальную неизбывность ахамкары: "Сколь немногие способны достичь единения (самадхи) и освободиться от этого Я (ахам). Это редко бывает возможным [4]. Дискутируй сколько угодно, непрестанно отделяй – все равно это Я постоянно возвращается к тебе [5]. Свали сегодня тополь – завтра ты увидишь, что он пустил новые побеги" [6]. Он даже заходит так далеко, что такими словами намекает на неуничтожимость Я: "Если вы в конце концов не смогли уничтожить это Я, то рассматривайте его как "Я, слуга"" [7]. В смысле такой уступки по отношению к Я Шри Рамана решительно более радикален, т.е., в контексте индийской традиции, более консервативен. Тем самым старший Рамакришна оказывается из них двоих более современным, что, видимо, надо объяснять тем, что он гораздо глубже и сильнее затронут духовным складом Запада, нежели Шри Рамана.
Если рассматривать самость как высшее проявление душевной целостности (т.е. как тотальность сознания и бессознательного), то фактически она предстает в качестве чего-то вроде цели психического развития, и притом помимо любых сознательных суждений и ожиданий. Это содержание процесса, который, как правило, протекает даже вне сознания и обнаруживает свое присутствие лишь через своего рода дальнодействие на него. Критическая установка по отношению к этому естественному процессу позволяет нам задавать вопросы, которые, в сущности, заранее исключаются формулой "самость=богу". Эта формула выявляет растворение Я в атмане как четкую религиозно-этическую цель, что можно видеть на примере жизни и мышления Шри Раманы. Разумеется, это же относится и к христианской мистике, которая и отличается-то от восточной философии, по сути дела, только другой терминологией. Неизбежным следствием этого выступает неполноценность и устранение физического и психического человека (живой плоти и ахамкары) в пользу пневматического человека. Шри Рамана, к примеру, называет свое тело "этой вот колодой". В противовес этому и с учетом комплексной природы переживания (эмоция + толкование) критическая точка зрения оставляет за Я-сознанием значимость его роли, – вероятно, понимая, что без ахамкары не было бы вообще никого, кто знал бы об этом событии. Без личностного Я Махариши, Я, которое эмпирически дано только вместе с принадлежащей ему "колодой" (=телом), никогда не было бы никакого Шри Раманы. Даже если согласиться с ним в том, что высказывается отнюдь не его Я, а атман, то все равно: это психическая структура сознания, также как и тело, дает возможность сообщать что-либо при помощи слов. Без физического и психического человека – конечно, весьма уязвимого – и самость будет чем-то полностью беспредметным, как о том сказал уже Ангелус Силезиус:
Я знаю: без меня бог не проживет и мига; Не стань меня – и ему придется испустить дух.
Априорно данный целевой характер самости и жажда добиться этой цели существует, как уже сказано, даже без участия сознания. Не признавать их невозможно, но нельзя обойтись и без сознания Я. Оно тоже настоятельно заявляет о своих требованиях, и притом частенько громко или тихо противореча необходимости самостановления. В действительности, т.е. за немногочисленными исключениями, энтелехия самости состоит в достижении бесконечных компромиссов, причем Я и самость с трудом держат равновесие, если все в порядке. Слишком большой перевес в ту или другую сторону часто означает поэтому не более чем пример того, как не надо делать. Не следует понимать это так, что крайности – там, где они устанавливаются естественным образом, – уже потому были ниспосланы злом. Мы, видимо, поступим с ними наилучшим способом, если станем исследовать их смысл, для чего они – к нашей вящей благодарности – предоставляют достаточно возможностей. Люди исключительные, тщательно взлелеянные и огражденные, всегда означают подарок природы, обогащающий нас и умножающий объем нашего сознания, – но все это происходит только в случае, если наша осмотрительность не терпит катастрофы. Благоговейные чувства могут быть истинным даром богов – или исчадьем ада. Присущая им экзальтированность наносит вред, даже когда связанное с этим помутнение сознания как будто бы максимально приближает достижение высочайшей цели. Пользу же, настоящую и непреходящую, приносит лишь повышенная и усиленная осмотрительность.
Кроме банальностей, нет, к сожалению, никаких философских или психологических утверждений, которые уже с самого начала не имели бы обратной стороны. Так, разумность в качестве самоцели означает не что иное как ограниченность, если она не утверждается в сумятице хаотических крайностей, так же как чистая динамика ради нее самой ведет к слабоумию. Любая вещь, чтобы существовать, нуждается в своей противоположности, иначе она испаряется в небытие, Я нуждается в самости, и наоборот. Изменчивые отношения между этими двумя величинами представляют собой сферу опыта, разработанную интроспективным знанием Востока в масштабах, почти недостижимых для западного человека. Философия Востока, столь бесконечно отличная от нашей, – для нас необычайно ценный дар, который, конечно же, нам "надо добыть, чтобы владеть". Слова Шри Раманы, на прекрасном немецком языке оставленные нам Циммером как последний дар его пера, еще раз сводят воедино все самое благородное, что во внутреннем созерцании накопил в течение тысячелетий дух Индии, а индивидуальные жизнь и творения Махариши еще раз свидетельствуют о глубочайшем стремлении индийских народов к спасительной первопричине. Я говорю "еще раз", потому что Индия стоит перед роковым шагом – стать государством и тем вступить в сообщество народов, руководящие принципы которых полностью вписаны в программу, в коей отсутствуют как раз "отрешенность" и душевный покой.
Восточным народам грозит быстрый упадок их духовных богатств, а то, что придет на освободившееся место, не всегда может быть причислено к цвету западной духовности. Поэтому таких людей, как Рамакришна и Шри Рамана, можно рассматривать в качестве современных пророков, которым в отношении своих народов подобает та же компенсаторная роль, что и пророкам Ветхого Завета – в отношении "отпавшего" народа Израиля. Они не только заставляют вспомнить о тысячелетней духовной культуре Индии, но и прямо воплощают ее собой, будучи тем самым впечатляющим предостережением: за всей новизной западной цивилизации с ее материалистически-технической и коммерческой посюсторонностью не забывать о потребностях души. Горячечный порыв к политическому, социальному и духовному присвоению, с якобы неутолимой страстью раздирающий душу западного человека, неудержимо распространяется и на Востоке, грозя принести с собой последствия огромных масштабов. Не только в Индии, но и в Китае исчезло уже многое из того, чем никогда жила и плодоносила душа. Переход к внешней культуре, с одной стороны, может, правда, покончить с многочисленными недостатками, устранение которых выступает в высшей степени желательным и полезным, но, с другой стороны, как показывает опыт, этот прогресс покупается слишком дорогой ценой утраты душевной культуры. Ведь, без сомнения, жить в хорошо спланированном и гигиенически оборудованном доме намного удобнее, но это не снимает еще вопроса о том, кто обитатель этого дома и вкушает ли и его душа тот же порядок и опрятность, что и обслуживающий внешнюю жизнь дом. Жизнь показывает, что человек, настроенный на внешнее, никогда не удовлетворяется просто необходимым, а всегда стремится, помимо этого, получить что-то еще большее и лучшее, которое он, верный своему предрассудку, постоянно ищет во внешнем. При этом он полностью забывает, что сам, при всем внешнем благополучии, внутренне все тот же и потому, жалуясь, что у него только один автомобиль, а не два, как у большинства других, жалуется из-за внутренней нищеты. Конечно, внешняя жизнь человека претерпит еще много усовершенствований и приукрашиваний, но они будут утрачивать свою значимость в той мере, в какой внутренний человек будет от них отставать. Насыщение всем "необходимым", несомненно, есть источник счастья, который нельзя недооценивать, но помимо этого свои требования выдвигает и внутренний человек, и эти требования невозможно утолить никакими внешними благами. И чем слабее этот голос будет доноситься сквозь шум погони за удовольствиями мира сего, тем более внутренний человек будет превращаться в источник необъяснимого злополучия и непонятных несчастий в жизненных условиях, позволяющих надеяться на нечто совсем иное. Переход ко внешнему становится неисцелимым страданием, потому что никто не может понять, почему надо страдать от себя самого. Никто не дивится своей ненасытности, а всяк считает ее своим неотъемлемым правом, не думая о том, что односторонность душевной диеты ведет в результате к самым тяжким нарушениям нормы. Вот почему болен человек Запада, и он не успокоится, пока не заразит своей алчной неутомимостью весь мир.
Именно поэтому мудрость и мистика Востока должны значить для нас столь многое, хотя они говорят на собственном языке, которому невозможно подражать. Они должны напомнить нам о том похожем, что есть в нашей культуре и о чем мы уже забыли, и приковать наше внимание к тому, от чего мы отмахнулись как от несущественного, – а именно к судьбе нашего внутреннего человека. Жизнь и учение Шри Раманы имеют значение не только для индусов, но и для людей Запада. Они суть не просто "document humain"*, а предостерегающее послание человечеству, которое вот-вот потеряет себя в хаосе своей бессознательности и бесконтрольности.
* Человеческий документ (фр.)
Поэтому в самом глубоком смысле, видимо, неслучайно, что последняя работа Генриха Циммера передает нам, как завещание, именно труд жизни современного индийского пророка, столь убедительно изобразившего проблему преобразования души.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К "БАРДО ТХОДОЛ" [1]
Прежде чем начать этот вводный комментарий, я хотел бы сказать несколько слов о нашем тексте. "Бардо Тходол" – книга, содержащая наставление для только что усопшего. Она должна служить ему путеводителем по эпохе существования в бардо – промежуточном состоянии, периоде между смертью и новым рождением, длящемся 49 символических дней, – примерно так, как это делается в египетской Книге Мертвых. Текст состоит из трех частей. Первая часть, которая называется Чикхай-Бардо, изображает события, происходящие в душе в момент смерти. Во второй части, носящей название Чоннид-Бардо, речь идет о состоянии сновидения, наступающем после фактической смерти, – о так называемых кармических иллюзиях. Третья часть, озаглавленная Сидпа-Бардо, касается появления инстинктивного желания родиться и пренатальных событий. Самое главное заключается в том, что наивысшая степень прозрения и просветленности, а тем самым и наиболее благоприятная возможность спасения, наступает непосредственно в процессе умирания. Вскоре после этого начинаются "иллюзии", приводящие в конце концов к реинкарнации, причем свет лампад постепенно темнеет, дробясь на части, а видения становятся все более ужасными. Это погружение означает отчуждение сознания от спасительной истины и его обратное приближение к физическому существованию. Наставление должно обращать внимание усопшего на постоянно наличествующую возможность спасения и объяснять ему природу его видений на каждой ступени его блужданий и коллизий. Тексты Бардо читаются ламой в непосредственной близости от трупа.
Мне кажется, что наилучшим способом отдать дань благодарности обоим первым переводчикам "Бардо Тходол" – покойному ламе Кази Дава-Самдупу и д-ру Эванс-Венцу – будет попытка облегчить западному человеку понимание величественного идейного мира и проблематики этого произведения путем психологического комментирования его немецкого издания. Уверен, что всякий, кто прочтет эту книгу без шор на глазах и непредвзято воспримет ее воздействие, получит от чтения большую пользу.
"Бардо Тходол", с полным на то основанием названный его издателем Эванс-Венцем "Тибетской Книгой мертвых", первой своей публикацией в 1927 г. произвел немалую сенсацию в англоязычных странах. Он относится к тем сочинениям, которые интересуют отнюдь не только специалистов по буддизму махаяны, но и – благодаря своей глубокой человечности и еще более глубокому прозрению таинств души – привлекают к себе прежде всего неспециалистов, стремящихся расширить свое понимание жизни. Со временем выхода в свет "Бардо Тходол" стал, если так можно выразиться, моим постоянным спутником, которому я обязан не только многими импульсами и познаниями, но и весьма важными интуициями. В отличие от египетской Книги мертвых, о которой можно сказать или очень немного, или очень много, "Бардо Тходол" содержит человечески понятную философию и обращен к человеку, а не к божествам или дикарю. Его философия есть квинтэссенция буддийской психологической критики и в качестве таковой обладает, можно сказать, огромным преимуществом. Не только "гневные", но и "дружелюбные" божества суть сансарические проекции человеческой души – вот мысль, которая кажется просвещенному европейцу само собой понятной лишь потому, что напоминает ему о его собственных банализирующих упрощениях. Однако тот же европеец не воспринял бы эти божества в то же время и в качестве реальных если бы их объявили недействительными по той причине, что они являются проекциями. Но это под силу "Бардо Тходол", превосходящему как просвещенного, так и непросвещенного европейца в некоторых самых важных метафизических постулатах. Антиномичный характер любых метафизических высказываний, так же как и идея качественных различий между ступенями сознания и соответствующими им метафизическими реальностями, молчаливо подразумеваются повсюду в "Бардо Тходол". Величественная двузначность образует задний план этой необычной книги. Может быть, у западного философа это не вызовет симпатии, ибо Запад любит ясность и однозначность, из-за чего одни стоят горой за утверждение "бог есть", а другие столь же ревностно – за отрицание "бога нет". Что, интересно, делали бы эти враждующие братья с таким, например, предложением: "Познавая пустотность собственного ума в качестве природы будды и рассматривая таковую в качестве собственного сознания, ты пребываешь в состоянии божественного ума Будды"?
Боюсь, что подобные высказывания не встретят сочувствия у нашей западной философии, так же как и теологии. "Бардо Тходол" – в высшей степени психологичная книга, а они все еще находятся на средневековой, допсихологической стадии, где выслушиваются, поясняются, защищаются, критикуются и аргументируются лишь те высказывания, которые делаются в условиях, когда высказывающаяся инстанция единодушно снята с повестки дня как не значащаяся в программе.
Однако метафизические утверждения суть высказывания души, и потому они психологичны. Западному уму эта само собой разумеющаяся истина кажется либо уж очень само сабо разумеющейся, когда он по понятной враждебности впадает в просвещенчество, либо недопустимым отрицанием метафизической "истины". Слово "психологический" на его слух всегда звучит как "всего лишь психологический". "Душа" кажется ему чем-то крошечным, неполноценным, личным, субъективным и тому подобным. Поэтому предпочитают пользоваться словом "дух", всегда при этом ненароком принимая такой вид, будто о "духе", может быть, и впрямь высказано нечто весьма субъективное, – конечно, только о "всеобщем" или даже, если возможно, об "абсолютном" духе. Эта немного смешная самоуверенность служит видимо компенсацией за плачевно маленькую душу. Так и кажется, что Анатоль Франс в своем "Острове пингвинов", вкладывая в уста Екатерины Александрийской просьбу к господу богу "de leur асcorder unе ame immortelle, mais petite"*, выражает обязательную для всего Запада истину.
* "Дайте им бессмертную душу, но только маленькую" (фр.)
Душа делает свои метафизические высказывания благодаря врожденной божественной творческой силе, – это она "полагает" дистинкции метафизических сущностей. Она – не только условие метафизической реальности, но и сама эта реальность.
Этой великой психологической истиной и начинается "Бардо Тходол" – не погребальный обрядовый текст, а наставление усопшим, вожатый на пути через изменчивые явления жизни в бардо, т.е. существования в течение 49 дней начиная от смерти вплоть до следующей инкарнации. Если мы поначалу не станем принимать во внимание само собой разумеющееся для Востока предположение о вневременности души, то – в качестве читателей "Тходола" – без труда сможем поставить себя на место усопшего и внимательно рассмотрим содержание первого параграфа, вкратце изложенного мной выше. Тут – не самоуверенно, а тактично – нам будет сказано следующее.
О благородный (имярек), слушай же. Ныне ты ощущаешь сияние Ясного Света Чистой Реальности. Познай же его. О благородный, твой нынешний интеллект, согласно истинной своей природе, состоит не из признаков, красок или подобного этому, а, будучи естественным образом пустотным, является истинной реальностью, Всеблагом. – Свой интеллект, ныне пустотный, считай же не пустотой ничто, а интеллектом самим по себе – свободным, светящимся, изумительным и блаженным. Это и есть истинное сознание, Всеблагой Будда.
Познавший это находится в состоянии дхармакайи, совершенной просветленности, а если выразить это по-нашему: творческой праосновой всех метафизических высказываний является сознание как видимое и ощущаемое проявление души. "Пустотность" – состояние до всякого высказывания, до всякого "полагания". Полнота же различных явлений содержится в душе в латентном виде.
Твое собственное сознание, – продолжает текст, – светящееся, пустотное и неотличное от Великого Тела Сияния, не рождается, не умирает, а есть Неменяющийся Свет – Будда Амитабха.
В действительности душа не ничтожна, она – сама сияющая божественность. Для Запада такое положение либо весьма сомнительно, а то и вовсе неприемлемо, либо абсолютно безусловно, причем в этом случае происходит инфляция теософского характера. Мы как-то искаженно воспринимаем эти вещи. Но если мы настолько овладеем собой, что сможем удержаться от нашего основного заблуждения – стремления все время что-то делать с вещами, то, возможно, нам удастся извлечь отсюда важные для нас выводы – или хотя бы оценить величие "Бардо Тходол", дающего усопшему в дорогу ту последнюю и самую высокую истину, что даже боги суть сияние и свет собственной души. От этой истины у восточного человека отнюдь не меркнет свет в глазах, что произошло бы с христианином, который счел бы себя в такой ситуации ограбленным, лишенным бога, – нет, сама его душа и есть свет божественности, а божественность и есть душа. Восток умеет выдержать эту парадоксальность лучше, чем это было суждено бедному Ангелиусу Силезиусу. (Который, впрочем, и сегодня в психологическом отношении не пришелся бы ко двору.)
Особый смысл в том, что в первую очередь усопшему раскрывают глаза на первенство души, ибо жизнь раскрывает глаза, скорее, на что-то совсем иное. В жизни мы втиснуты в бесчисленное множество толкающихся, подавляющих вещей, где – перед лицом чистых "данностей" – дело уж никак не доходит до того, чтобы задуматься: кто, собственно, "дал" эти "данности". Из них-то и высвобождается усопший, а наставление имеет целью помочь ему в этом. Поставив себя на место усопшего, мы извлечем из такого наставления не меньшую пользу, – ведь уже из первого параграфа мы узнаем, что тот, кто дает все "данности", обитает в нас самих: истина, которая вопреки всей очевидности, никогда не осознается ни в больших делах, ни в мелочах, хотя слишком часто бывает нужно, даже необходимо знать ее. Безусловно, это учение годится только для людей вдумчивых, которым важно понять свою жизнь, для своего рода гностиков по складу, верующих в Спасителя, который подобно Спасителю мандеев называет себя "познанием жизни" (manda d'hajie). Ощущать в качестве "данности" и мир – вероятно, удел очень немногих. Очевидно, для того чтобы увидеть, каким образом мир "дается" сущностью души, нужно великое, жертвенное обращение. Видеть, как это происходит со мной, намного более непосредственно, выразительно, впечатляюще и потому убедительно, нежели наблюдать, как я сам это делаю. Конечно же, животная природа человека негодует, когда он ощущает себя творцом собственных данностей. Поэтому такие попытки всегда бывали предметом тайных инициации, в которые, как правило, входила символическая смерть, выражавшая целостный характер обращения. Наставления "Тходола" фактически тоже имеют целью вызвать в памяти усопшего переживания, связанные с инициацией, или поучения гуру, ибо эти наставления, в сущности, не что иное как инициация усопшего в жизнь бардо, так же как инициация живого – не что иное как подготовка к потустороннему (по крайней мере, это обычное дело во всех культурных мистериях начиная с египетских и элевсинских). Однако "потустороннее" при инициации живого – это уж во всяком случае не потусторонность смерти, а обращение внутренней установки, т.е. потусторонность психологическая, а выражаясь языком христианства, "спасение" из оков мира и греха. Спасение же есть выпутывание и освобождение из прежнего состояния помраченности и бессознательности и переход к состоянию просветленности, несвязанности, преодоления и триумфа над "данностями".
В этом смысле "Бардо Тходол" есть процесс инициации (что ощущал и Эванс-Венц), нацеленный на восстановление божественности души, утраченной ею при рождении. Для Востока и вообще-то характерно, что поучение всегда начинается с самого главного, т.е. последних и высших принципов, – всего того, что у нас попало бы в конец, например, как у Апулея, когда Лукия чтят как Гелиоса лишь в конце. В соответствии с этим инициация в "Бардо Тходол" протекает в виде "climax a maiori ad minus"*, а завершается новым рождением in utero**. В сфере же западной культуры единственной еще живой и имеющей практическое употребление формой "процесса инициации" является применяемый врачами "анализ бессознательного". Такое предпринимаемое из терапевтических соображений рассмотрение подоплеки и корней сознания есть прежде всего рациональная майевтика в сократовском смысле, – осознавание находящегося еще в зачаточном состоянии, подпорогового, еще не рожденного душевного содержания. Первой такого рода терапией был, как известно, психоанализ Фрейда, занимавшийся главным образом сексуальными фантазиями. Эта сфера соответствует последнему разделу Сидпа Бардо, где умерший, будучи неспособным воспринять учения Чикхай и Чоннид Бардо, начинает предаваться сексуальным фантазиям и поэтому притягивается совокупляющимися парами, затем попадает в матку и вновь рождается на земле. При этом, как и полагается, в действие вступает "эдипов комплекс". Если карма умершего предопределяет его новое рождение в качестве мужчины, то он влюбляется в свою будущую мать, а к соответствующему отцу относится с омерзением и ненавистью, и наоборот, будущая дочь станет воспринимать предполагаемого отца как в высшей степени привлекательного, а мать – как отвратительную. Эту специфически фрейдовскую область в ходе аналитического процесса осознавания бессознательных содержаний европеец пробегает в обратном направлении. Он в известном смысле возвращается в мир инфантильно-сексуальных фантазий usque ad uterum***. Психоаналитиками даже высказывалось мнение о том, что травма – это par excellence**** само рождение; было даже намерение продвинуться вплоть до воспоминаний внутриматочного происхождения. Вот здесь-то – к сожалению! – западная рациональность и достигает своего предела. А фрейдовскому психоанализу можно пожелать, чтобы он вел свои изыскания все дальше назад в поисках следов так называемых внутриматочных переживаний; ведь в ходе этого отважного предприятия он, пройдя через Сидпа Бардо, добрался бы снизу до последней главы предшествующего раздела – Чоннид Бардо. Будучи снаряженным нашими биологическими представлениями, такое предприятие, конечно же, осталось бы безуспешным, ибо здесь необходима совершенно иная философская подготовка, нежели та, конторой располагает естественнонаучная точка зрения. Если бы и впрямь было возможно обнаружить хотя бы следы субъекта переживания, то последовательное ретроспективное прослеживание привело бы к постулату о существовании доматочной преджизни – настоящей жизни в бардо. Однако дело не пошло дальше предположения о следах внутриматочных переживаний, и даже так называемой "родовой травме" суждено оставаться прописной истиной, которая, вообще говоря, объясняет не больше, чем предположение, будто жизнь есть болезнь с неблагоприятным диагнозом: ведь она всегда приводит к летальному исходу.
* Здесь: "нисхождение от большего к меньшему" (лат.) ** В матке (лат.) *** Вплоть до матки (лат.) **** В основном (фр.)
Таким образом, фрейдовский психоанализ в основном остановился на уровне переживаний, описанных в Сидпа Бардо, а именно на уровне сексуальных фантазий и тому подобных "несовместимых" влечений, вызывающих страх и иные состояния аффекта. Однако фрейдовская теория представляет собой первую на Западе попытку в известном смысле изнутри, т.е. из сферы животных инстинктов, разведать ту область душевной жизни, которая в тантристском ламаизме соответствует Сидпа Бардо, Некий – хотя и вполне оправданный – страх перед метафизикой не дал Фрейду впасть в "оккультные" сферы. Кроме того – если относиться к психологии Сидпа Бардо с доверием, – состояние сидпа характеризуется крепким ветром кармы, который подгоняет умершего со всех сторон, покуда тот не найдет место своего рождения, т.е. состояние сидпа само не позволяет отступать дальше, потому что по сравнению с состоянием чоннид оно ограничено интенсивным стремлением вниз, к сфере животных инстинктов и к новому физическому воплощению. Иначе говоря, тот, кто проникает в бессознательное, руководствуясь биологическими предпосылками, застревает в сфере инстинктов и не в состоянии выйти за ее пределы в ином направлении, кроме обратного – к физическому существованию. Поэтому-то иначе и быть не могло, когда результатом фрейдовской исходной позиции стало существенно негативное отношение к бессознательному: – оно "не что иное как...". В то же самое время такое отношение к душе свойственно Западу вообще, только здесь оно выражено яснее, недвусмысленнее, беспощаднее и грубее, чем это отважились бы сделать другие. По сути дела, они думают примерно так же. А что касается мнения по этому поводу "духа", то остается лишь вежливо пожелать ему большей убедительности. Но даже Макс Шелер [2] с сожалением констатировал, что усилиями этого духа дело оказалось представленным по меньшей мере в сомнительном свете.
Можно, пожалуй, признать, что западный, рационалистический дух попал психоанализом прямо так сказать в невротическое состояние сидпа, а там – в некритическом предположении, будто всякая психология есть дело субъективное и личное, – оказался в неизбежном застое. Тем не менее в результате этого вторжения мы по крайней мере зашли на один шаг в тыл нашему сознательному существованию. Теперь, когда мы об том знаем, мы тем самым имеем указание на то, как следует читать "Тходол": это надо делать задом наперед. Если нам при помощи западной науки в какой-то мере удалось постичь психологический склад Сидпа Бардо, то теперь перед нами встает более высокая и подлинная задача – объяснить и предшествующий раздел Чоннид Бардо.
Для состояния чоннид характерны кармические иллюзии, т.е. иллюзии, вызванные психическими остатками (или заслугами) предыдущей жизни. Восточное представление о карме – это своего рода учение о психической наследственности, зиждущееся на гипотезе о реинкарнации, а в конечном счете – о вневременной сущности души. Ни наша система знаний, ни наш рациональный склад ума не в состоянии идти в ногу с подобным представлением. Для нас тут слишком много всяких "если" и "но". Прежде всего, мы отчаянно мало знаем о возможностях существования индивидуальной психики за чертою смерти, так мало, что даже не можем представить себе, каким могло бы быть доказательство чего-то относящегося к этой сфере. К тому же нам слишком хорошо известно, что по причинам теоретико-познавательного характера такое доказательство невозможно, как и доказательство бытия бога. Поэтому можно было бы осторожно принять понятие кармы – лишь в той мере, в какой оно в самом широком смысле может пониматься в качестве психической наследственности вообще. Существует психическая наследственность, т.е. наследование таких психических черт, как предрасположенность к заболеваниям, свойства характера, способности и т.д. Психическая природа таких фактических очертаний не несет никакого урона, даже когда наша естественнонаучная мода сводит ее к якобы физическим условиям (строению ядра!). В жизни встречаются важные явления, воздействующие главным образом психически, так же как имеются и такие наследственные черты, которые выражаются по преимуществу физиологически, т.е. физически. Среди психических наследуемых комплексов существует, однако, особая разновидность, не ограниченная в главном ни семейной, ни расовой наследственностью. Есть такие всеобщие духовные предрасположенности, под которыми следует понимать своего рода формы (платоновские эйдолы), служащие духу образцами, когда он организует свои содержания. Эти формы можно назвать и категориями – по аналогии с логическими категориями, этими всегда и всюду наличными, необходимыми предпосылками мышления. Только наши "формы" – это категории не рассудка, а силы воображения. Поскольку построения фантазии в самом широком смысле всегда наглядны, то ее формы априори носят характер образов, а именно типических образов, которые я по этой причине вслед за Августином и назвал архетипами. Настоящим кладезем архетипов являются сравнительное исследование религии и мифологии, а также психология сновидений и психозов. Поразительный параллелизм этих образов и выраженных ими идей нередко служил отправной точкой при построении самых смелых гипотез о переселении народов, хотя гораздо уместнее было бы размышлять об удивительной однородности человеческой души во все времена и во всех странах. Фактически архетипические формы фантазии спонтанно репродуцируются всегда и всюду, не вызывая даже малейшего подозрения в непосредственном заимствовании. Исконные психические структурные связи отличаются точно такой же удивительной изоморфностью, как и структурные связи видимого тела. Архетипы представляют собой нечто вроде органов дорациональной психики. Это постоянно наследуемые, всегда одинаковые формы и идеи, еще лишенные специфического содержания. Специфическое же содержание появляется лишь в индивидуальной жизни, где личный опыт попадает именно в эти формы. Если бы эти архетипы не предсуществовали повсюду в тех же самых формах, то как в таком случае можно было бы объяснить, например, что "Бардо Тходол" почти везде исходит из предположения, будто мертвые не знают, что они мертвы, и что такое утверждение столь же часто встречается в наиболее пошлой и некультурной спиритической литературе Европы и Америки? Хотя мы и находим это же утверждение уже у Сведенборга, все же его сочинения известны отнюдь не настолько широко, чтобы любой обыкновенный медиум давал слабинку именно в этом месте. Абсолютно немыслимо, чтобы существовала связь между Сведенборгом и "Бардо Тходол". Что мертвые просто продолжают свою земную жизнь и, само собой понятно, по этой причине часто не подозревают, что стали духами умерших, – самая исконная, повсеместно распространенная идея. Это архетипическая идея, и как только кто-либо переживает явление соответствующего призрака, она становится чувственно воспринимаемой. Характерно также, что призраки повсюду обнаруживают некоторые общие черты. Разумеется, я говорю об этой недоказуемой спиритической гипотезе лишь как об известной мне, а не как о предмете, в существование которого я верю. Мне достаточно гипотезы о наличии имеющейся у всех развитой и в такой форме наследуемой психической структуры, направляющей, даже загоняющей все переживания в определенную сторону и придающей им определенную форму. Ибо как органы тела – не индифферентные и пассивные данности, а скорее динамические комплексы функций, проявляющие свое наличие с железной необходимостью, так и архетипы суть динамические (инстинктные) комплексы своего рода психических органов, в высокой степени детерминирующие душевную жизнь. Поэтому-то я и охарактеризовал архетипы и как доминанты бессознательного. А тот слой бессознательной души, который состоит из этих повсеместно распространенных динамических форм, я назвал коллективным бессознательным.
Насколько мне известно, не существует никакой индивидуальной пренатальной или даже доматочной наследственной памяти, но, очевидно, есть наследуемые архетипы, которые, однако, лишены содержания, поскольку не содержат пока никаких субъективных переживаний. Они, как уже сказано, достигают сознания лишь тогда, когда их делает воспринимаемыми личностный опыт. Как мы видели, психология сидпа есть желание жизни и рождения. (Сидпа = "бардо жажды нового рождения".) Потому-то это состояние уже само по себе не допускает переживания транссубъективных психических реальностей, разве только индивидуум категорически отвергает возможность вновь родиться в мире сознания. Согласно "Тходолу", в каждом состоянии бардо существует возможность взойти к дхармакайе через четырехликую гору Меру – в случае, если усопший не следует своей склонности идти за темными светочами. В переводе на наш язык это означает, что разум, каким мы его понимаем, встречает отчаянное сопротивление, а тем самым отрицается разумно-священная привилегия собственной сущности как Я. Практически это не что иное как имеющая тяжкие последствия капитуляция перед объективными силами души, своего рода символическая смерть, в Сидпа Бардо соответствующая разделу о суде над умершими. Период, о котором говорится в этом разделе, означает конец рационально-сознательной и морально-ответственной жизни и добровольное подчинение тому, что "Тходол" называет "кармической иллюзией". Кармическая иллюзия – это система убеждений или образ мира в высшей степени иррациональной природы; она никак не соотносится с суждениями рассудка и не объясняется ими, а порождается исключительно ничем не сдерживаемой силой воображения. Это сновидение или просто "фантазия", от которой любой благожелательно настроенный человек не преминет сразу же призывать отказаться, – и действительно, пока что очень нелегко увидеть, в чем состоит отличие такой фантазии от бреда сумасшедшего. Во всяком случае, часто довольно лишь небольшого "abaissement du niveau mental", чтобы этот иллюзорный мир был выпущен на свободу. Страх и мрак этого момента соответствуют первым этапам Сидпа Бардо. Но содержания этого бардо позволяют обнаружить архетипы, эти кармические образы, в их пока что ужасающем виде. Состояние чоннид соответствует состоянию искусственно вызванного психоза.
Много говорят и пишут об опасностях, которые заключает в себе йога, особенно пользующаяся недоброй славой кундалини-йога. Искусственно вызванное психотическое состояние, которое у некоторых предрасположенных индивидуумов при определенных обстоятельствах очень просто может перейти в настоящий психоз, и есть эта опасность, к которой следует относиться со всей серьезностью. Здесь и впрямь речь вдет об опасных вещах, с которыми – говоря на западный манер – не следует иметь "дела". Это было бы вмешательством в судьбу, доходящим до последних глубин человеческого бытия и способным распечатать источник таких страданий, о которых в здравом уме и не грезилось. Им соответствуют адские мучения состояния чоннид, которые наш текст живописует следующим образом.
Бог смерти набросит веревку на твою шею и потащит тебя; <он> отрубит тебе голову, вырвет тебе сердце, выпустит потроха, высосет твой мозг, выпьет твою кровь, пожрет твою плоть и обгложет тебя до костей; а ты не сможешь умереть. Даже когда твое тело будет разрублено на куски, оно вновь восстанет. Раз за разом разрубаемое, оно готовит тебе ужасную боль и муку.
Эти мучения лучше всего передают характер опасности: речь идет о дезинтеграции целостности тела бардо, которое в качестве "subtle body"* являет собой видимый облик души умершего. Психологическим эквивалентом этого расчленения выступает психическая диссоциация в своей губительной форме – шизофрения (расщепление сознания). Эта наиболее часто встречающаяся душевная болезнь заключается главным образом в выраженном "abaissement du niveau mental", с одной стороны упраздняющем нормальное торможение, которое исходит от сознания, а тем самым, с другой стороны, запускающем ничем не сдерживаемую игру бессознательных доминат.
* Тонкое тело (англ.)
Этот переход от состояния сидпа к состоянию чоннид представляет собой, таким образом, опасное изменение направлений и ориентации сознательного состояния в обратную сторону, принесение в жертву безопасности которую дает сознательное ощущение себя как Я, и отпускание себя в крайне рискованную игру хаотически возникающих фантастических образов. Фрейд, сказав, что Я – это "единственное гнездилище страха", выразил тем самым очень верную и глубокую интуицию. Страх перед самопожертвованием таится внутри и за спиной любого Я, ведь этот страх – не что иное как часто лишь с трудом подавляемое требование бессознательных сил получить полное господство. Любому самостановлению (индивидуации) приходится преодолевать этот опасный узкий проход, ибо в целокупности самости есть и ужасное, нижний или верхний миры душевных доминат, от которых Я с трудом и лишь в известной степени эмансипировалось некогда, получив более или менее воображаемую свободу. Это освобождение – конечно, необходимое героическое предприятие, хотя и отнюдь не нечто окончательное, ибо представляет собой лишь порождение субъекта, которому для полноты нужна еще встреча с объектом. Поначалу кажется, будто этот объект – мир, с такою-то целью раздутый при помощи проекций. Ищут и находят себе проблемы, ищут и находят себе недруга, ищут и находят любезное сердцу и дорогое, и сладко сознавать, что все это плохое и хорошее – там, в зримом объекте, где можно побеждать, наказывать, уничтожать или давать счастье. Но сама природа не всегда позволяет этому состоянию райской невинности сохраняться долго. Есть и всегда были люди, которые не могут удержаться от интуитивного понимания того, что мир и переживание мира имеют одну и ту же природу и отражают, в сущности, что-то такое, что сокрыто в глубинах самого субъекта, в его собственной транссубъективной действительности. Эту-то глубочайшую интуицию и предполагает, по ламаистскому учению, состояние чоннид, почему Чоннид Бардо и имеет подзаголовок "Бардо переживания действительности".
Та действительность, которая переживается в состоянии чоннид, есть, как учит последний раздел Чоннид Бардо, действительность мысли. "Формы мысли" выступают в качестве действительности, фантазия принимает реальный облик, а сновидение, вызывающее ужас и разыгранное кармой, т.е. бессознательными доминатами, прекращается. Вначале появляется несущий уничтожение бог смерти, этот царь всех ужасов, за ним следуют (мы читаем текст задом наперед) 28 могущественных и страшных богинь и 58 божеств, пьющих кровь. Вопреки их демоническому облику, выражающему неразбериху пугающих атрибутов и безобразных картин, – здесь уже проступает некий порядок. Это группы богов, организованные по четырем сторонам неба и выделяемые типичным мистическим цветом. Постепенно выясняется, что эти божества организованы в мандалы (окружности), поделенные крестом на четыре цвета. Эти цвета соотносятся с четырьмя формами мудрости:
Белый = световой тропе зерцалоподобной мудрости
Желтый = световой тропе мудрости тождества
Красный = световой тропе разделяющей мудрости
Зеленый = световой тропе всеформирующей мудрости
На высшей ступени интуиции усопший узнает, что эти реальные формы мысли исходят от него самого и что четыре световые тропы мудрости, открывающиеся перед ним, суть излучения его собственных психических "возможностей". Тем самым мы оказываемся в самом сердце психологии ламаистской мандалы, которую я истолковал в изданной совместно с Рихардом Вильхельмом книге "Тайна Золотого Цветка" [3].
Прослеженные задом наперед события, миновав Чоннид Бардо, кульминируют на видении четырех Величий: 1. зеленого Амогха Сиддхи, 2. красного Амитабы, 3. желтого Ратна Самбхавы и 4. белого Ваджра-Саттвы, завершаясь картиной сияющего голубого света Дхарма-Дхату, тела Будды, исходящего – в центре мандалы – из сердца Вайрочаны.
С этим заключительным видением карма и ее иллюзии растворяются; сознание отвязывается от всякой формы и всякой привязанности к объекту и возвращается во вневременное изначальное состояние дхармакайи. Тем самым – при чтении задом наперед – достигнуто состояние чикхай, наступающее в момент смерти.
Мне кажется, этих указаний достаточно, чтобы внимательный читатель получил некоторое представление о психологии "Бардо Тходол". Эта книга изображает обращенный вспять путь инициации, который – в некотором смысле в противоположность христианским эсхатологическим ожиданиям – подготавливает спуск в глубины психического становления.
Имея в виду полную интеллектуальную и рационалистическую потерянность европейца в мире, целесообразно для начала перевернуть "Тходол" и рассматривать его как картину переживания процесса восточной инициации, причем божества Чоннид Бардо можно при желании заменить христианскими символами. Во всяком случае, эта последовательность событий представляет собой близкую параллель феноменологии европейского бессознательного в условиях так называемого процесса инициации, т.е. в случае, когда бессознательное подвергается анализу. Процесс трансформации бессознательного, имеющий место в ходе анализа, выступает в качестве естественной аналогии искусственно организованным религиозным инициациям, которые, безусловно, принципиально отличаются от естественного процесса. Они упреждают естественное развитие, а естественное символотворчество заменяют намеренно отобранными, закрепленными традицией символами, как это происходит, например, в духовных упражнениях Игнатия Лойолы или в медитативных упражнениях буддийской и тантрической йоги.
Обращение последовательности глав, предложенное мною ради облегчения понимания, разумеется, не является замыслом "Бардо Тходол". Но то, что мы находим этому применение в психологии, в крайнем случае соответствует некоему параллельному замыслу, очевидно, не запрещенному ламаизмом. Собственной же целью этой странной книги выступает помощь в просвещении находящегося в бардо умершего, – операция, которая образованному европейцу XX столетия, конечно же, будет казаться весьма странной. Католическая церковь – единственное место в мире белого человека, где еще можно отыскать следы попечения о душах умерших. У жизнерадостного протестантизма имеются, собственно, лишь некоторые спиритические "rescue circles"*, которые занимаются осознаниванием усопших, не знающих о своей смерти [4].
* Кружки взаимоспасения (англ.)
И все же у нас на Западе нет ничего такого, что хоть как-то можно сравнить с "Бардо Тходол", за исключением некоторых тайных сочинений, не попадающих, однако, в поле зрения широкой публики и официальной науки. В соответствии с традицией и наш "Тходол", видимо, должен быть причислен к тайным сочинениям [5]. В качестве такового он образует особую главу магического душеспасения, действие которого распространяется на то, что по ту сторону смерти. Естественно, этот культ мертвых зиждется, с рациональной же точки зрения – на психологической потребности живых сделать что-нибудь для усопших. Поэтому речь идет о совершенно элементарной потребности, которую перед лицом смерти близких и друзей испытывает даже самый просвещенный человек. Вот почему у нас еще повсюду соблюдаются обряды, совершаемые по усопшим, независимо от просвещенности. Даже Ленину пришлось смириться с бальзамированием и роскошным мавзолеем, в духе у какого-нибудь египетского владыки, – и, разумеется, не потому, что его соратники верят в телесное восстание из мертвых. Если оставить в стороне католические мессы по душам всех усопших, то окажется, что наша забота об умерших находится на зачаточной и самой низкой ступени, но не потому, что мы недостаточно убеждены в бессмертии души, а потому, что мы зарационализировали эту душевную потребность. Мы ведем себя так, как будто у нас ее нет; а так как мы не умеем верить в посмертное существование, то и вообще ничего не делаем. Более же наивное чувство относится к себе серьезно и, как, например, в Италии, в ужасе сооружает себе прекрасные надгробия. На значительно более высокой ступени стоит месса по душам всех умерших, которая откровенно предназначена для душевного благополучия усопшего, а не выражает просто удовлетворение жалостивых сентиментальных чувств. Наивысшей же духовной щедростью по отношению к усопшему являются наставления "Бардо Тходол". Они столь обстоятельны и приспособлены к "изменениям состояния" умершего, что серьезный читатель задается вопросом, а не заглянули все же, в конце концов, эти древние ламаистские мудрецы в четвертое измерение, открыв при этом секрет великих тайн жизни.
Даже если истине суждено принести нам разочарование, все же трудно удержаться от искушения наделить видение жизни в бардо какой-то реальностью. Во всяком случае, по меньшей мере экстравагантно рассматривать посмертное состояние, по поводу которого наша религиозная фантазия создала самые невероятные представления, главным образом как опасное состояние сновидения и дегенерации [6]. Наивысшее видение появляется не в конце бардо, а в самом его начале, в момент смерти, а то, что происходит вслед за этим, представляет собой долгое соскальзывание в иллюзию и помрачение вплоть до перехода к новому физическому рождению. Духовный апогей достигается в конце жизни. Человеческая жизнь, таким образом, есть средство максимального свершения; только в ней создается та карма, которая дает мертвому возможность безобъектно пребывать в пустоте полноты света и тем самым быть в центре колеса перерождений, избавившись от всех иллюзий возникновения и исчезновения. Жизнь в бардо несет не вечные радости или мучения, а просто спуск к новой жизни, которая должна приблизить человека к его конечной цели. Эсхатологической же целью является то, что человек дал при жизни в качестве последнего и высшего плода трудов и исканий своего земного бытия. Такое воззрение превосходно, более того, оно мужественно и героично.
Дегенеративный характер жизни в бардо прекрасно подтверждается западной спиритической литературой, которая с удручающим постоянством воспроизводит впечатление ублюдочной банальности сообщений духов. Наша научная проницательность, разумеется, без промедления объясняет эти сообщения как флюиды бессознательного медиумов и участников сеанса и применяет тот же принцип для истолкования картины посмертного существования, которую дает наша Книга мертвых.
Несомненно, что вся книга состоит их архетипических содержаний бессознательного. За этим не стоят – и в данном случае наша западная рациональность права – никакие физические или метафизические реальности, а стоит "просто" реальность душевных данностей. Существует ли нечто в качестве "данного" субъективно или объективно, – оно существует. О том, что за этим, не говорит и "Бардо Тходол", ведь даже пятеро его Дхьяни Будд суть душевные данности, и именно об этом должен узнать усопший, если ему еще при жизни не стало ясно, что его душа и тот, кто дает все данности, – одно и то же. Мир богов и духов – "не что иное как" коллективное бессознательное во мне. Для того чтобы перевернуть это предложение, которое в таком случае гласило бы: "Бессознательное есть мир богов и духов вне меня", не требуется никакой интеллектуальной акробатики, а нужна целая человеческая жизнь, а может быть, даже много жизней при все возрастающем приближении к законченности. Я намеренно не сказал "к совершенству", ибо "совершенные" делают совсем другие открытия.
"Бардо Тходол" был и остается тайной книгой, какие бы комментарии к нему мы ни сочиняли, ибо его постижение требует духовных способностей, которыми никто не обладает просто так, но которыми можно овладеть лишь благодаря особому образу и опыту жизни. Хорошо, что существуют такие "бесполезные" с точки зрения содержания и задач книги. Они предназначены для людей, которым было суждено иметь не слишком высокое мнение о пользе, о цели и о смысле нашего теперешнего "культурного мира".
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К "ТИБЕТСКОЙ КНИГЕ ВЕЛИКОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ" [1]
1. РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ВОСТОЧНЫМ И ЗАПАДНЫМ МЫШЛЕНИЕМ*
Д-р Эванс-Венц доверил мне прокомментировать текст, который представляет собой яркую иллюстрацию восточной "психологии". Уже сам факт, что мне приходится использовать кавычки, говорит о том, что применимость этого словосочетания весьма проблематична. Видимо, уместно будет отметить, что Восток не создал никакого эквивалента нашей психологии, ограничившись одной метафизикой. Критическая философия, мать современной психологии, осталась для Востока столь же чуждой, как и для средневековой Европы. Потому-то слово "ум" (mind) употребляется на Востоке в метафизическом смысле. Наше западное понимание ума утратило это значение за время, прошедшее после Средних веков, и нынче это слово обозначает "психическую функцию". И хотя мы не знаем, да и не делаем вид, будто знаем, что такое "психика", мы все же в состоянии возиться с феноменом "ума".
* Перевод В. Бакусева, редакция Владимира Данченко (2002). Поскольку доступа к оригиналу у меня не было, некоторые неясные места пришлось оставить как есть. – В.Д.
Мы не признаем, что ум есть метафизическая субстанция или что существует связь между индивидуальным умом и гипотетическим Вселенским Умом (Universal Mind). Поэтому наша психология – это исключительно наука о феноменах без каких бы то ни было метафизических импликаций. Результатом развития западной философии двух последних столетий стало то, что ум оказался изолирован в своей собственной сфере и лишился былого единства со Вселенной. Сам человек перестал быть микрокосмосом и подобием космоса, а его "душа" (anima) более не является единосущной scintill'ой, искрой Мировой Души – Anima Mundi.
Соответственно такая психология трактует все метафизические положения и утверждения о уме и его структуре как продукты самогó ума, полагая их высказываниями, возникающими в конечном счете из определенных бессознательных диспозиций. Она не считает их абсолютно бесспорными или даже вообще способными установить некую метафизическую истину. Мы не располагаем интеллектуальными средствами, которые бы позволили нам определить, правильна ли такая установка или неправильна. Мы знаем только, что общезначимая достоверность любого метафизического постулата, – скажем, о Вселенском Уме, – не доказана и не может быть доказана. И когда ум заверяет нас в существовании Вселенского Ума, он, с нашей точки зрения, просто делает некое утверждение. Мы нисколько не допускаем, что этим утверждением доказывается существование Мирового Ума. Против подобных рассуждений нечего возразить, но доказательств, что наш вывод безусловно верен, тоже нет. Иными словами, столь же вероятно, что ум наш есть не что иное, как доступное нашему восприятию проявление Вселенского Ума; но мы не знаем, и даже представить себе не можем, как можно было бы узнать, так это или не так на самом деле. Поэтому психология утверждает, что ум не в состоянии ни описать, ни объяснить того, что лежит за его пределами.
Признавая, таким образом, положенные нашему уму границы, мы демонстрируем здравый человеческий рассудок. Я согласен, что расстаться с миром чудес, в котором живут и действуют созданные умом вещи и существа, – значит пойти на жертвы. В таком первобытном мире даже неодушевленные объекты наделяются животворной, исцеляющей, магической силой, благодаря которой они соучаствуют в нашей, а мы – в их жизни. Рано или поздно нам пришлось понять, что их власть – это наша собственная власть, а их реальная значимость – результат нашей проекции. Теория познания – всего лишь последний шаг из юности человечества, из мира, где сотворенные умом фигуры населяли метафизические небеса и метафизическую преисподнюю.
Однако вопреки этой неотразимой теоретико-познавательной критике мы все же упорно придерживались убеждения в том, что некий орган веры дает человеку способность познавать Бога. И вот на Западе развилась новая болезнь – конфликт между наукой и религией. Критическая философия науки стала, так сказать, негативно-метафизической – иными словами, материалистической – на основе ошибочного суждения: материю сочли реальностью, которую можно пощупать и познать. А ведь она – всецело метафизическое понятие, гипостазированное некритическими умами. Материя – это гипотеза. Говоря "материя", мы фактически создаем символ для чего-то неизвестного, которое с тем же успехом может оказаться "духом" или чем-то еще, быть может даже Богом. Религиозная вера, со своей стороны, никак не желает отречься от своего докритического мировоззрения. Вопреки призыву Христа, верующие пытаются остаться детьми, вместо того, чтобы стать как дети. Они цепляются за мир детства. Один известный современный теолог в своей автобиографии признается, что Иисус был ему добрым другом "с самого детства". Иисус – убедительный пример человека, который проповедовал нечто иное, нежели религия его отцов. Но imitatio Christi,* по-видимому, не содержит в себе той духовной и душевной жертвы, которую ему пришлось принести в начале своего пути, и без которой он никогда не стал бы Спасителем.
* Подражание Христу (лат.)
В действительности конфликт между наукой и религией обусловлен превратным пониманием обеих. Научный материализм лишь гипостазировал* нечто новое, а это интеллектуальный грех. Он дал высшему принципу реальности другое имя и поверил, что тем самым создал нечто новое и разрушил нечто старое. Но как ни называть принцип бытия – богом, материей, энергией или как-нибудь еще – ничего от этого не возникает, а только меняется символ. Материалист – это метафизик malgre lui**.
* Гипостазировать – приписывать самостоятельное бытие общим понятиям (прим. пер.). ** Поневоле, вопреки своему желанию (фр.).
Верующий, со своей стороны, по чисто сентиментальным причинам пытается удержать первобытное состояние ума. Он не собирается отказываться от первобытного, детского отношения к созданным умом и гипостазированным образам, а намерен и дальше вкушать ощущение защищенности и стабильности в мире, надзор за которым осуществляют могущественные, ответственные и добрые родители. Вера по возможности включает в себя sacrificium intellectus* (при условии, что есть чем жертвовать), но никогда не приносит в жертву чувства. Так верующие остаются детьми, вместо того чтобы стать, как дети, – они не обретают жизнь, потому что не теряли ее. Кроме того, вера в связи с этим входит в конфликт с наукой и отказывается от участия в духовных исканиях нашей эпохи.
* Жертвоприношение интеллекта (лат.)
Любой, кто пытается мыслить честно, вынужден признать недостоверность всех метафизических позиций, равно как и всех вероисповеданий. Ему приходится признать также недоказуемую природу всех метафизических положений и примириться с тем, что способность человеческого рассудка вытаскивать себя за волосы из болота ничем не подтверждается. Таким образом, весьма сомнительно, чтобы человеческий ум был в состоянии констатировать нечто трансцендентальное.
Материализм есть метафизическая реакция на внезапное осознание того, что познание – это способность ума, которая становится проекцией, как только выходит за пределы человеческой сферы. Эта реакция оказалась "метафизической", поскольку человек с посредственным философским образованием не смог разглядеть неизбежно следующее за этим гипостазирование; он не заметил, что материя – лишь другое имя для первопричины. В то же время образ мыслей верующего демонстрирует, какое сопротивление встречает у людей философская критика. Он демонстрирует также, сколь велик страх перед необходимостью отказаться от защищенности детства и ринуться в чуждый, неведомый мир – мир, управляемый силами, которым человек безразличен. По сути дела в обоих случаях ничего не меняется: человек и то, что его окружает, остаются на своих местах. Ему только надо увидеть, что он заключен в сфере своей психики и никогда, даже в безумии, не сможет выйти за эти границы; он должен знать также, что форма, в которой является ему его мир или его боги, во многом зависит от состояния его собственного ума.
Мне уже приходилось подчеркивать, что наши высказывания о метафизических предметах обусловлены прежде всего устройством нашего ума. Нам также стало ясно, что интеллект – отнюдь не "ens per se",* самосущая или независимая способность ума, что он представляет собой психическую функцию и в качестве таковой зависит от особенностей психики как целого.
* Сущее благодаря себе (лат.)
Философское утверждение есть продукт определенной личности, живущей в определенное время в определенном месте, а не результат чисто логического, безличного процесса, и в этом смысле оно в существенных своих чертах субъективно. Обладает ли оно объективной общезначимостью или нет, зависит от того, много или мало людей мыслят сходным образом. Изоляция человека в своей психической сфере вследствие теоретико-познавательной критики логически влечет за собой психологическую критику. Такой вид критики философы не любят, так как предпочитают считать философский интеллект инструментом совершенным и непредвзятым. И все же этот интеллект есть функция, зависящая от индивидуальной психики и определяемая со всех сторон субъективными обстоятельствами, не говоря уже о влиянии со стороны окружающих. Мы ведь уже настолько свыклись с этой точкой зрения, что "ум" полностью утратил свой вселенский характер. Он стал более или менее очеловеченной величиной без каких бы то ни было следов его прежнего метафизического и космического аспекта в виде anima rationalis.* В наши дни ум рассматривается как нечто субъективное или даже произвольное. После того как обнаружилось, что гипостазировавшиеся прежде всеобщие идеи суть принципы самого ума, мы постепенно начинаем сознавать, до какой степени весь наш опыт так называемой действительности является психическим: все мыслимое, чувствуемое и воспринимаемое представляет собой психические образы, и сам мир существует лишь постольку, поскольку мы способны продуцировать картину мира. На нас столь глубоко влияет факт нашего заточения в психическом и ограниченности им, что мы с готовностью заключаем в эту сферу даже то, о существовании чего не знаем; мы называем это "бессознательным".
* Разумная душа (лат.)
Казалось бы всеобщая и метафизическая сфера ума сузилась таким образом до маленького круга индивидуального сознания, глубоко сознающего свою почти безграничную субъективность и инфантильно-архаическую склонность к безудержному проецированию и созданию иллюзий. Некоторые научно мыслящие люди из страха перед неконтролируемой субъективностью даже пожертвовали своими религиозными и философскими убеждениями. Компенсируя утрату мира, который жил в нашей крови и дышал в нашем дыхании, мы с энтузиазмом принялись копить факты, горы фактов, недоступные взору отдельного человека. Мы лелеем благую надежду на то, что это случайное нагромождение вдруг превратится в осмысленное целое, но никто в этом не уверен, ибо никакой человеческий ум не в состоянии охватить всю гигантскую сумму знаний, производимых массовым порядком. Факты заваливают нас с головой, но всякому отважившемуся на спекулятивное мышление придется оплачивать его нечистой совестью, – ибо эти самые факты тотчас начнут уличать его во лжи.
Западная психология понимает под "умом" умственную функцию психики. Ум – это присущая индивиду "разумность". В области философии еще можно встретиться с безличным Всеобщим Разумом, где он является, по-видимому, реликтом изначальной человеческой "души". Эта картина наших западных воззрений, быть может, чересчур утрирована, но, сдается мне, не так уж далека от истины. Во всяком случае, нашему взору открывается нечто подобное, когда мы сопоставляем наш склад ума с восточным образом мысли. На Востоке ум – это космический принцип, сущность бытия вообще, тогда как на Западе мы пришли к мысли, что ум образует непременное условие познания, а потому и мира как представления. На Востоке не существует конфликта между религией и наукой, ибо наука там не зиждется на пристрастии к фактам, а религия – на одной только вере: Востоку свойственно религиозное познание и познающая религия [2]. У нас человек несоизмеримо мал, и все дело решает милость Божия; а на Востоке человек и есть Бог, который спасает Себя Сам. Божества тибетского буддизма относятся к сфере иллюзорной видимости и порождаемых умом проекций, – тем не менее, они существуют; а у нас иллюзия остается иллюзией, и потому, собственно, ничем. Парадоксально, но факт: мысль у нас не обладает достаточной реальностью, мы обращаемся с ней так, как если бы она была ничем. Хотя мысль, бывает, и оказывается верной, мы исходим из того, что она существует лишь благодаря определенным, как говорится, сформулированным в ней, фактам. С помощью этой вечно изменчивой фатаморганы не существующих по сути мыслей мы можем создавать самые разительные факты вроде атомной бомбы, но нам кажется совершенно абсурдным, что где-то кто-то может на полном серьезе утверждать реальность самой мысли.
"Психическая реальность" – такое же спорное понятие, как "психика" и "ум". Оба последних понятия одни считают сознанием и его содержаниями, другие добавляют к этому также существование "смутных", или "подсознательных" образов. Одни включают в сферу психического инстинкты, другие их исключают. Подавляющее большинство считает психику результатом протекающих в мозгу биохимических процессов. Некоторые полагают, что психика обусловлена деятельностью клеток коры головного мозга. Другие отождествляют психику с "жизнью". И лишь совсем немногие рассматривают феномен психического как бытие per sе*, делая из его признания таковым неизбежные выводы. Разве не парадоксально, что к этой категории бытия, этому обязательному условию всякого бытия, а именно к психике, относятся так, как если бы она была лишь наполовину реальной? На самом деле психическое есть единственная непосредственно известная нам категория бытия, ибо мы ни о чем не можем знать, если оно не примет сперва форму психического образа. Непосредственно достоверно только бытие психического. Практически, мир существует постольку, поскольку он принимает форму психического образа, и наоборот. Вот факт, до осознания которого Запад еще не дошел – за редкими исключениями вроде философии Шопенгауэра. Но ведь Шопенгауэр был под сильным влиянием буддизма и Упанишад.
* Само по себе, как таковое
Даже поверхностного знакомства с восточной мыслью достаточно, чтобы заметить фундаментальные различия между Западом и Востоком. Восток опирается на психическую реальность, то есть на психику как главное и единственное условие существования. Создается впечатление, что эта восточная интуиция – явление скорее психологического порядка, нежели результат философского размышления. Речь идет о типично интровертной установке, в противовес столь же типично экстравертной точке зрения Запада [3]. Как известно, интроверсия и экстраверсия представляют собой черты характера, свойственные темпераменту или даже конституции индивида; искусственно сформировать их при обычных обстоятельствах невозможно. В исключительных случаях они могут вырабатываться усилием воли, но только при особых обстоятельствах. Интроверсия, если можно так выразиться, это "стиль" Востока, его постоянная коллективная установка; экстраверсия же – "стиль" Запада. На Западе интроверсия воспринимается как аномальное, болезненное и вообще недопустимое явление. Фрейд отождествляет ее с аутоэротическим складом ума. В своем негативном отношении к интровертам Фрейд разделяет позицию национал-социалистической философии современной Германии [4], обвиняющей интроверсию в подрыве чувства солидарности. С другой стороны, на Востоке заботливо лелеемая нами экстраверсия воспринимается как обольщение чувственным, как существование в сансаре, как подлинная суть цепей ниданы, прямым и наивысшим проявлением которой выступает вся бездна человеческих страданий [5]. Тем, кто на практике сталкивался со взаимным смещением ценностей интроверта и экстраверта, будет хорошо понятен эмоциональный конфликт между восточной и западной точками зрения. Ожесточенный спор об "универсалиях", начавшийся со времен Платона, станет поучительным примером для того, кто знаком с историей европейской философии. Я не хочу вдаваться во все подробности конфликта между интроверсией и экстраверсией, а упомяну лишь о религиозном аспекте проблемы. Христианский Запад считает человека полностью зависимым от милости Божией или, по крайней мере, от церкви как единственного и санкционированного Богом земного средства спасения. Напротив, Восток упорно настаивает на том, что человек есть единственная причина своего самосовершенствования, – ибо Восток верит в самоспасение.
Религиозная точка зрения всегда выражает и формулирует существенную психологическую установку с ее специфическими предубеждениями – свойственными даже людям, забывшим религию отцов или вовсе о ней не слыхавших. В психологическом плане Запад, несмотря ни на что, насквозь пропитан христианством. Тертуллианово "anima naturaliter Christiana"* относится к Западу не в религиозном, как он считал, а в психологическом смысле. Благодать нисходит на человека откуда-то, во всяком случае извне. Любой другой взгляд на вещи – явная ересь. И тут становится ясно, отчего душа человека страдает от разного рода ощущений неполноценности. Всякий, кто отважится мыслить об отношении между душой и идеей Бога, будет тотчас обвинен в психологизме или заподозрен в нездоровом мистицизме. Восток же, напротив, с терпимостью и состраданием относится к тем "низшим" духовным ступеням, на которых человек в полном неведении кармы озабочен греховностью или мучает свое воображение верой в абсолютных богов, которые, загляни он поглубже, оказались бы лишь пеленою иллюзий, сотканной его собственным непросветленным умом. Поэтому самое важное – это психика: она – это всепроникающее Дыхание, сущность Будды; она есть ум Будды, Единое, дхармакайя. Все живое проистекает из нее, и все множество форм вновь растворяется в ней. Это и есть фундаментальная психологическая предпосылка, которая пронизывает существо восточного человека, определяя все его мысли, ощущения и поступки, к какой бы вере он себя ни причислял.
* Душа по природе христианка (лат.)
В свою очередь, западный человек – христианин, к какому бы вероисповеданию он ни принадлежал. В глубине души он чувствует, что человек так мал, что почти ничтожен; кроме того, как говорит Киркегор, "перед Богом человек всегда грешен". Своим страхом, покаянием, обетами, покорностью, самоуничижением, благими делами и славословиями он пытается умилостивить эту великую силу, которой оказывается не он сам, a totaliter aliter, Всецело Иной – единственно реальный, совершенно безупречный и пребывающий вне его Бог [6]. Несколько изменив эту формулу и подставив вместо Бога другую величину, например, мир или деньги, мы получим законченный портрет западного человека – прилежного, боязливого, смиренного, предприимчивого, алчного и неистового в погоне за благами мира сего: собственностью, здоровьем, знанием, техническим мастерством, общественным положением, политической властью, жизненным пространством и т.п. Каковы мотивы "великих переселений народов" нашего времени? Попытки отнять деньги или собственность у других и обеспечить неприкосновенность собственного имущества. Ум занят главным образом изобретением подходящих "измов" для сокрытия истинных мотивов или умножения добычи. Не стану говорить о том, что было бы с восточным человеком, если бы он позабыл об идеале Будды: не хочу придавать своей западной предубежденности столь неджентльменскую форму. Все же не могу удержаться от вопроса: возможно ли и, более того, желательно ли для обоих сторон копировать установки друг друга? Различия между ними столь велики, что для возможности такого подражания, не говоря уже о его желательности, никаких разумных причин не видно. Нельзя соединить огонь и воду. Духовный склад Востока отупляет западного человека и наоборот. Нельзя быть добрым христианином и спасать себя самому, подобно тому как нельзя быть Буддой и поклоняться Богу. Лучше всего принять этот конфликт таким, каков он есть, – ибо рационального решения для него не существует.
Западу самой судьбой было предопределено познакомиться со своеобразием восточного духовного склада. Бесполезно пытаться восставать против этой судьбы или пытаться наводить шаткие и иллюзорные мосты через зияющую пропасть. Вместо того, чтобы заучивать наизусть духовные приемы Востока и совершенно в христианском духе "подражания Христу" имитировать их, гораздо важнее исследовать, нет ли в нашем бессознательном интровертной тенденции вроде той, которая стала руководящим духовным принципом Востока. Тогда мы смогли бы заняться строительством на нашей почве и нашими методами. Перенимая же такие предметы непосредственно у Востока, мы тем самым просто потакаем своему западному стремлению к стяжательству, вновь убеждаясь в правиле, что "все благое приходит извне", откуда его и следует добывать, перекачивая в наши пустые души [7].
На мой взгляд, мы действительно научимся чему-то у Востока лишь тогда, когда поймем, что у души достаточно богатств, чтобы не занимать вовне, и когда ощутим в себе способность развиваться изнутри – с милостью Божией или без нее. Однако мы не сможем пуститься в это трудное предприятие, не научившись сперва действовать без духовной гордыни и кощунственной самоуверенности. Восточный настрой подрывает специфически христианские ценности, и ни к чему игнорировать этот факт. Если мы хотим, чтобы наш новый настрой был подлинным, то есть укорененным в нашей собственной истории, нам надо осваивать его при полном сознании христианских ценностей, равно как и конфликта между этими ценностями и интровертным настроем Востока. Нам надо добираться до восточных ценностей изнутри, а не извне; нам надо искать их в себе, в своем бессознательном. И тогда мы обнаружим, сколь велик наш страх перед бессознательным и сколь сильно наше сопротивление. Из-за этого сопротивления мы сомневаемся именно в том, что кажется таким очевидным Востоку, а именно – в способности интровертированного ума к самоосвобождению.
Этот сторона ума практически неизвестна Западу, хотя составляет важнейшую часть бессознательного. Многие отрицают существование бессознательного вообще или утверждают, что оно состоит якобы лишь из инстинктов, либо вытесненных и забытых содержаний, бывших ранее частью сознания. Мы с уверенностью можем сказать, что то, что на Востоке называют "умом", соответствует скорее "бессознательному", нежели "уму" в нашем понимании, который более или менее тождественен сознательности. Сознательность же для нас немыслима без Я. Она равнозначна соотнесенности содержаний с Я. Если не существует Я, то нет и того, кто мог бы что-то осознать. Поэтому Я необходимо для процесса сознавания. Напротив, восточному складу ума совсем нетрудно представить себе сознание без Я. Сознание там считают способным выходить за пределы Я-состояния; а в "высшем" состоянии сознания Я и вовсе исчезает. Такое лишенное Я психическое состояние для нас может быть только бессознательным, – по той простой причине, что у этого состояния нет никакого очевидца. Я не сомневаюсь в существовании психических состояний, выходящих за границы сознания. Однако по мере выхода за пределы сознания они утрачивают и свою сознательность. Я не могу представить себе сознательное состояние психики, которое не соотносилось бы с субъектом, то есть с Я. Это Я можно ослабить, лишив его, например, ощущения тела, – но до тех пор, пока имеет место хоть какое-нибудь восприятие, должен быть и тот, кто воспринимает его. Бессознательное же представляет собой такое психическое состояние, о котором Я не знает. Лишь опосредствованно, косвенным путем мы начинаем в конце концов сознавать, что бессознательное существует. У душевнобольных можно наблюдать проявления бессознательных фрагментов личности, отторгнутых от сознания пациента. Но у нас нет никаких доказательств того, что эти бессознательные содержания соотносятся с неким бессознательным центром, аналогичным Я; наоборот, имеются причины полагать, что такого центра скорее всего нет.
То, что Восток способен так легко избавиться от Я, по-видимому, свидетельствует об "уме", который нельзя отождествлять с нашим "умом". Вполне очевидно, что на Востоке Я не играет такой роли, как у нас. Восточный ум, по-видимому, менее эгоцентричен, его содержания, вероятно, не так жестко соотнесены с субъектом, а более важными, возможно, считаются те состояния, в которых Я ослаблено. Создается впечатление, что особо полезным средством усмирения Я путем обуздания его непокорных импульсов служит хатха-йога. Высшие формы йоги, поскольку они пытаются достичь самадхи, нацелены несомненно на такое психическое состояние, в котором Я практически растворяется. Сознательность в нашем смысле слова определенно считается "низшим" состоянием, состоянием авидьи, неведения, – а то, что мы называем "темным фоном" сознания, на Востоке рассматривается как "высшая" ступень сознательности [8]. В таком случае наше понятие "коллективного бессознательного" оказывается европейским эквивалентом буддхи, просветленного ума.
Ввиду всего сказанного восточная форма "возгонки" (сублимации) равнозначна изъятию психического центра тяжести из Я-сознания, занимающего среднее положение между телом и идеационными процессами психики. Более низкие, психофизиологические уровни психики покоряются посредством аскезы, то есть "упражнением", и держатся под контролем. Они отнюдь не отрицаются и не подавляются усилием воли, как это обычно делается в процессе "возгонки" на Западе. Эти низшие уровни психики скорее приспосабливаются и перестраиваются в ходе упорных занятий хатха-йогой до тех пор, пока не перестают мешать развитию "высшего" сознания. Этому своеобразному процессу, по-видимому, способствует то обстоятельство, что эго и его желания блокируются благодаря большей важности, придаваемой обычно Востоком "субъективному фактору" [9]. Я подразумеваю "темный фон" сознания – бессознательное. Для интровертного склада ума характерен, как правило, акцент на априорных данных апперцепции. Как известно, акт апперцепции состоит из двух фаз: собственно восприятия объекта и последующего включения этого восприятия в уже имеющийся образ или понятие, посредством чего и "понимается" объект. Психика – отнюдь не не-бытие, лишенное каких бы то ни было качеств; она представляет собой некую систему, образованную при определенных условиях и особым образом реагирующую. Любое новое представление, будь то восприятие или спонтанная мысль, вызывает ассоциации, извлекаемые из кладовых памяти. Ассоциации тотчас появляются в сознании и производят комплексный образ "впечатления", хотя на самом деле это уже нечто сродни истолкованию. Бессознательная предрасположенность, от которой зависит качество впечатления, и есть то, что я называю "субъективным фактором". Он заслуживает характеристики "субъективный", поскольку объективность при первом впечатлении не достигается почти никогда. Чтобы умерить и адаптировать непосредственные реакции субъективного фактора, как правило требуется довольно трудоемкий процесс проверки, сравнения и анализа.
Несмотря на то, что экстравертная установка побуждает нас рассматривать субъективный фактор как "всего лишь субъективный", его огромная роль вовсе не обязательно предполагает личностный субъективизм. Психика и ее структура вполне реальны. Как уже говорилось, они трансформируют материальные объекты в психические образы. Воспринимаются не колебания воздуха, а звуки, не волны разной длины, а цвета. Все существующее таково, потому что мы его таким видим и понимаем. Есть великое множество вещей, которые можно видеть, ощущать и понимать очень по-разному. Невзирая на существование чисто личностных предрассудков и предпочтений, психика ассимилирует внешние данные по-своему, опираясь при этом в конечном счете на законы или основные схемы апперцепции. Эти схемы не изменяются, хотя в разные эпохи и в разных частях света их могут называть по-разному. На первобытной стадии развития люди боятся колдунов; в условиях современной цивилизации мы испытываем не меньший страх перед микробами. Там все верят в духов, здесь – в витамины. Раньше люди были одержимы бесами, теперь они в не меньшей степени одержимы идеями и т.д.
Субъективный фактор складывается, в конечном счете, из вневременных схем психического функционирования. Поэтому каждый, кто полагается на субъективный фактор, основывается на реальности этих психических предпосылок. И вряд ли он при этом ошибается. Если благодаря этому ему удастся расширить свое сознание вниз – так, что он сможет придти в соприкосновение с основополагающими законами душевной жизни, – он окажется обладателем истины, естественным образом исходящей из психики, если она не искажена непсихическим, внешним миром. Во всяком случае, такая истина потянет на весах не меньше, чем сумма знаний, добываемых исследованием внешней среды. Мы на Западе верим, что истина убедительна лишь тогда, когда может быть верифицирована внешними данными. Мы верим в точное наблюдение и исследование природы; наша истина должна согласовываться с поведением внешнего мира, в противном случае она "всего лишь субъективна". Подобно тому, как Восток отвращает свой взор от танца пракрити (physis, природа) и многообразных иллюзорных форм майи, Запад чурается бессознательного с его бесполезными фантазиями. Однако Восток при всей своей интровертности очень хорошо умеет обходиться с внешним миром, да и Запад, несмотря на свою экстравертность, способен откликаться на нужды психики с ее требованиями. В его распоряжении есть институт церкви, которая с помощью обрядов и догматов позволяет проявляться неизвестным человеку сторонам его души. Естествознание и современная техника отнюдь не являются чисто западными изобретениями. Правда, их восточные эквиваленты немного старомодны или даже восходят к первобытным временам. Но то, чем мы можем похвастаться в плане психологической техники достижения инсайта, выглядит по сравнению с йогой таким же отсталым, как восточная астрология и медицина при сравнении с западной наукой. Я вовсе не отрицаю действенность христианской церкви, но если сравнить "Упражнения" Лойолы с йогой, станет ясно, о чем я хочу сказать. Различие есть, и притом значительное. Прыжок прямо с этого уровня в восточную йогу не более благоразумен, чем стремительное превращение азиатских народов в полуиспеченных европейцев. У меня есть серьезные сомнения по поводу заимствования Западом восточной духовности. Но как бы там ни было, эти два несовместимых мира встретились. Восток полностью преобразуется, претерпевая необратимые и губительные изменения. Там успешно скопированы даже новейшие европейские методы ведения войны. Что касается нас, то наши беды носят скорее психологический характер. Наша погибель – идеологии, они-то и есть давно ожидаемый Антихрист! Национал-социализм близок к тому, чтобы стать религиозным движением, как никакое другое народное движение после 622 г. [10] Коммунизм претендует на то, чтобы стать новым раем на земле. Фактически, мы защищены от неурожая, наводнений, эпидемий и нашествия турок лучше, чем от нашей собственной духовной неполноценности, которая, к прискорбию, не обеспечивает нам должной сопротивляемости психическим эпидемиям.
Запад экстравертен и по своему религиозному складу. Сегодня слова о том, что христианство враждебно или хотя бы безразлично относится к миру и радостям плоти, прозвучат как оскорбление. Наоборот, добрый христианин – это жизнерадостный бюргер, предприимчивый делец, отличный солдат, и вообще самый лучший во всем, за что бы он ни взялся. Мирские блага нередко рассматриваются как особая награда за христианское поведение, а из молитвы "Отче наш" уже давно выброшено относящееся к хлебу прилагательное , "насущный" [11]; ведь в настоящем хлебе, конечно, гораздо больше резона. И вполне логично, что такая далеко идущая экстраверсия не допускает существование в душе человека ничего такого, что не было бы привнесено извне человеческим научением или благодатью Божией. С этой точки зрения утверждение, что человек несет в себе возможность собственного спасения, звучит откровенным кощунством. Наша религия никак не поощряет идею самоосвобождающей силы ума. Однако одно из новейших направлений психологии – "аналитическая" или "комплексная" психология – допускает возможность существования в бессознательном определенных процессов, которые, благодаря их символической природе, компенсируют дефекты и искажения сознательного отношения к происходящему. Если эти бессознательные компенсации с помощью аналитических приемов доводятся до сознания, они вызывают такое изменение в сознательном отношении, что мы с полным правом можем говорить о достижении нового уровня сознания. При этом указанные приемы сами по себе не могут вызвать процесс бессознательной компенсации как таковой; последняя зависит исключительно от бессознательной психики или "благодати Божией" – название в данном случае значения не имеет. Но и упомянутый бессознательный процесс сам по себе также редко когда достигает сознания без специальной технической помощи. Попадая на поверхность, он открывает содержания, разительно контрастирующие с генеральной линией сознательного мышления и чувствования. Разумеется, в противном случае они не имели бы компенсирующего эффекта. Однако первым результатом их появления обычно является конфликт, так как сознательная установка противится вторжению этих, по-видимому, несовместимых с ней и чуждых ей тенденций, мыслей, чувств и т.д. При шизофрении можно наблюдать удивительнейшие примеры такого вторжения абсолютно чуждых и неприемлемых содержаний в сознание. Конечно, в подобных случаях речь идет как правило о патологических искажениях и преувеличениях, но любой, кто хоть в немного знаком с нормальным материалом, без труда распознает контуры все той же схемы, которая лежит в их основе. Кстати, ту же самую систему образов можно обнаружить в мифологии и других архаических формах мышления.
В нормальных условиях любой конфликт побуждает психику к деятельности, направленной на выработку удовлетворительного его разрешения. Обычно на Западе сознательная точка зрения выносит произвольный приговор против бессознательного, и тогда все, что идет изнутри, расценивается в силу этого предубеждения как низшее или не совсем правильное. Но по части случаев, которые мы здесь обсуждаем, сложилось мнение, что несовместимые, смутные содержания вновь вытеснять не следует, и что конфликт надо принять и терпеливо пережить. Поначалу никакое его решение не представляется возможным, но и это следует перетерпеть. Создаваемая таким образом ситуация "подвешенности" и неопределенности в сознании "констеллирует"* бессознательное; иначе говоря, сознательная отсрочка реагирования вызывает в бессознательном новую компенсаторную реакцию. Эта реакция (которая обычно проявляется в сновидениях) в свою очередь доводится до сознания и осмысления. В результате сознательный ум сталкивается с некой новой стороной психики, что порождает новую проблему или неожиданным образом видоизменяет существующую. Эта процедура продолжается до тех пор, пока исходный конфликт не получает удовлетворительного разрешения. Весь процесс в целом называется "трансцендентной функцией" [12]. Это и процесс и метод одновременно. Производство бессознательных компенсаций представляет собой спонтанный процесс, сознательное осмысление – метод. Функция называется "трансцендентной", потому что она обеспечивает выход за пределы наличного и переход к другому душевному состоянию посредством конфронтации противоположностей.
* Констелляция – образование новых связей, появление нового "созвездия" (констелляции) взаимосвязанных содержаний. – прим. ред.
Это описание трансцендентной функции дано здесь лишь в самых общих чертах; за подробностями мне приходится отсылать читателя к литературе, приведенной в примечании. Однако я должен привлечь его внимание к этим психологическим наблюдениям и методам, поскольку они намечают путь, открывающий доступ к той разновидности "ума", на которую ссылается комментируемый текст. Это ум, создающий образы, своего рода лоно, порождающее те схемы, которые определяют характер апперцепции. Эти схемы неотъемлемо присущи бессознательной психике, они выступают ее структурными элементами и служат единственным объяснением того, почему определенные мифологические мотивы оказываются более или менее повсеместно распространенными, – даже там, где их перенос в результате миграции практически исключен. Сновидения, фантазии и психозы вызывают к жизни образы, по всей видимости тождественные мифологическим мотивам, о которых данный человек не имеет ни малейшего представления, и даже косвенно не знаком с ними через риторические фигуры речи или символический язык Библии [13]. Психопатология шизофрении, как и психология бессознательного, несомненно, демонстрирует производство архаического материала психикой. Какой бы ни была структура бессознательного, одно можно сказать со всей определенностью: оно содержит в себе некоторое количество мотивов или схем архаического характера, в принципе тождественных основным идеям мифологии и подобных ей форм мышления.
Поскольку бессознательное служит порождающим умом, с которым связывается свойство креативности – создания нового, – оно представляет собой то же творческое начало, место рождения форм мысли, каким наш текст считает Мировой Ум. А поскольку никакой определенной формы бессознательному мы приписать не можем, восточное утверждение о том, что Мировой Ум не имеет формы (арупалока), и в то же время есть источником всех форм, представляется психологически оправданным. Эти формы или схемы бессознательного не принадлежат какому-то определенному времени, т.е., по-видимому, вечны; осознаваясь и проникая в сознание, они дают своеобразное ощущение вневременности. Подобные констатации можно найти в психологии первобытных народов. Австралийское слово aljira [14], например, одновременно означает "сновидение", "страна духов" и "время" в которое жили и до сих пор живут предки. Это, как выражаются аборигены, "время, когда времени еще не было". Все это выглядит как явная конкретизация и проекция бессознательного со всеми ее характерными чертами – проявлением во сне, родовыми формами мышления и вневременностью.
Интровертная установка, которая придает первоочередное значение не внешнему миру (миру сознания), а субъективному фактору (на фоне которого разворачивается сознание), неизбежно вызывает к жизни характерные проявления бессознательного, а именно, архаические формы мысли, пронизанные "родовым", или "историческим" чувством, а также ощущением неопределенности, вневременности и единства. Особое чувство единства, которое является типичным переживанием во всех формах "мистицизма", по всей вероятности обусловлено сплошной контаминацией, взаимопроникновением содержаний, усиливающимся с ослаблением сознательности (abaissement du niveaumental). Почти неограниченное смешение образов в сновидениях и, особенно, в порождениях фантазий душевнобольных, свидетельствует о бессознательном происхождении этого чувства. В противоположность ясному различению и дифференциации форм в сознании, содержания бессознательного крайне неопределенны, а потому легко перемешиваются. Если мы попытаемся представить состояние, в котором нет ничего отчетливого, у нас безусловно возникнет цельное ощущение единства. Поэтому вполне возможно предположить, что своеобразное ощущение единства обусловлено подпороговым знанием о всеобщем взаимопроникновении содержаний бессознательного.
Благодаря трансцендентной функции мы не только получаем доступ к "Единому Уму" (One Mind), а еще и начинаем понимать, почему Восток верит в возможность самоосвобождения. Если с помощью интроспекции и сознательного постижения бессознательных компенсаций можно преобразовать свое психическое состояние и придти тем самым к разрешению мучительного конфликта, мы, по-видимому, вправе говорить о "самоосвобождении". Однако, как я уже отмечал, гордое притязание на самоосвобождение само по себе осуществиться не может; ибо эти бессознательные компенсации невозможно вызвать усилием воли – нам остается лишь надеяться, что они, возможно, проявятся. Не в состоянии мы изменить и специфический характер компенсации: "Est ut est aut non est" [15]. Любопытно, что восточная философия, по-видимому, почти не обращает внимания на этот чрезвычайно важный факт. А ведь именно он психологически оправдывает позицию Запада. Создается впечатление, что западному уму глубже удалось интуитивно постичь судьбоносную зависимость человека от некой смутной силы, которая должна нам со-действовать в наших начинаниях, если мы хотим, чтобы все было в порядке. И действительно, всякий раз, когда бессознательное отказывает в таком содействии, человек тотчас испытывает затруднение, даже в самых обыденных делах. Это могут быть провалы памяти, нарушение координации движений, внимания и сосредоточения, – и эти незначительные на первый взгляд сбои вполне могут стать причиной серьезных неприятностей или роковых несчастных случаев, профессиональных провалов или нравственных падений. В прежние времена люди объясняли это неблагосклонностью богов; теперь мы предпочитаем называть это неврозом и ищем причину в недостатке витаминов, в эндокринных или сексуальных расстройствах, либо в переутомлении. Когда содействие бессознательного, о котором мы никогда не задумывались и принимали как само собой разумеющееся, неожиданно прекращается, это оказывается серьезной проблемой.
Видимо, в сравнении с другими расами – китайцами, например, – психическое равновесие или, грубо выражаясь, мозги – слабое место белого человека. Понятно, что мы стараемся держаться подальше от собственных недостатков, – факт, объясняющий ту разновидность экстраверсии, которая стремится обезопасить себя путем постоянного подчинения внешней среды. Экстраверсия всегда ходит рука об руку с недоверием к внутреннему человеку, когда она хоть сколько-нибудь отдает себе о нем отчет. Да и вообще все мы склонны недооценивать вещи, которых боимся. По-видимому, именно такова причина нашей абсолютная уверенности в том, что "nihil sit in intellectu quod non antea fuerit in sensu" [16], этом девизе западной экстраверсии. Но, как мы уже отметили, эта экстраверсия психологически оправдана тем существенным обстоятельством, что бессознательная компенсация находится вне человеческого контроля. Как мне известно, йога претендует на способность контролировать даже бессознательные процессы, так что в психике как целом не может происходить ничего, что не управлялось бы высшим сознанием. Я не сомневаюсь, что такое состояние более или менее возможно. Но оно возможно лишь при одном условии: нужно отождествить себя с бессознательным. Такое отождествление есть восточный эквивалент нашего западного идола "объективности", этого машиноподобного подчинения себя одной цели, идее или предмету вплоть до угрозы полной потери всяких следов внутренней жизни. С точки зрения Востока, такая абсолютная объективность просто ужасающа, ибо равнозначна полному отождествлению с сансарой; зато для Запада самадхи – ничего не значащая греза. На Востоке внутренний человек всегда имел над внешним человеком такую власть, что мир был уже не в состоянии оторвать его от внутренних корней; на Западе же внешний человек окончательно занял весь передний план и оказался отчужден от своей сокровенной сущности и глубинного бытия. Единый Ум, единство, неопределенность и вечность остались прерогативой Единого Бога. Человек превратился в мелкое, ничтожное существо и окончательно погряз в нечестии.
Из моих рассуждений следует, что обе эти позиции, как бы они ни противоречили друг другу, по-своему психологически оправданы. Обе они односторонни, поскольку не в состоянии увидеть, понять и принять в расчет те факторы, которые не согласуются с их типической установкой. Одна недооценивает мир сознательности, другая – мир Единого Ума. В результате обе они из-за своего максимализма лишаются половины универсума; тем самым жизнь отсекается от целостной действительности и легко становится искусственной и бесчеловечной. На Западе существует мания "объективности", аскетизм ученого или биржевого маклера, которые отбрасывают красоту и полноту жизни ради идеальной – или не такой уж идеальной – цели. На Востоке в цене мудрость, покой, отрешенность и неподвижность души, которая обратилась к своему туманному истоку, оставив за спиной все печали и радости жизни, какой она есть – или какой ей, предположительно, следовало бы быть. Не удивительно, что такая односторонность в обоих случаях вызывает к жизни весьма сходные формы "монашества", которые обеспечивают отшельнику, праведнику, монаху или ученому возможность спокойной сосредоточиться на своей цели. Я не имею ничего против односторонности как таковой. Разумеется, человек, этот великий эксперимент природы, имеет право на подобные предприятия – при условии, что он в состоянии их вынести. Без односторонности человеческий дух не смог бы раскрыться во всем своем многообразии. Но я не думаю, что стремление понять обе стороны может как-то этому повредить.
Экстравертная тенденция Запада и интровертная тенденция Востока преследуют сообща одну и ту же цель: обе предпринимают отчаянные усилия завоевать и подчинить себе незамысловатое естество жизни. Это утверждение духа над материей, "opus contra naturam",* – симптом молодости рода человеческого, который все еще не прочь поиграть самым мощным из когда-либо созданного природой оружия: сознающим умом. Послеполуденная пора человечества, которая наступит в отдаленном будущем, может принести с собой совсем другой идеал. Со временем людям, возможно, даже в голову не придет помышлять о завоеваниях.
* Человеческое искусство против природы (лат.)
2. КОММЕНТАРИИ К ТЕКСТУ
Прежде чем приступить собственно к комментарию, мне хотелось бы обратить внимание читателя на весьма существенную разницу между диссертацией по психологии и священным текстам. Ученый слишком легко забывает о том, что объективный анализ материала, пожалуй, в непростительно больших масштабах наносит ущерб его эмоциональной стороне. Научный интеллект бесчеловечен и не может себе позволить быть другим; он не в состоянии избежать такой бесцеремонности, хотя намерения у него самые хорошие. Психолог, анализирующий священный текст, должен, по крайней мере, отдавать себе отчет в том, что такой текст выражает бесценное религиозное и философское сокровище, которое не должно быть осквернено руками профанов. Признаюсь, что и сам отважился анализировать такой текст лишь потому, что знаю и ценю его достоинства. В мои замыслы никак не входило неуклюжей критикой расчленять текст в этом комментарии. Наоборот, я старался амплифицировать* его символический язык с целью сделать его более доступным нашему пониманию. Для этого нам надо поместить эти возвышенные метафизические понятия на такой уровень, с которого можно увидеть, имеют ли какие-либо известные нам психологические факты параллели в сфере восточного мышления или по меньшей мере приближаются ли они к нему. Надеюсь, что это не будет ошибочно понято как попытка снижения или сведения к банальностям; я пытался только ввести чуждые нашему мышлению идеи в сферу западного психологического опыта.
* Амплификация у Юнга – символико-исторический метод, основанный на риторическом приеме усиления (амплификации), т.е. скопления синонимов. См., напр.: Собр. соч. Т. 14 (II). §320.
Нижеследующее представляет собой ряд примечаний и комментариев, которые следует читать одновременно с соответствующими разделами текста.
ПОСВЯЩЕНИЕ
Восточные тексты обыкновенно начинают с констатации, которой заканчиваются западные сочинения в качестве conclusio finalis* длинного процесса доказательства.
* Заключения (лат.)
Мы начинаем, скорее, с общеизвестных и общепринятых вещей, а заканчиваем изложением важнейшей цели нашего исследования. Поэтому наша работа завершилась бы примерно таким предложением: "Вот почему Трикайя и есть сам всепросветленный ум". В этом отношении восточное мышление не слишком сильно отличается от нашего средневекового. Еще в XVIII столетии наши исторические и естественнонаучные книги начинались с решения бога создать мир. Идея Мирового Ума распространена на Востоке повсеместно, поскольку очень точно выражает интровертный восточный темперамент. В переводе на язык психологии приведенное выше предложение звучало бы, видимо, примерно так: бессознательное есть корень всякого переживания единства (дхарма-кайя), оно – матрица всех архетипических или структурообразующих форм (самбхога-кайя) и "conditio sine qua non" мира явлений (нирмана-кайя).
ПРЕДИСЛОВИЕ
Боги суть архетипические формы мышления, они входят в самбхога-кайю [17]. Их мирные и воинственные аспекты, играющие большую роль в медитациях "Тибетской Книги мертвых", символизируют противоположности: в нирмана-кайе это не белее чем человеческие конфликты, но в самбхога-кайе они означают позитивные и негативные принципы, объединенные в одной фигуре. Это соответствует тому психологическому опыту, который сформулирован и в "Дао дэ цзин" Лао-цзы: нет утверждения без отрицания. Где вера, там и сомнение; где сомнение, там и жажда веры; где нравственность, там и искушение. Лишь святому является дьявол, а тираны – рабы собственных камердинеров. Тщательно исследовав свой характер, мы неизбежно обнаружим, что "высокое стоит на низком", как выражается Лао-цзы. Это, по всей видимости, означает, что противоположности взаимообусловлены и что они в сущности суть одно. Такой вывод хорошо подтверждается примером людей с комплексом неполноценности: где-то в глубине души они вынашивают маленькую манию величия. Тот факт, что противоположности выступают в качестве богов, следует из простой констатации того, что они весьма могущественны. Поэтому китайская философия разъясняла, что это космические принципы, и назвала их ян и инь. Чем сильнее попытки развести противоположности, тем больше их власть. Дерево, вырастая до небес, корнями достает до преисподней, говорит Ницше. Но вверху и внизу это все то же самое дерево. Наш западный образ мышления характерен тем, что два этих аспекта мы расчленяем на антагонистические персонификации: бога и дьявола. Точно так же для веселого оптимизма протестантов характерно, что дьявол тактично скрывается в тени, по крайней мере в самом далеком прошлом. "Omne bonum a Deo, omne malum ab homine"* – это неудобная последовательность.
* Всякое благо от Бога, всякое зло – от человека (лат.)
"Видение реальности" недвусмысленно соотносится с умом как более высокая действительность. На Западе же бессознательное (все еще повсеместно) рассматривается как нечто фантастически ирреальное. "Видение ума" предполагает самоосвобождение. На языке психологии это означает, что чем больше внимания мы уделяем бессознательному процессу, тем больше освобождаемся от мира вожделений и разорванных противоположностей и тем ближе подходим к состоянию бессознательности, характеризующемуся единством, неопределенностью и вневременностью. Это и есть освобождение самости из своей ввязанности в страдания и борьбу. "Этим путем понимается собственный ум". Ум здесь несомненно означает ум индивидуума, его психику. Психология с этим согласна, поскольку понимание бессознательного и есть ее важнейшая задача.
ПРИВЕТСТВИЕ ЕДИНОМУ УМУ
Этот раздел ясно показывает, что Единый Ум есть бессознательное, так как он охарактеризован в качестве вечного, неизвестного, невидимого, непознаваемого. Однако он обнаруживает и позитивные черты, соответствующие восточному опыту. Это следующие атрибуты: вечно ясный, вечно сущий, излучающий и непомраченный. Чем больше человек концентрируется на своих бессознательных содержаниях, тем больше они заряжаются энергией, и это неоспоримый психологический факт; они оживают, как бы наливаясь светом изнутри. Они превращаются в своего рода эрзац реальности. В аналитической психологии мы находим этому феномену методическое применение. Я назвал этот метод Активной Имагинации. Игнатий Лойола в своих "Упражнениях" тоже пользовался активной имагинацией. Имеется также доказательство того, что в медитациях алхимической философии употреблялось нечто подобное [18].
ПОСЛЕДСТВИЯ НЕВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО УМА
"Знание о так называемом уме широко распространено". Это недвусмысленно относится к сознающему уму человека в противоположность Единому Уму, который неизвестен, т.е. бессознателен. Овладеть такими знаниями "стремятся и люди обыкновенные, по причине своего неведения Единого Ума не ведающие самих себя". Самопознание здесь решительно отождествляется со "знанием Единого Ума", а это означает, что знание о бессознательном необходимо для понимания собственной психики. Потребность в таком знании – факт, хорошо известный на Западе, что подтверждается развитием психологии и растущим интересом к этим предметам в наши дни. Всеобщая потребность в росте психологических знаний возникает главным образом из болезненного состояния, вызванного пренебрежением к религии и недостатком в духовном руководстве. "Они без конца блуждают в Трех Царствах и терпят нужду". Так как нам известно, чтó может привнести невроз в моральные коллизии, это изречение не нуждается в комментарии. В этом разделе сформулированы причины, по которым в наше время возникла психология бессознательного.
Даже желание познать ум, как он есть сам по себе, остается невыполнимым. Текст вновь подчеркивает, как трудно найти путь к началам этого ума, поскольку они бессознательны.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕЛАНИЙ
Попавшие в оковы алчности не могут "познать ясный свет". Ясный свет опять-таки относится к Единому Уму. Желания жаждут внешнего свершения. Они куют цепи, которыми человек прикован к миру сознания. В таком состоянии он, конечно, не может заметить собственные бессознательные содержания. А отступление от сознательного мира фактически способно исцелить; правда, начиная с определенного момента, который варьирует у различных индивидуумов, это отступление может означать уже безразличие и вытеснение.
Даже Срединная Тропа в конце концов "помрачается вожделением". Это очень правильное изречение, которое невозможно достаточно убедительно воспроизвести для европейского слуха. Когда пациенты или нормальные люди знакомятся со своим бессознательным материалом, они набрасываются на него с той неудержимой жаждой и алчностью, которая прежде ввергала их в экстраверсию. Проблема заключается не столько в удерживании от объектов желаний, сколько в отрешенном отношении к желанию как таковому, независимо от его объекта. Мы не в состоянии добиться бессознательной компенсации посредством форсирования неконтролируемых желаний. Нам следует терпеливо ждать и следить за ее спонтанным возникновением, а когда она возникла, нам следует принимать ее такой, какой она нам является. Таким образом, мы с неизбежностью принимаем созерцательную установку, которая нередко уже сама по себе оказывает освобождающее и исцеляющее воздействие.
ТРАНСЦЕНДЕНТНОЕ ЕДИНЕНИЕ
"Поскольку двойственность не существует в действительности, многообразие неистинно". Это, безусловно, одна из фундаментальных истин Востока. Нет противоположностей, а есть – вверху и внизу – все то же самое дерево. "Изумрудная скрижаль" говорит: "Quod est inferius, est sicut quod est superius, et quod est superius, est sicut quod est inferius, ad perpetranda miracula rei unius" [19]. Многообразие тем более иллюзорно, что все отдельные формы возникают из неразличимого единства психической матрицы, из глубин бессознательного. Изречение нашего текста имеет в виду, если использовать психологические термины, субъективный фактор – материал, констеллирующийся непосредственно под воздействием раздражителя, т.е. первого впечатления, которое каждое новое восприятие интерпретирует в смысле прежнего опыта. "Прежний опыт" восходит к инстинктам и, таким образом, к наследственным и неотъемлемым формам психического поведения, анцестральным и "вечным" законам человеческого ума. Однако это изречение полностью игнорирует возможную трансцендентную действительность физического мира как такового – проблема, известная в философии санкхьи, где пракрити и пуруша, поскольку они суть полюсы всесущего, образуют космическую дуальную пару, с которой трудно иметь дело. Если попробовать отождествить себя с монистическим праисточником жизни, то следует закрыть глаза и на дуализм, и равным образом на плюрализм, и забыть о существовании какого-то мира. Естественно, тогда возникает вопрос: почему Единому надо было являться в качестве многого, если единственная действительность принадлежит Всеединству? В чем причина многообразия или иллюзии многообразия? Если Единое находит удовлетворение в себе самом, зачем ему надо отображаться во многом? И что более действительно – Единое, которое отображается, или зеркало, подставленное для отражения? Вероятно, такие вопросы задавать не следует, ибо ответа на них все равно нет.
С точки зрения психологии корректно утверждать, что единение достигается путем отступления от мира сознательности. В стратосфере бессознательного не бушуют никакие бури, потому что там нет ничего настолько различимого, чтобы вызывать напряжения и конфликты, которые на самом деле относятся к поверхности нашей действительности.
Ум, в котором соединяется несоединимое – сансара и нирвана – это в конечном счете наш дух. Идет ли такая констатация от глубочайшей скромности или от заносчивой дерзости (hybris)? Значит ли это, что ум – всего лишь "не что иное, как" наш ум, или же что наш ум и есть ум как таковой! Безусловно, последнее, и с точки зрения Востока в этом нет никакой дерзости; наоборот, это совершенно приемлемая истина: у нас получилось бы то же самое, если бы мы сказали: "Я есмь бог". Это настоящее "мистическое" переживание, хотя западному человеку оно кажется весьма спорным; на Востоке же, где оно исходит из иного склада ума, никогда не терявшего связи с инстинктными основами, оно расценивается совершенно по-другому. Коллективная интровертная установка Востока не позволяла чувственному миру рвать витальную связь с бессознательным, психическая действительность никогда не оспаривалась всерьез, несмотря на существование так называемых материалистических спекуляций. Единственной известной аналогией этому положению дел является духовное состояние дикаря, удивительным образом путающего сон и действительность. Мы, разумеется, не смеем называть восточный склад ума дикарским, ведь мы сами испытали глубокое воздействие его замечательной цивилизованности и утонченности. Тем не менее он зиждется на первобытной ментальности; это особенно справедливо в отношении признания действительности парапсихических феноменов, таких, как духи и привидения. Запад же культивировал просто другой аспект первобытности: как можно более точное наблюдение природы за счет абстракции. Наше естествоиспытание развилось из изумительной наблюдательности дикаря. Мы добавили к этому только немного абстракции – из опасения, что факты станут нам противоречить. В свою очередь Восток культивирует психический аспект первобытности вкупе с непомерным количеством абстракции. Факты поставляют отличные истории, но не более того.
Итак, если Восток заявляет, что ум свойствен каждому, то в этом не больше дерзости или скромности, чем в европейской вере в факты, выводимые из человеческого наблюдения, а иногда и только из его интерпретации. Поэтому она небезосновательно опасается чрезмерного абстрагирования.
ВЕЛИКОЕ САМООСВОБОЖДЕНИЕ
Я уже неоднократно отмечал, что смещение чувства личности на менее сознаваемые духовные сферы действует освобождающе. Я кратко охарактеризовал и трансцендентную функцию, обусловливающую преображение личности, и подчеркнул важность спонтанной, бессознательной компенсации. Далее, я указал на невнимание к этому важному факту со стороны йоги. Данный раздел, по всей видимости, подтверждает мои наблюдения. Усвоение "всей сути" этих доктрин, видимо, и есть в то же время вся суть "самоосвобождения". Западный человек понял бы это в таком смысле: "Учи свое задание и повторяй – тогда ты и освободишь себя". Именно это, как правило, и происходит с европейцами, практикующими йогу. Они склонны "делать" это на свой экстравертный лад и совершенно забывают обратить свой ум внутрь, а ведь это самое главное в таких учениях как йога. На Востоке подобные истины в столь большой степени являются элементами коллективного бессознательного, что даже учениками схватываются по меньшей мере интуитивно. Если бы европеец смог раскрыть свое внутреннее содержание и жить, как человек Востока, со всеми теми социальными, моральными, религиозными, интеллектуальными и эстетическими обязательствами, которые повлек бы за собой этот путь, то тогда он извлек бы из этих учений максимальную пользу; однако невозможно по вере, морали и интеллектуальной манере оставаться добрым христианином и одновременно всерьез практиковать йогу. Я видел так много подобных случаев, что сделался весьма решительным скептиком. Ведь западный человек не в состоянии так уж легко отбросить свою историю, как это умеет делать его короткая память. У него история, так сказать, в крови. Никому не советую заниматься йогой без тщательного анализа своей бессознательной реакции. Что за смысл подражать йоге, когда темная сторона человека остается, как и прежде, все такой же средневеково-христианской? Если кто-то способен провести остаток своих дней на газельей шкуре под деревом Бо или в келье какого-нибудь гомпа, не заботясь о политике или потере гарантий, то такой исход можно считать благоприятным. Но йога на Мэйфэйр* или на Пятой авеню, или вообще в месте, куда можно позвонить по телефону, есть духовное мошенничество.
* Фешенебельный район в Лондоне.
Учитывая духовную оснащенность восточного человека, мы можем согласиться с тем, что это учение дает эффект. Но если отсутствует желание отвернуться от мира и навсегда исчезнуть в бессознательном, то сами по себе учения не будут иметь никакого или по крайней мере желаемого эффекта. Для этого требуется соединение противоположностей и, в частности, решение трудной задачи – установление связи между экстраверсией и интроверсией посредством трансцендентной функции.
ПРИРОДА УМА
Этот раздел дает нам ценную психологическую информацию. Текст гласит: ум обладает "интуитивной" ("быстро схватывающей") мудростью. Здесь "ум" понимается как непосредственное восприятие "первого впечатления", передающего всю сумму прежнего, зиждущегося на инстинктных основах опыта. Это подтверждает наши замечания о существенно интровертной предрасположенности Востока. Данная формула демонстрирует к тому же высокоразвитый характер восточной интуиции. Интуитивный ум, как известно, замечает не факты, а скорее возможности [20].
Утверждение о том, что ум "не существует", очевидно, относится к свойственной бессознательному "потенциальности". Нечто кажется существующим лишь постольку, поскольку мы осознаем его, и это проливает свет на то, почему многие люди не склонны признавать существование бессознательного. Когда я заявляю пациенту, что у него полно фантазий, он частенько бывает этим ошарашен: ведь он не давал себе отчета в том, что, оказывается, живет еще и в сфере фантазий.
ИМЕНА, ДАННЫЕ УМУ
Различные способы, какими выражается "трудная" или "темная" идея, дают ценный источник информации о возможности ее интерпретации. Они к тому же показывают, в какой степени эта идея сомнительна и противоречива даже в той стране, религии или философии, где она возникла. Если идея совершенно ясна и общепринята, ей не дают много различных имен. Но если она недостаточно известна ли двусмысленна, то ее можно рассматривать под различными углами зрения, и тогда требуется много разных имен, чтобы выразить ее своеобразие. Классическим примером этого служит Камень мудрецов; во многих старых алхимических трактатах содержатся длинные списки различных его имен.
Признание того, что "данные ему (уму) различные имена" неисчислимы, доказывает, что этот ум, видимо, есть нечто столь же смутное и неопределенное, как и Камень мудрецов. От субстанции, которую можно выражать неисчислимым количеством способов, следует ожидать, что у нее окажется столь же неисчислимое количество качеств или граней. Если же они и впрямь "неисчислимы", то их и нельзя исчислить, а отсюда следует, что эта субстанция почти неописуема и непостижима. Она никогда не реализуется до конца. Это относится и к бессознательному и представляет собой дальнейшее доказательство того, что "ум" есть восточный эквивалент нашего бессознательного (особенно понятия коллективного бессознательного).
В соответствии с этой гипотезой текст далее изрекает, что ум называется также "духовной Самостью". "Самость" – важное понятие аналитической психологии, о чем уже много сказано, и мне нет необходимости повторять это здесь. Я отсылаю читателя к литературе, приведенной ниже [21]. Хотя символы самости производятся бессознательной активностью и манифестируются прежде всего в сновидениях [22], данная идея включает в себя не только факты душевной жизни, но и аспекты физического существования. В этом и других восточных текстах "самость" представляет собой чисто духовную идею, а в западной психологии она обозначает целостность, охватывающую инстинкты, физиологические и полуфизиологические феномены. Действительность же чисто духовную мы представить себе не в состоянии по указанным выше причинам [23].
Интересно, что и на Востоке есть "еретики", которые отождествляют самость и Я [24]. У нас такая ересь распространена довольно широко и поддерживается всеми теми, кто твердо убежден в том, что Я-сознание есть единственная форма психической жизни.
Ум в качестве "средства переправы на другой берег" намекает на связь между трансцендентной функцией и идеей ума, или самости. Поскольку непознаваемая сущность этого духа, т.е. бессознательного, всегда манифестирует себя сознанию в виде символов – а самость и есть такой символ, – то в качестве "средства переправы на другой берег" функционирует именно символ, иначе говоря, он есть средство преображения человека. В своем сочинении о психической энергии я указал на то, что символ действует как преобразователь энергии [25].
Моя интерпретация ума, или самости, как символа не является произвольной: сам текст называет это "Великим символом".
Примечательно также, что наш текст признает потенциальность бессознательного, как она сформулирована выше, называя ум "единственным семенем" и "потенцией правды".
Матричный характер бессознательного можно узнать в выражении "Все-основание".
ВНЕВРЕМЕННОСТЬ УМА
Я уже объяснил эту вневременность как качество, свойственное опыту коллективного бессознательного. Вероятно, применение "йоги самоосвобождения" реинтегрирует в сознание все забытое "знание" прошлого. Мотив апокатастасиса (восстановления) выступает во многих мифах о спасении и является также важным аспектом психологии бессознательного, обнаруживающим огромное количество архаического материала в сновидениях о спонтанных фантазиях как нормальных, та и душевнобольных людей. При систематическом анализе спонтанное пробуждение анцестральных форм (в качестве компенсации) обусловливает это восстановление. Кроме того, относительно часты прогностические сновидения, а отсюда становится ясно, что текст называет "познанием будущего".
"Собственное время" ума с трудом поддается объяснению. С психологической точки зрения, нам следует интерпретировать это место в соответствии с комментарием д-ра Эванс-Венца [26]. У бессознательного, безусловно, есть "собственное время", поскольку в нем смешаны настоящее, прошедшее и будущее. Такие сновидения, как те, что описывает Дж. У. Дьюнн (когда он видел во сне предыдущей ночью то, что по логике вещей должен был увидеть лишь следующей ночью [27]), нередки.
УМ В СВОЕМ ИСТИННОМ СОСТОЯНИИ
В этом разделе описано состояние отвязанной сознательности, которое соответствует распространенному на Востоке психическому опыту [28]. Подобные описания можно встретить в китайской литературе, как например в Нui Ming Ching [29].
Забывают друг друга, тихо и чисто, мощно и пусто.
ЗПустота освещается блеском сердца небес,
ЗМорская вода гладка и отражает луну.
ЗОблака парят в голубом просторе.
ЗГоры ясно светят.
ЗСознание растворяется в созерцании.
ЗДиск луны покоится в одиночестве [30].
Сказать, что "собственный ум Единого неразрывен с другими умами", – просо иначе выразить наличие всеобщей взаимосвязи. Поскольку в бессознательном состоянии исчезают все различия, то ясно, что исчезают различия и между психическими индивидуумами" Везде, где имеется "abaissement du niveau mental", встречаются и случаи бессознательного отождествления [31], или "participation mystique", как выражается Леви-Брюль [32]. Воплощением Единого Ума выступает, как гласит наш текст, "соединение Три-кайя", которое фактически ведет к исчезновению различий в единстве, Но мы не в состоянии представить себе, каким образом такое воплощение может произойти в каком-нибудь человеческом существе. Всегда должен оставаться кто-то или что-то, чтобы испытать это воплощение и сказать: "Я знаю об исчезновении различий в единстве, я знаю, что различий больше нет", И как раз сам факт воплощения доказывает его неизбежную неполноту. Невозможно познать то, что не отличается от какого-либо "самого". Даже если я скажу: "Я знаю себя самого", некое инфинитезимальное – познающее – Я все равно будет отличаться от "меня самого". В этом, так сказать, атомизированном эго, которое полностью игнорируется принципиально недуалистической точкой зрения Востока, тем не менее скрывается неснятая, множественная Вселенная во всей своей действительности.
Переживание этого "соединения" – пример такого "быстро схватывающего" (quick-knowing) восточного прозрения, интуитивного постижения возможной ситуации, когда человек в одно и то же время существует и не существует. Будь я мусульманином, я бы сказал, что власть Всемилостивого бесконечна, и лишь он один может устроить так, чтобы человек и существовал, и не существовал в одно и то же время. Но будучи таким, какой я есть, я не могу представить себе подобную возможность, Поэтому я думаю, что восточная интуиция заходит здесь слишком далеко.
НЕСОТВОРЕННОСТЬ УМА
В этом разделе подчеркивается отсутствие доказательств того, что ум был сотворен, поскольку у него нет никаких определенных качеств, Но тогда также нелогично утверждать, будто он несотворен, ибо такая квалификация тоже была бы качеством. Фактически невозможно сделать никаких высказываний о том, что неопределенно, бескачественно и к тому же непознаваемо. Именно по этой причине западная психология говорит не о Едином Уме, а о бессознательном, которое она рассматривает в качестве вещи в себе, ноумена, некоего "чисто негативного пограничного понятия", говоря словами Канта [33]. Нас часто упрекали за употребление такого негативного выражения, но, к сожалению, интеллектуальная честность не дает возможности позитивного обозначения.
ЙОГА ВНУТРЕННЕГО СОЗЕРЦАНИЯ
Если до сих пор еще и оставалось сомнение в тождестве Единого Ума и бессознательного, то этот раздел его рассеивает, "Поскольку Единый Ум в действительности состоит из пустоты и не имеет основы, то собственный ум пуст, как небеса". Единый Ум и индивидуальный ум в равной степени пусты и бессодержательны. Под этим высказыванием могут иметься в виду только коллективное и личностное бессознательное, ибо сознающий разум никак нельзя назвать "пустым".
Как я уже говорил, восточный склад ума особую важность придает субъективному фактору и в частности интуитивному "первому впечатлению", или психической диспозиции. Это и подчеркивается в изречении: "Все явления в действительности суть лишь собственные представления..., измышленные самим же умом".
ДХАРМА В ТЕБЕ
Дхарма – закон, истина, руководство – видимо, существует "исключительно в уме". Таким образом, бессознательному доверены все те способности, которые Запад приписывает богу. Между тем трансцендентная функция демонстрирует правоту Востока в признании того, что комплексное переживание дхармы исходит "изнутри", т.е. из бессознательного. Кроме того, она демонстрирует, что феномен спонтанной компенсации, не поддающейся человеческому контролю, полностью соответствует выражению "милосердие" или "воля божья".
Этот и предыдущий разделы постоянно подчеркивают, что интроспекция есть единственный источник духовной информации и управления. Если бы интроспекция была чем-то болезненным, как полагают некоторые люди на Западе, то практически весь Восток или во всяком случае те его области, которые еще не заражены благодеяниями Запада, нам пришлось бы отправить в сумасшедший дом.
ВЕЛИКОЛЕПИЕ ЭТИХ ДОКТРИН
Этот раздел называет ум "естественной мудростью", т.е. почти теми же словами, который я использую для обозначения символов, продуцируемых бессознательным. Я называю их "естественными символами" [34]. Я остановился на этом выражении, еще не зная данного текста, а упоминаю об этом лишь потому, что такое совпадение иллюстрирует близкие параллели между открытиями восточной и западной психологии.
Текст подтверждает также то, что мы раньше говорили об отсутствии "знающего Я". "Хотя это совершенная действительность, никто не может это видеть. Это чудесно". Это и впрямь чудесно и непонятно, ибо каким образом нечто подобное могло бы в истинном смысле слова стать реальностью? Оно остается "незапятнанным злом" и "не в союзе с добром". Здесь на память приходят ницшевы "шесть тысяч футов по ту сторону добра и зла". Однако последствия такой констатации обычно игнорируются приверженцами восточной мудрости; сидя в безопасности и веруя в милость богов, можно, конечно, восхищаться такой возвышенной моральной индифферентностью. Но разве можно делать это при нашем темпераменте или при нашей истории, которая таким путем будет не усвоена, а скорее забыта? Не думаю. Тот, кто с упоением отдается высшей йоге, должен еще доказать свою моральную индифферентность – не только как виновник зла, но и как его жертва. Психологам хорошо известно, что моральные конфликты не улаживаются просто признанием превосходства, граничащим с бесчеловечностью. Нынешняя действительность дает нам ужасающие примеры вознесенности сверхчеловека над моральными принципами.
Я не сомневаюсь в том, что восточное освобождение от порока и от добродетели в любом отношении связано с отрешенностью, и йог выводится за пределы этого мира в состояние активной и пассивной невинности. Однако у меня есть подозрение, что любая европейская попытка достичь отрешенности означает только освобождение от моральных обязательств. Каждый, кто пробует свои силы в йоге, должен по этой причине осознавать далеко идущие последствия этого занятия, иначе его духовная авантюра так и останется ничего не значащим времяпрепровождением.
ВЕЛИКАЯ ЧЕТВЕРОЯКАЯ ТРОПА
Текст гласит: эта медитация происходит "без концентрации мыслей". Обыкновенно думают, что йога заключается главным образом в интенсивной концентрации. Мы полагаем, будто нам известно, что такое концентрация, однако очень непросто придти к настоящему пониманию восточной концентрации. Наша разновидность концентрации является, может быть, как раз прямой противоположностью восточной – в этом убеждает изучение дзэн-буддизма [35]. Если же мы поймем выражение "без концентрации мыслей" дословно, то получится лишь то, что медитация не направлена ни на что. Поскольку у нее нет центра, она представляет собой скорее как бы растворение сознательности и таким образом непосредственное приближение к бессознательному состоянию. Сознательность всегда предполагает известную степень концентрации, без которой нет ясности и сознаваемости. Медитация без концентрации была бы бодрственным, но пустым состоянием на границе засыпания. Так как наш текст называет это превосходнейшей из медитаций, то, надо полагать, существует и менее превосходная медитация, для которой, видимо, характерна большая степень концентрации. Та же медитация, о которой идет речь в нашем тексте, является, очевидно, своего рода царской дорогой к бессознательному.
ВЕЛИКИЙ СВЕТ
Центральное мистическое переживание – просветленность – в большинстве форм мистицизма прекрасно символизируется светом. Странный парадокс; приближение к сфере, которая нам представляется путем в глубочайшую тьму, приносит плод в виде сияния просветленности. Между тем это употребительная энантиодромия – "per tenebras ad lucem"*. Во многих инициационных церемониях [36] имеет место (спуск в пещеру), погружение в глубины кристальной воды или возвращение в лоно нового рождения. Символика нового рождения описывает просто соединение противоположностей – сознательного и бессознательного – посредством самых конкретных аналогий. В основе всей символики нового рождения лежит трансцендентная функция. Поскольку эта функция обусловливает рост сознательности (когда к прежнему состоянию прибавляются бессознательные до этого содержания), то это новое состояние несет с собой все больше прозрения, что символизируется усилением света [37]. Следовательно, в сравнении с относительно темным прежним состоянием это будет состоянием просветленности. Во многих случаях свет выступает даже в форме видений.
* Через тьму к свету (лат.)
ЙОГА ТРОПЫ, ВЕДУЩЕЙ В НИРВАНУ
Этот раздел дает одну из лучших формулировок полного растворения сознательности, которое, видимо, и является целью йоги: "Поскольку нет двух таких предметов, как действие и действующий, то цель всех взращиваемых плодов и вместе с тем полнота совершенства достигнуты, если разыскивается действующий, но невозможно найти кого-то действующего". Такой весьма исчерпывающей формулировкой метода и его цели я завершаю свой комментарий. Сам текст, прекрасный и мудрый, не нуждается в дальнейшем комментировании. Его можно перевести на язык психологии и интерпретировать при помощи тех принципов, которые я изложил в первой и проиллюстрировал во второй части.
КОММЕНТАРИЙ К "ТАЙНЕ ЗОЛОТОГО ЦВЕТКА" [1]
1. ВВЕДЕНИЕ
А. ПОЧЕМУ ЕВРОПЕЙЦУ ТРУДНО ПОНЯТЬ ВОСТОК
Я – человек, воспринимающий мир исключительно по-западному, и потому мне не остается ничего другого, как глубочайшим образом проникнуться всей необычностью этого китайского текста. Конечно, кое-какие познания в области восточных религий и философских систем помогают моему разуму и моей интуиции до некоторой степени понять их – так же как мне удается "этнологически" или "сравнительно религиозно-исторически" постигать парадоксы первобытных религиозных воззрений. Но ведь Западу свойственно закутывать сердце в одежды так называемого научного понимания – с одной стороны, по той причине, что "miserable vanite des savants"* боится проявлений живого участия и даже испытывает к ним отвращение, с другой – потому, что чувственное восприятие могло бы дать чуждому духу сложиться в устойчивое переживание. Так называемая научная объективность должна была бы предоставить этот текст филологическому глубокомыслию синолога, ревностно удерживая его от любого другого подхода. Но Рихард Вильхельм слишком глубоко проник в сокровенную и таинственную жизнь китайского знания, чтобы дать такой жемчужине высочайшего постижения кануть в недра письменного стола специальной науки. Для меня большая честь и радость, что в своих поисках комментатора-психолога он остановил выбор именно на мне.
* "Жалкое тщеславие ученого" (фр.)
Таким образом, это утонченное произведение надспециального знания, безусловно, рискует оказаться в каком-нибудь ящике специально-научного письменного стола. Но тот, кто стал бы преуменьшать заслуги западной науки, тем самым подпиливал бы сук, на котором сидит европейский дух. Наука – хотя и несовершенный, но неоценимый, превосходный инструмент, который порождает зло, лишь когда превращается в самоцель. Наука должна служить; она заблуждается, когда узурпирует трон. Она должна служить даже другим наукам своего уровня, ибо любая из них – именно в силу своей несамодостаточности – нуждается в поддержке других. Наука есть орудие западного духа, и с ее помощью можно отворить больше дверей, чем с голыми руками. Она принадлежит нашей способности разумения и затемняет познание лишь тогда, когда достигнутое благодаря ей понимание принимает за понимание вообще. Восток же учит нас как раз иному, более широкому, глубокому и высокому пониманию, а именно пониманию через жизнь. Это понятие осознается, в сущности, весьма смутно – как пустое, почти призрачное ощущение, пришедшее из языка религии, вследствие чего восточное "знание" и предпочитают заключать в кавычки, изгоняя его в темную сферу веры и суеверия. Но ведь это-то и есть причина абсолютно превратного понимания восточной "предметности". Это – не чувствительные, мистически экзальтированные, чуть ли не болезненные озарения аскетов-отшельников и фанатиков, а практические интуиции цвета китайской интеллигенции, недооценивать которую у нас нет никаких причин.
Такое утверждение, может быть, покажется довольно смелым и потому вызовет некоторое недоумение, что, правда, простительно при чудовищной неизвестности предмета. К тому же его чужеродность столь очевидна, что вполне понятно, почему мы затрудняемся сказать, как и где китайский строй мышления мог бы вступить в контакт с нашим. Обыкновенное (а именно, теософское) заблуждение западного человека состоит в том, что он, как тот студент из "Фауста", которому лукаво нашептывал бес, презрительно кажет спину науке и, восприняв восточную экстатику, буквально копирует и жалко имитирует практические приемы йоги. Тем самым он покидает единственно надежную для западного духа почву и теряется в чаду слов и понятий, которые никогда не родились бы в уме европейца, да и не могут быть привиты ему с пользой для него.
Один древний адепт сказал: "А коли человек превратный пользуется верным средством, то и верное средство действует превратно" [2]. Это, увы, слишком справедливое изречение китайской мудрости являет собой самую резкую противоположность нашей вере в "правильные" методы невзирая на человека, который их применяет. В действительности же в таких делах все зависит от человека и мало, или вообще ничего, от метода. Ведь метод – это только путь и направление, которое выбирает кто-то, причем образ его действий будет верным выражением его природы. Если это не так, то метод – не более чем аффектация, усвоенная искусственно, без корня и без сока, служащая иллегальной цели – спрятаться от самого себя, средство обмануться насчет себя и ускользнуть от закона собственной природы – быть может, немилосердного. С внутренним постоянством и верностью себе, свойственными китайскому мышлению, это не имеет ничего общего; наоборот, это отказ от собственной природы, выдача себя чуждым и нечистым божествам, малодушная уловка с целью узурпировать ключевой пост в сфере душевного, – все то, что до глубины души противно духу китайского "метода". Ибо прозрения китайцев родились из самой полнокровной, подлинной и правильной жизни, из той древнейшей культурной жизни китайцев, которая логично и неразрывно-взаимозависимо возросла на почве глубочайших инстинктов, – жизни, для нас раз и навсегда далекой и недостижимой.
Западное подражательство – трагическое, потому что непсихологическое недоразумение, столь же стерильное, как модные нынче эскапады в Нью-Мексико, блаженные острова южных морей и Центральную Африку, где на полном серьезе играют в "первобытное", причем между делом человек западной культуры тайком избегает нависающих над ним задач, своего "hic Rhodus, hic salta"*. Не о том идет речь, что органически чужеродное имитируют или даже пропагандируют, а о том, что западную культуру, страдающую тысячью недугов, носят внутри себя и потому постоянно возвращают действительного европейца в его западные будни – к его брачным проблемам, к его неврозам, к его социальным и политическим бредовым идеям и ко всей его мировоззренческой дезориентированности.
* "Здесь Родос, здесь и прыгай" (лат.). Смысл: "Покажи на деле то, чем похвалялся".
Европейцу лучше бы признать, что он, в сущности, совсем не понимает и даже не желает понять мироотрешенности этого текста. Следовало бы, видимо, все же понять, что та душевная установка, которая оказалась в силах так совершенно направить взгляд внутрь, лишь потому столь мироотрешенна, что ее носители выполнили инстинктивные требования своей природы до такой степени, когда ничто или почти ничто не препятствовало им прозреть невидимую сущность мира. Может быть, условием такого прозрения должно быть освобождение от тех привязанностей, амбиций и страстей, которые приковывают нас к видимому; а возникнуть это освобождение должно как раз из осмысленного исполнения этих инстинктивных требований, но не из их упреждающего и порожденного страхом подавления? Может быть, взгляд освободится для духовного тогда, когда мы начнем следовать закону земли? Кто открыл для себя китайские нравоучительные повести и, мало того, тщательно изучил "И Цзин", эту книгу мудрости, на протяжении тысячелетий пронизывавшую все китайское мышление, – тот, может быть, не оставит эти вопросы без внимания. Мало того, он узнает, что воззрения нашего текста для ума китайца не являют собой чего-то неслыханного, а как раз железно последовательны с психологической точки зрения.
Для нашей специфической христианской культуры духа дух и страдание духа долгое время были чем-то просто позитивным и желательным. Лишь на исходе Средних веков, т.е. в течение XIX столетия, дух начал вырождаться в интеллект, а в последнее время ударился в реакцию против невыносимого господства интеллектуализма, реакцию которая, правда, с самого начала допустила непростительную ошибку путать интеллект с духом и обвинять последний в злодеяниях первого (Клагес). На самом же деле интеллект наносит вред душе тогда, когда имеет дерзость претендовать на правопреемство в отношении духа, на что он ни в каком смысле неспособен, ибо дух есть нечто высшее в сравнении с интеллектом, поскольку включает в себя не только его, но и душевное начало. Он – направление и принцип жизни, устремленной в сверхчеловеческое, в светлые высоты. Противостоит же ему женское, темное, земляное (инь) начало с его эмоциональностью и инстинктивностью, уходящими в глубины времени и в телесное переплетение корней. Эти понятия, безусловно, суть чисто интуитивные представления, но без них нельзя обойтись при попытке понять сущность человеческой души, Китай не мог обойтись без них, ибо он, как показывает история китайской философии, никогда не отходил от центральных фактов душевной жизни так далеко, чтобы сбиться с пути в одностороннем преувеличивании и завышенной оценке отдельной психической функции. Поэтому он всегда попадал в цель, признавая парадоксальность и полярность всего живого. Противоположности всегда удерживались в равновесии – вот признак высокой культуры, в то время как односторонность хотя и дает силу для динамики, но зато свидетельствует о варварстве. Реакцию против интеллекта в пользу эроса или в пользу интуиции, разразившуюся на Западе, я не могу расценивать иначе чем как признак культурного прогресса, расширение сознания за тесные пределы тиранствующего интеллекта.
Я далек от того, чтобы недооценивать опасность чудовищной гипертрофии западного интеллекта; по его меркам восточный интеллект надо было бы назвать инфантильным. (Что, разумеется, не имеет ничего общего с интеллигентностью!) Если бы нам удалось привести к такой благодати еще какую-нибудь одну или даже две душевные функции, как это получилось с интеллектом, то у Запада появились бы все основания заметно обогнать Восток. Поэтому столь достойно сожаления то, что европеец, искусственно настраивая себя, имитирует Восток и притом впадает в аффектацию: у него было бы намного больше возможностей, если бы он оставался верен себе и из собственного склада и природы развивал все то, что Восток порождал из своей природы на протяжении тысячелетий.
В целом и исходя из неисцелимо поверхностной точки зрения интеллекта кажется, будто бы то, что столь непомерно высоко ценил Восток, не представляет собой для нас ничего заманчивого. Чистый интеллект, конечно, с самого начала не в состоянии понять, какое практическое значение могли бы иметь для нас восточные идеи, поэтому он привык столь откровенно относить их к разряду философских и этнологических курьезов. Это непонимание заходит так далеко, что даже ученые-синологи не представляют себе, как практически пользоваться "И Цзин", и поэтому рассматривают эту книгу в качестве сборника бессмысленных заклинаний.
В. СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОТКРЫВАЕТ ПУТЬ К ПОНИМАНИЮ
У меня был некоторый практический опыт, который открыл для меня совсем новый и неожиданный подход к восточной мудрости. При этом я, безусловно, исходил не из более или менее несовершенных познаний в области китайской философии, а, скорее начал мой путь как практикующий психиатр и психотерапевт в полном ее неведении. Лишь позднейший мой врачебный опыт показал мне, что благодаря своей технике я бессознательно оказался на том сокровенном пути, на котором уже несколько тысячелетий подвизались лучшие умы Востока. Можно, конечно, считать это плодом субъективного воображения – вот причина, почему я до сих пор медлил с публикацией, – но Вильхельм, этот прекрасный знаток души Китая, прямо подтвердил мне такое совпадение и тем внушил мужество писать о китайском тексте, который всем своим существом принадлежит сокровеннейшим темнотам восточного духа. Вместе с тем его содержание – что чрезвычайно важно – являет собою живейшую параллель тому, что совершается в душевном развитии моих пациентов, которые как-никак не китайцы.
Чтобы помочь читателю вникнуть в этот странный факт, следует упомянуть, что, подобно тому как человеческое тело демонстрирует общую анатомию поверх любых расовых различий, так и психика обладает единым субстратом по ту сторону любых различий в сфере культуры и сознания, субстратом, который я назвал коллективным бессознательным. Эта бессознательная психика, общая для всего человечества, состоит не из осознаваемых содержаний, а из латентных предрасположенностей к известным идентичным реакциям. Факт коллективного бессознательного – это просто психическое выражение тождества структур мозга по ту сторону любых расовых различий. Этим объясняется аналогичность, даже тождество мифологических мотивов и символов и человеческой способности к пониманию вообще. Различные линии душевного развития вырастают из одного всеобщего ствола, корни которого уходят вглубь прошлого, какое только было. По этой причине имеет место даже психический параллелизм человека и животного.
Речь вдет, говоря чисто психологически, о всеобщих инстинктах представления (имагинации) и действия. Всякое осознанное представление и действие развиваются из этих бессознательных образцов и всегда с ними взаимосвязаны – в особенности тогда, когда сознание еще не достигло высокой степени просветленности, т.е. когда оно во всех своих действиях еще зависит от инстинкта более, нежели от осознанной воли, от аффекта – более, нежели от рационального суждения. Такое состояние гарантирует первобытное душевное здоровье, которое, однако, нарушается тотчас, как только появляются обстоятельства, требующие более высоких моральных свершений. Инстинктов достаточно именно лишь для натуры, неизменной в главных чертах. Индивидуум, зависящий более от бессознательного, нежели от осознанного выбора, склонен по этой причине к откровенному психическому консерватизму. Вот почему дикарь не меняется даже за тысячи лет и испытывает страх перед всем чуждым и необычайным, которое может подтолкнуть его к неадекватным реакциям и тем самым приблизить к серьезнейшей душевной опасности, т.е. своего рода неврозу. Сознание более высокое и объемное, живущее лишь посредством ассимиляции чужого, склонно к автономии, к восстанию против старых богов, которые суть не что иное как властные бессознательные образцы, до этого державшие сознание в зависимости.
Чем сильнее и самостоятельнее становится сознание, а с ним и осознанная воля, тем интенсивнее бессознательное вытесняется на задний план и тем легче возникает возможность эмансипации сознательной структуры от бессознательного образца, благодаря чему она выигрывает в свободе, разрывает оковы чистой инстинктивности и наконец оказывается в состоянии безинстинктности или противоинстинктности. Это лишенное корней сознание, которое больше не может апеллировать к авторитету праобразов, хотя и получило прометеевскую свободу, но вместе с ней и безбожную hybris*. Оно парит над вещами и даже над людьми, но риск сорваться всегда остается, не для каждого в отдельности, но коллективно – для самых слабых из такого сообщества, которые – и тоже прометеевски – приковываются тогда бессознательным к Кавказу. Мудрый китаец сказал бы словами "И Цзин", что когда ян входит в наибольшую силу, в его глубине рождается темная власть инь, ибо ночь начинается в полдень, и ян разбивается, превращаясь в инь.
* Дерзость (греч.)
Врач находится в таком положении, когда ему надо видеть эти перипетии в дословном переводе на язык жизненной стихии. Например, достигший успеха человек, занимавшийся только делами, получивший все, чего желал, не задумывавшийся ни о смерти, ни о дьяволе, на вершине своего успеха бросает все дела и в короткий срок подпадает под власть невроза, который превращает его в хроническую плаксивую бабу, приковывает к постели и тем, так сказать, окончательно добивает. Тут уж все, вплоть до превращения мужского в женское. Точной параллелью этому является легенда о Навуходоносоре в Книге пророка Даниила и цезарианское безумие вообще, Подобные случаи одностороннею перенапряжения сознательной установки и появления соответствующей инь-реакции бессознательного составляют значительную долю невропатологической практики в нашу эпоху завышенной оценки осознанной воли ("Где воля, там и путь"!). Разумеется, я не намерен умалять высокую нравственную ценность осознанного волеизъявления. Сознательность и воля должны в полном объеме оставаться высшими культурными достижениями человечества. Но что пользы в нравственности, которая разрушает человека? Привести к гармонии "хотеть" и "мочь" кажется мне чем-то большим, чем нравственность. Moral a tout prix* – не признак ли это варварства? Чаще, сдается мне, предпочтительнее бывает мудрость. Быть может, это профессиональные очки врача, через которые он видит вещи другими. Ведь ему приходится заделывать прорехи, возникающие в кильватере чрезмерных культурных усилий.
* Мораль любой ценой (фр.)
Как бы то ни было, несомненно то, что сознание, повышенное за счет неизбежной односторонности, настолько удаляется от праобразов, что следует крушение. И уже задолго до катастрофы давали о себе знать предвестники заблуждения, как то: безинстинктность, нервозность, дезориентированность, запутанность в неразрешимых ситуациях и проблемах и т.д. Врачебное просвещение обнаруживает прежде всего, что бессознательное находится в состоянии форменной революции против ценностей сознания и потому не может быть ассимилировано им, а обратное и подавно невозможно. И вот мы вплотную подошли к якобы неисцелимому конфликту, к которому никакой человеческий рассудок не может подступиться иначе, чем с иллюзорными решениями или гнилыми компромиссами. Перед тем, кто равно отвергает и то и другое, возникает вопрос: где же тогда необходимое единство личности, а вместе с тем и потребность отыскать таковое. Тут-то и начинается тот путь, который хожен Востоком с древних времен, – совершенно очевидно, благодаря тому обстоятельству, что китаец никогда не был в состоянии столь далеко развести противоположности человеческой природы, чтобы они взаимно потерялись из виду вплоть до бессознательности. Таким всеприсутствием своего сознания он обязан тому, что эти sic et non* остаются в изначальном соседстве, как это и подобает первобытному состоянию духа. Тем не менее он не может не чувствовать столкновения противоположностей и вследствие этого начинает искать тот путь, на котором он стал бы, как сказал бы индус, nirdvandva, т.е. свободным от противоположностей.
* Да и нет (лат.), противоречащие друг другу утверждения.
О таком-то пути и идет речь в нашем тексте, и на том же пути оказываются пациенты. В этом деле, безусловно, нет большей ошибки, чем позволить европейцу непосредственно заниматься китайскими йогическими упражнениями, ибо в таком случае они остаются прерогативой его воли и его сознания, а по этой причине сознание просто вновь укрепляется в своем противостоянии бессознательному и прямехонько добивается эффекта, которого надо всеми силами избегать. Тем самым невроз только усиливается. Излишне подчеркивать, что мы отнюдь не восточные люди и потому исходим в этом деле из совершенно иной основы. Однако мы сильно обманулись бы, предположив, будто на таком пути оказывается всякий невроз или всякая стадия невротического процесса. Речь вдет прежде всего лишь о случаях, когда сознание достигает ненормально высокой ступени и потому неподобающе далеко отталкивается бессознательным. Эта высокоразвитая сознательность есть conditio sine qua non*. Нет ничего более превратного, чем желание идти этим путем вместе с невротиками, заболевшими из-за неподобающего перевеса бессознательного. Исходя именно из этой причины и не имеет смысла идти таким путем развития до рубежа середины жизни (в норме 35-40 лет) – это даже может принести большой вред.
* Необходимое условие (лат.)
Как я уже дал понять, основным мотивом, побудившим меня пойти по новому пути, было то обстоятельство, что коренная проблема пациента казалась мне неразрешимой без насилия над той или иной стороной его природы. Я всегда работал с соответствующим моему темпераменту убеждением, что, вообще говоря, неразрешимых проблем нет. И опыт доказывал мою правоту в этом отношении, когда я видел, что, зачастую, одну проблему люди просто перерастали, а с другой – приходили к полному краху. Это "перерастание" – так я называл его раньше – при дальнейшем изучении оказалось повышением уровня сознания. В поле зрения попадал какой-либо более высокий и широкий интерес, и в силу такого расширения кругозора сводилась на нет актуальность неразрешимой проблемы* Она не решалась изнутри логическими средствами, а просто бледнела перед новым и более сильным направлением жизни. Она не вытеснялась и не делалась бессознательной, а просто представала в ином свете, тем самым становясь иной. То, что на более низкой ступени было бы поводом для разнузданных конфликтов и панических бурь страстей, казалось теперь, с точки зрения более высокого уровня личности, всего лишь дальней грозой, наблюдаемой с вершины высокой горы. При этом буря стихий нисколько не ослабевает в своей действительности а просто переживание не захвачено ею, но поднимается над ней. А так как в душевном смысле мы одновременно и долы, и горы, то предположение о том, что можно чувствовать себя находящимся по ту сторону человеческого, выглядит неправдоподобной фантазией. Разумеется, мы ощущаем аффект, разумеется, он нас потрясает или мучает, но одновременно ощутимо и потустороннее сознание, препятствующее отождествлению себя с аффектом и принимающее аффект как объект, сознание, которое может сказать: "Апатия, которая не осознается, и апатия, которая осознается, на тысячу верст далеки друг от друга" [3], полностью относится к аффекту вообще.
И все это происходящее то тут, то там, – а именно, что кто-то растет все выше и выше из сферы темных возможностей, – стало для меня бесценным опытом. Ведь я тем временем учился понимать, что фактически все величайшие и важнейшие проблемы жизни неразрешимы в своей основе; такими им и должно быть, ибо они выражают неизбежную полярность, присущую любой самоопределяющейся системе. Они никогда не будут разрешены, а будут только оставлены внизу благодаря собственному росту вверх. Поэтому я спрашивал себя, не является ли эта возможность перерастания, т.е. прогрессирующего душевного развития, нормой вообще, а потому не есть ли застревание на или в конфликте нечто болезненное. В сущности, любой человек должен по крайней мере в зародыше обладать этим повышенным уровнем и уметь развивать эту возможность при благоприятных обстоятельствах. Наблюдая, как развивались те, которые молчаливо, словно бессознательно, перерастали себя, я видел, что всем их судьбам было присуще нечто общее, а именно: новое подступало из темного поля возможностей извне или изнутри; люди воспринимали это новое и росли по нему вверх. Мне казалось типичным, что одни воспринимали его извне, а другие – изнутри, или, скорее, что к одним оно прирастало извне, а к другим – изнутри. Но никогда это новое не было чем-то шедшим только извне или только изнутри. Если оно приходило извне, то становилось глубочайшим переживанием. Если оно приходило изнутри, то становилось внешним событием. Но его никогда не получали умышленно и по осознанному желанию – оно, скорее, привтекало с потоком времени.
Искушение видеть во всем умысел и делать из всего метод для меня так велико, что я намеренно выражаюсь весьма абстрактно, дабы не предрешать ничего заранее, ибо это новое не должно быть ни тем, ни этим, – иначе отсюда будет извлечен рецепт, который можно размножить "машинным способом", а тогда "верное средство" опять окажется в руках "человека превратного". Глубочайшее впечатление произвело на меня именно то, что это судьбинно новое редко или вообще никогда не отвечало осознанному ожиданию и, что еще замечательнее, противоречило равным образом и коренным инстинктам, какими мы их знаем, но тем не менее было на редкость подходящим выражением личности в ее целокупности, выражением, которое невозможно представить себе более совершенным.
А что же они делали, эти люди, чтобы добиться спасительного продвижения вперед? Они, как я убедился, вообще ничего не делали (увэй [4]), а, не отрекаясь при этом от своего мирского призвания, давали совершаться тому, чтобы свет вращался согласно своему закону как учит Мастер Лю-цзу. Умение давать совершаться событиям, деяние в недеянии, "самоотпускание" Майстера Экхарта – все это стало для меня ключом, отворяющим двери, за которыми начинается путь: надо уметь давать совершаться психическим событиям. Для нас это настоящее искусство, в котором огромное количество людей ничего не смыслит, потому что сознание постоянно вмешивается со своей помощью, поправками и отрицанием и в любом случае никак не может оставить в покое простое развертывание психического процесса. А ведь это довольно простое дело. (Если бы только простота не была как раз самым сложным из всего!) Оно заключается только в том, что для начала в один прекрасный момент какой-нибудь фрагмент фантазии в его развитии становится объектом отстраненного наблюдения. Нет ничего проще, но здесь-то и начинаются трудности. Да вроде бы и нет никаких фрагментов фантазии – или есть? – да нет, ерунда – против этого тысячи причин. Невозможно на этом сконцентрироваться – скучно – ну и что из этого? – все это "не более чем" и т.д. Сознание в изобилии выдвигает отговорки и даже частенько занимается тем, что как сумасшедшее гасит спонтанную деятельность фантазии, но вопреки этому возникает более высокое понимание и даже твердое намерение предоставить свободу психическому процессу, не вмешиваясь. Временами наступает форменная судорога сознания.
Если удается преодолеть эту начальную трудность, то вслед за тем вступает в дело критика, которая пытается толковать, классифицировать, эстетизировать или развенчивать эту часть фантазии. Искушение соучаствовать тут почти непреодолимо. После того как завершено точное наблюдение, можно спокойно отпустить поводья нетерпеливого сознания. Это даже нужно сделать, иначе возникнут тормозящие противодействия. Но при любом наблюдении деятельность сознания должна все снова и снова отходить в сторону.
Результаты таких усилий поначалу в большинстве случаев мало вдохновляют. Речь вдет, как правило, о настоящих привидениях, созданных фантазией, которые не дают возможность четко уяснить себе, что к чему. Способы материализации этих фантазий тоже индивидуально различны. Некоторым легче всего их записывать, другие их визуализируют, а третьи рисуют их или пишут красками с визуализацией или без нее. При высокой судорожности сознания нередко фантазированием могут заниматься только руки – они лепят или рисуют образы, зачастую абсолютно чуждые сознанию.
Такие упражнения должны продолжаться до тех пор, пока судорога сознания не разрешится, иначе говоря, до тех пор, когда можно будет предоставить событиям свободу, что и является ближайшей целью упражнения. Благодаря этому возникает новая установка, которая приемлет также иррациональное и непонятное – просто потому, что они происходят. Эта установка будет ядом для того, кто уже и так находится под властью просто происходящего: но она же – высшая ценность для того, кто путем сугубо осознанного решения всегда выбирал из просто происходящего только то, что подходит его сознанию, и тем самым мало-помалу выбрался из потока жизни в тихую заводь.
Теперь как будто бы и расходятся пути обоих вышеупомянутых типов. И тот, и другой научились принимать то, что к ним подходит, (Мастер Лю-цзу учит: "Когда дела подходят к нам, их следует принимать; когда к нам подходят вещи, следует познать их до дна" [5].) Один будет принимать главным образом приходящее к нему извне, а другой – идущее изнутри. И, как того хочет закон жизни, один возьмет извне то, чего прежде никогда не принял бы извне, а другой – изнутри то, что прежде непременно отбросил бы. Это обращение всего существа человека означает расширение, возвышение и обогащение личности, причем прежние ценности, поскольку они не были просто иллюзорными, сохраняются и после обращения. Если же они не сохраняются, то человек впадает в другую крайность – из годного попадает в негодное, из адекватности – в неадекватность, из смысла – в бессмыслицу и даже из разума – в душевную болезнь. Этот путь небезопасен. Все хорошее дорого, а развитие личности относится к самым великим драгоценностям. Дело в том, чтобы говорить себе "да", т.е. полагать себя самого как наиважнейшее задание и всегда оставаться при полном сознании того, что делаешь, никогда не спуская глаз с себя со всеми своими сомнительными сторонами – вот уж, действительно, задача из задач.
Китаец может призвать на помощь весь авторитет своей культуры. Вступив на этот долгий путь, он сделал уже признанное лучшим из того, что он мог сделать вообще. Европейцу же все авторитеты враждебны и в интеллектуальном, и в моральном, и в религиозном отношениях, если только он и впрямь собирается пуститься в этот путь. Поэтому гораздо проще подражать китайскому пути и оставаться сомнительным европейцем или, что немногим более просто, искать обратный путь к европейскому средневековью христианской церкви и вновь воздвигать европейскую стену, которая отделяла бы живущего снаружи жалкого язычника, а также и этнографические курьезы, от истинного христианина. Эстетический или интеллектуальный флирт с жизнью и судьбой приходит здесь к внезапному концу. Шаг к более высокому сознанию уводит прочь от всяких запасных гарантий и страховок. Человек должен полностью пожертвовать собой, ибо может продвигаться дальше, только исходя из своей целостности, и только его целостность может гарантировать ему, что путь не станет для него абсурдной авантюрой.
Как бы ни принимал человек свою судьбу – извне или изнутри, – переживания и события этого пути останутся теми же. Поэтому мне и не понадобилось говорить о многообразных внешних и внутренних событиях, бесконечную пестроту которых я все равно не смог бы исчерпать. Да это и неважно в отношении комментируемого нами текста. Зато многое нужно сказать о тех душевных состояниях, которые сопровождают дальнейшее развитие. Эти-то душевные состояния в нашем тексте выражены символически, и притом в символах, хорошо знакомых мне по многолетней практике.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
А. ДАО
Огромная трудность перевода этого и подобных ему текстов [6] в европейский дух состоит в том, что китайский автор всегда исходит из самого главного, а именно из того, что мы обозначили бы как вершину, цель и глубочайшую и последнюю интуицию. Это предъявляет столь высокие требования, что человек с критическим интеллектом ощущает побуждение либо говорить издевательски-самоуверенно, либо вещать полную чушь, если отваживается пускаться в интеллектуальный дискурс о сокровеннейшем душевном опыте величайших умов Востока. Наш текст начинается так: "Сущее само по себе называется дао". A "Hui Ming Ging"* начинается словами: "Самая тонкая тайна дао – сущность и жизнь".
* Китайский текст, близкий по содержанию "Тайне Золотого Цветка".
Для западного духа характерно, что у него вовсе нет понятия, передающего дао. Китайский иероглиф "дао" составлен из знаков "голова" и "идти". Вильхельм переводит дао как "смысл" [7]. Другие – как "путь", "providence"** и даже, как иезуиты, – "бог". И в этом видно какое-то сомнение. "Голова" могла бы указывать на сознание [8], "идти" – на "проделывать путь". Должна получиться идея "идти осознанно" или "осознанный путь". С этим согласуется то, что "свет небес", который в качестве "сердца небес" "обитает между глазами", употребляется как синоним дао. Сущность и жизнь содержатся в свете небес, и у Лю Хуа Яна они выступают важнейшими тайнами дао. "Свет" и есть символический эквивалент сознания, а сущность сознания выражается через световые аналогии. Прологом к "Hui Ming Ging" служат следующие стихи:
*"Провидение" (фр.)
Хочешь добиться совершенства алмазного тела без утечки, Прилежно нагревай корень сознания [9] и жизни, Освещая всегда близкую блаженную страну, Постоянно оставляй сокровенно в ней жить свое истинное Я.
Эти стихи содержат своего рода алхимическое наставление, метод или путь к производству "алмазного тела", которое имеется в виду и в нашем тексте. Для этого требуется "нагревание", или повышение сознания, при помощи которого "освещается" жилище духовной сущности. Однако повышено должно быть не только сознание, но и жизнь. Сочетание того и другого дает "осознанную жизнь". Согласно "Hui Ming Ging", древние мудрецы умели упразднять разрыв между сознанием и жизнью, культивируя то и другое. Таким способом "выплавляется шэли" (бессмертное тело), и таким же способом "совершается великое дао" [10].
Если мы будем рассматривать дао как метод, или осознанный путь, на котором должно быть объединено разорванное, то сможем, видимо, приблизиться к пониманию психологического содержания этого термина. Во всяком случае, можно, пожалуй, понимать под разрывом сознания и жизни именно то, что выше я описал как дезориентацию или лишение сознания его корней. Нет сомнения, что если возникает вопрос об осознанивании противоположностей, об "обращении", то речь идет также и о воссоединении с бессознательными законами жизни, а целью этого воссоединения является достижение осознанной жизни, или, выражаясь на китайский лад, изготовление дао.
В. КРУГОВРАЩЕНИЕ И СРЕДОТОЧИЕ
Объединение противоположностей [11] на более высоком уровне, как уже отмечалось, – дело совершенно не рациональное; столь же мало оно является предметом волеизъявления. Это – процесс психического развития, выражающий себя в символах. Исторически он всегда изображался символами, да и сегодня в индивидуальном развитии личности он получает наглядное выражение посредством символических фигур, Этот факт стал мне ясен из следующих наблюдений. Продукты спонтанных фантазий, о которых мы говорили выше, интенсифицируются и постепенно концентрируются вокруг абстрактных картин, очевидным образом представляющих собой "начала", настоящие гностические "археи". Там, где фантазии выражены главным образом в мыслительной форме, появляются интуитивные формулировки для смутно ощущаемых законов или принципов, которые поначалу охотно драматизируют или персонифицируют. (Об этом будет сказано ниже.) Если фантазии изображаются в виде рисунков, то возникают символы, относящиеся преимущественно к так называемому типу мандалы [12]. Мандала значит "круг", а более специально – "магический круг". Мандалы не только широко распространены на всем Востоке, но в изобилии засвидетельствованы и у нас в средневековье. Для христианства они характерны прежде всего в эпоху раннего средневековья, когда их изображали преимущественно с Христом в центре и с четырьмя евангелистами или их символами в осевых точках. Это представление, безусловно, очень древнее, ведь и египетский Гор с его четырьмя сыновьями изображался именно так [13]. (Гор и его четыре сына, как известно, близко связаны с Христом и четырьмя евангелистами.) Позже ясная и в высшей степени интересная мандала появляется в книге Якоба Бёме о душе [14]. Там совершенно откровенно речь идет о психокосмической системе с сильным христианским уклоном, Бёме называет это изображение "философским глазом" [15] или "зерцалом мудрости", причем явно имеется в виду высшее откровение тайного знания. По большей части речь идет о форме цветка, креста или колеса с ярко выраженной склонностью к четверице (напоминающей пифагорейскую Тетрактиду, основное число). Такие мандалы можно видеть и в культовых рисунках на песке у пуэблос [16], Но самыми красивыми мандалами владеет, конечно же, Восток, и особенно тибетский буддизм. Символы нашего текста представлены такими мандалами. Я находил рисунки мандал и у душевнобольных, и притом таких, которые не имели ни малейшего понятия об этих связях [17].
Несколько раз я наблюдал среди моих пациентов женщин, которые не рисовали мандалы, а танцевали их. В Индии есть соответствующий термин: mandala nritya – танец мандалы. Танцевальные фигуры выражают тот же смысл, что и рисунки. Сами же пациенты мало что могут сказать о смысле символа мандалы. Они только зачарованы им и каким-то образом находят его место относительно субъективного душевного состояния, и делают это весьма выразительно и эффективно.
Наш текст обещает "открыть тайну Золотого Цветка Великого Единого". Золотой Цветок – это свет, а свет небес есть дао. Золотой Цветок – символ мандалы, с которым я уже часто сталкивался у пациентов. Они или чертили его в плане, т.е. в виде правильного геометрического орнамента, или же рисовали в панораме – как цветок, из которого появляется растение. Это растение чаще всего представляет собой структуру, изображенную светящимися, огненными красками, которая выступает из окружающей ее тьмы и несет сверху световой цветок (символ, подобный рождественской елке). Такой рисунок как раз и выражает возникновение Золотого Цветка, ведь, по "Hui Ming Ging", "зародышевый пузырек" есть не что иное как "желтый замок", "небесное сердце", "терраса жизненной силы", "дюймовое поле дома размером в фут", "пурпурный зал нефритового города", "темная теснина", "пространство прежних небес", "драконий замок на дне моря". Он называется также "пограничной областью снежных гор", "пратесниной", "царством высочайшей радости", "страной без границ" и "алтарем, на котором воздвигнуты сознание и жизнь". "Если умирающий не ведает этого зародышевого места, – утверждает "Hui Ming Ging", – то он не обретает единства сознания и жизни в течение тысяч рождений и десяти тысяч мировых эпох" [18].
Начало, в котором все сущее еще находится в единстве и которое поэтому является и наивысшей целью, пребывает на дне моря, во мраке бессознательного. В этом зародышевом пузырьке сознание и жизнь (или "сущность" и "жизнь" – sing-ming) еще образуют единство, будучи "нераздельно смешаны, как семя огня в печи для обжига". "Внутри зародышевого пузырька – огонь Владыки". "Все мудрые начинали свое деяние" с зародышевого пузырька [19]. Заслуживает внимания огневая аналогия. Мне известен ряд европейских изображений мандалы, в которых нечто – словно бы окруженный пеленами зародыш растения – плавает в воде, а из глубины в него проникает огонь, инициирующий рост и тем самым обусловливающий возникновение большого золотого цветка, вырастающего из зародышевого пузырька.
Эта символика относится к разновидности алхимического процесса очищения и облагораживания; тьма порождает свет, из "свинца водяной местности" вырастает благородное золото, бессознательное становится осознанным в качестве процесса жизни и роста. (Полнейшей аналогией выступает индийская кундалини-йога [20].) Таким образом происходит объединение сознания и жизни.
Когда мои пациенты рисуют такие картины, то это, конечно, вызвано не внушением, ибо такие картины рисовались задолго до того как мне стали известны их значение или их связь с опытом Востока, тогда абсолютно мне чуждым. Они появлялись совершенно спонтанно, и притом из двух источников. Один источник – бессознательное, которое производит такие фантазии спонтанно; другой источник – жизнь, которая, будучи переживаема с полной самоотдачей, дает предощущение самости, индивидуальности сущности. Последнее переживание выражается в рисунке, первое побуждает к самоотверженности в жизни. Ибо в полном соответствии с восточным подходом символ мандалы не только является выражением, но и действует сам. Он оказывает обратное воздействие на своего творца, В нем сокрыта древняя магическая сила, так как изначально он происходит от "заповедного круга", от "заколдованного круга", магия которого сохранилась в бесчисленных народных обычаях [21]. Этот образ имеет явную цель – провести "sulcus primigenius" магическую борозду, вокруг центра – templum, или temenos (священного округа) сокровенных глубин личности, чтобы воспрепятствовать "излиянию" или апотропеически предохранить от соскальзывания в сторону внешнего мира. Такие магические обычаи – не что иное как проекции душевного события, которые находят здесь свое обратное применение к душе как некий вид околдовывания собственной личности. Это поддержанный и опосредствованный образным действием возврат внимания или, лучше сказать, участие во внутреннем священном округе – источнике и цели души, содержащем в себе то самое некогда имевшееся, но затем утраченное и вновь обретенное единство жизни и сознания.
Единство того и другого есть дао, символом которого является находящийся в центре белый свет (подобно тому как это имеет место в "Бардо Тходол" [22]). Этот свет обитает в "квадратном дюйме", или "лице", т.е. между глаз. Здесь наглядно выражена "творческая точка", непротяженная интенсивность, мысленно совмещаемая с пространством "квадратного дюйма", символом протяженности. То и другое вместе есть дао. Сущность, или сознание (sing) выражается световой символикой и потому выступает в качестве интенсивности. Отсюда жизнь (ming) можно отождествить с экстенсивностью. У первого – характер ян, у второй – инь. Вышеупомянутая мандала 15-летней девочки-сомнамбулы, которую я наблюдал тридцать лет тому назад, имеет в центре изображение непротяженного "источника жизненной силы", в ходе эманации непосредственно сталкивающегося с противоположным пространственным принципом – в полном соответствии с основной китайской идеей"
"Обхаживание", или circumambulatio, выражено в нашем тексте через идею "круговращения". Круговращение – не простое движение по кругу, а такое, которое несет, с одной стороны, значение выделения священного округа, а с другой – значение фиксации и концентрации; колесо солнца начинает свой бег, т.е. солнце оживает и начинает свой путь, иными словами, дао начинает действовать и берет водительство на себя. Деяние переходит в недеяние, т.е. все периферическое подчиняется приказу центра, поэтому сказано: "Движение – другое имя для владения". Психологически это круговращение соответствует "хождению по кругу вокруг себя самого", причем очевидным образом в оборот берутся все стороны собственной личности. "Полюсы света и тьмы приходят в круговое движенье", т.е. возникает смена дня и ночи, "Свет рая сменяется глубокой ужасною ночью" [23].
Это круговое движение, следовательно, имеет также моральное значение оживотворения всех светлых и темных сил человеческой природы, а вместе с тем и всех психологических противоположностей, какого бы рода они ни были. А означает это не что иное как самопознание путем самовысиживания (у индусов – "тапас"). Подобное исходное представление о совершенном существе совпадает с платоновским со всех сторон круглым человеком, в котором и половые различия образуют единство.
Одной из лучших иллюстраций сказанною может послужить тот образ, в который Эдвард Мэтланд, сотрудник Анны Кингсфорд, облек свое центральное переживание [24]. Насколько это возможно, я следую его собственным словам, Он обнаружил, что при размышлении о какой-либо идее становятся, так сказать, видимыми длинные вереницы родственных идей, и будто бы вплоть до их собственного источника, которым для него выступает божественный дух. Посредством концентрации на этих вереницах он сделал попытку проникнуть к их первоисточнику.
У меня не было ни знаний, ни опыта, когда я решился на эту попытку. Я просто экспериментировал с этой способностью... сев за письменный стол, чтобы записывать события в их последовательности, я решил зафиксировать свое внешнее и периферическое сознание, не заботясь о том, насколько далеко я могу зайти в свое внутреннее, центральное сознание. Я ведь не знал, смогу ли вернуться к первому, раз уйдя от него, или вообще припомнить эти события. В конце концов мне это удалось – разумеется, с большим трудом, потому что напряжение, вызванное усилием удержать одновременно обе крайних точки сознания, было очень велико. Вначале я чувствовал себя так, будто взбираюсь по длинной лестнице от периферии к центру системы, которая была одновременно моей собственной, Солнечной и космической системами. Эти три системы были различны и все же тождественны... Наконец последним усилием мне удалось сконцентрировать лучи своего сознания в фокусе. И в то же мгновение передо мною, словно внезапная вспышка, сплавившая все лучи в одно целое, возник чудесный, несказанно сияющий белый свет, чья сила была столь велика, что меня почти отбросило в сторону... Хотя я ощущал, что мне нет необходимости исследовать этот свет более внимательно, я все же решил снова убедиться в этом, пытаясь проникнуть взором в этот блеск, почти меня ослеплявший, чтобы посмотреть, что в нем. С большим трудом мне это удалось... Это была двойственность Сына... сокровенное стало откровенным, неопределенное – определенным, неиндивидуированное – индивидуированным, Бог – Господом, своей двойственностью свидетельствующим, что Бог есть как субстанция, так и сила, как любовь, так и воля, как женское, так и мужское, как Мать, так и Отец.
Он обнаружил, что Бог есть Двое в Одном, – как и человек. Кроме того, он заметил нечто такое, что выделено и нашим текстом, а именно "замирание дыхания". Он говорит, что обыкновенное дыхание прекращается и его заменяет некий род внутреннего дыхания, как если бы в нем стала дышать другая личность, отличная от его физического организма. Он принимает эту сущность за энтелехию Аристотеля и "внутреннего Христа" апостола Павла, "духовную и субстанциальную индивидуальность, возникающую внутри физической и феноменологической личности и потому представляющую собой новое рождение человека на трансцендентальной ступени",
Это подлинное переживание [25] содержит в себе все существенные символы нашего текста. Сам феномен, т.е. видение света, представляет собой общее многим мистикам переживание, обладающее, несомненно, величайшей общезначимостью, поскольку во все времена и у всех народов оно выступает как нечто безусловное, что соединяет в себе огромную силу и высочайший смысл. Хильдегарда Бингенская, эта и помимо своей мистики значительная личность, выражает свое главное видение очень похоже.
С самого детства, – говорит она, – я вижу в своей душе свет, но не внешними очами и не помыслами сердца; и пять внешних чувств тоже не имеют доли в этом лицезрении... Свет, который я ощущаю, не от пространства, но много светлее облака, несущего Солнце. Я не могу различить ни высоты, ни ширины, ни длины... Что я вижу или чему я научаюсь в таком видении, надолго остается в моей памяти. Я вижу, слышу, знаю и в то же время научаюсь тому, что знаю, словно в один миг... Я не могу распознать в этом свете никакого образа, но все же иногда замечаю в нем другой свет, который у меня называется живым светом, когда я радуюсь созерцанию этого света, из моей памяти исчезают печаль и боль... [26].
Я и сам знаю несколько человек, которым подобное переживание известно из собственного опыта. Если мне вообще удалось составить представление об этом феномене, то речь, кажется, вдет об обостренном состоянии сколь интенсивного, столь и абстрактного сознания, об "отвязанном" (см. ниже) сознании, которое, как это превосходно изображает Хильдегарда, поднимает до осознанности те сферы происходящего в душевных глубинах, что иначе остались бы во мраке. Частое исчезновение в связи с этим общих соматических ощущений, указывает на то, что их специфическая энергия от них отбирается и, вероятно, используется для усиления просветленности сознания. Этот феномен, как правило, спонтанный, возникает и разворачивается по собственному побуждению. Его эффект настолько поразителен, что он почти всегда инициирует разрешение душевных затруднений, а с ним и вывязывание внутренней личности из эмоциональных и идейных завязок, тем самым порождая единство человеческого существа, единство, которое в целом воспринимается как "освобождение".
Осознанная воля не в состоянии достичь такого символического единства, ибо сознание в этом случае играет роль партии. Противной же стороной выступает коллективное бессознательное, которое не понимает никакого языка сознания. Поэтому требуется "магически" действующий символ, обладающий тем первобытным аналогизмом, который и воспринимает бессознательное. Это бессознательное может быть постигнуто и выражено лишь через символ, почему и невозможно обойтись без индивидуации символа. Символ, с одной стороны, есть примитивное выражение бессознательного, а с другой – идея, соответствующая высочайшей интуиции сознания.
Древнейшее из известных мне изображений мандалы – палеолитическое так называемое "солнечное колесо", недавно обнаруженное в Родезии. Во всяком случае, оно основывается на числе четыре. Вещи, столь далеко заходящие в глубь человеческое истории, конечно же, затрагивают самые сокровенные слои бессознательного и делают возможным их постижение, в то время как язык сознания демонстрирует полнейшую импотентность. Такие вещи не выдумаешь – наоборот, они должны вырасти из темнейших глубин забвения, чтобы выразить обостренное предчувствие сознания и высочайшую интуицию духа и тем сплавить между собою уникальность актуального сознания с исторической бездной жизни.
3. ОБЛИКИ ПУТИ
А. РАСТВОРЕНИЕ СОЗНАНИЯ
Встреча узкоограниченного, но зато интенсивно ясного индивидуального сознания с чудовищной протяженностью коллективного бессознательного представляет собой опасность, ибо бессознательное обладает откровенно растворяющим действием на сознание. Это действие даже является, согласно "Hui Ming Ging", одной из характерных особенностей практики китайской йоги. В трактате говорится: "Каждая отдельная мысль получает облик и становится видимой в цвете и форме. Совокупная душевная энергия дает ощутить свои следы" [27]. Приложенная к трактату иллюстрация изображает погруженного в медитацию мудреца, голова которого окружена пылающим огнем, откуда выступают пять человеческих фигур, которые, в свою очередь, разделяюся на двадцать пять меньших [28]. Это был бы шизофренический процесс, если бы мы рассматривали его как состояние, Подпись под картинкой говорит об этом: "Образованные духовным огнем облики суть лишь пустые краски и формы. Свет сущности лучится вспять к изначальному, истинному".
Понятно поэтому, почему надо прибегать к защитной фигуре "охранительного круга". Он должен воспрепятствовать "излиянию" и защитить единство сознания от растворяющего воздействия бессознательного. Мало того, подход китайцев пытается ослабить растворяющее воздействие бессознательного тем, что характеризует "мысленные облики" или "частичные мысли" как "пустые краски и формы" и тем по возможности лишает их силы. Эта мысль проходит через весь буддизм (особенно махаянский) и заостряется в наставлении для умерших "Бардо Тходол" (тибетской Книге мертвых) вплоть до заявления, что и боги – дружелюбные и враждебные – суть иллюзии, которые надлежит преодолеть. Устанавливать
метафизическую истинность или ложность этой мысли, конечно же, не в компетенции психолога. Он должен довольствоваться тем, чтобы насколько это возможно установить, что является фактором, воздействующим на психику. При этом его не должно волновать, представляет ли собой соответствующее явление трансцендентальную иллюзию или нет. Об этом пусть судит вера, а не наука. Мы здесь так или иначе продвигаемся по той области, которая до сих пор была как бы вне сферы науки и потому в общем расценивалась как иллюзия. Со стороны же науки такое допущение подтвердить никак невозможно, поскольку субстанциальность этих материй – отнюдь не научная проблема, ведь в любом случае она находится по ту сторону способности человеческого восприятия и суждения, а тем самым и по ту сторону всякой доказуемости. Да и для психолога речь идет не о субстанции этих комплексов, а лишь о психическом опыте. Это, несомненно, познаваемые психические содержания, обладающие столь же несомненной автономией, ибо они являются психическими подсистемами. Они либо спонтанно проявляются в экстатических состояниях и при случае вызывают сильнейшие впечатления и эффекты, либо, при душевных расстройствах, закрепляются в форме бредовых идей и галлюцинаций, тем самым разрушая единство личности. Психиатр, конечно, склонен тут думать о токсинах и тому подобных вещах, и этим объяснять шизофрению (расщепление духа в психозе), не придавая при этом никакого значения психическим содержаниям. Но при психогенных расстройствах (например, при истерии или неврозе навязчивых состояний), где попросту невозможно вести речь о токсинных воздействиях и вырождении клеток, имеют место, как например, в сомнамбулических состояниях, подобные спонтанно отщепившиеся комплексы, которые Фрейд, правда, пытался объяснять бессознательным вытеснением сексуальности. Такое объяснение относится, однако, далеко не ко всем случаям, поскольку из бессознательного и спонтанно могут возникнуть содержания, которые сознание ассимилировать не в состоянии, В этих случаях предположение о вытеснении не работает, Вообще-то эту автономию можно изучать в повседневной жизни на аффектах, которые своевольно прорываются вопреки нашей воле и нашим судорожным попыткам вытеснить их и, затопляя Я, подчиняют его своей воле. Поэтому неудивительно, что дикарь видит в этом феномене одержимость или выход души из тела – да ведь и наш язык все еще держится этого обычая: "Не возьму в толк, что на него сегодня накатило", "В него бес вселился", "Опять на него что-то нашло", "Он выходит из себя", "Он работает как одержимый". Даже в судебной практике признается частичное снижение вменяемости в состоянии аффекта. Поэтому автономные душевные содержания для нас – вполне привычное переживание. Такие содержания оказывают на сознание расщепляющее воздействие.
Медитация 1 ступени
собирание света
Медитация 2 ступени
новое рождение в пространстве силы
Медитация 3 ступени
отвязывание духовного тела
Медитация 4 ступени
центр посреди условных сущностей
и получение им
самостоятельного существования
Однако помимо этих обычных, общеизвестных аффектов имеются и более тонкие, более комплексные аффективные состояния, которые уже не назовешь просто аффектами. Это, скорее, сложные душевные подсистемы, обладающие личностным характером тем более, чем они сложнее. Они-то и являются составляющими психической личности и потому должны иметь личностный характер. Такие подсистемы встречаются при душевных заболеваниях, в случаях психогенного раздвоения личности (double personnalite) и весьма распространены при медиумистических явлениях. Их можно обнаружить и в феноменах религиозного опыта. Поэтому многие наиболее древние боги из лиц превратились в персонифицированные идеи, а в конце концов – в абстрактные идеи, ведь активизировавшиеся бессознательные содержания всегда выступают сначала как проецированные вовне, и в ходе духовного развития постепенно ассимилируются сознанием посредством пространственных проекций, преобразуясь в сознательные идеи, причем последние утрачивают свой изначально автономный и личностный характер. Некоторые древние боги благодаря астрологии стали, как известно, просто свойствами характера (воинственность, возвышенность, угрюмость, эротичность, логичность, лунатизм и т.д.).
Наставления "Бардо Тходол" очень хорошо показывают, сколь велика для сознания опасность быть растворенным этими фигурами. Усопший раз за разом получает увещевания: не следует принимать эти фигуры за реальность и путать их темное свечение с чистым белым светом Дхармакайи (божественного тела истины), т.е. не проецировать единый свет высшего сознания на конкретизированные фигуры, тем самым растворяя его в множественности автономных подсистем. Если бы такой опасности не было и подсистемы не представляли бы собой опасные автономизирующие и дивергирующие тенденции, то, видимо, не понадобились бы эти настоятельные увещевания; последние означают для более наивного, политеистически ориентированного менталитета восточного человека, вероятно, примерно то же, что, предположим, для христианина призыв не соблазняться иллюзией личностного бога, не говоря уже о Троице, бесчисленных ангелах и святых.
Если бы расщепляющие тенденции не были свойствами, присущими человеческой психике, то психические подсистемы вообще не отщеплялись бы, иными словами, не было бы духов или богов. Вот почему наша эпоха в столь большой степени лишена божественного и священного: это обусловлено нашим незнанием бессознательной психики и подавляющим культом сознания. Истинной нашей религией является монотеизм сознания, одержимость сознанием при фанатичном отрицании существования автономных подсистем. Но от йогических учений буддизма мы отличаемся тем, что отрицаем даже познаваемость этих подсистем. Здесь психику поджидает большая опасность, ведь в этом случае подсистемы ведут себя как какие-нибудь вытесненные содержания: они неизбежно влекут за собой ложные установки, а при этом вытесненное вновь появляется в сознании, но в измененной форме. Такой факт, бросающийся в глаза при наблюдении любого невроза, относится и к коллективным психическим феноменам. Наша эпоха в этом смысле впадает в роковое заблуждение, полагая, будто факты религиозного опыта могут быть подвергнуты интеллектуальной критике. Считают, как это делал, например, Лаплас, что бог есть гипотеза, подлежащая интеллектуальному освидетельствованию – подтверждению или отрицанию, При этом полностью забывают, что причина, по которой человечество верует в "даймона", не имеет ничего общего с внешним миром, но состоит просто в наивном ощущении мощного внутреннего воздействия автономных подсистем. Это воздействие нельзя уничтожить, интеллектуально критикуя его название или считая его ложным. В коллективном отношении оно постоянно налицо, и автономные системы действуют всегда, ибо шатания мимолетного сознания нисколько не затрагивают фундаментальной структуры бессознательного.
Если отрицать существование подсистем, воображая, будто его можно сделать недействительным при помощи критики названия, то будет невозможно понять, почему они несмотря на это продолжают проявлять активность, а поэтому будет невозможно и ассимилировать их сознанием. И вот они становятся причиной необъяснимых расстройств, причиной, которая, как в конце концов начинают подозревать, идет откуда-то извне. Тем самым подсистемы проецируются, причем опасность возрастает в той степени, в какой расстраивающие воздействия приписываются отныне внешней злой воле, коренящейся, разумеется, не где-нибудь, а именно у соседа "de l'autre cote de la riviere"*. Это ведет к коллективным галлюцинациям, служит причиной войн, революций, – одним словом, деструктивных массовых психозов,
* Через тьму к свету (лат.)
Мания есть одержимость бессознательным содержанием, которое как таковое не ассимилируется сознанием. И поскольку сознание отрицает существование таких содержаний, оно и не в состоянии их ассимилировать, Выражаясь языком религии, утратив страх божий, полагают, будто все предоставлено на усмотрение человека. Эта гордыня, т.е. узость сознания, всегда прямиком ведет в сумасшедший дом [29].
Просвещенному европейцу покажется, скорее, более приемлемым такое высказывание "Hui Ming Ging": "Образованные духовным огнем облики суть лишь пустые краски и формы". Это звучит совсем по-европейски и, кажется, превосходно соответствует нашему разуму, и мы даже смеем льстить себе надеждой, что уже достигли этой ступени просветленности, ибо уже давно, как будто бы освободились, от таких призрачных богов. Однако то, от чего мы освободились, всего лишь словесные химеры, а не душевные факты, ответственные за возникновение этих богов. Мы по-прежнему одержимы нашими автономными душевными содержаниями – с точно такой же силой, как если бы они были богами. Нынче их зовут фобиями, навязчивыми идеями и т.д., короче говоря, это невротические симптомы. Бот превратились в болезни, и Зевс правит теперь не Олимпом, a plexus solaris*, становясь причиной редких клинических случаев или приводя в расстройство умы политиков и журналистов, которые, сами того не ведая, сеют психические эпидемии.
* Солнечным сплетением (лат.)
Поэтому для западного человека будет лучше, если сначала он узнает не слишком много о тайных интуициях восточных мудрецов, ибо это было бы "верным средством в руке человека превратного". Вместо того чтобы постоянно заверять себя, будто даймон есть иллюзия, западному человеку надо вновь открыть реальность этой иллюзии. Ему надо бы научиться заново узнать эти психические силы, а не ждать, покуда его причуды, нервные срывы и бредовые идеи заявят ему, к его вящей муке, что он не единственный хозяин в доме. Расщепляющие тенденции суть действительные психические личности, обладающие относительной реальностью. Они реальны, когда не признаются реальными и потому проецируются; относительно реальны, когда соотносятся с сознанием (на языке религии: когда существует культ); и ирреальны, поскольку сознание начинает отвязываться от своих содержаний. Но последнее имеет место лишь в том случае, если человек проживает свою жизнь столь исчерпывающе полно и с такой отдачей, что для него больше нет никаких безусловных жизненных обязательств, а потому на пути внутреннего превосходства над миром нет больше ни одного желания, которым нельзя было бы пожертвовать без всяких сомнений. В этом отношении бесполезно клеветать на самого себя. Кто еще в плену, тот еще одержим. А когда кто-то одержим, всегда найдется сила, которая им овладеет. ("Истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта" [30].) Совсем не одно и тоже, называть ли нечто "манией" или "богом". Служить мании – предосудительно и недостойно, а служить богу – в силу покорности чему-то более возвышенно Невидимому и Духовному – гораздо целесообразнее и притом перспективнее, потому что персонификация уже сама по себе обусловливает относительную реальность автономной подсистемы, а тем самым – возможность ассимиляции и ирреализации сил, управляющих жизнью. Там, где не признают бога, рождается мания эгоизма, а мания превращается в болезнь.
Йога предполагает признание существования богов как нечто само собой разумеющееся. Поэтому ее сокровенное учение предназначено лишь для того, чей свет сознания сумеет отрешиться от сил, управляющих жизнью, чтобы вступить в последнее, неделимое единство, в "центр пустоты", где "обитает бог максимальной пустоты и жизненности", как выражается наш текст [31]. "Чтобы внять этому, нужно тяжко трудиться на протяжении тысячи эонов". Очевидно, что покрывало Майи невозможно прорвать простым умозаключением – необходима основательная и длительная подготовка, состоящая в том, чтобы все грехи, совершенные в жизни, были верно сочтены. Ибо покуда существует полная плененность "cupiditas"*, покрывало не поднято, а высота бессодержательного, лишенного иллюзий сознания не достигнута, и наколдовать ее фокусами и хитростью невозможно, Это идеал, окончательно реализующийся лишь в смерти. А до той поры будут существовать реальные и относительно реальные фигуры бессознательного.
* "Влечением" (лат.)
В. АНИМУС И АНИМА
К фигурам бессознательного, согласно нашему тексту, относятся не только боги, но также Анимус и Анима. Слово "hun" Вильхельм переводит как "Анимус" – понятие animus и впрямь прекрасно соответствует слову "hun", иероглиф которого сложен из знаков "облако" и "демон". "Hun", таким образом, значит "облачный демон", высшая душа дыхания, принадлежащая к началу ян, а потому мужская. После смерти "hun" подымается вверх и становится "schen", "расширяющимся и открывающим себя" духом, или богом. Анима, звучащая как "po", пишется знаками "белый" или "демон", таким образом, она – "белый призрак", низшая, хтоническая телесная душа, принадлежащая к началу инь, а поэтому женская. После смерти она опускается вниз и становится "gui", демоном, что чаще всего объясняют как "возвращающееся" (а именно, на землю), revenant, привидение. Тот факт, что Анимус и Анима после смерти разделяются и идут каждый своим путем, доказывает, что для китайского менталитета это различные психические факторы, которые и действуют явно по-разному, хотя изначально они суть одно в "едином, действующем и истинном существе", однако в "жилище творения" их двое. "Анимус – в небесном сердце, днем он обитает в глазах (т.е. в сознании), всю ночь напролет грезит о сокровенном". Он – то, что "мы получили от великой пустоты, что с началом всех начал обрело облик". Анима же есть "сила тяжести и мрака", привязанная к телесному, плотскому сердцу. Ее деятельность состоит в "наслаждениях и гневных побуждениях". "Тот, кто при пробуждении мрачен и погружен в себя, скован Анимой".
Прежде чем Вильхельм познакомил меня с этим текстом, я уже многие годы пользовался понятием "Анима" – способом, совершенно аналогичным его китайскому определению [32] и, разумеется, без какой бы то ни было метафизической презумпции. Для психолога Анима – отнюдь не трансцендентальное, а вполне познаваемое существо, да и китайское определение ясно указывает на это: аффективные состояния суть непосредственные переживания. Почему же тогда говорят об Аниме, а не просто о причудах настроения? Причина здесь такова; аффекты обладают автономным характером, и потому большинство людей им подвержено. Однако аффекты – отделяемые содержания сознания, части личности. В качестве частей личности они имеют личностный характер, а потому с легкостью персонифицируются, как это происходит еще и в наши дни, о чем свидетельствуют приведенные примеры. Персонификация не является пустым измышлением в той мере, в какой аффективно возбужденный индивидуум демонстрирует не индиффирентный, а совершенно определенный характер, отличный от его же характера в обычном состоянии. При внимательном исследовании оказывается, что аффективный характер у мужчины имеет женские черты. На этом психологическом факте зиждется китайской учение о душе "ро", а также и моя концепция Анимы. Углубленная интроспекция или экстатическое переживание раскрывают существование в бессознательном женской фигуры, откуда и наименования женского рода – Анима, психика, душа. Можно определить Аниму и как imago, или архетип, или осадок всего мужского опыта относительно женщины. Поэтому образ Анимы, как правило, и проецируется на женщину. Как известно, Анима по большей части изображалась и воспевалась поэтическим искусством [33]. Отношение, в котором Анима, согласно китайским представлениям, находится к призраку, интересно для парапсихологов в той связи, что "controls"* очень часто бывают противоположного пола.
* Наблюдаемые (англ.), "контрольные" медиумы.
Насколько я должен признать верным перевод Вильхельмом "hun" как Анимус, насколько же принципиальны для меня причины передавать мужской дух, просветленность его сознания и разумность не термином "Анимус", который в ином случае прекрасно соответствовал бы ему, а выражением "Логос". Перед китайским философом стояли те же определенные трудности, какие осложняют решение задачи, с которой имеет дело европейский психолог. Китайская философия, как и всякая духовная активность в древности, была исключительной прерогативой мужского мира. Ее понятия никогда не истолковывались психологически, а потому никогда и не исследовались на предмет того, насколько они приложимы и к женской психике. Но для психолога немыслимо игнорировать существование женщины и характерной для нее психологии, Вот здесь-то и лежат те причины, по которым "hun" у мужчины я переводил бы как "Логос". Вильхельм использует "Логос" для передачи китайского понятия "sing", которое можно переводить и как "сущность" или "творческое сознание". "Hun" после смерти превращается в "schen", дух, который в философском смысле близок понятию "sing". Поскольку китайские понятия в нашем понимании – не логические, а интуитивные воззрения, то их значения можно выяснить только принимая во внимание их контекст и структуру иероглифа или такие взаимосвязи, которые возникают между "hun" и "schen". "Hun" в соответствии с этим – свет сознания и разумное начало в мужчине, происходящие из logos spermatikos*, "sing", и через стадию "schem после смерти вновь возвращающиеся к дао. Выражение "Логос" могло бы быть особенно уместно в таком контексте, в котором речь идет о понятии универсальной сущности – ведь и просветленность сознания и разумное начало мужчины представляют собой отнюдь не нечто индивидуально обособленное, но универсальное; и таким же образом они принадлежат сфере не личностного, а в глубочайшем смысле этого слова над2личностного – в прямую противоположность "Аниме", этому личному демону, проявляющему себя в первую очередь в архиличностных капризах настроения (отсюда и Animositat!)**.
* Зародышевый, первоначальный логос (греч.) ** Возбужденность, раздражительность (нем.)
Имея в виду эти психологический факты, выражение "Анимус" я оставил исключительно за женским началом, поскольку "mulier поп habet animam, sed animum"* Ведь психология женщины зеркально противоположна Аниме у мужчины, – она изначально не имеет аффективной природы, а является квазиинтеллектуальным образованием, которое лучше всего характеризуется словом "предрассудок". Сознательной стороне женщины соответствует эмоциональная природа мужчины, а вовсе не "дух". Дух – это, скорее, "душа", а еще точнее – Анимус женщины. И так же как Анима мужчины состоит прежде всего из неполноценной аффективной ангажированности, так и Анимус женщины состоит из неполноценного суждения, или, лучше, мнения. (За подробностями мне приходится отсылать читателя к моему упомянутому выше сочинению. Здесь же я в состоянии указать лишь на главное.) Анимус женщины образован громадным количеством предвзятых мнений и потому в меньшей степени персонифицируется одной фигурой, скорее – группой или толпой. (Хороший пример из области парапсихологии – так называемая группа "Император" миссис Пайпер [34].) Анимус на низшей своей ступени есть неполноценный Логос, карикатура на развитый мужской дух, так же как Анима на низшей ступени – карикатура на женский Эрос. И так же как "hun" соответствует "sing", которое Вильхельм переводит как "Логос", так и Эрос женщины соответствует "ming", которое переводится как судьба, "фатум", рок и толкуется Вильхельмом как "Эрос", Эрос есть сплетение, Логос – различающее познание, проясняющий свет. Эрос есть ангажированность, Логос – дискриминация и неангажированность. Поэтому неполноценный Логос в Анимусе женщины проявляется как абсолютно несоотнесенное и, стало быть, непреодолимое предубеждение, или как мнение, обескураживающим образом не имеющее ничего общего с сутью дела.
* "У женщины не анима, а анимус" (лат.). В латинском языке то и другое слово может означать "душа".
Меня уже часто упрекали в том, что я как бы аналогичным мифологии образом персонифицирую Анимуса и Аниму. Однако этот упрек был бы справедлив лишь в том случае, если бы было доказано, что я мифологически конкретизирую эти понятия и в сфере психологии. Должен раз и навсегда заявить, что персонификация – не мое изобретение, а есть нечто имманентное сущности соответствующих явлений. Было бы противно духу науки игнорировать тот факт, что Анима – психическая и, значит, личностная подсистема. Любой из упрекавших меня в этом без всяких раздумий скажет: "Мне снился господин Икс", а ведь на самом деле ему снилось лишь его представление о господине Икс. Анима есть не что иное как представление личностной природы автономной подсистемы, о которой идет речь. А является ли эта подсистема транцендентальной, т.е. лежащей по ту сторону границ познания, нам не дано знать.
Я дал и общее определение Анимы как персонификации бессознательного и потому раскрыл ее содержание еще и в качестве моста к бессознательному, как функции отношения к бессознательному. И здесь утверждение нашего текста о том, что сознание (т.е. личностное сознание) исходит от Анимы, попадает в интересный контекст. Поскольку западный дух прочно стоит на точке зрения сознания, он должен понимать Аниму так, как я только что изложил. Восток же, стоящий на точке зрения бессознательного, наоборот, рассматривает сознание как порождение Анимы! Сознание, без сомнения, изначально происходит от бессознательного. Мы думаем об этом слишком мало и потому все время пытаемся отождествлять психику в целом с сознанием – или, по меньшей мере, выставлять бессознательное в виде производного или порождения сознания (как, например, в теории вытеснения Фрейда). Однако по изложенным выше основаниям прямо-таки существенно необходимо никоим образом не затушевывать реальность бессознательного, а его фигуры рассматривать в качестве действующих сил, Тот, кто понял, что имеется в виду под психической реальностью, вряд ли побоится из-за этого впасть в первобытную демонологию. Но если за фигурами бессознательного не признавать достоинства спонтанно действующих сил, то верх одержит односторонняя вера в сознание, что в конце концов приведет к перенапряжению. А тогда с необходимостью последуют катастрофы, поскольку несмотря на всю сознательность оказались проигнорированы темные силы психики. Не мы персонифицируем их – они сами обладают исконно личностной природой. Лишь признав это полностью, мы сможем подумать над тем, чтобы деперсонализировать их, т.е. "покорить Аниму", как выражается наш текст.
Здесь вновь обнаруживается огромное различие между буддизмом и нашей западной манерой мышления – и притом вновь в опасной форме мнимого согласия. Йога отвергает все фантастические содержания. Мы поступает так же. Но Восток делает это на совершенно иной основе, нежели мы. Там господствуют воззрения и доктрины, в огромной степени являющиеся выражением творческой фантазии. Там приходится даже защищаться от преизбытка фантазии. Мы же относимся к фантазии как к жалкому визионерству субъективного плана. Фигуры бессознательного, конечно, не выступают в абстрактном виде, лишенные всякого рода аксессуаров, – наоборот, они врасли и вплелись в ткань фантазий невероятной пестроты и головокружительной насыщенности. Востоку можно отвергать эти фантазии, потому что он уже давно извлек их экстракт и сконцентрировал их в глубинах поучений своей мудрости. А мы даже еще и не переживали такие фантазии, не говоря уж о том, чтобы извлечь их квинтэссенцию. В этом отношении нам надо еще наверстать весь этот участок экспериментального для нас переживания, и лишь когда в мнимой бессмыслице мы найдем смысловое содержание, нам удастся отделить ценное от негодного. Уже теперь мы можем быть уверены в том, что экстракт, который мы извлечем из наших переживаний, будет другим, нежели тот, что ныне предлагает нам Восток. Восток пришел к знанию глубин души в детском неведении мира. А мы станем исследовать психику и ее бездны при поддержке обширнейших исторических и естественнонаучных познаний. Разумеется, со временем внешнее знание становится сильнейшим препятствием для интроспекции, но потребность души преодолеет все препоны. Ведь мы уже на пути к тому, чтобы строить психологию, т.е. науку, дающую нам ключ к вещам, доступ к которым Восток нашел лишь при помощи особых состояний души!
4. ОТВЯЗЫВАНИЕ СОЗНАНИЯ ОТ ОБЪЕКТА
Через понимание мы освобождаемся от господства бессознательного. Это, в сущности, и есть цель наставлений нашего текста. Адепта учат, как концентрироваться на свете сокровенного округа и при этом освобождаться от всех внешних и внутренних привязанностей. Его жизненная воля направляется на бессодержательную сознательность, которая вместе с тем заключает в себе возможность существования всех содержаний, "Hui Ming Ging" говорит об этом отвязывании так:
Сияние света окружает мир духа, Один забывает другого, тихо и чисто, совершенно и до пустоты. Пустота пронизана блеском сердца небес. В море вода спокойна, луна отражается на ее глади. Облака парят в синем просторе. Ясно светятся горы. Сознание растворяется в созерцании. Одиноко покоится диск луны [35].
Такая характеристика совершенства изображает душевное состояние, которое, может быть, лучше всего обозначить как отрешение сознания от мира и его стягивание в некую внемировую точку. В соответствии с этим сознание пусто и не пусто. Оно больше не наполнено образами вещей, а просто содержит их в себе. Непосредственно обступавшая прежде полнота мира ничего не теряет в своем богатстве и в своей красоте, но уже не владеет сознанием. Магические права вещей исчезли, ибо изначальная вплетенность сознания в мир разрушена. Бессознательное больше не проецируется, а потому прекращается исконная participation mystique, мистическая сопричастность вещам. Значит, сознание больше не переполнено навязанными ему целями, а становится созерцанием, как об этом с изяществом говорит китайский текст.
Как достигается такой эффект? (А мы предполагаем, что китайский автор, во-первых, говорит правду, во-вторых, находится в здравом уме, а в-третьих, конечно уж, необычайно проницательный человек.) Чтобы понять или объяснить такое, от нашего рассудка требуется совершить определенные обходные маневры. Копирование тут не поможет, ведь стремление к эстетизации такого душевного состояния было бы чистой воды мальчишеством. Речь здесь идет об эффекте, очень хорошо знакомом мне по врачебной практике, – это par excellence* терапевтический эффект, добиться которого я стремлюсь с моими учениками и пациентами: снятие participation mystique. Леви-Брюль гениальным чутьем выделил то, что он назвал "participation mystique", в качестве отличительного признака первобытного духовного склада [36]. То, что он имел в виду, есть просто неопределимо обширный атавизм неразличенности субъекта и объекта, который достигает у дикаря таких размеров, что, безусловно, должен броситься в глаза европейцу, человеку сознания. В той степени, в какой различие между субъектом и объектом не осознается, господствует бессознательное тождество. В этом случае бессознательное проецируется на объект, а объект интроецируется в субъект, т.е. психологизируется. Тогда животные и растения ведут себя, как люди, люди одновременно являются животными, и во всем обитают духи и боги. Культурный человек, конечно, уверен в том, что как небо от земли далек от таких вещей. Но зато он часто на всю жизнь отождествляет себя с родителями; он тождествен своим аффектам и представлениям и бесстыдно признает за другими то, что не хочет замечать у себя самого. У него еще обнаруживается именно этот атавизм первоначальной бессознательности, т.е. неразличенности субъекта и объекта. В силу этой бессознательности он испытывает на себе магическое воздействие, т.е. безусловное влияние, бесчисленных людей, вещей и обстоятельств, он переполнен дезориентирующими содержаниями – почти в той же степени, что и дикарь, а потому столь же интенсивно, что и тот, пользуется апотропеическим колдовством. Только ему для этого нужны не мешочки с зельями, амулеты и жертвоприношения, а успокаивающие средства, неврозы, просвещение, культ воли и т.д.
* Главным образом (фр.)
Но вот если удастся признать бессознательное в качестве одной из действующих сил наряду с сознанием и жить так, чтобы по возможности учитывались сознательные и бессознательные (т.е. инстинктивные) потребности, то центром тяжести целокупной личности будет уже не Я, которое является только центром сознания, а, так сказать, виртуальная точка между сознанием и бессознательным, точка, заслуживающая названия самости. Если такая перестройка проходит удачно, то в качестве благоприятного исхода выступает снятие participation mystique, благодаря чему на свет появляется личность, для которой страдание остается актуальным только на, так сказать, ее нижних этажах, в то время как на верхних для нее наступает своего рода отрешенность и к горестям, и к радостям жизни.
Изготовление и рождение этой верховной личности и есть то, на что ориентирует наш текст, когда ведет речь о "священном плоде", об "алмазном теле" и тому подобном, относящемся к нетленной плоти. Эти выражения психологически символизируют: установку, отрешенную от полнейшей эмоциональной запутанности и тем самым от всеобъемлющего потрясения, и сознание – отвязанное от мира. У меня есть основания предполагать, что это, собственно говоря, начинающаяся по достижении середины жизни естественная подготовка к смерти. В психологическом смысле смерть так же важна, как и рождение, и в такой же степени является интегрирующей составной частью жизни, О том, что происходит в конце концов с отвязанным сознанием, не следует спрашивать психолога. Любым теоретическим высказыванием он безвозвратно ушел бы за границы своей научной компетенции. Он может только указать на то, что отношение нашего текста к вневременности отрешенного сознания согласуется с религиозным мышлением всех эпох и почти всего человечества и что поэтому тот, кто стал бы мыслить иначе, оказался бы вне строя человечества и, значит, страдал бы нарушением психического равновесия. Поэтому как врач я прилагаю все усилия, чтобы по возможности укрепить веру в бессмертие, особенно у наиболее пожилых из моих пациентов, для которых эти вопросы приобретают угрожающую актуальность. Ведь смерть, если рассматривать ее психологически правильно, – вовсе не конец, а цель, и потому, как только пройдена вершина жизни, начинается жизнь, направленная к смерти.
На факте этой инстинктивной подготовки к смерти как цели строится наша китайская философия йога и по аналогии с целью первой половины жизни – зачатием и продолжением рода, этим средством продления физической жизни, в качестве цели духовного существования она выдвигает символическое зачатие и рождение психического воздушного тела ("subtle body"), обеспечивающего непрерывность отвязанного сознания, Это рождение пневматического человека, которое издавна знакомо европейцам, но которое они пытаются достичь при помощи совсем иных символов и магических действий, веры и христианского образа жизни. Здесь мы вновь оказываемся стоящими на совершенно другой почве, нежели Восток. И вновь наш текст звучит так, словно ему близка христианско-аскетическая мораль. Но нет ничего превратнее, чем считать, что речь в нем идет о том же самом. За нашим текстом стоит тысячелетняя древняя культура, органически строившаяся на фундаменте первобытных инстинктов и потому не ведающая о той насильственной морали, которая годится нам, лишь недавно цивилизовавшимся варварам-германцам. Поэтому тут отсутствует момент вытеснения инстинктов силой, вытеснения, которое истерически утрируется и отравляется нашим интеллектуализмом. Кто живет вместе со своими инстинктами, тот в состоянии и разлучиться с ними – таким же естественным образом, как он с ними жил. Нет ничего более чуждого нашему тексту, чем геройское преодоление себя, до чего у нас непременно и дойдет дело, если мы станем следовать букве китайского наставления.
Нам никогда не следует забывать нашим исторических предпосылок: лишь немногим более тысячелетия назад мы, отказались от самых отсталых принципов политеизма, попали в объятия высокоразвитой восточной религии, поднявшей основанный на воображении ум полудикаря на высоту, никак не соответствовавшую уровню его духовного развития. Чтобы хоть как-то удержаться на этой высоте, неизбежно потребовалось в значительной степени подавить сферу инстинктов, в результате чего религиозная практика и мораль приняли откровенно насильственный, даже чуть ли не жестокий характер. Подавленное, естественно, не развивается, а влачит дальше свое существование в бессознательном в исходном варварском виде. Мы бы и хотели, но фактически уже неспособны взобраться на вершины религиозной философии. В крайнем случае до них можно дорасти. Рана Амфортаса и раздвоенность Фауста, поразившие германцев, еще не залечены. Их бессознательное все еще отягощено содержаниями, которые должны сперва быть осознаны, чтобы можно было от них освободиться. Недавно я получил письмо от одной из давних моих пациенток, которая выражает необходимую перестройку простыми, но точными словами:
Из злого для меня выросло много доброго. Смирение, невытеснение, внимание и идущее с ними рука об руку приятие действительности – сами по себе, а не такие, какими я хочу их видеть, – дали мне необычные знания, но и необычные силы, каких раньше я и представить себе не могла. Я всегда думала, что тот, кто принимает вещи, каким-то образом им подчиняется; а теперь вижу, что это совсем не так – можно только занять по отношению к ним какую-то позицию. <Снятие participation mystique!> И теперь я буду принимать участие в игре жизни, принимая все то, что несет с собой каждый день и вся жизнь, – доброе и злое, свет и тень, которые постоянно меняются местами, а тем самым и мою собственную сущность со всем позитивным и негативным, что ей свойственно, и все нальется жизнью. Какой же я была дурой! Как я хотела, чтобы все плясало под мою дудку!
Лишь на основе такой установки, которая не отказывается от ценностей, приобретенных в ходе развития христианства, а, напротив, с христианской любовью и долготерпением лелеет малейшие нюансы природы личности, можно достичь более высокой ступени сознания и культуры. Эта установка в подлинном смысле религиозна, а потому терапевтична: ведь все религии суть терапии страданий и болезней души. Развитие на Западе интеллекта и воли наградило нас почти дьявольским умением с видимым успехом подражать такой установке – невзирая на протесты бессознательного. Но в таком случае с тем более резким контрастом проявляется здесь или там встречная позиция – это всегда только вопрос времени. Благодаря удобству подражания все время создается неустойчивая ситуация, которая в любой момент может быть разрушена бессознательным. Более прочная основа возникнет лишь в том случае, если инстинктивные предпосылки бессознательного будут приниматься во внимание не меньше, нежели ориентиры сознания. Было бы заблуждением считать, что это требование не стоит в сильнейшей оппозиции к западно-христианскому и особенно протестантскому культу сознания. И хотя новое всегда кажется врагом старого, стремление к более глубокому пониманию непременно обнаружит, что без серьезнейшего отношения к накопленным христианством ценностям не сможет появиться на свет и ничто новое.
5. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
Углубляющееся знакомство с духовным Востоком может быть символически представлено так: мы начинаем вступать в связь с тем пока еще чужим, что есть в нас самих. Отречение от наших собственных исторических предпосылок было бы чистой глупостью и прямым путем к повторному вырыванию корней. Мы можем усвоить дух Востока, лишь твердо стоя на собственной почве.
Гу Дэ замечает: "Мирские люди потеряли корень и стали держаться за макушку", имея в виду тех, которые не ведают, в чем подлинный источник сокровенных сил. Дух Востока возрос на желтой земле, наш же дух может и должен расти только на нашей земле. По этой причине я подхожу к такого рода проблемам путем, который часто подвергается упреку в "психологизме". Если под ним понимается "психология", то я буду чувствовать себя польщенным – ведь в мои намерения действительно входит безжалостное отрицание метафизических претензий всех тайных доктрин, ибо заключенное в них тайное желание власти приобретаемой через слова, плохо согласуется с фактом нашего глубокого незнания, допустить которое требует скромность. Я специально хочу представить в ясном свете психологического понимания метафизически звучащие вещи и сделать все от меня зависящее, чтобы люди не уверовали в темные заклинания. Убежденному христианину вольно верить – ведь он заранее взял на себя это обязательство, Но тот, кто таковым не является, лишен благодати веры. (Быть может, он уже от рождения обречен не верить, а обрести способность просто знать.) Поэтому он не должен верить и ни во что другое. Понимать же следует не метафизически, а, видимо, психологически. Поэтому-то я и лишаю вещи их метафизического аспекта: я стремлюсь сделать их объектами психологии. Тем самым я получаю возможность по крайней мере извлечь из них что-то понятное и усвоить это, а кроме того, изучаю на этом материале психологические условия и процессы, прежде облеченные в символы и ускользавшие от моего понимания. Вместе с тем я могу проделать тот же путь и приобрести тот же опыт, а если в конце пути обнаружится и что-то немыслимо метафизическое, то для него это и будет наилучшим способом раскрыть себя. Мое восхищение великими восточными философами столь же непреложно, сколь лишено почтения мое отношение к их метафизике [37]. Я ведь подозреваю их в том, что они – символические психологи, и невозможно сыграть с ними более злой шутки, чем понимая их буквально. Если бы то, что они имеют в виду, и впрямь было метафизикой, то желание понять юс было бы бесперспективным. Но если это психология, то мы сможем их понять и извлечем из этого великую выгоду, потому что тогда станет познаваемым так называемое "метафизическое". Когда я предполагаю, что бог абсолютен и существует по ту сторону всякого человеческого опыта, он остается для меня безразличным. Я не воздействую на него, а он не воздействует на меня. Но когда я знаю, что бог есть мощная сила, правящая в моей душе, я обязан иметь с ним дело; ведь тогда он может даже приобрести неприятную важность, даже в практическом отношении, что звучит чудовищно банально, как и все, что появляется в сфере действительного.
Презрительная кличка "психологизм" подходит только к глупцу, полагающему, будто он и впрямь владеет своей душой. Правда, этого более чем достаточно, поскольку недооценка души есть типично западный предрассудок, несмотря на то, что там умеют петь панегирики "душе". Как только я применяю понятие "автономный душевный комплекс", так у публики уже и готов предрассудок: "всего лишь душевный комплекс". Но откуда же такая уверенность в том, что душа – это "всего лишь"? Те, кто так думает, словно бы и ведать не ведают или все время забывают о том, что все осознаваемое нами есть в принципе образ, а образ есть душа. Те же самые люди, которые полагают, что бог теряет всякую ценность, когда понимается как пассивное и активное начала души, т.е. как "автономный комплекс", могут испытать роковые аффекты и невротические состояния, и их воля, вся их жизненная мудрость окажутся плачевно бессильны перед ними. Но разве этим душа докажет свое бессилие? Надо ли упрекать в "психологизме" и Мейстера Экхарта, сказавшего; "Бог все вновь и вновь должен рождаться в душе"? По-моему, в психологизме можно упрекать лишь того, кто отрицает изначально-подлинную природу автономного комплекса и стремится рационалистически толковать его как следствие известных фактов, т.е. как несамостоятельный. Такое суждение не более дерзостно, чем "метафизическое" утверждение, пытающееся – поверх человеческих границ – передать некоему непознаваемому божеству способность воздействовать на наши душевные состояния. Психологизм – это просто зеркальная противоположность метафизической крайности, столь же детски наивный, как и она. Мне кажется, гораздо более разумным оставлять за душой такую же значимость, как и за познаваемым миром, и признавать за ней ту же "реальность", что и за ним. Для меня душа – это и есть мир, в котором содержится Я. Конечно, может быть, есть на свете рыбы, которые верят, что море содержится в них. С этой расхожей у нас иллюзией необходимо, разумеется, покончить, если мы намерены рассматривать метафизическое с точки зрения психологии.
Подобным метафизическим утверждением и является идея "алмазного тела", нетленной воздушной плоти, зарождающейся в Золотом Цветке или в пространстве квадратного дюйма [38]. Это тело, как и все ему подобное, символически выражает примечательный психологический факт, который – именно потому, что он объективен, – и проецируется прежде всего в формах, внушенных опытом биологической жизни, как то: плода, эмбриона, младенца, живых тел и т.д. Проще всего выразить этот факт словами: не я живу, а что-то живет через меня. Иллюзия перевеса сознания верит: я живу. Но стоит этой иллюзии разрушиться благодаря признанию бессознательного, как бессознательное начинает выступать в качестве чего-то объективного, включающего в себя Я, что подобно, например, мироощущению дикаря, для которого сын гарантирует продолжение жизни. Такое весьма характерное ощущение может принимать даже гротескные формы, как в случае с тем старым негром, который, возмущаясь тем, что сын его не слушается, воскликнул: "Он стоит вон там с моим телом и не желает меня даже слушать".
Речь идет об изменении самоощущения, подобном тому, что испытывает отец, у которого рождается сын, изменении, известном нам в том числе благодаря признанию апостола Павла: "И уже не я живу, но живет во мне Христос" [39]. Символ "Христос" представляет собой – в качестве "Сына человеческого" – аналогичный психический опыт по поводу высшего духовного существа в человеческом облике, которое невидимо рождается в каждом человеке, пневматическое тело, которое послужит нам в грядущем переселении и которое, по выражению Павла, надевается, как платье ("все вы... во Христа облеклись" [40]). Естественно, это всегда щекотливое дело, тонкое ощущение, тем не менее бесконечно важные для жизни и благополучия индивидуума, если выражаться интеллектуальным, понятийным языком. В некотором смысле это ощущение "замещенности", разумеется, без примеси "смещенности". Это подобно тому, как если бы руководство жизненными делами перешло бы к некоей невидимой центральной инстанции. Метафора Ницше "быть свободным в нежнейшей узде" могла бы быть уместной в этом отношении. Религиозный язык богат образными выражениями, передающими это ощущение свободной зависимости, безмолвия и покорности.
В этом примечательном переживании я усматриваю следствие отвязывания сознания, благодаря которому субъективное "я живу" становится объективным "что-то живет через меня". Такое состояние переживается как более высокое по сравнению с предшествующими, собственно, даже как своего рода избавление от принуждения и немыслимой ответственности, которые возникают как неизбежные следствия participation mystique. Это чувство освобождения переполняет Павла, оно – сознание сыновства по отношению к богу, сыновства, избавляющего от власти крови. Это и чувство примирения со всем происходящим вообще, и по этой причине взор достигшего совершенства, по Hui Ming Ging, возвращается к красоте природы.
В Павловом символе Христа смыкается наивысший религиозный опыт Запада и Востока. Христос, страдающий герой, и Золотой Цветок, распускающийся в пурпурном зале нефритового города; какая противоположность, какое немыслимое различие, какая бездна истории! Вот тема для шедевра какого-нибудь будущего психолога.
Наряду с великими религиозными проблемами современности имеется еще совсем маленькая проблема – это прогресс религиозного духа. Если бы об этом зашла речь, то следовало бы подчеркнуть различие между Востоком и Западом в их отношении к "драгоценности", т.е. центральному символу. Запад выделяет вочеловечение и даже личность и историчность Христа, Восток же говорит: "Без возникновения, без уничтожения, без прошедшего, без грядущего" [41]. Христианин в соответствии со своим воззрением подчиняется вышестоящей божественной личности – в чаянии ее милости; восточный же человек знает, что спасение зависит от деяния, которое он совершает сам по себе. Дао целиком вырастает из отдельного человека. У подражания Христу всегда будет тот недостаток, что в качестве божественного праобраза мы чтим человека, воплощающего наивысший смысл, и из чистого подражания забываем, что нам надо воплотить наш собственный высочайший смысл. Ведь отказываться от собственного смысла – это довольно удобно. Если бы Иисус так и поступил, то, вероятно, стал бы почтенным плотником, а не религиозным бунтарем, которому сегодня, естественно, пришлось бы испытать примерно то же, что и тогда.
Подражание Христу без труда можно понять и более глубоко, а именно как обязательство с таким мужеством и такой жертвенностью как это делал Иисус, воплощать свое заветное убеждение, которое как-никак является наивысшим выражением индивидуального темперамента. К счастью, должны мы сказать, не перед каждым стоит задача быть учителем человечества – или великим возмутителем спокойствия. Значит, в конце концов, любой в состоянии воплотить себя на свой собственный лад. Эта великая честность, возможно, могла бы превратиться в некий идеал. Поскольку великие новации всегда зарождаются в самых фантастических углах, то, к примеру, тот факт, что сегодня не стыдятся собственной наготы так сильно, как прежде, мог бы стать началом признания этого статус-кво. За этим последовали бы все новые признания вещей, прежде находившихся под строжайшим табу, ибо реальная жизнь земли не останется сокрытой навеки, как "virgines velandae"* Тертуллиана. Моральное саморазоблачение означает лишь один следующий шаг в этом направлении, а кто-то уже стоит в чем мать родила и исповедуется себе самому. Если он делает это без смысла, то остается внутренний хаос глупости; но если он разумеет смысл того, что делает, то он может стать высшим человеком, который невзирая на страдание, воплощает символ Христа. И нередко можно видеть, как чисто конкретные табу или магические ритуалы религиозной, предварительной ступени, на следующей становятся актуальными вопросами души или чисто духовными символами. Внешний закон по мере развития превращается в исходящий изнутри образ мыслей. И таким-то путем именно протестантскому человеку легко придти к тому, что личность Иисуса из внешнего исторического пространства может перейти в высшего человека в нем самом. А то психологическое состояние, которое соответствует состоянию просветленного в восточном понимании, было бы найдено на европейской почве.
* "Прикрытые девы" (лат.)
Все это, очевидно, ступень в процессе развития более высокого сознания человечества, находящегося на пути к неизвестным целям, а вовсе не метафизика в обыкновенном смысле, Прежде всего и в известной мере это только "психология", но в известной же мере и нечто познаваемое, постижимое и – слава Богу – действительное, – действительность, с которой можно что-то делать, действительность со смыслом, а потому и живая. То, что я довольствуюсь психически переживаемым и отвергаю метафизическое, вовсе не означает жеста скептицизма или агностицизма, направленного против веры в высшие силы или их чаяния, как ясно любому разумному человеку, а говорит приблизительно о том же самом, что имел в виду Кант, называя вещь в себе "сугубо негативным пограничным понятием". Надо избегать любого высказывания о трансцендентном – ведь такие высказывания всегда свидетельствуют лишь о смехотворной заносчивости человеческого духа, не осознающего своей ограниченности. Поэтому, когда бога или дао называют движением или состоянием души, то тем самым высказываются только о чем-то познаваемом, а не имеют в виду нечто непостижимое, о котором просто невозможно составить никакого представления.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью моего комментария была попытка перекинуть мост внутреннего, душевного понимания между Востоком и Западом. Основой любого подлинного взаимопонимания является человек, и потому я должен был говорить о вещах человеческих. Этим можно извинить то, что я сосредоточил внимание только на общих вопросах, не вдаваясь в специальные, технические подробности. Технические инструкции хороши для тех, кто знает, что такое фотоаппарат или бензиновый мотор; но они бессмысленны для того, кто не имеет о таких устройствах ни малейшего представления. А ведь именно в подобном положении и находится западный человек, которому я адресую написанное. Поэтому мне казалось, что самое важное – подчеркнуть согласованность психических состояний и символики, ибо через эти аналогии открывается доступ во внутренние пространства восточного духа, доступ, не требующий от нас приносить в жертву наше своеобразие и не грозящий нам лишением собственных корней; но не интеллектуальный телескоп или микроскоп, открывающий перед нами вид, который нас, в сущности, не касается, потому что нас не захватывает. Это, скорее, присущая всем людям культуры атмосфера страдания, поиска и стремления, это претерпеваемый человечеством чудовищный естественный эксперимент, суть которого – становление сознания, эксперимент, связывающий самые изолированные друг от друга культуры воедино как их общее задание.
Западное сознание ни при каких обстоятельствах не есть сознание вообще. Это, скорее, исторически обусловленная и географически ограниченная величина, представляющая лишь часть человечества. Влияние нашего сознания не должно возрастать за счет других типов сознания, но должно осуществляться путем развития тех элементов нашей психики, которые аналогичны свойствам чужой психики, так же как и Восток не может обойтись без нашей техники, науки и промышленности. Европейское проникновение на Восток было огромных масштабов насилием. Оно оставило нам после себя – noblesse oblige* – обязательство постичь дух Востока. Возможно, это нам более необходимо, чем мы теперь думаем.
* Положение обязывает (фр.)
ПРЕДИСЛОВИЕ К "И ЦЗИН" [1]
Я с удовольствием иду навстречу желанию переводчицы вильхельмовского издания "И Цзин" получить от меня предисловие, ибо этим могу выразить свои благоговейные чувства по отношению к моему покойному другу Рихарду Вильхельму. Он глубоко сознавал культурно-историческое значение обработки и изложения "И Цзин", которым нет равных на Западе, – и я испытываю в отношении к этому творению чувство долга, побуждающее меня по мере сил и возможностей способствовать его передаче англоговорящему миру.
Если бы "Книга перемен" была популярным произведением, то она не нуждалась бы во введении. Однако она менее всего популярна, но, напротив, вызывает подозрения в том, что является сборником древних заклинаний и потому, с одной стороны, трудна для понимания, а с другой – не обладает никакой ценностью. Перевод Легга в серии Макса Мюллера Sacred Books of the East мало содействовал тому, чтобы сделать эту книгу достаточно доступной западному складу ума [2]. Тем большими были старания Вильхельма открыть путь к пониманию часто весьма темной символики этого текста. Это получилось у него вполне хорошо, ибо он в течение многих лет практически занимался своеобразной техникой этой гадательной книги, что, конечно же, предоставило ему дополнительную возможность развить у себя ощущение живого смысла текста – в сравнении с тем, что можно было сделать при помощи лишь более или менее буквального перевода.
Я обязан Вильхельму ценнейшими разъяснениями сложной проблемы "И Цзин", а также практического применения полученных результатов. Я и сам уже более двух десятков лет занимался этой гадательной техникой, которая показалась мне весьма интересной с психологической точки зрения, и ко времени нашей первой встречи с Вильхельмом в начале двадцатых годов я уже довольно хорошо изучил ее. Однако несмотря на это я оказался под сильны впечатлением от работы самого Вильхельма, собственными глазами наблюдая за тем, как он на практике получает результаты. К своему великому удовлетворению я смог констатировать, что мои познания в области психологии бессознательного оказались мне очень и очень полезны.
Поскольку я не владею китайским языком, то, естественно, мог подходить к "И Цзин" только с практической стороны, а единственным, о чем я мог спрашивать, были применимость и пригодность метода. Запутанная символика этих "заклинаний" мало могла заинтересовать меня при моем полном незнании синологии. Моей заботой были не филологические трудности текста, а единственно и исключительно психологическая эксплуатация применяемого в "И Цзин" метода.
Когда Вильхельм в свое время был у меня в Цюрихе, я попросил его проработать гексаграмму о положении нашего психологического общества. Ситуация была мне известна, он же не имел о ней ни малейшего представления. Получившийся диагноз оказался обескураживающе верным – так же как и прогноз, в котором речь шла о событии, наступившем гораздо позднее; предвидеть это событие я не мог. Правда, для меня самого этот результат был не столь уж удивителен, потому что я уже и раньше провел ряд примечательных опытов по этому методу. Вначале я применял более сложную технику 49 стеблей тысячелистника [3], позднее, получив кое-какое представление о том, как работает метод, я удовольствовался так называемым гаданием на монетах, которое я часто применял впоследствии. Со временем выяснилось, что между запрашиваемой ситуацией и содержанием гексаграммы существуют, так сказать, некоторые регулярные взаимосвязи. Следует признать, что это странно и по нашим общепринятым понятиям происходить не должно, если не считать так называемых случайных попаданий. Должен, однако, заметать, что несмотря на нашу веру в закономерность природы мы слишком либерально обходимся с понятием случайности. Как много психических явлений, например, мы называем "случайными", хотя знатоку совершенно ясно, что речь идет менее всего о случайности! Достаточно вспомнить только обо всех этих случаях оговорок, очиток, ошибок памяти, которые уже Фрейд толковал как совсем не случайные. Поэтому в отношении так называемых случайных попаданий "И Цзин" я склонен к скепсису. Мне даже кажется, что число явных попаданий достигает такого процента, который выходит за пределы всякой вероятности. Думаю, что речь в принципе идет не о случайности, а о закономерности.
Тем самым мы оказываемся перед вопросом: как доказать то, что объявлено закономерностью? Тут я должен разочаровать читателя: такое доказательство крайне затруднительно, если вообще возможно, причем последнее я считаю менее вероятным. С рационалистической точки зрения эта констатация – полная катастрофа, и я ожидаю упрека в том, что сделал необдуманное утверждение, высказавшись о регулярности соответствия ситуации и гексаграммы. На самом деле я сам должен был бы выдвинуть этот упрек, если бы из большого практического опыта не знал, как трудно, т.е. как невозможно, доказать что-либо в определенных психологических ситуациях. Когда речь идет о несколько более, чем обычно, сложных обстоятельствах практической жизни, мы улаживаем эти ситуации, руководствуясь воззрениями, чувствами, аффектами, интуициями, убеждениями и т.д., "научное" доказательство оправданности или даже пригодности которых попросту невозможно, и тем не менее все заинтересованные лица могут быть довольны тем, как решен вопрос. Встречающиеся в практике психологические ситуации, как правило, настолько сложны, что их удовлетворительное с "научной" точки зрения исследование просто невозможно. В лучшем случае можно говорить об известной вероятности, да и то лишь тогда, когда заинтересованные лица проявляют не только максимальную честность, но еще и, помимо этого, добросовестность. Но когда мы бываем абсолютно честны, и когда – совершенно добросовестны? Мы в состоянии достичь максимума честности и добросовестности лишь до той отметки, до которой доходит наше сознание. А то, что мы представляем собой при этом на уровне бессознательного, ускользает от нашего контроля, т.е. наше сознание думает, что оно честно и добросовестно, но бессознательное, может быть, гораздо лучше знает, что именно наши мнимые честность и добросовестность суть фасад, прикрывающий нечто противоположное. Поскольку существует бессознательное, никакой человек и никакая психологическая ситуация не могут быть описаны и осмыслены без остатка, а потому и ничто подобное не может быть достоверно доказано. Некоторые строго определенные феномены, правда, еще можно доказать статистически в качестве вероятностных на основе чудовищного эмпирического материала [4]. В индивидуальных, уникальных, в высшей степени сложных психологических ситуациях доказывать в общем нечего, ибо в соответствии со своей природой они не содержат в себе ничего такого, что годилось бы для экспериментальной проверки. К таким-то уникальным и не поддающимся повторению ситуациям принадлежит и оракул "И Цзин". Как и во всех подобных ситуациях, здесь все зависит от того, выступает ли нечто в качестве вероятного или невероятного. Если, например, некто после долгих раздумий принимает решение исполнить задуманное, но при этом внезапно осознаёт, что этим шагом будут затронуты определенные интересы других, и теперь, в такой подвешенной ситуации запрашивает оракул, то среди прочих он, возможно, получит следующий ответ (гексаграмма 41):
Когда все дела сделаны, Быстро уйти не грех. Но следует обдумать, Насколько можно убавить других.
Никак невозможно доказать, что это высказывание – несмотря на его недвусмысленное соответствие – имеет что-то общее с психологической ситуацией запрашивающего. Последнему предоставлено либо удивляться тому, что высказывание гексаграммы столь замечательно согласуется с его ситуацией, либо отмахнуться от этой мнимой согласованности как от смехотворной случайности, либо вообще не признавать такую согласованность. В первом случае он обратится ко второму стиху, гласящему:
Предпринять что-либо – К беде. Не убавляя себя, Можно умножить других.
Возможно, он признает мудрость этого заключения – или останется равнодушным к ней как к ничем не подтвержденной. В первом варианте он обнаружит, что тут не может быть никакой случайности, во втором же – что речь должна идти о случайности, либо даже, в конце концов, что это не имеет никакого значения. Но доказывать тут нечего. Поэтому я пишу свое предисловие лишь для того, кто склонен проявлять некоторое доверие к этой своеобразной процедуре.
Несмотря на то что такие "буквальные" соответствия отнюдь не редки, за ними нет и численного перевеса. Часто связи весьма зыбки и косвенны и потому требуют еще большего доверия. Это чаще всего бывает тогда, когда исходная психологическая ситуация понята не слишком ясно (т.е. остается темной) или однобоко. В таких обстоятельствах, если запрашивающий готов рассматривать свою ситуацию в другом свете, то может быть нащупана более или менее символическая связь с гексаграммой. Я выражаюсь намеренно осторожно, дабы не сложилось впечатление, будто следует a tout prix* установить какую-нибудь взаимосвязь. Подобные искусственные построения не имеют никакого смысла и ведут лишь к нездоровым спекуляциям, Этот метод допускает любое злоупотребление. Поэтому он пригоден не для людей незрелых, ребячливых и игриво настроенных и, конечно, не для интеллектуалов и рационалистов, а, скорее, напротив, для натур медитативных и рефлексивных, любящих поразмыслить над тем, что они делают и что с ними происходит, – а это не имеет ничего общего с ипохондрическим самокопанием. Последнее представляет собой болезненное злоупотребление раздумьем. "И Цзин" предлагает свои услуги без всяких доказательств и результатов, но не рекламирует себя и неохотно идет навстречу; он, как частица природы, ждет, когда его разбудят. Он не преподносит знание и могущество, а, видимо, является подходящей книгой для любителей самопознания и мудрости мышления и деяния, если уж таковые имеются. Он ничего не обещает, а потому ему незачем что-то хранить, и он никоим образом не несет ответственности в случае, если кто-то сделает неверные выводы. Этот метод требует в обращении с собой некоторой интеллигентности. Чтобы быть глупым, не нужно, как известно, никакого искусства.
* Во что бы то ни стало (фр.)
Согласимся в виде гипотезы считать, что написанное в этой книге не чистая бессмыслица, а то, что приходит в голову запрашивающему – не простое самовнушение, – и вот уже наш западный, философски и естественнонаучно образованный ум всерьез обеспокоен эмпирическими фактами, несмотря на всю свою готовность к доверию. Ведь если имеется хоть малейшая склонность относиться к этому серьезно, то следует разобраться с тем несносным фактом, что психологическая ситуация может выражаться в случайном распределении 49 стеблей тысячелистника либо в столь же или еще более случайном выпадении монет, и притом настолько полно, что становится очевидной даже смысловая взаимосвязь. Такая логика – все-таки что-то неслыханное для нашего западного рассудка, привыкшего мыслить совсем иначе. Поэтому, конечно, неудивительно, что наш ум отвергает ее как немыслимую. Правда, на худой конец еще можно представить себе, что человек хорошо знаком с гексаграммами и "бессознательным образом" оперирует так ловко, что стебли распределяются как надо. Но при гадании на монетах не срабатывает, разумеется, эта и без того призрачная вероятность, ибо тут в действие вступает так много других внешних условий (материал, на который падают монеты, их качение и т.д.), что психическая тенденция – во всяком случае по нашему представлению – проявиться не в состоянии. Но если с методом все в порядке, то следует предположить, что существует неожиданный параллелизм психических и физических событий. Хотя эта мысль и "шокирует", она, безусловно, не нова, ибо является гипотезой, при которой только и возможна астрология, а в особенности современная характероскопия, хотя последняя ориентирована больше на время, чем на актуальное расположение созвездий: ведь и время определяется и измеряется физически. Если характероскопия в общем и целом верна (а некоторая вероятность этого есть), то это должно поражать не больше, чем способность хорошего знатока вин по свойствам вина точно определять, из какой оно местности, с какою виноградника и какого года урожая, что поначалу кажется профану сомнительным. Но точно так же и хороший астролог может сказать мне без подготовки, в каком знаке стояли Солнце и Луна в день моего рождения и каков мой асцендент. Поэтому психофизический параллелизм подобного феномена, выступающий, надо полагать, основой гадания по "И Цзин", – не что иное как другой аспект процесса, который следует мыслить лежащим в основе и астрологии, если, конечно, придавать хоть какое-то значение астрологическому диагнозу характера. Без сомнения, очень многие занимаются астрологией, и столь же несомненно, что эти люди вдумчивые и интересующиеся психологией, которые получают от своих занятий немалую познавательную пользу. Но и тут всегда налицо возможность злоупотребления.
Я вышел бы далеко за пределы своей научной компетенции, если бы взялся отвечать на поставленный здесь вопрос. Могу лишь констатировать, что всякий, кто запрашивает оракул, ведет себя так, как будто существует необходимый параллелизм внутренних и внешних, психических и физических событий, и, придавая хоть малейшее значение результату своего запроса, тем самым уже делает выбор в пользу такой возможности. Мое отношение к такого рода вещам – прагматическое, а та великая наставница, что привила мне это отношение в практическом и приносящем пользу виде, – психотерапия и медицинская психология. Пожалуй, нигде не приходится считаться с чем-то более неизвестным, как именно в этой области, и нигде больше, нежели здесь, не привыкаешь применять то, что приносит успех, даже когда долго не можешь понять, почему так происходит. Бывает, что при сомнительной терапии неожиданно приходит исцеление, а вроде бы надежные методы не срабатывают. В исследовании бессознательного встречаются самые странные вещи, от которых рационалист с отвращением отшатывается, после чего утверждает, будто ничего не видел. Иррациональная полнота жизни научила меня никогда ничего не отвергать, даже если что-то грешит против всех наших (увы, столь недолговечных) теорий или каким-то иным образом оказывается пока необъяснимым. Правда, такие вещи заставляют волноваться: нет полной уверенности в том, что компас показывает верное направление; однако в безопасности, надежности и покое не совершаются открытия. Так же обстоит дело и с этим китайским гадательным методом. Он очевидным образом ориентирован на самопознание – даже притом, что всегда где-то рядом с ним был суеверный обычай. Самопознание кажется вредным только людям глупым и неполноценным. И ничто не заставит их отказаться от этого убеждения. Люди же более интеллигентные могут, соблюдая спокойствие, рискнуть и, быть может, приобрести благодаря этому методу кое-какие поучительные знания. Сам метод легок и прост. Сложности же начинаются, как уже было сказано, при обработке результатов. Прежде всего, понимание символики – вещь совсем не простая даже при помощи прекрасного комментария Вильхельма. Чем больше у читателя познаний в области психологии бессознательного, тем легче дастся ему эта работа. Другая и более существенная сложность состоит, однако, в широко распространенном незнании людьми собственной Тени, т.е. неполноценной стороны своей личности, состоящей в значительной мере из вытесненных комплексов. Сознающая личность часто со всей силой восстает против таких содержаний и в форме проекций любит взваливать их на ближних. Уж больно отчетливо люди видят соринку в глазу ближнего, а в своем не замечают и бревна. Тот факт, что частенько из-за собственной слепоты систематически рвут на себе волосы, сказывается в высшей степени отрицательно при изучении и понимании "И Цзин", Так и хочется сказать: тот, кто при частом использовании этого метода не находит в нем ничего разумного, весьма вероятно, носит на глазу изрядных размеров бельмо. Видимо, имело бы смысл составить комментарий к отдельным знакам с точки зрения современной психологии (уже Конфуций комментировал этот текст). Такая работа, однако, намного превышала бы объем простого предисловия и была бы задачей слишком сложной. Поэтому мне пришлось решиться на другой способ действий.
Еще только намереваясь писать это предисловие, я решил не делать этого, не запросив предварительно "И Цзин". Поскольку речь шла о том, чтобы сделать эту книгу доступной для новой публики, мне показалось, что будет правильно и справедливо дать этому методу шанс самому проявить себя в отношении моего замысла. Так как, по древним китайским представлениям, существуют духовные движущие силы, таинственным образом побуждающие стебли тысячелистника к осмысленному ответу [5], то мне показалась естественной мысль каким-то образом представить себе эту книгу в виде действующего лица и задать ей вопрос о том, как она относится к своему нынешнему положению, т.е. моему намерению представить ее современной публике. Я воспользовался методом бросания монет и получил в ответ гексаграмму 50: Ding, тигель.
В соответствии с планом, которым я руководствовался при постановке вопроса, будем рассматривать текст так, как если бы он сам был говорящим персонажем. Тогда он обозначает себя как тигель, т.е. как жертвенный сосуд, содержащий готовую пищу. Эту еду здесь нужно понимать как "духовную пищу". Вильхельм комментирует так: "Тигель как приспособление утонченной культуры намекает на попечение и питание благородных мужей, попечение о которых идет на пользу управлению государством... Таким образом, здесь культура демонстрирует, каким образом она достигает своей вершины в религии. Тигель служит для жертвоприношения богу... Высшее откровение божье – в пророках и святых. Их почитание есть истинное почитание бога. Воля божья, открывающаяся через них, должна приниматься со смирением" и т.д.
Итак, это "И Цзин" говорит о себе сам, – такой вывод нам следует сделать в соответствии с нашей гипотезой.
Если некоторые линии гексаграммы получают значение 6 или 9, то они приобретают особый смысл и потому важны для толкования [6]. Эти "spiritual agencies"* в моей гексаграмме заняли вторую и третью позиции, причем обе усилены числом 9. Текст гласит:
* Духовные движущие силы (англ.)
Девятка во второй позиции означает:
В тигле есть пища. Мои товарищи завидуют, Но не могут повредить мне. Благо!
Таким образом, "И Цзин" говорит о себе: "Во мне содержится (духовная) пища". Поскольку обладание чем-то большим всегда возбуждает зависть, то хор завистников примыкает к образу большого имущества [7]. Завистники хотят его забрать, т.е. ограбить или разрушить смысл "И Цзин". Но тщетна их вражда. Смысловое богатство хранится в нем надежно, т.е. он убежден в своих позитивных свершениях, которые никто у него не отнимет. Текст продолжает:
Девятка в третьей позиции означает:
Ручка тигля изменилась. Возникли препятствия на пути трансформации. Фазаний жир не будет съеден. Лишь когда выпадет дождь, раскаяние исчерпает себя. В конце придет благо.
Ручка означает захват, которым можно поднять тигель. Таким образом, это понятие [8], которое складывается об "И Цзин" (= тигле). С течением времени это понятие, конечно, изменилось, так что ныне "И Цзин" уже непонятен. Поэтому-то и "возникли препятствия на пути трансформации", т.е. оракул больше не поддерживает ни мудрым советом, ни глубоким пониманием, а вследствие этого исчезает ориентировка в лабиринте судьбы и во мраке собственной самости. Никто больше не ест "фазаний жир", т.е. самое лучшее и сочное на добром блюде. Но когда на жаждущую землю наконец вновь выпадает дождь, т.е. когда устраняется состояние лишенности, то "раскаянию", т.е. сожалению о потере мудрости, приходит конец, ибо появляется желанный шанс. Вильхельм говорит об этом так: "Под этим подразумевается некто, во времена высокой культуры занимающий такое место, что никто не обращает на него внимания и не признает. В его деятельности это серьезное осложнение". Таким образом, "И Цзин", так сказать, сетует на то, что его прекрасные свойства не признаются и не используются. Но он утешается надеждой на то, что ему помогут вновь обрести признание.
Ответ, который обе эти главные линии дают на поставленный мною "И Цзин" вопрос, не требует от толкования никаких особенных хитростей, трюков или необычных познаний. Смысл ответа доступен любому, кто воспользуется хотя бы толикой человеческого здравого рассудка: он подобен ответу человека, у которого нет ни малейшего самомнения, но его подлинная ценность либо всеми отвергается, либо вообще неизвестна. Субъект ответа имеет о себе весьма интересное представление; он ощущает себя в качестве сосуда, в который кладут жертву богам, т.е. жертвенную еду для их питания. Иными словами, он понимает себя как культовый инструмент, назначение которого – доставать духовную пищу, т.е. уделять подобающее внимание тем бессознательным факторам или энергиям (spiritual agencies!), которые проецируются в виде богов, чтобы они могли участвовать в жизни индивидуума. А ведь это и есть смысл слова religio – тщательное наблюдение и учет (от religere) [9] божественных numina*.
* Изречений оракула, содержащих в себе волю богов (лат.)
При помощи метода "И Цзин" бессознательная личная жизнь вещей и людей, включая их собственную бессознательную самость, и впрямь принимается во внимание. Ведь, задавая свой вопрос "И Цзин", я, как уже отмечалось, обращался к нему как к субъекту, наподобие того, что делает желающий познакомить кого-то со своими друзьями, когда сначала спрашивает, будет ли ему это приятно. Отвечая мне о своем религиозном значении, о своей безвестности и непризнанности и о своей надежде вновь оказаться в чести, "И Цзин" откровенно метил в мое тогда еще не написанное предисловие [10] и прежде всего в перевод миссис Бейнс, По-моему, это вполне разумная и осмысленная реакция, какой можно было бы ожидать и от находящегося в подобном положении человека.
Но откуда возникла такая реакция? Каким образом "И Цзин" смог дать мне столь человечески понятный ответ? Все это произошло благодаря тому, что я подбросил три маленьких монетки и дал им упасть так, как им и полагается упасть, прокатиться и замереть – орлом или решкой – по законам физики. У меня не было ни малейшего предчувствия насчет того, какой из 64 знаков выпадет. Тот удивительный факт, что из техники, которая вроде бы заранее исключает всякую осмысленность, все-таки возникает осмысленная реакция, является позитивным достижением "И Цзин". И этот случай не уникален, а представляет собой правило. От синологов и компетентных китайцев я слышал уверения в том, что "И Цзин" – это сборник устаревших заклинаний. В ходе таких бесед несколько раз бывало, что мои визави признавались в том, что однажды и им пришлось обратиться к оракулу при посредстве заклинателя. Естественно, все, по их словам, было бессмыслицей. Однако характерно, что полученное ими предсказание попадало как раз на их "слепое пятно".
Я понимаю, что на мой вопрос могло быть получено неисчислимое множество возможных ответов, и, разумеется, не смею утверждать, что не воспринял бы в качестве сколько-нибудь осмысленного какой-нибудь другой ответ. Но этот ответ я получил в качестве первого и единственного, а о других ответах не ведаю. Он обрадовал и удовлетворил меня. Задавать вопрос снова было бы, по-моему, столь же невежливо, сколь и непочтительно, а потому я этого не сделал. "Учитель не повторяет сказанного". Стилистическая безвкусица в обхождении с вещами иррациональными так или иначе ненавистна мне как признак низкой, просветительской ступени культуры, которая находит своего героя в школьном учителе-всезнайке. Эти вещи должны быть и оставаться такими, какими они попали в поле зрения в первый раз, ибо лишь тогда мы будем знать, что исходит от самой природы, когда она не слишком искажена человеческой настырностью. Не следует думать, будто жизнь можно изучать в анатомическом театре. Кроме того, повтор эксперимента невозможен уже по той простой причине, что неповторима сама исходная ситуация. Стало быть каждый раз имеется только один – первый и единственный ответ.
Поэтому не кажется удивительным, что в обеих основных линиях [11] вся гексаграмма 50 по сути дела только амплифицирует излагаемую тему. Первая линия гласит:
Тигель с перевернутыми ножками. Требуется удалить препятствие. Следует взять побочную жену ради ее сына. Не порок.
Перевернутый тигель свидетельствует о том, что им не пользуются. Поэтому "И Цзин", как и тигель, не находит применения. Он, как сказано, служит для устранения препятствий. Его используют, как побочную жену, которую берут, когда главная не может родить сына, т.е. "И Цзин" используют, когда не знают, как себе помочь иным способом. Несмотря на свою квазилегальность, побочная жена в Китае все-таки является своего рода сомнительным паллиативом, и таким же образом магическая процедура гадания представляет собой временное вспомогательное средство, которым можно обходиться ради достижения высокой цели. В этом не будет порока, хотя речь идет о том, что допустимо лишь в виде исключения.
Вторую и третью линии мы уже обсудили. Четвертая линия гласит:
У тигля сломаны ножки. Рассыпаны яства князя, Запятнан его облик. Беда!
Здесь тигель используется, но откровенно неудачно, т.е. процедурой гадания злоупотребляют, иными словами, неверно истолковывают. Этот метод ведет к тому, что пища богов пропадает. Тем самым позор падает на голову вопрощающего. Легг переводит это место так; "Its subject will be made to blush for shame"*. Когда такого рода злоупотребление касается предмета культа, например тигля (т.е. "И Цзин"), то говорят о трубой профанации, "И Цзин" здесь откровенно настаивает на своем достоинстве в качестве жертвенного сосуда, предостерегая от профанированного употребления.
* "Гадающий покраснеет от стыда" (англ.)
Пятая линия гласит:
У тигля желтая ручка, Золотые петли. Требуется выдержка.
"И Цзин", кажется, нашел новое, корректное (желтый цвет) понимание, т.е. "понятие", которым его можно "ухватить". Это понятие обладает большой ценностью (золото). Такое высказывание гексаграммы я расцениваю как признание работы переводчицы и как благоприятное для меня самого. В необходимой для изучения "И Цзин" выдержке я не испытывал недостатка на протяжении более чем двадцати лет, да и миссис Бейнс годами трудилась над переводом.
Шестая линия гласит:
У тигля петли из нефрита. Великое благо! Более нет нужды ни в чем.
Нефрит отличается красотой и мягким блеском. Если петли для переноски – из нефрита, то тем самым и весь сосуд украшается и чтится, возрастая в ценности. "И Цзин" высказывается туг не только весьма удовлетворенно, но и весьма оптимистично, что доставляет мне особенное удовольствие, Все это, разумеется, основано на допущении, что наша исходная гипотеза верна, Я, правда, не знаю, как следовало бы добыть доказательство того, что гипотеза правильна. Можно лишь ожидать дальнейших событий, между делом получая удовольствие от приятной констатации, что "И Цзин" вроде бы дал свое согласие на задуманное предисловие, так же как и на свое новое издание.
Я с максимальной непосредственностью и честностью показал на этом примере, как я поступаю с гаданием в конкретном случае. Само собой разумеется, что мое поведение несколько изменяется вместе с задаваемым вопросом. Если, к примеру, кто-то оказывается в некоторой неясной ситуации, то при известных обстоятельствах он сам может стать субъектом высказывания, или если речь идет об отношении к другому человеку, то субъектом высказывания может выступать этот человек; его же можно сделать таковым при помощи специальной постановки вопроса. Это, однако, зависит от нашего желания не полностью, а лишь в той степени, в которой именно отношения к ближним зависят от них отнюдь не всегда или только в общем и целом, но весьма часто почти исключительно от нас самих, даже если это обстоятельство нами не осознается. Поэтому в последнем случае можно испытать потрясение из-за того, что вопреки ожиданиям человек в ходе гадания сам оказывается действующим субъектом, о чем текст иногда сообщает в недвусмысленной форме. Может случиться и так, что кто-то переоценивает известную ситуацию, считая ее чрезвычайно важной, а оракул придерживается совсем иной точки зрения на этот счет, обращая внимание на какой-то другой, неожиданный, но все же актуальный аспект вопроса. Такие случаи способны вызвать искушение счесть высказывание оракула ошибочным. Конфуцию лишь однажды пришлось получить неподходящий оракул, а именно гексаграмму 22: Bi, "прелесть", исключительно эстетический знак. Тут на память приходит совет, полученный Сократом от даймона: "Тебе следует больше заниматься музыкой", после чего он занялся игрой на флейте. Конфуций и Сократ оспаривали друг у друга первенство по части рациональности и педагогики, но вряд ли стали бы заниматься тщательным уходом за "бородкой клинышком", как советует вторая линия этой гексаграммы. Разуму и педагогике часто, к сожалению, недостает этой "прелести", а потому в данном случае оракул не так уж и неправ.
Вернемся, однако, к нашей гексаграмме! Хотя, как показано, "И Цзин" не только сам согласен с моим намерением написать предисловие, но даже подчеркивает свой оптимизм в этом отношении, это еще не значит, что успех у публики, на который может рассчитывать "И Цзин", заранее обеспечен. Поскольку в нашей гексаграмме имеются две усиленные девяткой линии ян, то мы должны попасть в положение, соответствующее прогнозу, который ставит себе самому "И Цзин". Линии, усиленные шестеркой или девяткой, обладают, по древним представлениям, таким внутренним напряжением, что проявляют склонность превращаться – благодаря энантиодромии – в свою противоположность, т.е. ян переходит в инь и наоборот. Посредством такой трансформации получается гексаграмма 35: Dsin, "прогресс".
Эта гексаграмма говорит о том, кто на подъеме должен претерпеть всякого рода превратности судьбы, и текст повествует, как следует себя при этом вести. В таком положении и находится "И Цзин". Хотя он и восходит "как Солнце" и "просветляется", но "отвергается" и "не находит доверия", хотя и продвигается вперед, но "с печалью". Все же он получает "великое счастье от своей родоначальницы". В этом неясном месте на помощь приходит психология: бабушка или родоначальница в сновидениях и сказках нередко представляет бессознательное, поскольку у мужчин оно характеризуется женскими чертами. Таким образом, когда "И Цзин" не находит понимания у сознания, навстречу ему выходит бессознательное, ибо он в соответствии со своей природой связан с ним даже более тесно, нежели с рационализмом сознания. Бессознательное в сновидениях часто предстает в женском облике, что вероятно случилось и здесь. Женской фигурой могла бы поэтому выступать переводчица миссис Бейнс, окружившая книгу материнской заботой. С точки зрения "И Цзин", это вполне могло бы быть "великим счастьем". Хотя он и предвидит всеобщее одобрение, но боится злоупотребления ("прогресс черепашьими темпами"). Однако "приобретения и потери" не будут "приняты им близко к сердцу". Он останется безучастным к партийным страстям успеха и неудачи. Он не навязывается.
Таким образом, "И Цзин" отрешенно относится к своему будущему на американском книжном рынке и высказывается об этом примерно так, как в подобном случае поступает любой разумный человек, представляя себе судьбу столь спорного сочинения. И это предсказание, появившееся в случайной игре падающих монет, настолько осмысленно и по-будничному разумно, что вряд ли возможно придумать более подходящий ответ.
Когда я, сочиняя предисловие, дошел до этого места, мне стало интересно, как "И Цзин" отнесется к новой ситуации, возникшей благодаря моему изложению. Благодаря тому, чту я написал до этого, более ранняя ситуация изменилась в той степени, в какой я подключился к ней моей последовавшей в это время акцией, надеясь в связи с этим услышать о том, что имеет отношение к моему действию. И должен признаться читателю, что когда я обдумывал это предисловие, на душе у меня было как-то нехорошо: ведь, будучи человеком по-научному ответственным, я привык не утверждать ничего такого, чего я не мог бы доказать или по крайней мере представить в приемлемом для рассудка виде. Но если кого-то, например меня, данное обещание обязывает, представить "сборник древних заклинаний" и сделать его хоть сколько-нибудь приемлемым для современной критической публики, ибо сам я субъективно убежден в том, что за этим кроется нечто большее, чем видно снаружи, – то я ощущаю: передо мной стоит не очень-то приятная задача.
Поэтому мне немного неловко из-за необходимости апеллировать к доброй воле и фантазии читателя, вместо того чтобы представить убедительные доказательства и абсолютно неуязвимые, достаточно обоснованные с научной точки зрения аргументы. Увы, мне слишком хорошо известно, какого рода доводы могли бы быть направлены против этой древней гадательной техники, ближайшая родственница которой, призванная мною в качестве главного свидетеля, т.е. астрология, и подавно пользуется не самой лучшей репутацией, Нельзя даже быть уверенным в том, что в судне, предназначенном для плавания по неизвестным водам, нет роковой течи. Не испорчен ли древний текст? Согласуются ли меду собой все части вильхельмова перевода? Не впадает ли толкователь в самообман? Правда, я безусловно убежден в ценности самопознания. Но что пользы предлагать его, когда даже самые великие мудрецы всех стран и времен проповедовали его без всякого успеха?
Лишь субъективная убежденность в том, что в "И Цзин" "что-то есть", побудила меня взяться за это предисловие. Раньше я лишь однажды – в речи, посвященной памяти Рихарда Вильхельма, – высказался по проблеме "И Цзин", но при этом из соображений тактичности о многом умолчал. Теперь я отказался от этой обдуманной осторожности; а смог я отважиться на это потому, что ныне вступаю в восьмое десятилетие своей жизни, и переменчивые мнения людей мало меня волнуют, а размышления древних учителей мне интереснее, нежели академический диспут. Я понимаю, что раньше не посмел бы высказаться о столь сомнительных материях так откровенно, как делаю это теперь.
Мне не очень приятно, что пришлось посвящать читателя в такие личные подробности. Однако, как я уже намекнул выше, при гадании весьма часто в дело оказывается втянутой собственная личность, Своей постановкой вопроса я даже прямо предложил оракулу принять во внимание то, что я делаю. Это и произошло. Результатом была гексаграмма 29: Кап, "бездна". Третья позиция особенно усилена шестеркой. Эта линия гласит:
Спереди и сзади, бездна и бездна В такой опасности сначала остановись, Иначе в бездне попадешь в яму. Не делай этого.
Добрый совет "не делать этого" я безусловно принял уже раньше и отказался от освидетельствования "И Цзин". Теперь же он должен послужить мне примером, демонстрирующим его действие. Я и впрямь не могу двинуться ни вперед, за пределы того, что я сказал об оракуле, ни назад – как-то отказавшись от этого предисловия. Для интеллектуальной совести проблематика "И Цзин" действительно заключается в "бездне и бездне", а во всех опасностях безбрежных и некритических спекуляций по необходимости нужно "остановиться" и замереть, чтобы в действительности не зайти в тупик. Можно ли в интеллектуальном отношении оказаться в более неловкой ситуации, чем витая в облаках недоказанных возможностей и не зная, что перед тобой – истина или иллюзия? Но такова сноподобная атмосфера "И Цзин", в которой без каких бы то ни было гарантий надо ориентироваться на собственное, столь подверженное заблуждению, субъективное суждение. На caмом деле мне не остается ничего другого как признать, что эта линия очень точно передает то душевное состояние, в котором я писал это предисловие. Столь же уместным мне представляется успокаивающее душу начало этой гексаграммы: "Коль ты поистине жив, жив ты с удачею в сердце", ибо данное изречение указывает на то, что решающее в этой ситуации – не внешняя опасность, а субъективное состояние, а именно, считаешь ли ты себя самого "истинным" или нет.
Гексаграмма уподобляет жизненное событие, происходящее в такой ситуации, току воды, не робеющему перед опасными местами, но летящему через скалы и наполняющему ямы. (Ведь "kan" означает и "вода".) Так поступает и высший человек ("благородный муж"), "практикуя дело учения". Да ведь и я не робел перед возможным самообманом, ненадежностью, сомнительностью, непониманием – как бы там ни назывались все эти ямы, в которые можно свалиться, а стараюсь передать читателю свой взгляд на "И Цзин".
"Каn" определенно относится к самым неприятным знакам. Я нередко встречал его у пациентов, в значительной степени оказавшихся под властью бессознательного (вода!) и потому – под угрозой возможных психотических состояний. Суеверная установка по этой причине с легкостью согласилась бы с тем, что этому знаку такое значение присуще в принципе. При гадании изначальная постановка вопроса совершенно определенно ограничивает истолкование и должна наблюдаться с той же скрупулезной точностью, что и содержание сновидения при толковании сновидений. При первом гадании, задавая вопрос, я думал прежде всего о значении моего еще не написанного предисловия для "И Цзин", а потому выдвинул его на первый план и как бы уже заранее возвысил до степени действующего субъекта, во втором же случае действующим субъектом, подлежащим рассмотрению, был я. В последнем случае было бы поэтому произволом снова считать субъектом "И Цзин", да и толкование тем самым было бы дискредитировано. Но если субъект я сам, то и толкование, по моему субъективному ощущению, становится осмысленным, ибо высказывает мое несомненно наличное чувство ненадежности и риска. Оказавшись на столь зыбкой почве, рискуешь легко и незаметно подпасть под господство бессознательного.
Первая линия констатирует наличие опасной ситуации ("в бездне попадаешь в яму"); вторая линия прибавляет еще и добрый совет: "Следует стремиться к достижению малого". Каковой совет я и предвосхитил тем, что ограничился в этом введении лишь несколькими примерами и отказался от много более взыскательной задачи, предносившейся мне некоторое время [12], а именно от психологического комментария к целой книге.
Упрощение моей задачи выражается в четвертой линии:
Кувшин вина, На закуску чашку рису, глиняная посуда, Просто поставленная на окно.
Вильхельм комментирует это так: "Когда чиновник готовится к вступлению в должность, обыкновенно требуется сделать ему определенные подношения и представить рекомендации. Здесь же все крайне упрощено. Подношения скудны, поручителя нет, и нужно представляться самому, но смущаться этим не надо, потому что имеется только честное желание помогать друг другу в опасности".
Пятая линия продолжает тему ограничения. Ведь если следовать природе воды, то можно видеть, что она заполняет яму до краев и бежит дальше. Она не остается в ней.
Бездна не переполнится, А только до краев наполнится.
Трудности лишь сгрудятся стеной, стоит только попасть в западню – в состояние как бы убежденности, и притом как раз в виду неуверенности в ней, – и обратиться к помощи особых стараний, например, специально разработанных комментариев, казуистики и тому подобного. Самая верхняя линия удачно описывает это состояние связанности и запертости. А последняя линия частенько указывает на последствия, которые реализуются, если не проникнуться смыслом гексаграммы до глубины души.
В нашей гексаграмме шестерка стоит на третьем месте. Это напряженное состояние инь благодаря энантиодромии преобразуется в ян и тем самым порождает новую гексаграмму, изображающую как бы будущую возможность или тенденцию к таковой. Получается гексаграмма 48: Dsing, "колодец". Совершенно ясно, что мотив водяной ямы продолжается. Но тут яма означает уже не опасность, а полезный горячий источник.
Так благородный муж ободряет Людей за работой И призывает их Помогать друг другу.
Последнее, вероятно, относится к восстановлению колодца. Значит, это старый, заброшенный, забитый илом колодец. Даже животные не пьют отсюда. Там есть и рыба, которую можно ловить, но для питья, т.е. для употребления людьми, он непригоден. Такая картина заставляет вспомнить о перевернутом и оказавшемся без дела жертвенном сосуде, который надо схватить вновь. Так и этот колодец подвергается чистке. Но никто не пьет из него.
Это боль моего сердца; ибо отсюда можно было бы черпать.
Как опасная водяная яма, так и колодец указывают на "И Цзин". Но последний имеет позитивное значение: он – яма, в которой вода жизни. Он – как бессознательное: опасность и в то же время помощь. Пользование им надо возобновить. Но никто этого не понимает, и нет орудия, чтобы удержать воду, ибо "кувшин треснул и протекает". Так же как жертвенный сосуд получает новую ручку или петли для переноски, за которые его можно ухватить, и колодец должен быть заново "облицован камнем". Ведь внутри его – "чистый, холодный источник, из которого можно пить", Из него можно черпать, "он надежен".
Вполне очевидно, что субъектом, изрекающим этот "прогноз", является опять-таки "И Цзин", изображающий себя колодцем с живой водой, после того как предыдущая гексаграмма подробно описала риск, которому подвергается тот, кто как бы случайно попал в эту яму и сначала должен выкарабкаться из нее а затем обнаружить, что это старый, заброшенный и забитый илом колодец, однако его можно восстановить и пользоваться им снова.
* * *
Я поставил перед основанной на случайности техникой гадания на монетах два вопроса – один перед получением первой и второй гексаграмм, а другой – после этого. Первый вопрос был в некотором смысле поставлен перед "И Цзин": как он относится к моему намерению написать предисловие к нему. Второй вопрос касался моих собственных действий, т.е. ситуации, в которой я был действующим лицом, а именно тем, о ком шла речь в первой гексаграмме. На первый вопрос "И Цзин" ответил, сравнив себя с жертвенным сосудом, которым надо начать пользоваться снова, сосудом, вызывающим у публики лишь сомнительное удовольствие. Ответ на второй вопрос гласил, что я оказался в трудном положении, – ведь "И Цзин" предстает бездонными и небезопасными водами, глубокой водяной ямой, в которой можно и застрять. Это, однако, старый колодец, который надо только обновить, чтобы снова появилась возможность самым эффективным образом его использовать.
Эти четыре гексаграммы с точки зрения мотивов (сосуд, яма, колодец) последовательны, а с точки зрения духовного содержания разумны и осмысленны, конечно, на мой субъективный взгляд. Если бы так мне отвечал человек, то я как психиатр должен был бы, судя по имеющемуся материалу, объявить его вменяемым. При всем моем желании я не смог бы обнаружить в этих четырех ответах ничего бредового, идиотического или шизофренического. Ввиду его преклонного возраста и китайского происхождения я не смог бы счесть патологическим такой в определенной степени архаический, символический и цветистый язык, С другой стороны, мне пришлось бы в положительном смысле поздравить его с его глубоким проникновением в мое сложное, оставшееся невысказанным настроение. Я расценил бы это лишь как превосходную интуицию.
Мне начинает казаться, что непредвзятый читатель благодаря этим примерам уже в состоянии выработать по крайней мере предварительное суждение о том, каким образом действует "И Цзин" [13]. На большее такое скромное введение и не рассчитывает.
Если мне удалось при помощи этого наглядного урока разъяснить психологическую феноменологию "И Цзин", то я выполнил свое намерение. Но я не могу дать ответа на те тысячи вопросов, сомнений, критических суждений и т.д., которые возбуждает эта странная книга. Ее дух кому-то покажется ясным, кому-то – смутным, а кому-то – черным как ночь. Тот, кому книга не по нраву, пусть отложит ее в сторону, а тот, кому она пришлась по сердцу, пусть не считает ее истиной. Она должна выйти в мир для тех, кто с ее помощью увидит какое-то новое знание.
Приложение к HTML-верси SEPTEM SERMONES AD MORTUOS
Семь наставлений мертвым, что написал Василид из Александрии, – города, где Восток соприкасается с Западом
SERMO I
Мертвые возвратились из Иерусалима, где не нашли того, что искали. Они жаждали, дабы я допустил их к себе и наставил:
Слушайте же: Я начну от ничто. Ничто, по сути, то же, что Полнота. В бесконечности наполненность равно что пустота. Ничто – пусто и полно. Вы можете сказать равным образом и иное о ничто, к примеру, что оно бело или черно, или что его нет. Бесконечное и вечное не имеет свойств, ибо имеет все свойства.
Ничто или Полноту мы наречем Плеромой. В ней прекращает свой путь бытие и помышление, поскольку вечное и бесконечное не имеет свойств. Там нет никого, потому как иначе некий Тот отличался бы от Плеромы и имел свойства, которые делали бы его отличным от Плеромы.
В Плероме есть все и ничего: не стоит помышлять о Плероме, ибо это означало бы саморастворение.
Творение пребывает не в Плероме, но в себе. Плерома есть начало и конец Творения. Она проходит его насквозь подобно тому, как солнечный луч проницает всю толщу воздуха. Хотя Плерома проходит непременно насквозь, нет у творения в том части – так цельнопрозрачное тело не становится через свет, сквозь него проходящий, ни светлым, ни темным.
Мы же сама Плерома и есть, ибо мы часть вечного и бесконечного. Нет у нас, однако, в том части, ибо мы бесконечно отдалены от Плеромы – не пространственно либо временно, но сущностно, – тем, что отличны от Плеромы как Творение, имеющее пределы в пространстве и во времени.
Поскольку мы суть части Плеромы, Плерома также в нас. Плерома и в своей малейшей крапине бесконечна, вечна и нерушима, ведь малое и большое суть свойства, что пребывают в ней. Она есть Ничто, кое всюду нерушимо и непрекратимо.
Оттого-то говорю я о Творении как о части Плеромы лишь под видом иносказания, ибо Плерома воистину всюду неделима, потому как она есть Ничто. Но и мы суть цельная Плерома, ведь Плерома лишь иносказательно, в допущении, малейшая крапинка, сущая в нас. Она и свод небесный, нас объемлющий. Зачем же нам вести речь о Плероме как такой, когда она Все и Ничто.
А затем говорю я, дабы с чего-нибудь начать и избавить Вас от химеры, будто где-либо вовне или изнутри есть прежде опыта установленное или хоть сколько-нибудь определенное. Все именуемое установленным либо определенным относительно. Лишь то, что подвержено изменению, установлено и определено.
Изменяемо лишь Творение, стало быть, оно единственное установлено и определено, ибо есть у него свойства, да и само оно свойство.
Мы вопрошаем: Как явилось Творение? Являлись Творения, но не Творение, поскольку Творение есть свойство самой Плеромы, равно как нетворение, вечная Смерть. Всегда и всюду есть Творение, всегда и всюду есть Смерть. В Плероме пребывает все, отличимость и неотличимость.
Творение есть отличимость. Оно отличимо. Отличимость – его сущность, потому оно и отличает. Человек отличает потому, что сущность его есть отличимость. Посему отличает он и свойства Плеромы, коих не существует. Он отличает их по своей сущности. Оттого человеку приходится вести речь о свойствах Плеромы, коих не существует.
Вы скажете: Что толку говорить о том? Ты же сам сказал, что не стоит помышлять о Плероме.
Вам я сказал, дабы освободить от химеры, что можно помышлять о Плероме. Когда мы отличаем свойства Плеромы, то речь ведем применительно к нашей отличимости и о нашей отличимости, но никак не о Плероме. О нашей же отличимости надобно говорить, дабы тем мы сумели себя достаточно отличить. Наша сущность есть отличимость. А не будем той сущности верны, то и отличим себя недостаточно. Потому нам должно творить отличаемость свойств.
Вы станете вопрошать: А что плохого станется, если не отличить себя?
Не отличая, угодим мы за пределы своей сущности, за пределы Творения, и низвергнемся в неотличимость, а она есть иное свойство Плеромы. Мы низвергнемся в саму Плерому и перестанем быть Творением, себя обрекая растворению в Ничто.
А это Смерть Творению. Мы, стало быть, умрем в той мере, в каковой не станем отличать. Оттого-то естественное устремление Творения направлено к отличимости противу изначальной опасной тождественности. Имя тому устремлению PRINZIPIUM INDIVIDUATIONIS. Тот принцип есть сущность Творения. Из чего можно вам усмотреть, почему неотличимость и неотличение являют собой великую опасность для Творения.
Вот потому нам должно отличать свойства Плеромы. Те свойства суть попарно сочетаемые противоположения, как то:
Сущее – Не-сущее,
Полнота – Пустота,
Живое – Мертвое,
Различное – Тождественное,
Светлое – Темное,
Горячее – Холодное,
Сила – Материя,
Время – Пространство,
Добро – Зло,
Красота – Уродство,
Единое – Множественное, etc.
Парные противоположения суть свойства Плеромы, коих в ней нет, ибо они друг друга упраздняют.
Поскольку мы суть сама Плерома, в нас присутствуют все эти свойства, а когда основание нашей сущности – отличимость, то и имеем мы те свойства во имя отличимости и под знаком ее, что означает:
первое: Свойства, что в нас, друг от друга отличены и разделены, посему они не упраздняются, но пребывают сущими. Оттого мы жертвы парных противоположении. В нас Плерома разорвана.
второе: Свойства причастны Плероме, для нас же возможно и должно жить в обладании ими лишь во имя отличимости и под ее знаком. Нам должно отличать себя от тех свойств. В Плероме они упраздняют себя, в нас же нет. Отличаемость от них спасает.
Когда наши устремления направлены к Добру или Красоте, мы забываем про нашу сущность, то есть отличимость, и обрекаем себя на свойства Плеромы, а они суть парные противоположения. Мы силимся, дабы достичь Добра и Красоты, но наряду с тем обретаем Зло и Уродство, потому как в Плероме они едины с Добром и Красотой.
Когда же мы остаемся верны своей сущности, именно – отличимости, то отличаем себя от Добра и от Красоты, а тем самым – от Зла и Уродства. Мы тогда не низвергаемся в Плерому, то есть в ничто и в растворенность.
Вы станете прекословить: Ты говорил, будто Различимое и Тожественное равно свойства Плеромы. Как быть тогда, когда мы свои устремления направим к различению? Разве тогда не будем мы верны своей сущности? Не придется ли нам, устремляясь к различению, обречь себя на тожественность?
Не должно вам забывать, что Плерома не имеет свойств. Мы их созидаем помышлением. Стало быть, когда вы устремляетесь к различению, к тожественности или к иным свойствам, то устремляетесь к помыслам. Что проистекают навстречу вам из Плеромы, именно к помыслам о несуществующих свойствах Плеромы. В погоне за теми помыслами вы погружаетесь снова в Плерому и достигнете различения и тожественности разом. Не ваше помышление, но ваша сущность – отличимость. Посему не должно вам устремляться к различению, как вы о том помышляете, но к вашей сущности. Есть, по сути, одно лишь устремление, именно устремление к собственной сущности. Если есть у вас таковое устремление, то вовсе нет нужды вам знать о Плероме и ее свойствах, и придете вы к правой цели силою вашей сущности. Ну а когда помышление отдалено от сущности, то и приходится мне наставлять вас в знании, дабы сумели вы удержать в узде ваше помышление.
SERMO II
Мертвые стояли в ночи вдоль стен и восклицали: Желаем знать о Боге. Где Бог? Бог мертв?
Бог не мертв, он жив так же, как и исстари. Бог, он – Творение, нечто определенное, а посему отличен от Плеромы. Бог – свойство Плеромы, ибо все, что сказал я о Плероме, действительно и для Него.
Он отличается, однако, от Творения через то, что многократно темней и неопределимой, чем Творение. Он менее отличим, чем Творение, ибо в основании Его сущности пребывает сущая Полнота, и в той лишь мере определим и отличим, в коей Он Творение, но и в той же мере Он – проявление сущей Полноты Плеромы.
Все, что не отличено нами, низвергается в Плерому и упраздняется купно со своим противоположением. Оттого-то, когда не отличаем мы Бога, упраздняется для нас сущая Полнота.
Бог, однако, и сама Плерома, подобно тому как малейшая крапина в сотворенном и несотворенном та же Плерома.
Истинная Пустота есть сущность Дьявола. Бог и Дьявол суть первые проявления Ничто, каковое именуем Плеромою. Равно Плерома то или нет, ибо она упраздняет себя во всем сама. Не таково Творение. В том отношении, в коем Бог и Дьявол суть Творения, они не упраздняют себя, но противостоят Друг другу как сущие противоположения. Нет нужды нам в доказательстве их бытия, довольно того, что приходится нам снова и снова вести речь о них. А когда б обоих не было, то Творение оказалось бы вне своей отличимой сущности, оно все сызнова отличалось бы из Плеромы вовне.
Все, что отличенность изымает из Плеромы, являет собой парные противоположения, посему Богу всегда причастен Дьявол.
Сопричастность эта, что вам даже по жизни своей довелось познать, столь сокровенна, столь неизбывна, как Плерома сама. А проистекает она из того, что оба весьма близко отстоят от Плеромы, в коей все противоположения упразднены и слиты воедино.
Бог и Дьявол отличимы через полноту и пустоту, созидание и разрушение. Общее для обоих сущее. Сущее их связывает. Потому сущее возвышается над обоими, и оно есть Бог над Богом, ибо оно соединяет Полноту и Пустоту в их сущем.
Вот Бог, о коем вам неизвестно, ибо люди его позабыли. Мы именуем его присущим ему именем АБРАКСАС. Он еще более неопределим, чем Бог и Дьявол.
Дабы отличить от него Бога, мы именуем Бога ГЕЛИОС либо Солнце.
Абраксас – сущее, ничто ему не противостоит, кроме того, в чем нет сути, потому сущая его природа распространяется свободно. Того, в чем нет сути, – не существует и не противостоит. Абраксас возвышен над Солнцем и возвышен над Дьяволом. Он есть невероятное вероятное, несущее сущее. Когда б у Плеромы была сущность, Абраксас был бы ее проявлением.
Хоть он и есть само сущее, но, однако, ничего определенно сущего, но лишь сущее вообще.
Он несуще сущ, поскольку не имеет определенного сущего.
Он и Творение, ибо он отличим от Плеромы.
Солнце определенно сущее, как и Дьявол, оттого они нам представляются более сущим, чем неопределимый Абраксас.
Он есть Сила, Длительность, Переменчивость.
И произошло тут у мертвых смущение, ибо были они христиане.
SERMO III
Мертвые подступали подобно туману с болот и восклицали: Говори нам далее о Верховном Боге.
Абраксас есть Бог, коего мудрено распознать. Он имеет наибольшую часть, ибо она незрима для человека. От Солнца зрит человек summum bопит, то есть высшее благо,
от Дьявола infinum malum, то есть беспредельное зло, от Абраксаса же непреодолимую ни в коей мере жизнь, каковая есть мать доброго и дурного.
Жизнь кажется слабосильнее и меньше, чем summum bonum, посему даже в мыслях трудно представить, что Абраксас во власти превосходит Солнце, кое само есть сиятельный источник всякой жизненной силы.
Абраксас есть Солнце и наравне заглатывающее вековечное жерло Пустоты, все умаляющей и расчленяющей, жерло Дьявола.
Власть Абраксаса двукратна. Но вы не зрите ее, ибо в ваших глазах уравнивается противуположная направленность той власти.
Что говорит Бог-Солнце, есть жизнь,
что говорит Дьявол, есть Смерть.
Абраксас же говорит слово досточтенное и проклятое, что есть равно жизнь и смерть.
Абраксас творит истину и ложь, добро и зло, свет и тьму в том же слове и в том же деянии. Оттого Абраксас грозен.
Он великолепен подобно льву во мгновение, когда тот повергает ниц свою жертву. Он прекрасен, как день весны.
Да он сам великий Пан, что значит Все, и он же малость. Он и Приап.
Он есть монстр преисподней, полип (Polypus (греч.) – многоногий. – Прим. пер.) тысячерукий, воскрыленный, змий извивистый, неистовство само.
Он же Гермафродит низшего начала.
Он господин жаб и лягушек, в воде обитающих и на сушу выходящих, ополудни и ополуночи поющих хором.
Он есть Наполненное, что воссоединяется с Пустым.
Он есть святое совокупление.
Он есть любовь и ее умерщвление.
Он есть святой и предающий святого.
Он есть светлейший свет дня и глубочайшая ночь безумства.
Его зреть – слепота.
Его познать – недуг.
Ему молиться – смерть.
Его страшиться – мудрость.
Ему не противиться – спасение.
Бог пребывает при солнце. Дьявол пребывает при ночи. Что Бог рождает из света. Дьявол утаскивает в ночь. Абраксас же мир, становление и преходящесть мира. На всякое даяние Бога-Солнце Дьявол налагает свое проклятие.
Все, что вы ни просите у Бога-Солнце, порождает и деяние Дьявола.
Все, что вы ни сотворите совместно с Богом-Солнце, дает Дьяволу сущую силу.
Таков он, грозный Абраксас.
Он есть могущественнейшее Творение, в нем Творение страшится себя самого.
Он есть явленное противоречие меж Творением и Плеромою, в коей заключено ничто.
Он есть ужас сына пред матерью.
Он есть любовь матери к сыну.
Он есть восторженность земли и жестокость неба.
Не вопрошает он и не отвечает.
Он есть жизнь Творения.
Он есть сущее Отличимости.
Он есть любовь человека.
Он есть речь человека.
Он есть свет и тень человека.
Он есть обманное сущее.
Тут мертвые завопили, зашумели, ибо они были несовершенны.
SERMO IV
Мертвые, что ропща заполняли пространство окрест, говорили: Сказывай нам, проклятый, о Богах и Дьяволах.
Бог-Солнце есть высшее добро. Дьявол есть противное ему, вот имеете двух богов.
Но существует много высокого добра и много тягостного зла, а потому существует два богодьявола, один именем пылающее, другой же – растущее.
Пылающее есть Эрос в образе пламени. Он сияет, меж тем как пожирает.
Растущее есть древо жизни, оно зеленеет, меж тем как, вырастая, скапливает живое вещество.
Эрос воспламеняется и умирает, древо жизни же медленно и неуклонно произрастает сквозь безмерное время.
Доброе с дурным едины в пламени.
Доброе с дурным едины в произрастаньи древа.
Жизнь и любовь противостоят в своей божественности друг другу.
Подобно сонмам звезд, безмерно число богов и дьяволов.
Всякая звезда есть бог, и всякое пространство, кое полнит звезда, есть дьявол.
Всепустота целого же есть Плерома.
Абраксас есть сущее целого, лишь несущее противостоит ему.
Главных богов числом четыре, ибо четыре является числом измерений мира.
Один есть начало, Бог-Солнце.
Другой есть Эрос, ибо он связывает двоих и распространяется в сиянии.
Третий – древо жизни, ибо полнит пространство телами.
Четвертый – Дьявол, ибо он отмыкает все замкнутое, разлагает все, обладающее формою, и все телесное, он разрушитель, в коем все обращается в ничто.
Блажен я, оттого что дано мне познать множественность и разнообразность богов. Горе вам, сменившим ту несовместную множественность на единственного Бога. На муки неразумения и искажения обрекли вы через то творение, коего сущность и устремление есть отличимость. Как можете быть верны вы своей сущности, когда множественное хотите свести к одному? Что чините богам, то случается и с вами. Всех вас уравняют, и исказится тем ваша сущность.
Воцаренье равенства допустимо человека ради, но не бога ради, ибо богов суть множества, людей же малость. Боги могучи, и они переносят свою различность, ибо, подобно звездам, пребывают они в одиночестве и ужасающем отдалении друг от друга. Люди же слабы и не переносят свою различность, ибо они пребывают вблизи, подле друг друга, и нуждаются в общности, дабы снести свою особость. Ради спасения вашего я наставляю вас в отвергаемом, и того ради сам я отвергнут. Многому числу богов соответствует многое число людей. Неисчислимые боги ожидают, дабы принять человеческий образ. Неисчислимые боги некогда были людьми. Человек причастен к сущности богов, он происходит от богов и идет к Богу.
Как не стоит помышлять о Плероме, так не стоит почитать множество богов. По меньшей мере стоит почитать первого Бога, сущую Полноту и summum bonum. Через молитву мы ничего не можем туда привнести и ничего не можем оттуда взять, ибо все поглощает в себя сущая Пустота. Светлые боги образуют небесный мир, они многократны, они распространяют себя и множат бесконечно. Их высочайший господин есть Бог-Солнце.
Темные боги образуют земной мир. Они однократны, они бесконечно умаляют себя и сокращают. Их нижайший господин есть Дьявол, дух луны, приспешницы земли, что и менее, и холоднее, и мертвее, чем земля. Нет различия во власти небесных и земных богов. Небесные боги умножают, земные же умаляют. Направления в обе стороны суть безмерны.
SERMO V
Мертвые глумливо орали: поучай нас, дурень, о Церкви и святых общении.
Мир богов проявляется в духовном и плотском. Небесные боги являют себя в духовном, земные же в плотском. Духовное воспринимает и внимает. Оно женственно, и потому мы именуем его mater coelestis, матерь небесная. Плотское порождает и зиждет. Оно мужественно, и потому мы именуем его phallos, отец естества. Плотское мужа более от естества, плотское жены более от духа. Духовное мужа от небес, оно направлено к высшему.
Духовное жены более от естества, оно направлено к низшему. Ложь и дьявольщина суть духовность мужа, что направлена к низшему.
Ложь и дьявольщина суть духовность жены, что направлена к высшему.
Муж и жена, пребывая друг подле друга, обратятся в дьявола, ежели они не разъединят свои духовные пути, ибо сущность Творения есть отличимость.
У мужа плотское направлено к естеству, у жены плотское направлено к духовному. Муж и жена, пребывая друг подле друга, обратятся в дьявола, ежели они не разъединят плотское свое.
Муж тогда познает низшее, жена же высшее.
Человек отличает себя от духовного и от плотского. Он именует духовное Матерью и помещает его между небесами и землей. Он именует плотское Фаллосом и помещает его меж собою и землей, ибо и Матерь, и Фаллос суть сверхчеловеческие демоны и проявления мира богов. Для нас они более сущи, чем боги, поскольку они сродни с нашею сущностью. Когда же вы себя не отличите от плотского и от духовного и не станете взирать на них как на сущности, что над вами и вкруг вас, то и обречены будете им как свойствам Плеромы. Духовное и плотское не суть ваши свойства, не вещи, коими вы обладаете, напротив, они обладают вами и объемлют вас. Они – могучие демоны, в облике коих являют себя, а потому суть вещи, достигающие того, что над вами, вовне, – вещи, существующие сами по себе. Нет никого, кто владеет духовным как таким или плотским как таким, но он пребывает под властью закона духовного или плотского. Посему никто не избегнет тех демонов. Вам должно рассматривать их как демонов, как общее дело и общую же опасность, как общее бремя, что жизнь взвалила на вас. Так и жизнь для вас есть общее дело и общая опасность, равно как боги, а прежде всех грозный Абраксас.
Слаб человек, а потому ему необходимо нужна сообщность.
Когда сообщность не пребывает под знаком Матери, она пребывает под знаком Фаллоса. Где недуг и муки, нет сообщности. Но сообщность для всякого человека есть раздробленность и растворение.
Отличимость ведет к особному бытию. Особное бытие противно сообщности. Однако ради слабости человеческой пред богами и демонами и их неодолимым законом надобна сообщность. Пусть будет настолько сообщности, насколько есть в ней надобность, не человека ради, но из-за богов. Боги принуждают вас к сообщности. Они вас принуждают в той мере, в коей сообщность необходима. А что излишне, то дурно.
Один пусть в сообщности подчиняется другому, дабы тем сохранить сообщность, ибо есть у вас в ней нужда.
В особном же бытии пусть один ставит себя выше другого, дабы каждый пришел к самому себе и избегнул бы рабства,
Пусть в сообщности пребудет воздержанность.
Пусть в особном бытии пребудет расточительность.
Сообщность есть глубь,
особное бытие есть высь.
В сообщности верная мера очищает и сохраняет. В особном бытии верная мера очищает и дополняет. Сообщность дарит нас теплом, особное бытие дарит нас светом.
SERMO VI
Демон плотского подступает к нашей душе подобно змее. Она есть вполовину человечья душа и именуется помыслами хотения.
Демон духовного слетает в нашу душу подобно белой птице. Он тоже вполовину человечья душа и именуется хотением помыслов.
Змея есть естественная душа, вполовину демоническая, она дух и сродни с духами мертвых. Как и те, она скитается повсюду средь земных вещей и добивается, чтоб ее страшились, или же пробуждает в нас вожделения. По природе своей змея женственна и ищет общества мертвых, именно тех, кто прикован к земле и не нашел пути к другому, к особному бытию. К тому ж она блудлива, путается с дьяволом и злыми духами. Подлый тиран и дух-мучитель, она повседневно прельщает человека дурным сообществом. А белая птица есть вполовину небесная человечья душа. Она пребывает у Матери и подчас опускается долу. Птица имеет мужеское начало. Она есть сущий помысел. Она же посланница матери, целомудренная и одинокая. Птица летает высоко над землей и наказывает быть особно. Она приносит вести об отдалившихся, тех, что ушли вперед и стали совершенны. Наше слово возносит она Матери. Матери дано заступаться, дано предостерегать, но ничтожна власть ее сравнительно с богами. Она есть сосуд солнца. Змея сходит вниз и лукавством усмиряет фаллического демона или же подстрекает его. Она выносит в гору наихитрейшие помыслы естества, кои пролазят во все щели и всюду алчно присасываются. Хоть змее и не по нраву, однако ей случается быть нам полезной. Когда она ускользает от наших рук, то указует путь, которого человеку своим разумом не найти.
Мертвые глядели презрительно и говорили: Прекрати свои речи про богов, демонов и души, нам про то по сути давно известно.
SERMO VII
В ночи снова воротились мертвые и говорили с жалким видом: Еще про одно мы забыли, дай нам наставление о человеке.
Человек – ворота, через которые вы из мира внешнего – мира богов, демонов и душ – входите в мир внутренний, в меньший мир. Мал и ничтожен человек, вот уже он остается у вас позади, и вы пребываете снова в бесконечном пространстве, в меньшей или же внутренней бесконечности.
В безмерной отдаленности одна-единственная звезда стоит в зените.
Это и есть тот единственный Бог этого одного человека, это есть его мир, его Плерома, его божественность.
В мире том принадлежит человек Абраксасу, каковой его, человека, мир порождает либо поглощает.
Звезда эта есть Бог и предел человеку.
Она есть единственный Бог, что ему предводительствует,
в нем человек находит успокоение,
к нему ведет долгое странствие души после смерти,
в нем воссияет, подобно свету, все, что влечет обратно за собою человек из большего мира.
К нему одному возносит человек молитву.
Молитва прибавляет света звезде,
она пролагает мост над смертью, она уготавливает жизнь для мира меньшего и умаляет безнадежное хотение мира большего. Когда больший мир охладеет, засияет звезда. Ничто не стоит меж человеком и его единственным Богом, ежели только способен человек отвести глаза от полыхающего образа Абраксаса. Человек здесь, а Бог там.
Слабость и ничтожность здесь, бесконечная творящая сила там. Здесь все – тьма, хлад и ненастье, там все – Солнце.
На том приумолкли мертвые и развеялись подобно дыму над костром пастуха, что в ночи сторожил свое стадо.
ANAGRAMMA:
NAHTRIHECCUNDE
GAHINNEVERAHTUNIN
ZEHGESSURKLACH
ZUNNUS
1916





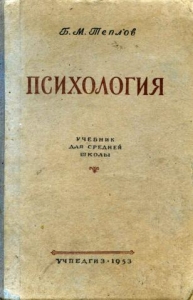


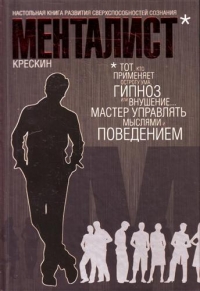
Комментарии к книге «О ПСИХОЛОГИИ ВОСТОЧНЫХ РЕЛИГИЙ И ФИЛОСОФИЙ», Карл Густав Юнг
Всего 0 комментариев