Чарльз Рикфорт Тревога и неврозы
© В.М. Астапов, научное редактирование, перевод, 2008
© ООО «ПЕР СЭ», оригинал-макет, оформление, 2008
* * *
От автора
Молодая женщина настолько боялась выходить из дома, что была практически не в состоянии выйти без сопровождения, однако, когда автомобиль, в котором она ехала в качестве пассажира, попал в аварию, она совершенно не растерялась, оказала первую помощь и вызвала полицию. Мужчина-лаборант, в служебные обязанности которого входит забор анализов крови у животных для научных экспериментов, почувствовал страх и чуть не упал в обморок, когда врач брал анализ крови у него самого. Другой мужчина совершенно спокойно делился с доктором своей историей болезни, но буквально задрожал как осиновый лист, когда врач попросил лечь его на кушетку для осмотра.
Во всех этих трех случаях есть что-то необычное. Почему женщина, которая абсолютно уверенно ведет себя в условиях чрезвычайной ситуации, боится выйти из дома? Почему мужчина, который ежедневно берет анализы крови у животных, не может перенести сам хорошо известную ему процедуру? И почему мужчина, который вполне доверяет своему доктору настолько, что может свободно обсуждать с ним свою болезнь, боится простого врачебного осмотра. В каждом из приведенных примеров сильная отрицательная эмоциональная реакция была спровоцирована ситуацией, которая неадекватна и не соответствует причинам породившим её.
Однако в самих эмоциональных реакциях нет ничего необычного. Если для молодой женщины дом – это её убежище, а улица – поле сражения, то ее страх абсолютно естественен. Любой из нас может представить себе ситуацию, когда он сталкивается неожиданно с чем-то опасным и что испытывает в этот момент.
Совершенно ясно, что в каждом приведенном случае, существует некий фактор, который не соответствует ситуации и заставляет этих людей вести себя неадекватно.
Тревога и страх подобного рода, спровоцированные ситуациями, которые не могут их вызвать, представляются абсурдными и иррациональными, как для самого человека, так и для окружающих и называются невротическими. Задача этой книги состоит в описании подобных состояний, их биологической природы и функционирования, отношения к другим неприятным эмоциям и тем видам неврозов, для которых они являются ведущим симптомом. Одной из целей написания этой книги была необходимость развенчать широко распространенное мнение, что все тревоги и страхи иррациональны, ненормальны и носят невротический характер и одновременно показать, что, способность испытывать тревогу, является биологической функцией, необходимой для выживания. Я начал анализ с описания взаимосвязи тревоги, испытываемой как здоровыми, так и подверженными неврозам, индивидами с такого известного физиологам явления, как вигильность[1], т. е. способность многократно приспосабливаться к неожиданным и необъяснимым явлениям в окружающей обстановке. Затем я перехожу к описанию того факта, что индивиды под влиянием среды приобретают такое свойство личности, как вигильность, необходимое для восприятия внешней и внутренней угрозы целостности личности.
Затем я попытался показать, что неврозы можно понимать как нарушение способности контролировать тревогу и, далее, что различные типы неврозов можно понимать как защитные реакции аналогичные тем, которые используют животные в объективно опасных ситуациях. В конце я даю описательный перечень неврозов и способов их терапии.
Глава 1 Тревога, страх и ожидание
Тревога представляет собой настолько распространенное переживание, что не верится тем, кто утверждает, будто полностью от нее свободен. Однако природа тревоги и ее функция отнюдь не ясны. Является ли она симптомом такого невроза, которым никогда не будет страдать человек, обладающий абсолютным психическим здоровьем, или же выполняет позитивную функцию? Что мы на самом деле имеем в виду, когда говорим, что кто-то встревожен? К какому типу переживания или переживаний мы обращаемся? Если некто говорит, что чув ст вует тревогу в толпе или же тревожится по поводу здоровья жены, а может быть, испытывает тревогу, когда смотрит какой-то конкретный фильм, то о какой эмоции идет речь? Есть ли в действительности что-нибудь общее между этими тремя случаями употребления слова «тревога»?
Тревога и предчувствие
Прежде всего, когда кто-то говорит, что толпа людей – или высота, или пауки, – повергают его в состояние тревоги, я предполагаю (правда, с легкой долей сомнения), что он имеет в виду два момента. Во-первых, в толпе его одолевают страхи и он старается избежать ее, а когда в ней оказывается, то стремится побыстрее из нее выбраться. Во-вторых, он ощущает или подозревает, что опасения неуместны; что есть нечто другое – больше соответствующее его страхам, чем реальная возможность быть раздавленным или подвергнуться нападению. Или наоборот, если «некто» убеждает себя, что его страх оправдан, он защищает себя, поскольку знает, что окружающие его осудят и сочтут его страх преувеличенным или воображаемым. В этом случае тревога является формой страха предчувствия, которое было вызвано неуместным или неадекватным стимулом, а следовательно, обусловлено каким-то психологическим фактором или совокупностью неких непонятных факторов. Также следует предположить, что толпа людей, высота или пауки приобрели личное бессознательное символическое значение, в результате чего пребывание в толпе означает для индивида нечто иное, нежели для тех, кто чувствует себя в ней спокойно.
В принципе, тревога такого рода является, по крайней мере, симптомом, даже если он проявляется очень редко и выглядит столь незначительным, что предположение о необходимости лечения у психиатра каждого, кто имел подобное переживание, выглядит абсурдным. Подобные иррациональные страхи присущи практически всем детям, а взрослые в большинстве своем признают наличие иррациональных неприязни и отвращения. Тем не менее у некоторых людей тревога возникает настолько часто и с такой интенсивностью, что человек практически становится недееспособен – это один из наиболее общих симптомов, на которые жалуются люди, обращающиеся за помощью к психиатру. Ситуаций и объектов, провоцирующих такую тревогу, великое множество, но наиболее часто встречается боязнь открытого или ограниченного пространства, боязнь путешествий, змей, пауков, высоты и грома. В психиатрической терминологии такие страхи называются фобиями. Исследования показывают, что объект или ситуация, вызывающая фобию, становится символом какой-то стороны личности самого пациента и что его тревога на самом деле обусловлена страхом обнаружить ее.
Если бы все без исключения случаи тревоги были такого рода, можно было бы определить ее как иррациональный страх и перейти без дальнейших церемоний к психопатологии тревоги. Но, как я надеюсь показать, проблема тревоги значительно шире.
Тревога и беспокойство
Если некто говорит, что тревожится по поводу здоровья своей жены, логично предположить, что он подразумевает под этим следующее. Во-первых, он беспокоится о здоровье своей жены и желает ей чем-то помочь. Во-вторых, с его точки зрения есть что-то неясное либо в характере, либо в исходе ее болезни. Если мы проанализируем чувство беспокойства, то найдем, что оно похоже на предчувствие страха, но отличается от него тем, что страх относится не к чьим-то личным интересам, а к интересам того, о ком этот человек заботится. Беспокойство также побуждает к действию, хотя в данном случае это не является способом ухода из ситуации, которая вызывает предчувствие, а является способом изменения обстоятельств, вызывающих беспокойство. Тревожное беспокойство также имеет сходство с предчувствием в плане содержания неизвестного или нераскрытого объекта. Однако первое отличается от последнего тем, что не является вторжением иррациональных психологических факторов, а представляет собой неопределенность, возникающую при оценке серьезности реально происшедшего события. Таким образом, тревожное беспокойство и предчувствие роднят три аспекта: страх, неопределенность и желание действовать. Отличаются они друг от друга тем, что тревожное беспокойство направлено на внешний объект и склонно провоцировать не избегание, а изменение ситуации. Данные отличия, однако, заключаются не в самом чувстве, а в условиях, способствующих его возникновению. В формулировке как тревоги, так и беспокойства можно использовать оба термина: тревога становится беспокойством, когда дело касается личных интересов, а беспокойство становится тревогой, когда речь заходит об интересах другого. Основное различие между ними в значительной степени обусловливается достаточно условным разделением интересов на личные интересы и интересы внешнего объекта. Однако, если мы вспомним, как многие мужчины беспокоятся о своей личной машине или приусадебном участке, то поймем, что часто невозможно отличить тревогу за себя от беспокойства за других.
Я намеренно упрощенно трактую тревогу предчувствия как нечто всегда неоправданное, а тревожное беспокойство как всегда оправданное. Разумеется, в действительности дело обстоит иначе. Как обеспокоенный безработицей человек опасается потерять работу, так и человек, обеспокоенный потерей работы, может быть излишне встревожен. Отсюда термин «сверхтревожный», который используется для проведения границы между адекватным ситуации тревожным беспокойством и чувством, возникновение которого обусловлено нераскрытым психологическим фактором. Врачи, имеющие дело с тревожными пациентами, хорошо знакомы с их сверхтревожными родителями и родственниками. Работающие в детских учреждениях и детских клиниках нередко находятся под впечатлением того, насколько часто приходится переключать внимание с детей, чья симптоматика очевидна, на их сверхтревожных родителей. Заботливая мать, обнаружив, что врач обращается с ней как с пациентом, а не с ее ребенком, поначалу возмутится, но вскоре успокоится. Сверхтревожное беспокойство пациентов, страдающих неврозами, в известном смысле обманчиво, поскольку в данном случае представляет собой лжетревогу, которая, выступая в роли беспокойства за других, свидетельствует не о сильной привязанности к своим детям, а указывает на привязанность к себе и своей родительской роли.
Тревога и настороженность
Упомянутые выше две формы тревоги – предчувствие и тревожное беспокойство – несомненно являются формами страха. Но как быть с человеком, утверждающим, что он испытывает чувство тревоги перед просмотром какого-то конкретного фильма? Выражается ли он не точно или же употребляет слово «тревога» в значении, обнаруживающем еще один аспект проблемы? Этот вопрос немаловажен, поскольку уже существуют психологи, не согласные с тем, что тревога имеет что-либо общее со страхом. «Некто», говорящий, что испытывает чувство тревоги перед просмотром конкретного фильма, явно не встревожен походом в кино. Более щепетильный и педантичный человек на его месте употребил бы, скорее, не слово «тревога», а «напряжение» или «нетерпение». Я думаю, это было бы вернее, поскольку, видимо, подразумевается, что «некто» готов затратить какие-то усилия, чтобы посмотреть фильм, и ясно осознает существующую возможность преодолеть препятствия, мешающие его просмотру. Характерная черта, общая для подобного рода тревоги, для предчувствия и беспокойства – не страх, а состояние настороженности или готовности исполнить какое-либо действие, точная природа которого неясна. Человеку придется выяснить, когда и где демонстрируется фильм, и удостовериться, что вечером он будет свободен от других занятий.
Такая тревога является, по большому счету, выражением бдительности и предусмотрительности, – данную точку зрения разделяли Шэнд (Shand) и Макдугал (McDougall), психологи, отвергшие идею о том, что тревога представляет собой форму страха. По их мнению, тревога – не простое первичное чувство, но сложное состояние или настроение, которое формирует второй элемент ряда, включающего надежду, тревогу, уныние и отчаяние. Эти эмоции похожи тем, что указывают на отношение индивида к его желанию достичь чего-либо или овладеть чем-либо. Но там, где дело касается оценки вероятности исполнения желаний, они отличаются друг от друга. Надеющийся человек ожидает исполнения желаний и не рассчитывает на неожиданные серьезные трудности. Он верит, что предпринятые им особые усилия помогут преодолеть возникшие осложнения. Человек, подавленный ожидаемыми трудностями, испытывает уныние, но все еще надеется на то, что есть некий шанс для достижения его целей, в то время как отчаявшийся человек полагает, что стараться бесполезно. С данной точки зрения непосредственная близость надежды, тревоги, уныния и отчаяния зависит от интеллектуальной оценки природы и степени препятствий, вставших между субъектом и его целями, даже если эта оценка не очень точная, поскольку может находиться под влиянием темперамента субъекта. Полный надежд человек, столкнувшись с препятствием, вызвавшим у него тревогу, впадает в уныние или отчаяние, когда трудности кажутся непреодолимыми.
Если Шенд и Макдугал правы, предполагая, что сущность тревоги есть состояние настороженности, вызванное признанием того факта, что для исполнения желания необходимо некое действие, то она, разумеется, не является симптомом невроза. Отдельные исключения лишь подтверждают правило.
Настороженность – не то ощущение, от которого человек, обладающий абсолютным психическим здоровьем, должен стремиться освободиться. Наоборот, тревога выполняет необходимую функцию предупреждения индивида об опасности, что дает возможность осознавать и преодолевать препятствия, которые лежат у него на пути. Без нее человек должен быть либо безрассудным оптимистом, либо беспомощным пессимистом.
Тревога и будущее
Взгляд Шэнда и Макдугала на тревогу придает большое значение аспекту, кажущемуся второстепенным, если рассматривать тревогу с точки зрения патологии с ее неизбежной озабоченностью, мучительностью и иррациональностью. Дело в том, что тревога – чувство, связанное с будущим. Ощущающий тревогу человек испытывает ее не по поводу уже происшедшего и даже не по поводу происходящего, но он тревожится о том, что может произойти. (Несколько очевидных исключений исходят из того факта, что человек может быть встревожен, обнаружив уже случившееся.) Поскольку будущее всегда неопределенно, тревога входит в наше к нему отношение, – несмотря на все попытки свести ее к минимуму путем планирования личной и общественной безопасности или прибегая к помощи науки и религии, которые дают нам иллюзию, что будущее либо предсказуемо, либо, по меньшей мере, соответствует знакомому и постоянному образцу. Невротическая тревога тоже касается будущего. Невротик, испытывающий тревогу в толпе или на высоте, боится не своего настоящего пребывания в переполненном вагоне или на вершине горы, но того, что, по его представлению, может случиться. Он полон страха, думая о том, как бы не осыпался склон или что, лишившись самообладания, он будет вынужден прыгнуть вниз. Во втором случае его пугает возможность быть раздавленным толпой или отдавить ноги своим попутчикам. В каждом случае страдание касается не реальной ситуации, а некоего воображаемого события, которое может произойти в ближайшем будущем. Поскольку люди, страдающие фобиями, обычно не осознают, что это за событие, их тревога является, строго говоря, не страхом высоты, но боязнью того неизвестного, что может произойти, когда они на высоте находятся. Так как вызывающее страх событие часто никогда не происходит, а пребывание на обрыве или путешествия в переполненных поездах не избавят от тревоги, боязнь неизвестного будущего находится в конфронтации с настоящим. Точно так же тревожное беспокойство субъекта связано не с его страданием в данный момент, а с каким-то возможным, но неопределенным несчастьем, которое может произойти с объектом его заботы. Плохие новости освобождают от тревоги так же эффективно, как и хорошие новости, потому что, как я собираюсь объяснить в следующей главе, тревога несовместима с печалью и горем.
Поскольку это чувство направлено в будущее, его когда-либо испытывают только те, кто чувствует, что у них будущее имеется. И наоборот, пребывание в состоянии тревоги уже является показателем того, что человек не расстался с надеждой на будущее. Тот, кто действительно убежден, что потерпит неудачу на экзамене, не тревожится по этому поводу. Некоторые невротики знают, что можно изменить взаимоотношение между тревогой и отчаянием, убедив самих себя, что они находятся в состоянии отчаяния и, таким образом, избежать ощущения тревоги. Например, можно отказаться от экзамена, чтобы избежать тревоги при его сдаче и при ожидании результатов. Люди, страдающие от чувства безнадежности, также не испытывают тревоги. Самое потрясающее из всех пронизанных отчаянием стихотворений написано на английском языке – это стихотворение Джеймса Томпсона (James Tomson) «Город страшной ночи» (Te City of Dreadful Night). Его рефрен звучит так: «Надежды нет – не может быть и страха». Это, предположительно, парафраз афоризма Спинозы: «Страха не может быть без надежды, надежды не может быть без страха». Тревога, таким образом, является признаком жизни, и есть соблазн сказать, что, как и надежде, ей всегда найдется место в человеческом сердце. Вызываемая ею настороженность и ее физические послед ст вия, выражающиеся в повышении мышечного тонуса, ускорении и усилении пульса, обостренном восприятии, ответственна за тот факт, что состояние тревоги включает в себя некий элемент удовольствия и бодрости. Является общепризнанным, что привлекательность некоторых экстремальных видов спорта заключается в острых ощущениях, вызываемых ими. Однако жертвы невротической тревоги и беспокойства лишь изредка допускают мысль о том, что они могут испытывать удовлетворение от своего состояния, даже если это очевидно для их друзей и родственников. Как в том, так и в другом случае существует обширная статистика, подтверждающая вышесказанное. Оба варианта объективно подтверждают, что страх и невротическая тревога приносят удовольствие до тех пор, пока не слишком сильны, и так долго, пока некто чувствует себя хозяином положения. Однако, как только человек теряет контроль над ситуацией, ощущение неминуемой беды уничтожает удовольствие. Либидизация тревоги, т. е. когда тревога заменяет все другие удовольствия, происходит обычно совершенно бессознательно и только у людей, потерявших контакт со всеми другими источниками, приносящими радость.
Сигнальная тревога
Если предположить, что Шенд и Макдугал правы, считая, что основной биологической функцией тревоги является подготовка индивида к действию, тогда тревожное предчувствие и беспокойство представляют собой два конкретных примера ее приведения в действие. Они похожи тем, что пробуждаются не в связи с благоприятной возможностью, а в момент ожидания опасности, и возрастают под воздействием бессознательных психологических факторов. Благодаря последнему не только у многих современных психиатров, но и у широкой публики сформировался взгляд на тревогу как на невротический симптом.
Хотя взгляд на тревогу как иррациональную форму страха своим возникновением в значительной степени обязан влиянию психоанализа, последняя теория тревоги Фрейда, изложенная им в работе «Запрещение, симптом и страх» (Inhibitions, Symptoms and Anxiety), по многим параметрам совпадает с теорией Макдугала. В этой работе Фрейд отказался от своей первоначальной точки зрения, что тревога – это способ разрядки подавленного либидо, что она заменяет его выделением двух разных видов тревоги, ни одна из которых не является либидозной. Первую он назвал первичной тревогой. Под ней подразумевались испуг или паника, возникающие, когда индивид потрясен действительно катастрофической ситуацией. Второй вид тревоги, возникающий как реакция на ожидание предстоящей опасности, назван Фрейдом «сигнальной тревогой». Несмотря на сложности в рассмотрении фрейдовской первичной тревоги как формы тревоги вообще (о чем будет рассказано в следующей главе), понятие сигнальной тревоги само по себе совершенно очевидно. Для того чтобы избежать первичной тревоги или испуга, индивид развивает способность воспринимать малейшие признаки надвигающейся опасности и предпринимает защитные действия до того, как вступит в реальную конфронтацию с этой опасностью. Поскольку Фрейд касается лишь области психопатологии, то надвигающиеся опасности, им рассматриваемые, такие как, например, опасность заново переживать побуждения, эмоции и воспоминания, которые до этого были подавлены, либо опасность отделения от объектов или частей самого себя, без которых выживание представляется невозможным (в терминологии Фрейда это тревога отделения и тревога кастрации), носят психологический характер.
Мысль о том, что сигнальная тревога возникает как реакция на угрожающее появление в сознании частей психического «устройства» индивида, подразумевает, конечно, антагонизм между собственной личностью человека и ее страстями. Похоже на правду, что сигнальная тревога наиболее присуща людям, глубоко отчужденным от своей инстинктивной и эмоциональной природы, но обладающим развитой устойчивой индивидуальностью. У таких людей связь между сознательной частью своей личности и инстинктом ясно выражена метафорой, которая, как я узнал, присуща сновидениям многих пациентов: «прибрежный город получил известие, что надвигается приливная волна. Мэр города приказывает, чтобы били в набат и жители приняли все необходимые меры предосторожности». Затем сновидец просыпается. Благодаря напоминанию сигнальной тревоги, которую олицетворяет набатный звон, меры предосторожности принимаются уже до того, как «приливная волна» инстинкта или эмоций будет достаточно близко, чтобы начать паниковать по поводу ее последствий или чтобы пациент, либо его аналитик точно узнали, какую эмоцию она символизирует. Такие люди постоянно проявляют бдительность или настороженность, направленную внутрь и являющуюся зеркальным отражением тревоги, направленной вовне, о которой говорил Макдугал.
Тревога и вигильность
Бдительность по Макдугалу и сигнальная тревога по Фрейду являются зеркальными психологическими концепциями, но они имеют очевидную связь с биологическими и неврологическими концепциями вигильности. Чтобы избежать опасности или воспользоваться удобным случаем в целях самосохранения, организм вынужден быть настороже, предвидя возможность перемен в окружающей среде. Его органы чувств и нервная система призваны выполнять функцию «бдительного часового». Эта функция описана Павловым в следующем отрывке:
Как к еще одному примеру рефлекса, которым очень сильно пренебрегают, относится рефлекс, который мог бы называться познавательным рефлексом. Я называю его рефлексом «что это?». Этот рефлекс вызывает непосредственную реакцию у человека и животных на самые незначительные изменения в окружающем их мире, после чего они немедленно ориентируют свои органы восприятия в соответствии с воспринимаемыми особенностями вносящего перемену фактора с целью его полного обследования. Если животное не будет обладать подобным рефлексом, его жизнь в любой момент повиснет на волоске. В человеке этот рефлекс достаточно сильно развит, будучи представлен в своей высшей форме любознательностью – матерью научного метода.
Приведенный отрывок не является определением тревоги, но отношение к ней Павлова отражено в утверждении, что при отсутствии исследовательского рефлекса жизнь может в любой момент повиснуть на волоске, а именно так каждый тревожный человек может охарактеризовать свои ощущения. Павлов фактически описал то, что называется покоящейся фазой вигильности или простой бдительностью по отношению к возможным переменам в окружающей обстановке. Если, тем не менее, происшедшая перемена несет в себе нечто странное и неизвестное, то вигильность переходит в следующую, более острую фазу, которая, на мой взгляд, может называться тревогой. Лиддел (Liddell), из чьей статьи «Роль вигильности в развитии неврозов у животных» (Te Role of Vigilance in the Development of Animal Neurosis) взят приведенный выше отрывок, также цитирует описание Витехорном «острого эмоционального переживания»:
Биологическое состояние, субъективно характеризуемое как чувство напряженного возбуждения со значительной тенденцией к действию, сопровождаемое некоторой неопределенностью в целях действия и объективно характеризуемое повышенной моторностью или неровно окрашенной активностью, с симптомами избытка напряжения, проявляющегося в лицевой и дыхательной мускулатуре, в треморе голоса и скелетно-мышечной деятельности, на фоне внезапных изменений в деятельности внутренних органов. Это переживание, как правило, бывает неприятным.
Существует нечто большее, нежели количественная разница между этим типом вигильности и рефлексом «что это?», описанным Павловым. Витехорн (Whitehorn) описывает состояния души и тела, которые развиваются после того, как возможная опасность уже осознана, но до того, как будут предприняты какие-либо действия. Индивид, следовательно, готов к действию, но не имеет возможности действовать и испытывает чувство без какой-либо возможности его выражения. Тот, кто сдавал экзамен, вероятно, знает, что он чувствовал до того, как прибыл в экзаменационное помещение, и до того, как прочитал вопросы – и что он чувствует после того, как результаты уже опубликовали и его имя найдено в списке. Мне думается, это и есть сущность тревоги: опасность, проблема, контролируемая ситуация, но ее точная природа неизвестна, и никакого эффективного действия все еще нельзя предпринять. Тревога исчезает в тот момент, когда ситуация полностью проясняется; человек перестает быть «часовым» и становится действующим лицом, а готовность к действию заменяется самим действием. Это, правда, происходит независимо от того, какова природа действия: идет ли «некто» вперед, использовав неожиданно открывшуюся возможность, или справляется с проблемой, или постыдно обращается в бегство. В каждом из этих случаев тревога проходит. Ее место занимают либо какая-то другая эмоция, либо действие.
Тревога отделения
Еще одно утверждение Лиддела (Liddel) – «вигильность минус социальная коммуникация равняется тревоге». Хотя, на первый взгляд, данное утверждение неверно, поскольку очевидно, что можно быть вигильным и, не испытывая тревоги, находиться при этом в одиночестве. И наоборот, можно быть тревожным в процессе общения с другими людьми, особенно если они тоже тревожны. Лиддел тем не менее обращает внимание на два важных факта. Первый заключается в том, что тревога имеет тенденцию ослабевать в присутствии других людей – при условии, что это будут знакомые люди и им можно доверять. Второй факт свидетельствует, что одновременные стресс и изоляция в раннем детстве постоянно влияют на дальнейшую способность иметь нормальные вигильные реакции. Последнее играет большую роль в предрасположенности к невротической тревоге в последующей жизни.
Лиддел показал, что во время отсутствия матерей ягнята в возрасте нескольких недель реагировали на стресс дрожью и становились пассивными и вялыми, поразительно контрастируя с теми, которые оставались вместе со своими матерями. Они реагировали на стресс активно и энергично. Исследователь также показал, что отделенные от матерей ягнята в последующей жизни продолжали реагировать на стресс немощно и «невротически», в отличие от их сверстников, чьи реакции были энергичными и целенаправленными.
Наблюдения такого рода, проведенные на животных и на младенцах, легли в основу идеи, что любая тревога – или, по крайней мере, вся невротическая тревога – является, в конечном счете, скорее тревогой отделения, т. е. реакцией на отделение от защищающего родительского объекта, чем реакцией на неопределенную опасность. Существует, однако, возражение по этому поводу. Прежде всего, абсолютно нелогично в большей степени принимать во внимание отсутствие знакомой защищающей фигуры, нежели наличие неизвестной угрожающей ситуации. Это подобно тому, как если бы видеть причину головной боли в отсутствии аспирина или утверждать, что обморожение – следствие неподходящей одежды, а не сильного мороза. Во-вторых, и грудные младенцы, и детеныши животных не обязательно становились тревожными, если их оставляли одних. Они оставались спокойными и довольными, при условии отсутствия иных причин для беспокойства. В-третьих, жестоко и противоестественно подвергать младенцев и детенышей животных двойному испытанию – стрессу и изоляции от матери. Тот факт, что изолированные младенцы реагируют на стресс неумело, в действительности указывает на то, что их вигильные реакции функционируют в соответствии с вигильными реакциями родителей. Дрожь и крики страдания детенышей являются, по-видимому, «знаковыми раздражителями», предназначенными вызывать и придавать силу вигильным реакциям их матерей.
Эти эксперименты, однако, наводят на мысль, что стресс от изоляции, испытанный в возрасте, когда естественно находиться под материнской защитой, тормозит нормальное созревание способности к вигильности. Следовательно, необходимо строго различать два разных типа невротической тревоги. При первом, нормальные механизмы вигильности активизируются благодаря аномальным стимулам, – как в случаях сигнальной тревоги, вызванной угрожающим появлением подавленных импульсов, и фобической тревоги, вызванной внешними стимулами. При втором виде тревоги механизмы вигильности дают осечку, приводя к дрожи и ознобу вместо усиления деятельной активности и повышенной бдительности.
Здесь также следует упомянуть, что невротики, страдающие фобиями и истерией, не верят, что они способны и должны отвечать за собственную жизнь. Поэтому, вместо того чтобы искать выход из создавшейся ситуации самостоятельно, они ведут себя так, будто все еще нуждаются в родительской защите, и в момент тревоги реагируют тем способом, который вызывает бессознательные защитные реакции у окружающих. Иными словами, невротическая зависимость проявляется в неумении полагаться на свою собственную способность к вигильности. Как следствие этого возникает необходимость вызывать вигильность и тревогу у других.
Таким образом, тревога есть ожидание чего-то, что еще неизвестно. Поскольку неизвестное для людей включает также отчужденные бессознательные части самих себя, это «все еще неизвестное» может быть или внутри, или вне субъекта. То же самое чувство может быть вызвано либо субъективными, либо объективными явлениями. Поскольку знание несовместимо с тревогой (не путать с отчаянием и безысходностью), побуждение знать, любознательность – «мать научного метода», может рассматриваться в качестве тернистого пути к устранению тревоги. Лиддел предлагает считать, что «тревога сопровождает интеллектуальную активность как ее тень». Этот афоризм проистекает во многом из факта, что знание имеет неудобную тенденцию неожиданно обнаруживать все новые и новые сферы неведения, а следовательно, порождает тревогу, которую было призвано ослабить.
Тот факт, что тревога провоцируется «все еще неизвестным», означает, что каждый очередной опыт будет ею сопровождаться. Первый день в школе или на новой работе, первая ночь или праздник, проведенные вне семьи, первый сексуальный контакт, дающий жизнь первому ребенку, первое столкновение с серьезной болезнью или смертью – все это столкновения с новыми обстоятельствами, ощущениями и эмоциями, к встрече с которыми предыдущая жизнь не подготовила. Следовательно, все перечисленное будет вызывать тревогу, не считаясь с тем,
Глава 2 Тревога, испуг и шок
В предыдущей главе я доказал, что тревога – это такая форма вигильности, которая возникает после того, как человек столкнулся с опасностью или проблемой, но до того, как он начинает осознавать точную природу этого явления и поэтому также до того, как человек узнает находится он все еще в пределах чего-то, ему знакомого, или же нет.
Как сказал сэр Чарльз Шеррингтон (Ch. Sherrington), «существует связь индивида с будущим. Нервные связи головного мозга, следовательно, заняты сигналами, поступающими из окружающего мира, на которые индивид должен реагировать». Я прихожу к мысли, что тревога проявляется, когда оболочка ближайшего будущего содержит в себе нечто, которое неосознанно и которое не может, следовательно, быть немедленно оценено.
Я также доказал, что определенные формы тревоги, особенно невротическая тревожность и сверхтревожное беспокойство, являются результатом направленной вовнутрь вигильности или сигнальной тревоги, наталкивающихся на признаки возбуждения любопытства подавленной и, следовательно, бессознательной психической деятельности – движения, которые индивид трактует, как пришедшие извне, и на которые он реагирует, как если бы они были потенциально опасными.
Это определение тревоги как формы ожидания дает возможность разграничивать тревогу и ряд других эмоций, с которыми она имеет тенденцию к контаминации, что особенно часто встречается у психиатров и психоаналитиков. Я говорю о таких эмоциях, как испуг, паника, шок и травма, которые все могут быть рассмотрены как эффекты, полученные вследствие неудачной попытки тревоги осуществить свою сигнальную функцию. В этой главе я покажу, что испуг и паника появляются, когда тревога проявляется слишком поздно для индивида, чтобы избежать противостояния с некой опасностью, и что шок и травма возникают, когда что-то случается совершенно неожиданно.
Я уже упоминал, что Фрейд проводит разграничение между сигнальной тревогой и первичной тревогой, которую он также назвал автоматической тревогой, и что он рассматривал сигнальную тревогу как механизм для избегания первичной тревоги. Эта первичная тревога возникает, когда человек уже имеет значительный опыт столкновения с опасностью, которого сигнальная тревога не должна была допустить.
В проведении этого разграничения тем способом, который Фрейд употребил, он использовал, с моей точки зрения, термин «тревога» для охвата трех разных состояний – «тревожного беспокойства», «испуга» и «шока»; этот способ невозможен, по крайней мере, в английском. Если кто-нибудь ищет в словаре Роджета (Roget Tesaurus) синонимы для слова «тревога», он найдет только одну ссылку на его употребление для описания эмоции, связанной с непосредственным опытом (т. е. опытом в данный момент). Это где она (тревога) классифицируется как «Личная пассивная болезнь – страдание» и входит в список как синоним «осторожности» и «беспокойства». Другие ссылки все относятся к будущему, в котором слово «тревога» входит в список как «Направленность мыслей к будущему – ожидание», «Личное, касающееся будущего страдание – страх». Одна ссылка, в которой акцент стоит на настоящем, тем не менее, не дает возможности для использования его с целью описания феномена того вида, который имел в виду Фрейд, когда формировал концепцию первичной тревоги. Боль осторожности и заботливости является переживанием одного человека, получаемым через страдания другого, в то время как боль непроизвольной тревоги касается личного испытания собственной дезинтеграции.
Склонность Фрейда и других психоаналитиков рассматривать испуг и панику как формы тревоги частично исходит из ключевого понятия теории Фрейда, которым является «Angst». Это немецкое слово обычно переводится на английский язык как «тревога», но оно имеет, по-видимому, значение, которое ближе к английскому слову «мука». В английском переводе Фрейда часто используется фраза «тревога ожидания», которая, на мой взгляд, является тавтологией. Использование слова «тревога» по отношению к тем людям, которых принято называть «нервными» или «высоко-напряженными», кажется, между прочим, безусловно современного происхождения и, возможно, отражает тенденцию предпочитать психологическое физиологическим толкованиям темперамента. Есть еще одна и более реальная причина для тенденции представлять тревогу и испуг как переживание одного порядка. В результате не только полная предчувствий тревога является выражением того, что что-то пугающее может случиться, но и опасение, что самое плохое может произойти с человеком, также является частью испуга. Испуг и паника являются, следовательно, формами тревоги в той мере, что они включают в себя ожидание «все-еще неизвестного» в форме боязни уничтожения.
Тревога и испуг
Если биологическая функция тревоги должна позволять индивиду предчувствовать опасность, чувство испуга появится только в том случае, если тревога возникла слишком поздно для того, чтобы индивид предпринял соответствующее действие для избежания опасности. Хотя существует тенденция, когда, понимают тревогу, испуг и ужас как просто возрастание интенсивности страха, но рассмотрение конкретного примера показывает, что существуют, фактически, качественные различия между этими тремя эмоциями. Если «некто» представит себя впервые на прогулке в незнакомой местности и увидит рядом с собой животное, похожее на быка и поймет, что это действительно бык, и когда он осознает, что бык приближается к нему и пытается напасть, этот «некто» сможет представить себя пережившим три и даже, возможно, четыре отдельных эмоции. Во-первых, этот «некто» будет спокоен и уверен в том, что он поддерживает состояние вигильности, которое дает ему возможность замечать, что он проник на территорию, где находится животное, которое может быть быком. Потом этот «некто» замечает, что это действительно бык, и становится тревожным, будучи неуверенным, замечен ли он быком и не зная, будет ли он атакован или же этот «некто» пока еще имеет время, чтобы пуститься наутек. Потом бык приближается; «некто» прекрасно знает, в чем заключается опасность и становится испуганным. В результате бык пытается атаковать этого «некто», и его охватывает ужас. К тому же, в какой-то момент может произойти еще одна качественная перемена. Тревога или страх перестанут поддаваться управлению и не будут больше действовать как стимул к разумному действию, позволяющему избежать опасности, а будут заменены паникой, в смысле, поспешным бегством, или, возможно, параличом. Момент, в который вигильность может превратиться в тревогу, тревога в страх и страх в панику или ужас, будет, конечно, зависеть от возраста, темперамента и предшествующего опыта человека, подвергнувшегося опасности. Городской ребенок может оставаться в состоянии неведения опасности до тех пор, пока бык действительно не начнет его атаковать, и перейти быстро от общей вигильности к ужасу. Невротик может предположить, что весь крупный рогатый скот – это быки, и стать тревожным в тот миг, когда он заметит животное, в то время как фермер может верить в свою способность контролировать ситуацию и стать тревожным в самый последний момент, но есть вероятность, что в какой-то момент в этой гипотетической ситуации каждый может перестать испытывать тревогу и вместо этого обнаружит себя в ужасающем настоящем.
Факт, что этот переход от вигильности и тревоги к ужасу и панике зависит от знания, опыта и темперамента, является, конечно, общепризнанным и учитывается при отборе и подготовке кадров для опасных видов деятельности. Предпочтение ездить в машине, которую ведет опытный водитель, основывается на ожидании, что вигильность водителя будет только изредка превращаться в тревогу, а его тревога еще более редко будет превращаться в панику. Тем не менее, в меньшей степени признано, что паника появляется скорее и более часто у любящих риск людей, которые отказываются допускать, что они когда-либо испытывают тревогу и которые, следовательно, менее вигильны и более склонны подвергаться неожиданностям, не только в смысле опасности, но также и в их собственных эмоциональных реакций на них. В двух последних войнах было замечено, что солдаты, которые хвастались, что они никогда не будут паниковать, в действительности были более склонны терять самообладание, чем те, кто учитывал, что война может страшить, и осознавали свою восприимчивость к страху.
Тревога и шок
В гипотетическом примере, приведенном выше, я рассмотрел ситуацию возрастания опасности и тревоги, в которой опасность осознается до того, как она станет совсем близкой. Я предположил, что кульминация тревоги и страха – это ужас и паника, под которыми я имел в виду прекращение сознательной деятельности и ее замещение всецело рефлекторной реакцией бегства. В таких случаях тревога и вигильность терпят неудачу в исполнении своей функции обеспечения индивида возможностью избежать прямого столкновения с опасностью. Существует, однако, другой вариант переживания, в котором вигильность не срабатывает, и не потому, что она отсутствовала, но потому, что что-то неожиданное и опасное происходит без каких-либо предупреждающих сигналов.
Этот вариант несработанности вигильности ведет к переживанию шока. В психиатрической литературе шок всегда рассматривается как неожиданное неприятное испытание происшедшим, которое можно назвать травмой. Но до рассмотрения травматических переживаний, возможно, стоит упомянуть факт, что неожиданные события также могут быть приятными или нейтральными, и они имеют вводящее в замешательство или шокирующее качество, что делает их на мгновение неприятными. Типичная непосредственная реакция на совершенно неожиданные хорошие новости – это сначала недоверчивость, а затем суетливость, в которой субъект тревожно подтверждает, что получатель неожиданного наследства – действительно он, или что неожиданный визитер – действительно сын, о котором субъект думал, что он за границей. Субъект нуждается во времени, чтобы привыкнуть к хорошим новостям; он не был подготовлен к событию либо тревогой, либо вигильностью, и он должен переориентироваться и привыкнуть к мысли, что он будет жить в другом будущем, а не в таком, какого он ожидал.
Еще один пример совершенно неожиданного переживания – это когда мы испуганны или взволнованны благодаря неожиданному обнаружению кого-то, стоящего позади нас, тогда как мы были уверены, что находимся одни. Это смущает, даже если человек, неожиданно дотронувшийся до нас, знакомый, и мы обычно реагируем на это тем, что на мгновение становимся напряженными и говорим: «Вы очень меня напугали»; затем мы снова расслабляемся. Хотя это такое переживание, которое мы все испытывали; у меня впечатление, что оно более легко возникает у людей, когда они пребывают в мечтах или глубокой задумчивости, чем у людей, которые сконцентрированы на какой-то текущей деятельности. В предшествующем состоянии субъект перестает быть вигильным в отношении внешнего мира, который временно перестает быть реальным.
Эти примеры испуга неожиданными приятными или неприятными событиями представляют некоторый интерес в том плане, что они демонстрируют, в какой степени наша способность действовать спокойно и сохранять хладнокровие зависит от того, есть ли некоторое соответствие между тем, что с нашей точки зрения может случиться и тем, что действительно происходит. Абсолютно неожиданное неприятное переживание являет собой большую практическую значимость, поскольку оно может приводить к реакциям, которые могут на время выводить человека из строя.
Этот тип переживаний известен в специальной литературе как «травматический шок». Психиатры используют понятие «травмы», чтобы описывать психологические случаи, а именно те, которые происходят неожиданно и без желания индивида, которые разрушают целостность индивида и чувство единства бытия, и восстановление после которых происходит благодаря процессу постепенной ассимиляции опыта.
Непосредственная реакция на травматический опыт – это смесь смятения, шока и испуга; смятение и шок обусловлены неожиданностью травматического события и его напряженностью, а испуг обусловлен тем фактором, что травматический жизненный опыт должен быть пугающим.
Часто, однако, бывает так, что испуг полностью отсутствует, и большинство журналистов, писавших о бедствиях, были поражены отсутствием какого-либо переживания у оставшихся в живых.
Александр Н.Худ (Alexander N.Hood), который записал на пленку «Личные впечатления от великого землетрясения» (Personal Experiences in the Great Earthquake), которое было в Мессине в 1909 году, отмечал, что «непосредственным и почти всеобщим эффектом, который землетрясение произвело на тех, кто избежал смерти в Мессине, было оцепенение, почти что психический паралич. Горестный плач был очень редко слышен, за исключением случаев, когда это было обусловлено физическим страданием. Мужчины рассказывали, как они потеряли жен, матерей, братьев и сестер, детей и все их имущество, без видимого огорчения. Они рассказывали свои истории о «горе», как будто бы они сами были безучастными зрителями чужой утраты»[2].
Некоторые, но не все из тех, кто остался в живых, совершенно не ожидали несчастья, подобного землетрясению, что обеспечило им состояние, известное психиатрам как «травматический невроз». У таких людей первоначальное состояние шока и оцепенения были продолжены симптомами разных видов: неспособностью сосредоточиться; перепадами настроения (от возбужденности и беспокойства до плача без видимых причин); фантазиями, в которых травматическая ситуация повторяется.
Это повторение пережитого опыта состоит частично из мысленного проигрывания этого события вновь и вновь, а также повторения тех движений и действий, которые человек либо использовал, либо мог с пользой выполнить во время бедствия.
Хотя эти более поздние следствия травмы являются, на первый взгляд, симптомами травматического невроза, но более вероятно, что это проявление процесса исцеления. Благодаря повторению травмы человек пытается представить событие так, чтобы он мог предвосхитить ее появление, т. е. отреагировать на нее тревогой, а затем приспособиться или «пройти через нее» тем способом, каким он проходил «через какую-нибудь другую причиняющую страдание ситуацию». За период воображаемого повторного столкновения он испытывает тревогу, которая должна была бы предшествовать травматическому событию, если бы он знал, что придется его пережить.
Травматические неврозы имеют сходство с физической травмой в том, что они имеют тенденцию проходить со временем и благодаря покою, при условии, если пациент психически здоров и желает выздороветь. Последнее является важным условием, поскольку в военное время выздоровление может означать возврат к службе, а в мирное – возвращение к трудовой деятельности. В некоторых случаях определенное число травматических неврозов превращается в компенсаторные неврозы, при которых пациент жертвует своим психическим здоровьем и чувством собственного достоинства ради материального обеспечения, и обычно невозможно правильно определить, до какой степени пациент осознает свой мотив остаться больным.
Удивительно мало, как представляется, известно о факторах, которые определяют, склонен ли человек к развитию травматического невроза, если он сталкивается с совершенно неожиданной опасностью.
Изучение Кардинером (A.Kardiner) травматического невроза наводит, однако, на мысль, что невротики с высококонтролируемой и ригидной индивидуальностью могут быть более восприимчивы, чем те, кто обычно тревожен. Вероятно, те, кто привык чувствовать себя не в безопасности, менее подвержены травматизации, чем те, кто склонен предполагать, что они всегда могут контролировать себя и окружающую среду. Точно так же здание с гибкой конструкцией противостоит смерчам и землетрясениям лучше, чем те, которые жестко сконструированы. Травматические неврозы и травматические фантазии представляют большой теоретический интерес в том плане, что они не подходят под психоаналитическую и символическую интерпретацию, поскольку симптомы и образы травматического невроза являются воспроизведением действительно того события, которое стало причиной невроза. Как результат, травматический невроз представляет собой форму психического расстройства, для которой разъяснительная психотерапия не показана, и Фрейд в своей последней книге «Основы психоанализа» (An Outline of PsychoAnalysis), отмечал с очевидным сожалением, что его «связи с решающими факторами, исходящими из детства, до настоящего времени ускользают от научного исследования». Тем не менее, психотерапевты не так уж и редко сталкиваются с пациентами, которые производят впечатление перенесших травматические переживания в детстве или в юности, и склонность к повторению этих состояний у таких пациентов проявляется благодаря изменению в поведении пациента. Вместо того, чтобы вспоминать и рассказывать о прошлом, он еще раз мысленно проигрывает его. Он заменяет прошедшее время настоящим, принимает позы и использует жесты, которые он использовал в реальной травматической ситуации.
Травматический невроз также отличается от других форм невроза тем, что он объясним в терминах единичного и легко устанавливаемого события, случившегося во взрослой жизни, тогда как другие неврозы берут начало в детстве, и только опытным путем могут быть отнесены к какому-то единичному травматическому случаю.
Реакция детей на совершенно неожиданное, причиняющее страдание событие отличается от реакции на него взрослых, по крайней мере, в двух отношениях: во-первых, она появляется в тот период, в котором личность находится в процессе развития, и поэтому она подвержена искажающим воздействиям и, во-вторых, беспомощность и эмоциональная зависимость детей означает, что они более склонны к травматизации психогенными факторами в сфере их личных привязанностей, как, например, смерть или неожиданный отъезд родителей больше, чем к таким травмирующим событиям, как землетрясения или железнодорожные аварии. В результате, травма в детстве (или, как она называется в специальной литературе, инфантильная травма) радикально отличается от травмы в зрелом возрасте и поднимает проблемы, связанные с причиной невроза, которые заслуживают рассмотрения в отдельном параграфе.
Инфантильная травма и причина невроза
Концепция, что невроз является результатом инфантильного травматического опыта, заключает в себе предположение, что детство является периодом наибольшей чувствительности к различным возмущающим влияниям. Это мешает детям разрешать индивидуальные трудности по причине их беспомощности, а неопытность и незрелость предрасполагает к тому, что те опасности, с которыми дети могут столкнуться, они не могут ни предвидеть, ни избежать, ни осознать. Эта концепция также подразумевает, что существует определенное число общих, возможно, даже универсальных детских психогений, которые могут быть представлены как факторы, вызывающие травматизацию. Это последнее предположение необходимо, поскольку необычайно распространено объяснение невроза как результата переживаний, с какими чрезвычайно редко сталкиваются дети. Травматическая теория невроза заключает в себе, следовательно, мысль, что он распространен, возможно, даже обычен у детей, растущих в условиях отрицательных социально-психологических воздействий.
Большая привлекательность травматической теории невроза как для Фрейда, так и для большинства психоаналитиков, заключается в том, что данная теория дает возможность психоанализу войти в научную справочную систему без каких-либо изменений. Фрейд верил в то, что он назвал принципом психического детерминизма, согласно которому, психические события имеют причины точно такого же значения, как и физические события, и травматическая теория невроза давала ему возможность приложить концепцию причинности непосредственно к невротическим феноменам. Травматическое переживание могло быть представлено как причина невроза, а симптомы могли рассматриваться как его неизбежный эффект.
Однако, эта точка зрения на невроз сталкивается со значительными трудностями, если ее внимательно рассмотреть. Во-первых, исключается понятие выбора. Поскольку она допускает, что невроз – это результат чего-то, что случилось с пациентом, когда он был ребенком, и что он не был связан с обстоятельствами и факторами, которые травмировали его. Это возражение данной теории очень долго не принималось во внимание, так как психоанализ ограничивался только разъяснением симптомов. Однако в дальнейшем психоанализ расширил свою сферу изучения, включая не только причинность неврозов, но и развитие личности в целом. Но объясняя психологические перспективы развития личности, психоанализ допускал, что все акты выбора и принятия решения являются иллюзией, и что люди никоим образом не творят мир, в котором они живут. Это исключение представления, что люди могут быть ответственны за свой выбор, решения и поступки, не только безнравственно, поскольку оно поддерживает идею, что человек не является ответственным ни за одно свое действие, но также логически непригодно, поскольку оно означает, что сознание является эпифеноменом, не имеющим своей функции. Тем не менее, следует отметить, что психоаналитическая теория базируется на предположении, что когда бессознательные процессы становятся сознательными, это дает возможность индивиду освободиться от принудительного повторения детских образов поведения.
Почва для скептицизма по поводу валидности объяснения поведения индивида исключительно с точки зрения опыта, пассивно приобретенного в прошлом, была постепенно подготовлена в США развитием теорий психологической интеграции, в которых предполагалось, что все члены группы, такой, как семья, включая детей, активно влияют друг на друга, и что нарушение душевного равновесия или невротическое поведение любого члена семьи может быть понятно также с точки зрения динамики группы в целом.
Во-вторых, травматическая теория невроза поднимает проблему принятия решения, каковы на деле травматические переживания детства, и чрезвычайно трудно было предположить, что станет возможным написать историю психоанализа с точки зрения различных типов шокирующего и пугающего жизненного опыта, которому была отведена роль главного травмирующего фактора. Список возможных факторов включал сексуальный соблазн взрослых, от которого Фрейд отказался, когда он осознал, что его пациенты рассказывали ему свои фантазии, а не воспоминания; так называемую «травму рождения», предложенную на обсуждение Отто Ранком (Otto Rank) и принятую временно с оговорками Фрейдом, через которую пытались объяснить человеческую склонность к тревоге путем приписывания ее психологическому потрясению, которое переживается всеми в процессе жизненного опыта; открытие анатомических различий между полами, которое, как было заключено, лежит в основе страха кастрации у мальчиков и в основе убеждения девочек, что они уже были кастрированы; отделение от матери в младенчестве, ведущее к тревоге, берущей начало от осознания младенцем своей собственной беспомощности и изолированности; страх быть сокрушенным силой своих собственных импульсов. Хотя такие варианты травматической теории невроза, как сексуальный соблазн и травма рождения, уже практически не рассматриваются, другие остались жизнеспособными концепциями. Но я сомневаюсь, подтвердят ли многие современные аналитики, что любая из оставшихся концепций является либо причиной невроза в целом, либо единственной причиной какого-то конкретного невроза. Возможным исключением является идея, что отделение от матери в младенчестве и есть причина невроза, но даже Боулби (Bowlby), Фейрбейрн (Fairbairn) и Винникот (Winnicott), три английских аналитика, которые больше всех придавали значение тревоге отделения и потере матери как причине невроза, не настаивали, что невроз является результатом единственного неожиданного отделения от матери. Хотя Винникот в особенности часто употребляет слово «травма», все трое в большей степени занимались объяснением того, что в действительности происходит между младенцем и его матерью, и каким образом отсутствие и недостаточность материнской заботы влияют на дальнейшее эмоциональное развитие ребенка, чем доказательством факта, что отделение от матери является травматическим испытанием в строгом смысле слова.
Наивные травматические теории невроза потерпели фиаско потому что они игнорировали роль, играемую детьми во влиянии на свое окружение и избрании своего собственного жизненного опыта – так называемой «жертвы» сексуального насилия. Эти возражения не относятся к идее, что несоответствие между нормой психического развития ребенка и нормой изменения и сложности его окружающей среды может способствовать восприимчивости к неврозу. Эта концепция, подспудно повлиявшая на многие работы Боулби и Винникота, сохраняет понятие инфантильной травмы благодаря расширению его таким образом, что оно включает не только те переживания, которые разрушают целостность личности ребенка и вызывают травматический невроз в узком смысле слова, но также те, которые вынуждают его использовать защитные меры, чтобы сохранить свою целостность. Первым шагом к защите является развитие сигнальной тревоги, которая по принципу «обжегшись на молоке, будешь дуть и на воду» дает возможность ребенку избежать и вторичного переживания травматической ситуации, и воспоминания о ней, – или, если ситуация такова, что ее нельзя избежать, использовать защитные приемы, которые позволят ему действовать так, как если бы он забыл обо всем том в своем окружении, что может нести опасность.
Эта расширенная травматическая теория невроза делает шок, не травму и не страх, главным двигателем невроза, поскольку она допускает, что качественное своеобразие переживаний, которые вызывают оборонительные реакции, заключается в том, что эти испытания неожиданны и непостижимы. Хотя Винникот использует понятие шока, он часто употребляет фразу «удар окружающей среды», говоря о переживаниях, которые ребенок или младенец не может постигнуть, и которые ведут к тому, что Винникот называет «разрывом нити своей целостности». Исключительно умозрительной идеей представляется то, что младенцы тревожны или испытывают страх во время родов, но несомненным физиологическим фактором является то, что ничего похожего они до этого не испытывали, и что все младенцы испытывают в большей или меньшей степени физиологический шок.
Точно так же, отнюдь не ясно, почему открытие анатомических различий между полами должно само по себе пробуждать страх или тревогу, но это, безусловно, открытие, которое добавляет новое измерение в представлениях ребенка о мире. Решение проблемы половой просвещенности является, по существу, одной из гарантий того, что ребенок не будет ставиться перед лицом чего-то большего, а на вопросы детей должны отвечать просто, и что ответы не должны затрагивать большее количество деталей, чем требует данный вопрос. Таким образом, ребенок может сам устанавливать меру и время открытия новых жизненных фактов и тем самым избегать шока, будучи озадаченным чем-то, что он еще не готов понять.
Депривация, или длительное отделение от родителей, или утрата их в связи со смертью, как я предполагаю, только в том случае является травматическим событием, если ребенок либо настолько мал, что в сознании ребенка еще не отпечатались их образы, либо он не ожидал, что такое событие может случиться, и не имеет возможности справиться с кризисной ситуацией. Хотя этого трудно избежать, но можно попытаться смягчить последствия, поэтому прежде чем принимать какие-то важные решения, необходимо подумать, что именно будет наилучшим образом отвечать интересам юного существа.
Точка зрения, которую я здесь привожу, такова, что так называемая инфантильная травма, вероятно, обязана своими пагубными последствиями не просто тому факту, что она причиняет страдание, но также факту, что она произошла неожиданно и, следовательно, не была предварена тревогой или вигильностью.
Само понятие должно включать в себя не только случаи единичных, изолированных переживаний, вроде сексуального насилия, внезапной смерти или исчезновения родителя, но и длительные переживания, такие как отделение от родителей, жестокое домашнее воспитание и даже не нормальные семейные отношения в детстве. Для того, чтобы назвать событие травматическим, необходима уверенность, что оно произошло без какого-либо сознательного или бессознательного желания субъекта, и что следствия этого события причинно детерминированы.
Ночные кошмары
Еще одним примером шокирующего и пугающего переживания, которое не было предварено тревогой, является ночной кошмар. Хотя все сны – это совершенно неожиданное событие в том смысле, что никто не может заранее предсказать, что он (или она) увидит во сне – хотя последнее экспериментальное исследование дало возможность предсказывать, когда человек увидит сон, – ночные кошмары отличаются от других снов в том плане, что механизм сигнальной тревоги по какой-то неизвестной причине не срабатывает. В большинстве снов, даже тех, которые неприятны, спящий поддерживает достаточную вигильность, чтобы «не выпускать сновидение из рук», либо говоря себе «это всего лишь сон», либо просыпаясь до того, как что-либо пугающее действительно произошло. Эта продолжающаяся даже во сне деятельность направленной вовнутрь вигильности по-видимому, обусловлена тем, что большинство сновидений появляется в так называемой «парадоксальной фазе сна», которая сочетает некоторые особенности глубокого сна с особенностями пробуждения, но я не знаю ни одного доказательства, подсказывающего, что ночные кошмары появляются только в непарадоксальных фазах сна. Деятельность сигнальной тревоги по предотвращению перехода сновидения в ночной кошмар хорошо иллюстрируется сном, который я цитировал в первой главе, где сигнальная тревога была представлена и где сновидец просыпается до того, как он приблизился к моменту столкновения с приливной волной лицом к лицу и я думаю, что большинство людей видело сны, в которых они «спасались» до столкновения с некой опасностью или до момента выполнения какой-то пугающей задачи, которую сновидение перед ними ставило.
Еще один способ, благодаря которому полное столкновение с пугающим сновидением может быть смягчено – это его забывание. Итальянский поэт Леопарди (Leopardi) увековечил в своем стихотворении «Ужас ночи» (Te Terror by Night) сон, где он видел, как луна упала с неба и разбилась. Этот сон он вспомнил только после того, как увидел, что луна все еще на своем месте. В этом примере подлинный ночной кошмар был вытеснен благодаря защитному механизму забывания сна до того, как он будет развеян пробуждающимся сознанием, делающим недействительным его пугающее содержание.
В настоящем кошмаре, тем не менее, сигнальная тревога по какой-то причине не срабатывает, и сновидец оказывается разбуженным не тревогой, а испугом, и обычно ему требуется некоторое время, чтобы осознать, что, собственно говоря, ничего не произошло. Ночные кошмары достаточно обычны у детей, частично потому, что им труднее, чем взрослым, различать работу воображения и реальное восприятие, и они еще не осознали единодушного мнения взрослых, что сны – это не более чем тривиальность, и частично потому, что они имеют меньший контроль над своими импульсами и, следовательно, находятся в большей опасности быть потрясенными чувствами, которые они безуспешно пытаются подавить и не признавать. Страх быть сокрушенным силой своих собственных импульсов, к которому я обращался в предыдущем параграфе, является ценой, которую платят дети за отождествление с «процессом окультуривания», который позволит им стать цивилизованными взрослыми. Я полагаю, что те, кто страдает ночными кошмарами, являются будущими невротиками.
Такие ночные кошмары бывают и у взрослых, но только я думаю, если они находятся в состоянии острого конфликта, причины которого они совершенно не осознают.
Молодой человек, у которого никогда не было каких-либо причин рассматривать себя как невротика, консультировался у психотерапевта на счет повторяющегося время от времени ночного кошмара, от которого он просыпался, весь в поту, несколько раз в неделю. Ему никогда не снилось много снов и предмет его сна, если не затрагивать его значение, был совершенно непостижим для него. Его преследовал какой-то сложный механизм, практически догонял его, и просыпался он только в момент, когда он был близок к тому, что его разорвут на части. По счастливой случайности психотерапевт смог идентифицировать механизм; это была смесь молотилки с электрическим агрегатом. Когда эта точка зрения была высказана молодому человеку, он немедленно ее признал и сказал, что провел свое детство в имении отца, где оба этих объекта были ему знакомы. Кошмар перестал быть полностью непостижимым, жуткие сновидения прекратились до того, как психотерапевт решился на интерпретацию сна в том смысле, что пациент был пойман и почти что уничтожен полностью смесью молотилки его отца и электрического агрегата. Только во время последующих занятий стало очевидно, что его кошмары начались после того, как он безропотно принял планы на будущее, навязанные ему отцом и не имеющие отношения к его собственным склонностям и способностям. Следуя традиции, которая принимает родительский авторитет как нечто естественное, он не мог даже подумать, что в любом случае он будет обеспокоен отказом от своих собственных желаний в угоду отцу. Можно сказать, что ночной кошмар был обусловлен неудачей вигильности и самосознания в плане разрешения неизбежного и вечного конфликта между отцами и детьми.
Глава 3 Тревога, вина и депрессия
В двух предшествующих главах мной рассматривалась общая природа тревоги и ее отношение к испугу и шоку – двум эмоциям, которые, безусловно, походят на нее в плане физических проявлений и в том, что так же часто наблюдаются у животных, как и у человека. В этой главе будет рассмотрено отношение тревоги к вине и депрессии – двум другим состояниям, более сложным в психологическом отношении и, по всей вероятности, присущим лишь человеку. Кто-то наверняка заявит, что собака иногда выглядит виноватой или подавленной, но сомневаюсь, что найдутся такие, кто станет утверждать это с такой же уверенностью, с какой можно сказать, что животное испугано или испытало шок, или с какой уверенностью он скажет о самом себе, что чувствует себя виноватым или угнетенным.
Кроме того, в этой главе мы коснемся исключительно психологии и психопатологии человека, а также тех состояний души, которые нам известны только благодаря самонаблюдению и эмпатии. Поэтому я не смогу процитировать физиологические описания вины и депрессии так же, как цитировал Павлова и Виттехорна, говоря о вигильности. Это было бы неуместно, поскольку тяжелая депрессия, несомненно, сопровождается физиологическими изменениями, но животные не испытывают состояния, аналогичного обычной депрессии. Уже предпринимались попытки представить человеческую депрессию как аналог зимней спячки животных, но, несмотря на то, что спячка включает общую подавленность жизненной активности, она больше похожа на сон, нежели на депрессию. Зимняя спячка животных представляет собой спокойное и, по-видимому, безболезненное состояние, тогда как человеческая депрессия – болезненное, возбужденное и тревожное состояние души и тела, обычно сопровождающееся бессонницей. Тоска изолированных от себе подобных или содержащихся в неволе животных не может в действительности рассматриваться как чувство, идентичное человеческой депрессии; скорее, депрессия похожа на несчастье и на отчаяние. Причины, по которым я хочу рассмотреть отношение тревоги к вине и депрессии, носят практический и клинический характер. Как в здоровом, так и в болезненном состоянии тревога, вина и депрессия переживаются одновременно. Те, кто обращается за психологической помощью, очень часто жалуются на ощущение двух-трех этих состояний, что заставляет думать о них как о взаимосвязанной триаде.
Это отражается в психологических и психоаналитических теориях, склонных истолковывать и разграничивать состояния, составляющие эту триаду, взаимно используя их названия. Скрытая связь трех данных эмоций также удивительна, поскольку тревога, на первый взгляд, несовместима с виной и депрессией, так как направлена в будущее, тогда как вина в большинстве случаев относится к прошлому; опять же тревога усиливает, а депрессия снижает жизнеспособность.
Вина и интернализация
Здесь мы коснемся вины как душевного состояния, а не как юридического понятия.
Юридическая вина – это вопрос, не касающийся чувств. Человек является юридически виновным, если он нарушил закон, совершенно невзирая на то, что он совершил, или испытывает он чувство вины по поводу содеянного. Однако благодаря тому факту, что общество сформулировало закон, который, следовательно, имеет силу, люди склонны ощущать свою вину, если они виноваты юридически. Между тем существуют многочисленные исключения из этого «правила». Проступок может быть слишком незначительным – сомневаюсь, испытывают ли многие люди на самом деле вину, придерживая счетчик на автостоянке – или слишком формально-юридическим, как при некоторых вариантах уклонения от налога. В общем, люди не ощущают вину, нарушая закон, который они не одобряют. Под влиянием конкретных условий, особенно в тоталитарных обществах, индивид, напротив, может чувствовать вину из-за того, что подчиняется закону, и сочтет необходимым нарушить его во имя сохранения чувства собственного достоинства. Чувство вины вызывается действиями – у некоторых людей даже мыслями, – разрушающими какой-то авторитет или авторитеты, с которыми индивид солидаризируется или интернализируется. Интернализация – специальный термин, обозначающий процесс, благодаря которому индивид конструирует психическое представление о внешнем мире и о людях, в нем живущих, и, соответственно, реагирует на эти психические представления как на реально действующие. Это и есть зависимость вины от интернализации, объясняющей, почему чувство вины едва ли развито у животных и почему мы находим невозможным его наличие у младенцев. Следовательно, они неспособны сомневаться в последствиях своих действий, оставаться убежденными в действительном существовании тех, кто в данный момент физически отсутствует, и незрелы для того, чтобы осознать, что интересы или требования других могут быть более важными, чем удовлетворение их собственных желаний. Лишь после того, как ребенок сможет отличать себя от окружающих и сохранять их образ во время отсутствия, возникает возможность ощущения им чувства вины или возникновения беспокойства. Эти две эмоции отличаются, я думаю, тем, что беспокойство испытывается по отношению к равным субъектам, в то время как чувство вины относится к личностям, стоящим выше на «иерархической лестнице». Неповиновение родителям или Богу или измена идеалам могут провоцировать чувство вины, тогда как нанесение обиды равному вызовет беспокойство. Однако не всегда возможно разграничить вину и беспокойство так ясно, как предлагает эта формулировка, поскольку нанесение обиды равному обычно влечет за собой нарушение правил морального кодекса поведения, гласящих, что человек никогда не должен вредить другим.
Зависимость вины от интернализации и развитие абстрактного мышления, ответственного за тот факт, что в наиболее острых формах вина испытывается такими людьми, как интеллектуалы и верующие, теми, кто высоко развит психически и способен в течение длительных периодов времени обходиться без непосредственных человеческих контактов. Неразмышляющие, бесполезные люди, с другой стороны, жаждут непрерывного контакта с другими, однако бросается в глаза отсутствие у них хоть какого-то чувства вины. Прошлое для них уже миновало, оно удовлетворяет их и, таким образом, оно не является поводом для возникновения чувства вины и раскаяния. Это одна из причин того, почему наказание, которое обычно налагается намного позже совершения преступления, настолько редко имеет какой-либо исправительный эффект.
Чувство вины, следовательно, зависит от интернализации и служит признаком наличия конфликта между двумя частями «Я». Эгоистическая часть говорит: «Я хочу», в то время как другая, интернализированная с авторитетом, говорит: «Я не должен». Или в порядке альтернативы: «Я хотел» – «Я не должен был». Этот конфликт не обязательно невротический. Иначе говоря, как тревога является состоянием, необходимым для физического выживания, которое становится невротическим только в том случае, если продиктовано ситуациями, объективно не вызывающими возрастание вигильности, так вина является чувством, необходимым для социальной гармонии, становящимся невротическим только тогда, когда оно вызвано ситуациями, в которых нет реального конфликта интересов и ценностей индивида с интересами и ценностями общества. В современном обществе, которое, по крайней мере, в мирное время, придает большое значение неприкосновенности жизни, чувство вины, как мне думается, может быть невротическим, если «некто» был ответственен за жизнь кого-то другого. Должно быть, приятно верить, что врожденное чувство вины присуще связывать с идеей убийства другого человеческого существа, но факты свидетельствуют против этого. Люди, по-видимому, редко чувствуют себя виноватыми, убивая врагов в военное время, хотя, как правило, и нуждаются в освящении совершаемого ими убийства соответствующим духовным авторитетом и смягчении его каким-либо нравственным идеалом. Вина, вероятно, возникает только в том случае, когда жертва считается членом группы, к которой некто чувствует свою принадлежность. Такая группа обычно меньше, чем человеческая раса, и зачастую меньше, чем нация, к которой «некто» номинально принадлежит. Это видно благодаря тому факту, что гражданские войны, если принимать во внимание весь мир, не такое уж редкое явление. В самом деле, среди определенных групп под влиянием определенных исторических условий гордость, династические амбиции, личные интересы ценятся более высоко, чем уважение к жизни; люди готовы убивать представителей своего класса и даже семьи без видимого чувства вины. Хотя Плантагенеты (Plantagenets) и Тюдоры (Tudors) обычно страстно желали узаконить династические убийства, насколько известно, они этого не делали, чрезмерно обеспокоенные чувством вины и угрызениями совести, которые, как хочется надеяться, должны удерживать и наших нынешних политических лидеров, если они когда-либо будут введены в искушение вести себя подобным образом.
Вина по поводу убийства является, конечно, крайним (возможно, сверхкрайним случаем), но тот же закон применим к деяниям менее решающим и драматическим, чем убийство. Поскольку чувство вины зависит от интернализации с социальными ценностями и идеалами, невозможно оценить, испытывает человек моральное или невротическое чувство вины, если он не знаком с культурой, в которой он живет, и не понимает каждый нюанс ее системы ценностей. На самом деле, существуют большие трудности с оценкой вины у людей с явной системой ценностей. Например, светскому человеку потребуется резко изменить свои представления, чтобы ощутить чувство вины по поводу несоблюдения религиозного обряда, которое несомненно огорчит истинного христианина. Или, скажем, понадобится понимание общественной исторической атмосферы, чтобы осознать, почему множество мужчин средних лет, принадлежащих к высшему и среднему классу Англии, чувствуют себя виноватыми из-за того, что не в состоянии обеспечить своих жен прислугой, как это было принято во времена их детства. Однако, поскольку чувство вины рождается только в конфликтных ситуациях, оно имеет тенденцию возникать чаще и с большей интенсивностью у тех, кто, испытывая при этом страх, интернализовался со своими авторитетами, а не у тех, кто интернализовался с ними, испытывая любовь. Человек, которого учителя и родители воспитывали, угрозами навязывая свои желания и внушая собственные ценности, более склонен к тому, чтобы испытывать вину, чем тот, кто воспитывался в доброжелательной обстановке и принял ценности тех авторитетных лиц, которых он любил и кем восхищался. Первый из двух несет груз недоброжелательности по отношению к авторитету и подсознательно не желает поддаваться ему, хотя многим может сознательно жертвовать ради его ценностей. Его отношение к этим ценностям в целом, на самом деле, испорчено конфликтом между желанием бросить вызов авторитету и внушенной посредством страха необходимостью подчиняться ему, страха, который стоит на его пути к искренним этическим взглядам и позициям. Этот конфликт приводит к созданию порочного круга, поскольку вызов авторитету пугает человека и усиливает необходимость его подчинения, что, в свою очередь, активизирует его враждебность и выводит его из повиновения. В тяжелых случаях этот конфликт ведет к состоянию, известному в психиатрии как обсессивный невроз, когда человек чувствует себя принужденным думать или совершать поступки, совершенно не соответствующие его сознательной личности. Каждая мысль и каждое действие в данной ситуации чреваты муками противоречивости и нерешительности, а любые взаимоотношения становятся полями сражений между дерзостью и подчинением. Балансируя на грани нравственного конфликта, человек теряет всякую способность к действию.
Чрезмерно сильное чувство вины также испытывается людьми, чей внутренний авторитет срабатывает абсолютно, препятствуя любым проявлениям тенденций, нуждающихся в поддержке нравственных критериев, при помощи которых человек решает, хороши или плохи, общественны или антиобщественны те или иные его поступки. Такие люди верят, что секс сам по себе есть зло или что отстаивание своих прав всегда неправильно. В результате проявление собственной сексуальности вызывает у них чувство вины. В свою очередь, это приводит к желанию совершения достаточно неожиданных действии. Кроме того, их чувство вины усиливается благодаря тому, что внутренний авторитет вынужден более жестко сдерживать такие мощные силы, как сексуальность или борьба за свои права, в то время как подавляемая часть их натуры станет более неуправляемой. Это также ведет к обсессивному неврозу, в состоянии которого пациент страдает от запретных мыслей или, предотвращая их и искупая вину за их появление, вовлекается в соответствующие ритуалы. Итоговая картина является пародией на религиозные образы, где невротическое чувство вины играет роль первородного греха, а навязчивые симптомы – роль религиозных ритуалов и последующей кары.
Католический богослов-психиатр Орейсон (Oraison) описывал случай с женщиной, которая чувствовала себя вынужденной ходить на исповедь пять или шесть раз в неделю, испытывая страх смертного греха из-за таких мелочей, как посадка в поезд или употребление кофе. Это было не образцом благочестия, но случаем обсессивного невроза, поскольку страх смертного греха не имел ничего общего с моралью, а нужда в исповеди представляла собой сильное желание магического заклинания, но не прощения или кары. Точно так же нередко встречающееся побуждение богохульствовать в церкви или делать что-нибудь возмутительное при внушающих благоговение обстоятельствах является невротическим симптомом, поскольку появляется в людях, не имеющих никакой сознательной враждебности по отношению к религии или обряду, и не является в любом случае практическим или эффективным способом выражения скептицизма или неодобрения.
Невротическая вина, конечно же, не ограничивается рамками религии и с тем же успехом возникает у людей, имеющих вполне светское воспитание. Это, однако, предполагает разделение личности на две части, и очевидно, что эти две части находятся в состоянии войны друг с другом. Так же явно сознательная часть «Я» отождествляется с репрессивными силами личности и отделяется от экспрессивных сил. Данное положение дел, возможно, более красочно описывается в религиозных терминах. Сходство между обсессивным неврозом и истинной религиозностью было предметом одной из ранних статей Фрейда, где он писал: «С точки зрения этих подобий и аналогий можно рискнуть и расценивать обсессивный невроз в качестве патологической копии образования религии, описывая его как индивидуальную религиозность, а религию – как всеобщий обсессивный невроз».
Авторитарное, абсолютное качество внутреннего авторитета многих людей рождено частью особым характером их воспитания, частью тем, что процесс интернализации начинается в возрасте, когда вполне естественно мыслить самостоятельно. По Фрейду, раннее интеллектуальное развитие является основной предпосылкой развития обсессивного невроза в последующей взрослой жизни. Склонность «детского Суперэго» (термин, введенный в научный обиход Фрейдом для определения интернализованного авторитета) к осуществлению конкретных действий безусловно ответственна за тот факт, что многие подростки в некоторой степени испытывают вину, когда урегулируют свои детские ценности, приспосабливая их к новой ситуации, созданной их собственным развитием и открытием того, что мир взрослых больше и гораздо сложнее, чем тот, с которым они сталкивались дома и в школе, и что родительские ценности в какой-то степени устарели. Это подростковое чувство вины в большей мере является признаком здоровья, чем болезни, поскольку указывает на способность допускать конфликт и сталкиваться безбоязненно с новыми и незнакомыми идеями и чувствами. Как и тревога, которой можно избежать, фобически ограничив активность по отношению к безопасному и знакомому, вину можно уменьшить, избегая контакта с новыми замыслами. Однако в крайнем своем выражении оба этих приема являются жизнеотрицающими и требуют за освобождение от вины и тревоги слишком высокую цену. Некоторые подростки, однако, теряются, сталкиваясь с некоторыми проблемами – например, когда вопрос касается того, как следует поступать со своими недавно открывшимися сексуальными потенциальными возможностями; или до какой степени стоит протестовать против своих родителей – и, как правило, усугубляют обсессивный невроз. Подобно подросткам, ощущающим вину при восприятии идей, противоречащих их воспитанию в детстве, и испытывающим конфликт между преданностью по отношению к прошлому и тяготением к новому, творческие люди претерпевают муки вины и измены до тех пор, пока не достигают успеха на своем тернистом пути в борьбе за самобытность. Человек, воспитанный в религиозной традиции, верящий в истинность Библии и серьезно воспринимающий мысль о том, что христианство несет открытие абсолютных ценностей, перед тем, как окажется на пятом десятке самобытным художником, может пережить несколько периодов депрессии, некоторые из которых потребуют медицинского вмешательства. Детальные оценки подобного рода борьбы можно найти в таких книгах, как «Молодой лютеранин» Эрика Эриксона (Eric Ericson, «Young Man Luther»), «Отец и сын» Эдмунда Госсе (Edmund Gosse, «Father and son») и «Путь всего живого» Самуэла Батлера (Samuel Butler, «Te Way of All Flesh»). В двух последних ясно показано, что интернализованный авторитет берет начало от родителей. И Госсе, и Батлеру, видимо, пришлось приложить немалые усилия на пути к свободной интерпретации пятой заповеди.
Таким образом, вина – это цена, которую платят люди за сложность своей натуры и психологическое развитие, а также за использование интернализации как адаптивного приспособления для сохранения общественного порядка и однородности. Это чувство, которое каждый, кто достиг определенного уровня зрелости, вынужден иногда испытывать, занимает центральное место в религиозном мышлении западной цивилизации. Однако, как и тревога, вина может стать симптомом невротической болезни. Наиболее заметно это происходит при обсессивном неврозе, соотносящимся, по-видимому, с чувством вины так же, как фобия с чувством тревоги. В наименьшей степени вину ощущают люди, обладающие любящей натурой, – те, кто не несет бремя враждебности и обиды, берущее начало в детстве; те, чьи ценности и темперамент совместимы и чьи обстоятельства таковы, что нет нужды извлекать выгоду из страдания и смерти близких. В отдельных слоях общества, таких как имущие классы, а также среди высокопоставленных представителей власти, чувство вины знакомо тем, кто знает, что их возможность добиться богатства и власти зависит от смерти работодателя, родителя или коллеги.
Вина и депрессия
Людей, страдающих от невротической вины, для удобства можно разделить на тех, кто ощущает себя уже совершившим какое-то преступление, и тех, кто ощущает себя способным совершить его в любой момент. Обе группы знакомы с тревогой так же хорошо, как и с виной. Первые ведут себя так, словно существует опасность быть схваченными и наказанными. Они тревожны и вигильны подобно настоящим преступникам, когда тем стало известно, что полиция напала на их след. Поскольку авторитет, которого они боятся, носит внутренний характер, он всегда вместе с ними. Вторая группа живет в состоянии постоянной вигильности, надеясь предупредить ситуации, в которых их подавленные импульсы могут найти возможность выражения. По отношению к самим себе они ведут себя как встревоженный учитель, няня, экзаменатор или полицейский, озабоченный предотвращением какого-то преступления. К этой группе относятся не только сверхтревожные и сверхсознательные люди, но также те, у кого развиваются обсессивные страхи и кто вынужден препятствовать своей уверенности, что подвергает свой дом или офис опасности пожара или отказывается от карьеры медика, потому что ему кажется, что каждое выписанное им лекарство или каждая сделанная им инъекция могут содержать примесь, которая убьет пациента. Такие люди, как выясняется при анализе, обладают личностью, предназначенной для предотвращения проявлений враждебности, и симптомы вины являются реакцией на признание того, что обнаружилась некая брешь в защите и что обычной оперативности и сознательности больше недостаточно, чтобы держать враждебность под контролем.
Те, кто чувствует себя так, словно уже совершил преступление, наряду с виной и тревогой испытывают и депрессию. Действительно, пациенты с тяжелой формой депрессии, госпитализируемые для уменьшения риска суицида, часто утверждают, что совершили некое преступление. Иногда эта маниакальная идея оформляется более или менее правдоподобно. Так, эти люди могут заявить, что недавняя смерть какого-то родственника произошла всецело по их небрежности или из-за плохого обращения. Но чаще это формулируется в неясных или странных выражениях: они совершили грех против Святого Духа или были ответственны за какое-то недавнее стихийное бедствие. Как ни странно, в этих самообвинениях зачастую можно обнаружить элемент хвастовства. Это самые несчастные грешники, которых когда-либо знал мир, – никто еще не оставлял после себя большего следа страданий, чем они.
Менее беспокойные пациенты, прямо не заявляя о своей вине, своим поведением намекают на некое совершенное преступление. Богатый мужчина, в тридцатилетнем возрасте покинув свою страну, переезжает в Лондон, где ведет уединенную жизнь, бедно одеваясь, избегая соотечественников и не информируя свою семью о перемене адреса. Он выглядит беглецом. Из его фантазий следует, что полиция, обыскав его квартиру, нашла в ней труп. Когда соотечественник наконец разыскал «преступника», в голове того лишь возникла мысль, что человек приехал проинформировать его о том, что один из его родственников убит. Преступление существовало только в воображении беглеца. Он бежал с места «преступления», которое здоровая часть его «Я» осознавала как невротическую фантазию. На самом деле, сознательным мотивом для поездки в Лондон был поиск психоаналитика, который избавил бы его от комплекса и поведения Вечного Жида.
В таких случаях враждебность и амбвивалентность совершают большее, нежели вызывают чувства вины и тревоги. Они создают ощущение, что человек, которого пациент любит или верит в то, что должен его любить, на самом деле оказывается убитым ненавистью пациента. Чтобы такое произошло, процесс интернализации должен помешать «сам себе», поскольку подавленный человек обходится со своими внутренними представлениями так, будто они настолько же реальны, и реагирует так, будто желание убить кого-то равносильно самому убийству. Образ соотносится с объектом, а фантазия – с действием. Это, по-видимому, случается только с теми людьми, в чьей жизни ненависть пробудилась очень рано – до того, как разграничение между внутренним образом и внешним объектом как следует утвердилось; с теми, кто страдал в детстве от несчастья, которое лишило их уверенности в себе и укрепило примитивное убеждение, что злобные желания обладают магической силой. Согласно Феликсу Брауну (Felix Brown), в сравнении с общими показателями депрессия возникает гораздо чаще у людей, потерявших в детстве родителей.
Депрессия и горе
В предыдущем параграфе, описывая депрессию, известную как меланхолия, я истолковал ее как обострение или осложнение невротической вины. Хотя данный тип реакции возникает особенно часто у людей с обсессивными тенденциями, работа Фрейда и Абрахама (Abraham) показала, что ее наиболее благоприятно рассматривать в качестве болезненной формы горя. Горе – это чувство, возникающее после тяжелой утраты и во время траура. Меланхолическая депрессия может рассматриваться как форма горя, в которой тяжелая утрата является внутренней потерей, созданной меланхолической фантазией при наличии какого-либо разрушенного внутреннего влияния. Меланхолик ведет себя не только так, словно потерял кого-то, но и как будто лично ответственен за эту утрату, а следовательно, испытывает не только горе, но также вину и угрызения совести. При нормальной скорби, конечно, понятно, кто или что оплакивается. При меланхолической депрессии нет никакой реальной внешней утраты, и горе, разумеется, выглядит необъяснимым и для испытывающего депрессию, и для окружающих его людей. В некоторых случаях не требуется глубокое исследование, чтобы открыть, что некая, объективно говоря, небольшая потеря или разочарование оживляют эмоции, соответствующие какой-то действительной более ранней потере. Кое-кто неизменно чувствует себя угнетенным, вынужденно переезжая с квартиры на квартиру, – однако в остальных случаях его депрессия обусловлена распадом некоей давнишней системы защит, благодаря которой пациент подавлял глубоко сидящее признание, что он некогда утратил контакт со всеми внешними объектами и эта потеря контакта есть результат его собственной деструктивности. Хотя депрессия проявляется как болезненное состояние души, которое при иных обстоятельствах время от времени беспокоит здоровых людей, более пристальное ее изучение наводит на мысль, что люди, предрасположенные к депрессии – это закрытые люди.
Конечно, депрессия и горе могут сосуществовать, и если использовать термин «депрессия» в самом широком смысле, подразумевая под ним пониженную жизнеспособность, данное состояние, безусловно, является существенной частью нормального горя. Однако патологическая депрессия, возникающая после действительной утраты, отличается от обычного горя повышенной интенсивностью угрызений совести и вины, далеко уходящими от чувства сожаления, обычно сопровождающего горе, при котором благодаря отсутствию скорби все в результате приходит в норму. Как отметил Джеффри Джоpep (Geofrey Gorer), поскольку мы живем в обществе, которое все чаще видит в смерти нечто противоестественное и непристойное, и настаивает, что скорбеть следует в уединении, что чем быстрее закончится траур, тем лучше, – становится невозможным его четкое соблюдение. Но меланхолическая реакция на тяжелую утрату отличается от нормальной скорби тем, что не позволяет плакать и препятствует выражению сожаления и печали, которые должны проявиться до того, как человек сможет выйти из состояния скорби. На самом деле, в известном смысле меланхолическая реакция является отрицанием горя, так как фокусирует внимание человека, пережившего утрату, на масштабе его собственной вины.
В чистом горе есть заметное отсутствие тревоги, поскольку то, чего можно было бояться, уже произошло. Волнение, тревогу и гнев, которые часто возникают сразу после тяжелой утраты, стоит рассматривать как часть борьбы против принятия того факта, что непоправимая утрата действительно произошла. Эта первоначальная стадия скорби, которую Дарвин назвал «безумным горем» и которую Боулби называет «стадией протеста», включает тревогу, поскольку остается томительная вера, будто все еще можно что-то сделать, хотя что именно представляет это «что-то», уяснить невозможно. Но Дарвин говорит: «Вскоре после того, как страдалец совершенно осознает, что ничего сделать нельзя, отчаяние и глубокая печаль займут место безумного горя. Страдалец сидит без движения или тихо раскачивается из стороны в сторону. Его кровообращение становится вялым, он перестает равномерно дышать, время от времени делая глубокие вздохи».
Данное описание является полной противоположностью тревоги.
Невротическая депрессия
В двух предыдущих разделах я рассмотрел особый и довольно легко поддающийся определению тип депрессии, который многие психиатры рассматривают скорее как психопатический, нежели как невротический, и лечат большей частью антидепрессантами, чем психотерапией. Однако психиатры, а также их пациенты используют слово «депрессия» для описания состояний пониженной жизнеспособности. Некоторые из них похожи на меланхолическую депрессию и могут быть интерпретированы в том же духе, правда, отличаясь от нее тем, что враждебность, вина и амбивалентность в данном случае выражены менее интенсивно – или, напротив, тем, что пациент обладает более сильной индивидуальностью, позволяющей переносить наиболее тяжелое время депрессии. Тем не менее иногда термин «депрессия» употребляется при описании настроения, которое сопровождается сдерживанием чувств и жалобой на состояние, блокированное чрезмерным подавлением. Это состояние обусловлено активацией защитных приемов благодаря сигнальной тревоге. Оно будет подробно описано в следующей главе. Данный тип невротической депрессии надо отличать от апатии, которую, продолжая метафору, можно сравнить с машиной с разряженным аккумулятором – образ действия, спасающий жизнь в ситуациях длительной фрустрации и депривации (deprivation), когда сохранение чувствительности приводит к бессильной ярости и истощению. Согласно Ральфу Гринсону (Ralph Greenson), впавшие в состояние апатии американские солдаты в японских лагерях для военнопленных, имели больше шансов выжить, чем те, кто продолжал ощущать гнев или надежду. Невротическую депрессию можно перепутать и с отчаянием, которое характеризуется реальным снижением двигательной активности и жизнеспособности, а также с физической усталостью и болезненностью, выражающимися в определенных симптомах. Апатия, отчаяние и психологическое ухудшение жизнеспособности, ведущие к депрессии в самом широком смысле слова, представляют собой вялые, аморфные состояния души и тела, поразительно контрастируя как с меланхолической, так и с невротической формами депрессии, содержащими напряжение и волнение.
Стыд
Глава о вине и депрессии была бы неполной без раздела, посвященного чувству стыда, которое часто и легко путают с ощущением вины. Выражаясь фигурально, стыд – «Золушка эмоций»; литературы, посвященной ему, очень мало. Это, наверное, обусловлено тем фактом, что психоаналитики проводили первые исследования истерии и обсессивного невроза в условиях, для которых были скорее характерны тревога и вина, чем стыд, и которые объясняются отношением индивида к своим импульсам и интернализованным авторитетам без упоминания о его отношении к себе или к феномену самосознания. В результате на феномен стыда либо не обращалось внимание, либо он трактовался как разновидность вины. По Хелен Мирил Линд (Helen Merell Lynd), чья работа «О стыде и поиске идентичности» (On Shame and Te Search for Identity) является наиболее тонким из имеющихся исследований стыда, неясность этого чувства происходит частично от факта, что испытания такого рода, благодаря которым он появляется, обычно туманны и трудно определимы. Она пишет:
Определенная ситуация может вызвать вину или стыд, либо же то и другое вместе. Но вина больше связана с нарушением закона, тогда как стыд представляет собой чувство, вызванное деталями, не отраженными в законах. Кража монеты, убийство человека, совершение прелюбодеяния… являются специфическими актами вины, вписывающимися в более или менее ясную схему и влекущими осознание последствий, которые, по крайней мере, в какой-то степени можно предвидеть. Ничто не сопоставимо с отсутствием красоты или изящества, с ошибками вкуса и согласованности, со слабостью и определенными видами неудач, с чувством зависти, с неприятием твоего подарка – т. е. с ситуациями, которые переживаются как разоблачение глубокого личностного несоответствия.
Краткий Оксфордский словарь определяет стыд как «чувство унижения, вызванное осознанием вины или недостатка, делающего человека смешным или оскорбляющее право собственности, благопристойность или приличия». Стыд, похоже, переживается наиболее остро, когда между нашим реальным характером и поведением, с одной стороны, и каким-то неоспариваемым предвзятым мнением о нас с другой, возникает несоответствие, а следовательно, мы вынуждены переоценивать наше представление о себе или, во всяком случае, на мгновение обратить внимание на отдельный аспект своей личности, не совместимый с нашим обычным образом «Я». Стыд, как правило (хотя и не всегда), вызывается разоблачением – физическим или духовным – перед другими людьми. В связи с этим Хелен Мирел Линд приводит цитату из Сартра (Sartre): «Обязательным посредником между мной и мной является Другой. Я стыжусь себя, когда думаю, как выгляжу в его глазах». Иными словами, стыд – это эмоция, возникающая благодаря видению себя таким, каким, как нам кажется, нас видит кто-то другой, и мы вынуждены признать, что посторонняя оценка не совпадает с нашими иллюзиями и желаниями. Чаще всего это случается, если кто-то реально находится рядом, однако, я думаю, многим знакомы ситуации, когда мы обнаруживаем, что в полном одиночестве одновременно исполняем роль и маленького мальчика, и короля из известной андерсеновской сказки.
Подчеркивая фундаментальную роль самосознания в возникновении стыда, Хелен Мирел Линд занимает позицию, немного отличающуюся от обычных психоаналитических объяснений, склонных рассматривать стыд как страх быть осмеянным другими людьми (либо своим собственным внутренним авторитетом) или как чувство несоответствия какому-то идеалу, добровольно установленному для себя в качестве образца. Данные объяснения объединяет признание связи между стыдом и реакцией индивида на некоего внутреннего «посредника» более высокого порядка, – в психоаналитической терминологии Суперэго и, соответственно, Эго-идеал. Для Линд сущность стыда заключается не в осознании неудачи при достижении какой-либо цели или стремлении к какому-то идеалу, уже утвержденному самим человеком или внешним авторитетом, но в оценке таких аспектов своей собственной личности и своего отношения к другим, которые для человека были совершенно неоспоримы и никогда не подвергались самокритике. Исследовательница считает, что стыд – это переживание, которое приводит к возрастанию самопознания и интуиции.
Подобным образом объясняются многие коммуникативные затруднения. Если некто попадет в ситуацию, когда не ясно, как себя правильно вести, когда он выглядит неподобающе одетым, либо его шутка или мнение сталкиваются с неожиданным осуждением или непониманием окружающих, то, скорее всего, он почувствует себя смущенным, обнаружив, что собственные нормы и устоявшиеся мнения не являются такими уж безусловными, как казалось ранее, и что его собственный мир намного меньше остального мира, чем до этого представлялось. Большинство людей, я думаю, вспомнят моменты сильного стыда, испытанного в юности, когда они допускали промахи, не приняв во внимание, что мнения и позиции, некритично усвоенные в детстве, отнюдь не универсально приемлемы за пределами их маленького мирка. Такие случаи приводят к обострению интуиции – при условии, конечно, что человек не замкнется в раковине самовлюбленности.
Стыд отличается от вины тем, что чаще всего связан с неудачами при достижении целей, в отношении которых человек был уверен, что в состоянии это сделать, тогда как чувство вины обычно вызвано неудачными попытками заставить себя отказаться от достижения поставленных целей. Вина появляется как результат действия, которое само по себе приятно, но не соответствует общепринятым моральным, социальным или религиозным нормам, в то время как стыд возникает, когда кто-то не может быть таким мужественным, уверенным или умным, каким он сам себя представлял. Я выразил описываемое чувство в понятиях, свойственных мужской гордости, поскольку женское переживание стыда описано в приведенном выше отрывке из статьи Хелен Мирел Линд. Вероятно, гордость и стыд являются эквивалентами добродетели и вины в системе ценностей, где во главе угла стоит функциональная возможность. В религиозном мышлении это место занято добродетелью и целомудрием. По-видимому, и впрямь мораль, связанная со стыдом, играет в человеческой психологии такую же активную роль, что и мораль, связанная с виной.
Тем не менее стыд и вина ничем не отличаются друг от друга в плане их отношения к тревоге. Как у индивида, испытывающего чувство вины и живущего в состоянии перманентной вигильности, возникает желание предусмотреть ситуации, при которых его запретные импульсы могут найти выход, точно так же у человека, предрасположенного испытывать чувство стыда, развивается коммуникативная тревога. Он начинает опасаться ситуаций, при которых возможно его сравнение с другими, а также ситуаций, когда он сам вынужден это делать. В качестве альтернативного варианта человек использует некую защитную «оболочку» – какое-то условие, предотвращающее слишком тесный контакт с другими людьми, при котором те могут обнаружить его истинную суть. Он встревожится, если кто-нибудь предпримет попытку посягнуть на эту защиту. Самый стыдливый из встреченных мною людей, будучи высокого мнения о своих интеллектуальных способностях, не только уклонялся от всех неформальных общений, но также отказывался от интеллектуального тестирования или экзаменов, во время которых составлялся рейтинг участников. Фактически он отказывался предъявлять свои интеллектуальные притязания для любой общественной оценки.
Хотя чувство стыда, подобно вине и тревоге, время от времени испытывается каждым достигшим определенного уровня самосознания, оно проявляется наиболее сильно и часто у людей с так называемым шизоидным характером, у кого, как складывается впечатление, он играет во многом ту же роль, что и чувство вины при обсессивном неврозе. Люди с шизоидным характером, «возомнив о себе», верят – сознательно или бессознательно, – что обладают неким свойством, возвышающим их над остальными представителями человеческой расы, однако смутно осознают, что их оценки не подкрепляются мнением окружающих. Следовательно, они вынуждены либо становиться отшельниками, избегающими ситуаций, при которых их притязания могут оцениваться путем сравнения с другими, либо разделять свою личность на две, одна из которых соответствует представлению общества об их индивидуальности, в то время как другая поддерживает веру в собственное превосходство. Такие люди претерпевают неудобства как от самообмана, так и от его понимания, поскольку в действительности осознают противоречие, существующее между тайным, скрытым представлением о себе и впечатлением, производимым на других. В отличие от действительно одаренных людей, которые заставляют окружающих принять свое тайное представление о себе как обоснованное, и от действительно душевнобольных, которые несомненно игнорируют мнение окружающих, не верящих, что те являются Христом или Наполеоном, снедаемый стыдом шизоидный характер испытывает недостаток в идентичности в самом прямом смысле этого слова. Он верит в собственное ничтожество, но это нестерпимо, и поэтому он вынужден претендовать на роль «кого-то». Такие люди, видимо, перенесли в детстве некую катастрофу – возможно, даже более разрушительную, чем переживают люди, подверженные меланхолии, катастрофу, лишившую их веры в себя, последствия которой они пытались вылечить компенсаторными фантазиями о собственном превосходстве.
Стыд также схож с виной в ином отношении. Испытывающий чувство вины меланхолик может поверить, что он и впрямь совершил какое-то преступление, став подавленным и исполненным угрызений совести. Шизоидный человек также может почувствовать, что его стыд непоправим, и будет страдать от унижения. Ощущение того, что исправить положение невозможно, может привести в обоих случаях к суициду.
Глава 4 Запреты, симптомы и тревога
В трех предыдущих главах речь шла об общей природе тревоги и ее отношении к другим основным эмоциям, таким как страх, беспокойство, испуг, вина, депрессия и стыд. Я утверждал, что тревога, не являясь патологическим или невротическим явлением, часто свидетельствует о патологии. Что мне также удалось показать, что одна из форм тревоги – сигнальная тревога вызывается ментальным подавлением, на которое человек реагирует так, как если бы это была угроза извне. Однако, я не остановился подробно на роли тревоги при неврозах, а также точно не определил, что я подразумеваю под этим термином.
Цель настоящей главы состоит в том, чтобы исправить эти упущения. Я позаимствовал название для данной главы из работы Фрейда, в которой он сформулировал понятие сигнальной тревоги, поскольку термины: «запрет», «симптом», «тревога» могут использоваться как для определения невроза, так и для объяснения его общей структуры. Кроме того, как будет показано в следующей главе, приемлемое описание специфических неврозов требует, чтобы понятие «запрет» было разделено на несколько определенных защит, хотя описание общей природы невроза, данное Фрейдом в его работе «Запрещение, симптом и страх», остается самым простым и самым удобным из того, что мы имеем.
Определение невроза
Невроз может быть определен как состояние, встречающееся у абсолютно здорового человека, которого отличает наличие тревоги и других симптомов. Эти симптомы можно объяснить в терминах конфликта между подавляющими и подавляемыми структурами личности. Единственное исключение к этому определению – травматический невроз, который обсуждался в главе 2.
Оговорка «абсолютно здоровый человек» является необходимой по ряду причин. Во-первых, невроз – по определению, состояние не относящееся к внутренней болезни, и он встречается у людей, которые демонстрируют хорошее физическое здоровье. Даже если очевидно, что симптомы пациента материальны, они могут быть соотнесены с представлением пациента о том, как работает его организм. При болезни thyrotoxicosis пациент страдает как от тревоги, так и от других симптомов, но это не невроз, так как клиническая картина показывает, что пациент имеет трудности при глотании, а биохимические анализы показывают, что его щитовидная железа сверхактивна. При истерии, напротив, пациент может жаловаться на тревогу и на трудности при глотании, но это – невроз, так как его симптом связан с сжатием горла, которое происходит при тревоге, а биохимические анализы показывают, что его щитовидная железа функционирует в обычном режиме. В первом случае, тревога проявляется вследствие того, что одна из эндокринных желез, ответственных за то, чтобы поддерживать физиологическую активность, стала сверхактивной, во-втором – это происходит из-за некоторого психологического фактора, который может быть объяснен только с точки зрения психотерапии. Точно так же, анастезия рук встречается во множестве неврологических заболеваний, а также при истерии, но в последнем случае область нечувствительности относится к понятию «рука», а не к области кожи. Я, конечно, не утверждаю, что для человека невозможно иметь соматическую болезнь и невроз одновременно, но эти два состояния являются различными.
Я помню, как на меня, студента-медика, большое впечатление произвел мужчина, который жаловался, что его врожденно деформированная правая рука стала парализованной без каких-либо органических предпосылок. Это была истерия и она развилась вскоре после смерти матери, которая была ему как бы «правой рукой».
Утверждение, что невротические симптомы, очевидно, не имеют физической основы, подразумевает, конечно, что существует достаточная уверенность в том, как работает организм. Одной из исторических предпосылок для появления психологических теорий невроза в конце девятнадцатого столетия был тот факт, что медицина, и в частности, неврология стала значительно развитой, чтобы быть в состоянии различать внутренние болезни, в которых было возможно определить местонахождение больного органа и характера заболевания, и функциональные нарушения.
Эти функциональные нарушения должны были, на первый взгляд, быть физиологическими нарушениями функции, которая не приводила к соматическим изменениям. Но, начиная с Фрейда, было предпринято мало попыток объяснить неврозы даже теми, кто является противником его специфических теорий, в терминах гипотетических, но невидимых повреждений нервной системы, и идеи, что они должны быть расценены как проявления психологического и эмоционального конфликта, стали общепринятыми. Так как Фрейд был не просто врачом, но и невропатологом, он относился скептически к идее, что неврозы могли происходить вследствие некоторых, пока еще, неоткрытых повреждений головного мозга.
Другое основание для моего определения невроза состоит в том, что невроз может встречаться только у людей психически здоровых. По историческим причинам, которые было бы утомительно объяснять, психиатры используют термин «психоз» для характеристики таких психических болезней, которые затрагивают личность в целом, когда пациента приходится рассматривать как душевнобольного, а термин «невроз» используют по отношению к тем, чья личность остается не нарушенной и никто в настоящее время не полагает, что неврозы относятся к болезням нервной системы. В результате использования данной терминологии, невроз можно определить как состояние, в котором пациент не является ни психотиком, ни душевнобольным. Чтобы быть еще более точным, неврозы встречаются исключительно у людей, которые не имеют личностных расстройств и в основном нормальны – в том смысле, что их сексуальные склонности являются гетеросексуальными и связаны чувством любви и что они интернализуют родительские черты. Хотя термин «невротический» стал использоваться достаточно вольно по отношению к любому, чьи затруднения могут быть расценены как психологические и часто применяются к извращенцам, наркоманам и людям, страдающим от так называемых «расстройств поведения», строгая медицинская и психиатрическая терминология ограничивает термин «невроз» четырьмя состояниями: невроз тревоги, фобии, обсессивный невроз, истерия. Все их признаки – не более, чем преувеличенные версии чувств и поведения, с которыми знаком каждый нормальны человек. Если психотики переживают состояния, с которыми могут идентифицировать только исключительно впечатлительные люди, а действия извращенцев и людей с расстройствами личности шокируют или внушают отвращение, то невротики страдают от симптомов, которым нормальный человек может легко посочувствовать и от которых он время от времени сам страдал – если не сейчас, будучи взрослым, то, по крайней мере, в детстве. Расширение термина «невротический» за счет различных расстройств поведения, похоже, происходит от того, что эти расстройства напоминают неврозы в том, что поддаются психологическому объяснению – хотя и не психологическому лечению, а также в том, что они напоминают фантазии невротиков. Фрейд, действительно, как-то отметил, что извращения являются отрицанием неврозов, поскольку извращенцы действуют в соответствии с импульсами, которые невротиками подавляются. Принципиальное различие между расстройством поведения и неврозом, похоже, состоит в том, что если нормальный человек, сталкиваясь с неприемлемыми импульсами, реагирует выборочными запретами (сознательное подавление), а невротик в аналогичной ситуации тотальным запретом, то индивиды с расстройствами личности в состоянии напряженности склонны к неадекватным действиям. Они «играют», как говорят психоаналитики. Невроз нужно также, в принципе, отличать от того, что психоаналитики называют «невротический характер». Идея, лежащая в основе невротического характера, состоит в том, что человек может развить общие черты характера вместо симптомов, так, вместо того, чтобы развивать навязчивые ритуалы или страдать от навязчивой нерешительности, человек может развить обсессивный характер и стать чрезвычайно контролирующим, организованным и бесстрастным. Такой человек обычно не рассматривается как больной, и им можно действительно восхищаться за его характер, но при этом и он, и его родственники могут жаловаться, что он испытывает недостаток в спонтанности, теплоте и адаптируемости. Такие люди редко консультируются с психиатрами, но их часто очень влечет к психологии или психоанализу, так как они полагают, что это увеличит их способность к самоконтролю.
Тревога и запрет
На отношения, существующие в неврозе между тревогой и запретом, уже указывалось в предыдущих главах. В случае возникновения некоторого неприемлемого импульса или какого-либо болезненного воспоминания «Я» реагирует на эту угрозу своему разновесию сигнальной тревогой. Приведенное в состояние готовности переживания опасностью подчинения импульсу или повторного болезненного воспоминания, «Я» реагирует с той же самой бдительностью, как если бы это была неожиданная внешняя опасность. Взаимодействие с импульсом или воспоминанием происходит путем усиления затрат или подавления. В результате этого, какое-либо чувство или воспоминание, которое стало осознано, подвергается запрету и равновесие восстанавливается за счет обеднения индивидуальности, так как эффект подавления делает недоступным попадания в сознание угрожающих сведений. Большинство невротиков имеют скудные воспоминания о своем детстве или об определенных его периодах, что не только уменьшает их ощущение собственной непрерывности бытия, но также и вредит их способности образно и творчески реагировать на детей, находящихся в возрасте, который соответствовал их собственному из-за утраты инфантильных воспоминаний. Эти подавляемые части «Я» не остаются застывшими и сохраняют динамичность всех структур личности, стремящихся активно прорваться через барьеры, которые Эго установило против них и которые оно должно продолжать поддерживать. Хотя данное предположение подразумевает существование, своего рода, активных, но не осознаваемых субличностей, борющихся за самореализацию, оно необходимо, если стоит задача объяснить невротическое формирование симптома.
Формирование симптома
После того, как подавление постоянно действующего чувства неопределенной опасности, угрозы или воспоминаний о негативных переживаниях произошло, процесс формирования невроза, скорее всего, может, по всей видимости, остановиться. В результате мы имеем дело с человеком, который устойчив и свободен от невротической тревоги, но не свободен от запретов, и чье психическое здоровье обусловлено тем, что он по-прежнему ограничен и не в состоянии полностью реализовать свои потенциальные возможности, а также тем, насколько ему удается избегать ситуаций, которые могли бы нарушить его равновесие.
На практике, конечно, не всегда легко решить, находится ли человек в состоянии заторможенности или он просто испытывает недостаток способностей или жизненных сил, которые психотерапевты имеют тенденцию рассматривать как запреты, хотя в обычной жизни это идиосинкразии, которые не требуют объяснения и причисляются к досадным, но неизбежным дефектам.
Неуклюжесть, неспособность к играм или к математике, полное отсутствие музыкального слуха или чувства ориентации в пространстве, являются недостатками, которые редко расцениваются как невротические признаки, но которые могут при случае оказаться причинами запретов и исчезнуть либо в процессе психотерапии, либо в результате определенного эмоционального опыта. Нужно добавить в скобках, что мысль о том, что нехватка таланта происходит из-за запретов, является одновременно и соблазнительной, и чреватой последствиями, потому что может использоваться для доказательства того, что мы все могли бы быть гениями, если бы нам удалось проанализировать наши запреты, и в то же время очень сомнительной, потому что путает общие способности со специальными. Хотя очевидно, что отсутствие понимания музыкальных произведений происходит из-за отсутствия музыкального слуха, и литература приводит множество примеров, когда пациенты восстанавливали возможность наслаждаться музыкой в процессе психоанализа. Тем не менее существуют более чем убедительные свидетельства в пользу идеи, что творческая музыкальная способность – это специальная способность, которую не могла бы привить никакая психотерапия. Крайняя точка зрения, состоящая в том, что мы все могли бы быть творческими людьми, если бы удалось удалить наши запреты, принадлежит американскому аналитику Лоренсу Куби (Lawrence Kubie), который в своей работе «Невротические искажения творческого процесса» (Neurotic Distortion of the Creative Process) обращается к «культурному бесплодию и бессилию большого искусства, литературы, музыки и науки» и утверждает, что если человек сможет научиться освобождать свои творческие процессы от невротического искажения, «он окажется у границ новых земель Ханаана».
Обычный симптом, который происходит часто из-за запретов – хроническая усталость. Здесь снова не всегда легко решить, страдает ли человек от невротической усталости или устал на самом деле, и только психотерапия или какой-то спонтанный эмоциональный кризис позволит определить, что его усталость происходит из-за чрезмерных расходов энергии, поддерживающей внутренний статус-кво. Большой приток энергии, который большинство людей получает, когда влюблены, происходит из-за уменьшения запретов и выброса энергии, прежде содержавшейся в фантазии, и многие люди знакомы с увеличением энергии, которое происходит, когда исчезает необходимость подавления раздражения и гнева.
Некоторые, но не все, головные боли имеют подобное происхождение. Это можно проиллюстрировать известной историей молодого человека, который жаловался своему доктору на постоянные головные боли. Выяснив, что молодой человек никогда не общался с девушками, никогда не курил и не пил, не ходил в кино, доктор сказал: «Я знаю, в чем Ваша проблема. Ваш нимб слишком тесен».
Однако, хотя некоторые невротические симптомы могут быть расценены просто как проявления запретов, другие происходят вследствие того, что Фрейд назвал «возвращением вытесненного». Согласно Хораку (Horace), «Вы пытаетесь вилами вытеснить природу, но она всегда найдет путь назад», и невротическое формирование симптома заключается в непроизвольном проникновении в сознание неприемлемых производных первичного импульса, а вовсе не в исчезновении первичного вытеснения. Используемые формы маскировки и компромисса зависят от конкретных вытесняемых и вытесняющих сил, которые действуют в каждом отдельном случае, а также от типов защит, используемых обычно данным человеком. Рассмотрим на примерах, что имеется в виду под «возвращением вытесненного». Сначала, неосознанный импульс может стать осознанным, но при этом не представлять никакого удовольствия. Так, один человек начал испытывать неприятные ощущения от того, что все всегда смотрят на него. Он отнюдь не был застенчивым или нелюдимым человеком и еще совсем недавно был публичной фигурой, занимая должность пресс-секретаря одной общественной организации. В ходе психотерапии он явно получал удовольствие от того, что был в центре внимания и имел возможность пространно рассуждать перед вынужденной его слушать аудиторией даже при том, что эта аудитория насчитывала только одного слушателя. Скоро стало ясно, что быть центром внимания ему нравилось, но, как он полагал, это удовольствие было позволительно только женщинам, т. к. он рос без отца, воспитываемый эксцентричной и властной матерью. Незадолго до прекращения психотерапии он объявил о своем намерении брать уроки ораторского мастерства и заняться политикой. Желание красоваться стало допустимым и могло быть удовлетворено напрямую, а не путем развития дистресса.
Во-вторых, вытесняемый импульс может возвратиться в замаскированной или символической форме, которая позволит ему пройти цензуру. Например, и дети, и взрослые могут прекратить фактическую мастурбацию и вместо этого развить привычки типа ерзанья, ковыряния в носу или почесывания, которые выражают мастурбационную озабоченность собственным телом, но при этом они не вызывают морального осуждения со стороны своей интернализованной контролирующей инстанции. Эти привычки могут выполнять в дальнейшем раздражающую функцию, не являясь произвольными или преднамеренными, и они могут действовать как способы бессознательного отрицания импульса. Для невротических симптомов в общем характерно, что их непреднамеренный характер позволяет сексуальным, агрессивным, своенравным и упрямым тенденциям быть выраженными, с одной стороны, осознанно, а с другой – без риска спровоцировать осуждение со стороны окружающих. Обсессивные пациенты, которые развивают ритуалы мытья, удерживающие их в ванной комнате на протяжении очень долгого времени, не только получают сексуальное удовольствие от внимания, которое они уделяют собственному телу, но и испытывают чувство гордости от скрупулезного соблюдения чистоты, но при этом причиняя большие неудобства остальным членам своей семьи.
В-третьих, симптом может позволить вытесняемой тенденции быть удовлетворенной без раскрытия ее содержания. Агорафобы, пациенты, которые избегают открытых пространств, зависимы от матери и чувствуют себя спокойно только в защищенной атмосфере дома. Их симптом – тревога вне дома или вдали от матери или того, кто является замещающим матери, позволяет им оставаться дома, но причина, которую они приводят в объяснение своего поведения не в том, что они хотят остаться дома, а в том, что они чувствуют себя тревожно в условиях открытых пространств и большого скопления людей. Сознательно они чувствуют себя взрослыми независимыми людьми, и только их необъяснимый симптом препятствует им быть столь же уверенными в себе и инициативными, как другие люди.
В-четвертых, неосознанная тенденция может стать осознанной, но при этом может не быть признана как часть «Я». Это приводит к известному феномену тех людей, которые иллюстрируют поговорку «о соринке в чужом глазу и бревне в своем», которые одержимо озабочены недостатками и промахами других, поддерживая афоризм О. Уайлда, что «для блюстителей чистоты все в мире вещи недостаточно чисты». Сверхчувствительные, они озабочены проблемой насилия, сюда же относятся посвятившие себя своему делу врачи, миссионеры и духовенство, которые ясно видят, что другие нуждаются в помощи и хлебе насущном, но сами при этом не в состоянии признать свои собственные потребности и последовать заповеди: «Врач, исцели себя самого». Такие люди используют защиту, известную как проекция, которая позволяет им локализовать свои собственные вытесняемые желания во внешнем мире, где они могут либо продолжить свою борьбу против них, либо идентифицироваться с ними и распространить свое страдание, которое они отрицают, на других.
Фобии конкретных объектов и ситуаций часто объяснимы в терминах проекции. Ситуация, с которой запрещено сталкиваться; объект, который запрещено видеть или трогать – все это стало символом некоторого отчуждения самого себя. В результате люди испытывают амбивалентные чувства, будучи, с одной стороны, охваченными переживаниями, а с другой – напуганными и отвергнутыми. Человек, который страдает от фобии поезда, должен быть захвачен идеей железнодорожной катастрофы. Он предполагает, что несчастный случай произойдет в тот самый день, когда ему предстоит поездка. Точно так же, человек, который испытывает ужас от прикосновения к змеям, собакам или птицам, придает символическое значение этим существам, что одновременно и пугает его, и заставляет вступить с ними в контакт. Вероятно, не случайно все эти объекты и ситуации, которые вызывают страх и тревогу у страдающих фобией пациентов, могут быть источником огромного удовольствия для других.
Некоторые люди восхищаются широко открытыми пространствами или одиночными полетами, восторгаются грозами или с энтузиазмом ездят по дорожным ямам, коллекционируют номера поездов и наблюдают за птицами.
Психопатология обыденной жизни
Сфера действия невроза была бы еще больше – если бы не существование различных установок, которые позволяют временно смягчить запреты и не обращать внимание, в принципе, на невротическое поведение. Эти установки дают возможность некоторого выброса подавляемых тенденций, таким образом, уменьшая внутреннее напряжение.
Два очевидных примера таких установок – использование алкоголя и юмора. Как было остроумно замечено, Суперэго – это часть души, которая является растворимой в алкоголе, и использование алкоголя как социальной «смазки» обусловлено тем, что он ослабляет запреты быстрее, чем ухудшает функционирование организма. В результате, многие люди наслаждаются ощущением полноты жизни и свобод после некоторого количества алкоголя, что позволяет им делать и говорить то, что они не смогли бы в трезвом состоянии. Но, хотя алкоголь и позволяет застенчивым и людям в состоянии заторможенности открыться, это средство, конечно, не благословение господне. Торможение блокирует не только положительные социальные импульсы, но также и разрушительные, так, некоторые люди под действием алкоголя становятся приветливее, а другие – агрессивнее. Кроме того, торможение может маскировать не только тревогу, но также и депрессию, и на людей, склонных к депрессии, алкоголь оказывает парадоксальнее воздействие – вместо того, чтобы освобождать их от переживаний, он делает их угнетенными, угрюмыми и слезливыми.
Другой фактор, который ограничивает эффективность алкоголя как терапевтического средства – то, что он, в конечном счете, ухудшает функционирование личности. Так пьяный человек не только скорее всего, станет любвеобильным или агрессивным в ответ на стимул, который не вызвал бы такой реакции, будь он трезв, но и его деятельность становится деструктивной в частности, в случае таких агрессивных действий, как превышение скорости при управлении автомобилем, еще и опасной. Тот факт, что алкоголь не только вызывает опьянение, но в больших дозах и отравление, исключает использование его как идеального транквилизатора, хотя некоторые лекарства, которые прописываются врачом и не принимаются спонтанно, напоминают алкоголь в плане химического состава – они также имеют свои отрицательные побочные эффекты. Алкоголь, тем не менее, играет очень существенную роль в жизни многих напряженных и заторможенных людей.
С тех пор, как Фрейд написал свою работу «остроумие и его отношение к бессознательному» (Jokes and their Relation to the Unconscious), известно, что юмор может позволить и шутнику, и его аудитории развеять грусть, сомнения и желания, которые они не рискнули бы выразить или реализовать серьезно. Хотя теория Фрейда указывает, что шутки являются средством выражения подавляемых желаний, не объясняет все шутки – некоторые, такие как игра слов, кажется, зависят исключительно от неконгруэнтности, в то время как другие, являются эллиптическим способом выразить истину, которую было бы утомительно объяснять подробно. Есть, конечно, множество жанров юмора, которые, кажется, черпают свою популярность из предоставления возможности подавляемой, запретной стороне амбивалентных отношений, выразить себя социально приемлемым способом. Эстрадные шутки о тещах и женщинах-водителях часто не остроумны, но они дают выход мужской враждебности к женщинам и страхом оказаться под их властью – что помогает избежать семейных конфликтов. Непристойные шутки и грязные истории выполняют похожую функцию и, кажется, циркулируют более интенсивно среди обычных людей, чем среди эмансипированных, а также среди мужчин, чье сознательное отношение к женщинам включает элементы галантности, чем непосредственно среди женщин. Они низводят женщину с пьедестала – равно как и мистическую тайну секса – таким образом, это позволяет шутнику избежать необходимости принимать всерьез возможность того, что он может все еще испытывать некоторый трепет перед женщинами. Страх и зависть к власти, является ли она религиозной, политической или интеллектуальной, также, вероятно, стоят за более сложными шутками типа: «Когда Фрейд умер и приблизился к Небесным вратам, его приветствовал Святой Петр, который сказал: «Слава Богу, Вы приехали; Бог сошел с ума и думает, что он – Гитлер». Общество также обеспечивает неврозу определенный дрейф, не замечая или не принимая всерьез различные явления, которые психотерапевты расценивают как индикаторы конфликта, и которые они используют ежедневно в своей работе с пациентами. Эти явления включают сновидения, оговорки и другие ошибочные действия, которые Фрейд описал в своей «Психопатологии обыденной жизни» (Te Psychopathology of Everyday Life). Хотя психотерапевты серьезно считают, что сновидения, оговорки, особенности поведения и несчастные случаи – все это выражение сущности их создателей и может служить основой для серьезных выводов. Обычно люди относятся к этому, как к пустякам, которые лучше всего не замечать; что сновидения являются бессмысленными, что странности поведения – просто идиосинкразия, а оговорки и ошибочные действия просто случайны. В результате люди, которые никогда не помнят других имен, кроме своих собственных, не обвиняются в эгоизме; женщин, которые имеют привычку крутить обручальное кольцо на пальце, не заставляют задуматься над тем, что они, возможно, имеют проблемы в семейной жизни; а допускающих оговорки не вынуждают обстоятельно объяснить то, что фактически имеется в виду. Все это позволяет многим людям выжить, избегая необходимости проявлять мужественность в конфликтных ситуациях, с которыми они были бы не в состоянии справиться без помощи специалистов – что ввиду нехватки психотерапевтов является, вероятно, удачным фактом. Данная общепринятая практика также объясняет почему, как заметил Джеффри Горер (Giofrey Gorer), очень немногие люди непринужденно выражают свои чувства в присутствии психоаналитика.
Глава 5 Защита и адаптивное поведение
В предыдущей главе я определил общую структуру невроза как результат репрессии одной части личности со стороны другой. Стремление репрессируемой части вернуться в сознание приводит к невротической тревоге, усилению подавления и развитию симптомов. Такое представление, преимущественно выводимое из работы Фрейда «Запрещение, симптом и страх», содержит два допущения, которые следует обсудить.
Во-первых, допускается, что личность может быть разделена на две части – контролирующее Эго, сосредоточенное на поддержании собственной стабильности, и импульсивное Ид, стремящееся к самовыражению. При таком подходе невроз может объясняться как тем, что импульсы невротика сильнее или опаснее, чем у других людей, и поэтому ему труднее их контролировать, так и тем, что невротик имеет более слабое Эго, и поэтому вытесняемому содержанию легче возвращаться; в том и другом случае сила импульсов и стабильность Эго зависят от конституциональных или приобретаемых факторов. Психоаналитический подход ассоциируется с объяснениями, касающимися влияния детского опыта, однако сам Фрейд часто апеллировал к конституции и полагал, что обсессивный невроз (имеющий непосредственное отношение к теории сигналов тревоги) может являться следствием как врожденного избыточного садистического влечения, так и преждевременного развития Эго, ведущего к тому, что у будущего невротика в младенчестве и раннем детстве подавляются те импульсы, которые здоровый ребенок проявляет свободно. И в том, и в другом случае предполагается, что страдания невротика возникают из-за того, что во взрослой жизни прорываются инфантильные импульсы, совладать с которыми с помощью взрослых средств эмоционального управления невозможно. Жена становится для своего мужа объектом не только осознаваемых взрослых чувств, которые она вызывает, но и неосознаваемых ощущений, берущих начало из его детских отношений с матерью; начальник для взрослого – это объект эмоций, связанных с его отцом. Поэтому невротик – это человек, чье детство не закончилось, и чьи возможности справляться с давлением взрослой жизни не соответствуют необходимости совладания с остаточными детскими конфликтами. Он терпит поражение, у него возникают симптомы при более низком уровне напряжения и неудач по сравнению с людьми, чьи более удачное развитие или детство не заставляют их тратить массу энергии для бесконечной борьбы с вытесненными частями собственной личности.
Во-вторых, идея о том, что невроз является следствием конфликта между контролирующим Эго и импульсивным Ид, основана на допущении относительно природы Эго. Принято считать, что в классическом фрейдизме принципиально антиэмоциональное и антиинстинктивное Эго чувствительно по отношению к тому, что несет угрозу объективности, равновесию и самосознанию. Однако, по выражению Хайнца Хартманна, ведущего представителя психоаналитической эгопсихологии, этот «теоретический идеал рациональной деятельности», подразумевающий защитные реакции на все иррациональные переживания, по-видимому, является не универсальной характеристикой человеческого Я, а признаком собственно западной цивилизации и, в особенности, ее представителей. В социумах, чьи отношения к миру определяются не разрозненными, получаемыми путем научного познания представлениями, следствием чего в моральном отношении является вечно оценивающее сознание, похоже, гораздо меньше страшат эмоции или транс – психические состояния, связанные с временным ослаблением самосознания. Согласно профессору Ламбо (Lambo), у невестернизированных западных африканцев по сравнению с европейцами невроз, депрессия и суицид наблюдаются реже, и одновременно чаще отмечаются случаи агрессии и кратковременной потери контроля.
Профессор Карстэрс (Carstars) описал практику, используемую индийскими вдовами для погружения в транс, позволяющий с помощью внутреннего диалога получить от умершего мужа инструкции по текущим делам. Это не симуляция, – отмечает автор, – просто в определенный момент женщина, чтобы выслушать волю хозяина, впадает в транс.
Хотя и в нашей культуре вдова часто хранит живой образ умершего мужа и пытается продолжать то, что делал он, у западной женщины такое полное возвращение в ответ на призыв совершенно определенно вызывало бы сильнейшую тревогу, а ее близким послужило бы сигналом о необходимости вмешательства психиатров.
Если кто-то высокомерно посчитает, что «западное Эго» является единственно нормальным, а у представителей других обществ и цивилизаций оно примитивно или ущербно, то он должен будет также признать, что невроз – не универсальное явление, связанное прежде всего с таким типом Эго, который в определенном обществе принимается за норму. В распространенных в этом обществе типах невроза отражается высокая плата за ценность самодисциплины, моральной и интеллектуальной целостности, непрерывности самосознания и объективности.
Защита
Признание того, что объяснить невротические феномены исключительно в терминах вытеснения невозможно, ведет к развитию эгопсихологии, в которой основное внимание уделяется не только самому симптому, тому, как он проявляется и символизируется, но и многочисленным техникам, применяемым Эго при получении сигнала тревоги. Вместо идеи о том, что эго имеет единственный способ работы с опасными эмоциями, отправляя их в бессознательное и оставляя их там, выдвигается представление о существовании множества техник. Такая смена теоретической ориентации отразилась в дополнениях к работе Фрейда «Запрещение, симптом и страх», где он пишет:
«По моему мнению, полезно вернуться к старому понятию «защита», с тем, чтобы в явном виде закрепить это название за теми техниками, которые Эго применяет в конфликтных ситуациях, потенциально ведущих к неврозу, в то время как за термином «вытеснение» остается значение одного из методов защиты. Такой подход, вытекающий из наших исследований, позволяет лучше представлять суть проблемы».
Такие техники обычно называются защитными механизмами, хотя термин «защита» более предпочтителен, так как не несет в себе допущения о механическом действии или автоматическом бессознательном применении защит. Защиты – в меньшей степени механизмы, чем техники, маневры, стратегии или ухищрения, – а эти термины применимы как по отношению к активной работе с внешними и внутренними угрозами, так и к способам пассивного сопротивления, примером которого является подавление. Хотя психологическое понятие защиты имеет отношение прежде всего к техникам совладания с внутренними угрозами, допустимо расширить его, включив техники, используемые для разрешения ситуаций вовне, ведущих к усилению объектной тревоги, так как психоаналитическая теория всегда утверждала, что Эго реагирует одинаково на внешний мир, на подвергшиеся изоляции собственные компоненты. В формулировке Анны Фрейд, «методы защиты определяются тремя основными типами тревоги, к которым чувствительно Эго: инстинктивная тревога, объектная тревога и тревога сознания». Такое расширительное понимание делает возможным соотносить защиту и биологические паттерны адаптивного поведения.
Среди психоаналитических школ нет согласованного представления о количестве и основаниях классификации защит. Анна Фрейд предлагает список десяти специфических защитных механизмов, а Фейрберн (Fairbairn)[3] в своей «Новой психопатологии психозов и психоневрозов» (A Revised Psychopathology of the Psychoses and Psychoneuroses) описывает четыре общих техники. Хотя и Анна Фрейд, и Фейрберн соотносят называемые ими механизмы с определенными неврозами, согласовать их классификации оказывается невозможно: нельзя, например, разделить десять механизмов, предлагаемых Анной Фрейд, на четыре группы, соответствующие общим техникам Фейрберна. Причиной является расхождение в том, что рассматривается в качестве причины защиты. Для Анны Фрейд это тревога, вызванная угрозой утраты чувства безопасности, которое обеспечивается изначально неамбивалентной связью с матерью. В результате и представления о функциях защиты также расходятся. Для Анны Фрейд защита предотвращает разрушение Эго, а для Фейрберна – поддерживает иллюзию существования идеальной матери и отводит агрессию от этого идеального образа. Но оба автора рассматривают как проявление невроза только тревогу вне широких связей с биологией.
Приняв предлагаемую мною в этой книге точку зрения, и рассматривая тревогу как форму реакции, вызываемой изменениями как во внешней среде, так и в тех компонентах Я, к которым Эго относится как к чему-то внешнему, мы получаем возможность классификации защит по их отношению к биологическим адаптивным реакциям.
Как мы уже видели, и животное, и человека заставляет насторожиться что-то новое в окружении. Такая бдительность подготавливает их к действию, и настороженность длится, пока не будет выбрана соответствующая форма реакции. Если впервые воспринимаемый объект воспринимается как опасный или угрожающий, в распоряжении имеются три разных типа самозащитных реакций: агрессия, бегство или подчинения, последняя из которых является ответом более слабого существа на угрожающее поведение доминантного представителя его вида. Я полагаю, что психологические защиты аналогичны трем формам биологической реакции, так как и тем, и другим предшествует тревога, и те, и другие защищают целостность индивида. Однако они различаются тем, что защиты призваны обеспечивать прежде всего психологическую целостность, а не физическое выживание. Одним из последствий великой психологической эволюции человека и его самосознания является его готовность защищать свою психологическую целостность с такой же силой, с какой животные отстаивают свою физическую целостность, и его способность чувствовать боль, депривацию, опасность, угрозу в результате изменений окружающей среды, имеющих чисто ментальный характер. Это доказывает, что физическая реакция человека на психологический стресс похожа на реакцию животного на физическую опасность. Согласно С. Барнетту (S.A. Barnett),
У человека усиление кортикальной секреции адреналина в ситуации конфликта возникает как при возможности повреждения или смерти; очевидно, что телесная реакция на унижение схожа, в некоторых отношениях, с реакцией на ситуацию, угрожающую жизни или целостности организма.
Психологические защиты отличаются от биологических реакций на физическое воздействие тем, как они определяются и усложняются теми процессами интернализации, которые были описаны в Главе 3. Вместо того, чтобы атаковать или спасаться бегством от обстоятельств или людей, угрожающих психологическому благополучию, человек может подчиняться превосходящей силе и затем интернализировать ее. Вследствие этого реакции нападения, бегства или подчинения соответствуют не актуальной ситуации, а интернальным психическим репрезентациям, а индивид вовлекается в чисто психологический конфликт со своим окружением. Продолжительность детства человека усиливает тенденцию интернализации, но тот же процесс может возникать в зрелости, например, если человек оказывается в концентрационном лагере или живет в тоталитарном обществе.
Эти два фактора определяют бόльшую сложность психологических защит человека по сравнению с реакциями на угрозу животных; защиты действуют в основном не на физическом, а на символическом уровне. Тем не менее, в следующей части этой главы я попытаюсь показать, что четыре защитные техники, описанные Фейрберном под названиями обсессивной, фобической, шизоидной и истерической защиты являются психологическим развитием биологической реакции, нападения, бегства и подчинения.
Агрессия и обсессивная защита
Агрессия известна как лучшая форма защиты, и при использовании ее для уменьшения тревоги нет оснований говорить о невротической защите. Напротив, здоровое развитие включает в себя усиление способности проявлять власть в отношении тех ситуаций и людей, которые изначально вызывали тревогу. Я имею в виду не только возрастающую сложность внешней среды, представленную растущим от младенчества к детству и от детства к зрелости числом незнакомых и потенциально враждебных людей, но также и биологические изменения, происходящие с самим индивидом. У тех, чьим привычным ответом является превосходство, тревогу сопровождают любопытство и предвкушение, а взросление – это не только болезненное ощущение удаления из иллюзорной безопасности детства, но также и процесс открытия новых возможностей в окружающем мире и новых собственных способностей. В Главе 1 мы упоминали описанный И. Павловым рефлекс «что такое?», который представляет собой, с одной стороны, такую защиту, без которой жизнь подвергается постоянной опасности, а с другой – основу для любопытства и способности исследования неизвестного. Этот же принцип применим и к невротическим феноменам. Человек, страдающий от кошмаров и желающий понять смысл происходящего с ним, исследует свою проблему, в которой представлены остаточные детские конфликты, и его реакция на невроз не является сама по себе невротичной. Невротик, обращающийся за помощью к психотерапевту, может использовать или не использовать агрессию в качестве реакции, но если он, стремясь преодолеть свою проблему, использует терапию для достижения нового уровня самопонимания, то он ее проявляет. Если же он ожидает от своего терапевта защиты и руководства, то к уже имеющемуся неврозу прибавляется невротическая реакция подчинения авторитету.
Агрессивная позиция может использоваться как защита не только против объектной тревоги, порождаемой ситуациями, реально содержащими угрожающие элементы, но и против субъективной, или невротической тревоги. Иллюстрацией может служить факт того, что для детей не представляет затруднения демонстрировать по отношению к другим или самим себе такие действия, которые вызывают тревогу, но при этом не совершать их и даже не считать их возможными. Таким путем они добиваются признания и самоуважения, что позволяет преодолевать представляющуюся им необоснованной тревогу, и одновременно приобретают ценный опыт познания истинной природы физической опасности и своей собственной способности переносить тревогу.
Существует, однако, такая форма агрессии или превосходства, которую следует признать однозначно невротической. Это компульсивный контроль над всем и всеми, являющийся характеристикой пациентов с диагностированным обсессивным неврозом. В то время как здоровые люди вступают в спонтанные отношения, благодаря которым обеспечивается свободный обмен эмоциями с окружающими, и выражение, как и восприятие привязанности или гнева не вызывает тревогу, обсессивные личности пытаются контролировать свои эмоции и фиксировать себя и других в предписанных позициях и отношениях. Таким образом, они надеются избежать тревоги, устраняя неконтролируемые элементы человеческих отношений. Если им удаcтся достичь такой степени самоконтроля, чтобы никогда не попадать во власть неожиданных чувств, и контроля других – чтобы они не смогли бы совершать спонтанные и поэтому нежелательные действия, тогда, в соответствии с логикой обсессивной защиты, неожиданное никогда не произойдет и неизвестное никогда не возникнет – а поэтому никогда не возникнет тревога. Так как, однако, эмоции по самой своей природе спонтанны, непредсказуемы и непроизвольны, обсессивная защита ведет к антагонизму по отношению к эмоциям, и чувства начинают восприниматься как раздражители, нарушающие порядок, установленый невротиком в своем внутреннем мире. В результате такие люди стремятся усвоить такую позицию по отношению к своей собственной эмоциональности и эмоциональной жизни других, которая вызывает ассоциации с бюрократом, поставленным управлять потенциально враждебными импульсами. Побуждения – собственные и других людей, – вызывают у них настороженность, если не подозрение; они легко теряются при нарушении постоянства и интимности предпочитают формальные и ритуализированные аспекты взаимоотношений, поскольку последние могут быть схематизированы и предсказуемы, а интимность не допускает классификации. Столкнувшись с перспективой брака, субъект использующий обсессивную защиту, будет уделять непропорционально большое внимание деталям церемонии бракосочетания, ее финансовым вопросам, интерьерам, оформлению страховки, потому что все эти действия позволяют ему не сделать шаг в неизвестное. Такая потребность в контроле и предсказуемости толкает вступающего в брак к покупке книг о гармонии в браке.
Обсессивные личности часто интересуются психологией, так как с ее помощью можно попытаться понять и благодаря этому научиться контролировать себя и других. Они ищут психологические теории, игнорирующие интуитивное, основанные на статистическом анализе, апеллирующие к идеям «нормальности» или идеала, поскольку их воодушевляют представления о том, что эмоции могут быть подчинены интеллекту и что существует паттерн желательного поведения, который может быть им освоен. Они как бы получают символическое разрешение считать, что всегда можно находиться на безопасной освоенной территории.
Они также любят различные философские системы, дарящие иллюзию всепонимания и, таким образом, защищающие от тревожащих столкновений с неизвестным.
В обыденной жизни обсессивная потребность всеобщего контроля ведет к озабоченности вопросами аккуратности и опрятности, которые ценятся не столько потому, что чему-либо способствуют, сколько из-за того, что дают ощущение осведомленности, где что находится. Тревога с этой точки зрения, связанная с ощущением непорядка, сигнализирует о том, что что-то нарушено в знакомой предметной среде, либо кто-то без разрешения вторгся на подконтрольную территорию.
Такая потребность в контроле приводит к развитию чрезмерной интернализации. В то время как люди и предметы внешнего мира, естественно, определяют границы влияния субъекта, а словами и мыслями можно манипулировать, то переход от действий с внешними объектами к управлению их ментальными и вербальными репрезентациями обеспечивает обсессивному субъекту иллюзорную власть над несравнимо более обширной областью действительности. Невозможно исследовать или контролировать все страны мира, но можно знать названия всех стран и определять, в какой последовательности следует их перечислять – в алфавитном порядке, по степени их влиятельности или в соответствии с относительным размером территории.
Кроме того, обсессивная защита подразумевает стремление к тому, чтобы управлять тревогой, которая сопутствует любым человеческим взаимоотношениям, контролируя все спонтанные проявления, как свои собственные, так и партнеров, как если бы отношения представляли собой угрозу целостности той территории, которую индивид ощущает полностью своей. Животные, когда на их территорию нападают в буквальном смысле, используют аналогичную защиту, изгоняя или подчиняя неприятеля. Если противник – это сознательная часть собственного Я, такая атака представляет собой подавление, а если это спонтанное поведение партнера, то средствами являются контроль, доминирование и отрицание реальной независимости. Психоаналитическое лечение обсессивных субъектов начинается с того, что они собирают всю доступную информацию о теориях и техниках, а если терапевт говорит или делает что-либо, что расходится с их представлением о должном течении процесса, это вызывает возмущение и даже агрессию.
Обе формы обсессивных атак – подавление, направленное внутрь, и контроль, направленный вовне, независимо от эффективности использования в качестве защиты – оказываются в высшей степени саморазрушительными, поскольку свобода от тревоги достигается за счет утраты спонтанности и контакта с эмоциональной составляющей жизни. В первом томе своей автобиографии, названном «Слова» (Words), Ж.Сартр (J.Sartre), дает полное иронии описание того, как присваивающий слова ребенок приобретает ощущение власти над миром, утрачивая при этом с ним контакт, а складывающиеся стереотипы самосознания препятствуют реальному самопознанию. Неудивительно, что это сочинение обескуражило тех, кого более ранние работы автора убедили в неизбежности отчуждения как условия человеческой жизни.
В предыдущих частях работы неоднократно использовалась метафора территориального контроля. Ее описательный характер не мешает предположить существование реальной связи между обсессивной защитой и территориальным поведением животных. Самцы многих видов устанавливают границы своих владений и энергично защищают их от вторжения других самцов. При появлении противника самец-владелец атакует, чтобы либо обратить его в бегство, либо добиться подчинения. Обсессивная защита, как и невроз, значительно чаще наблюдаются у мужчин, чем у женщин, и в этом можно усмотреть символическое отражение той власти, которую устанавливает в физическом пространстве самец животного.
Бегство, фобия и шизоидная защита
Смыслом бегства является дистанцирование от опасности. У животных оно, как правило, вызывается угрожающим поведением явно превосходящего по силе представителя своего вида или присутствием хищника, для которого животное является естественной добычей. У людей бегство, очевидно, не является безусловно невротической реакцией, так как может определяться адекватной оценкой собственной физической или психологической несостоятельности перед лицом физической опасности или при общении с более сильными (физически или по статусу) людьми.
Простейший пример невротического бегства представляет собой фобическая защита. Люди, использующие такой вид защиты, привычно избегают ситуаций, вызывающих тревогу. Они пытаются так организовать свою жизнь, чтобы гарантированно не сталкиваться с людьми или обстоятельствами, которыми нужно управлять или которым нужно подчиняться. У людей, которые относятся к дому как к безопасной территории или к родителям как к защитникам, фобическая защита ведет к развитию отсутствия желания выходить из дома, расставаться с усвоенными ролями ради освоения новых и даже пытаться думать по-другому. В результате, использующий фобическую защиту человек склонен к ограничениям в своей жизни и реализации единственной безопасной и хорошо знакомой роли – быть опекаемым ребенком, никогда не уходящим далеко от дома и родителей. Но так как силы, выталкивающие человека из родительского дома и заставляющие оставить роль ребенка, являются неотъемлемой характеристикой его природы, использование фобической защиты препятствует взрослению и заставляет человека избегать именно те ситуации, которые могли бы побудить его расстаться с безопасной позицией вечного ребенка. Он ненавидит школу и не любит вечеринки и танцы, очереди и общественный транспорт, – не только потому, что все это происходит на чужой территории, но и потому, что тут востребуются компоненты личности, характеризующиеся активностью, инициативностью, взрослостью – то есть тем, что он пытается в себе не замечать.
C другой стороны, у людей, воспринимающих дом как тюрьму, а родителей – как тюремщиков, фобическая защита превращается в нечто другое, и вышеописанные проявления характеризуют только потенциальных агорафобиков (людей, испытывающих страх открытого пространства). Для клаустрофобической защиты характерно, что именно дом и привычное окружение вызывает тревогу и бегство, а ощущение безопасности достигается только в открытом пространстве. «Не ограничивайте меня» – это девиз клаустрофобика, испытывающего ужас не только при физической замкнутости, но и в отношении всех социальных ролей, фиксирующих его положение без возможности что-либо изменить. Как следствие, он избегает подразумевающие рутину брак или постоянную работу.
Более ярко бегство проявляется в психотической шизофрении, при которой весь внешний мир представляется устрашающим, а отстраненность и отчуждение больного становятся непреодолимыми. Реальная жизнь замещается существованием в мире фантазий. Здесь также бегство, по крайней мере, частично, совершается от каких-то аспектов Я, а в страшном внешнем мире спроецированы те импульсы, с которыми шизофреник не в состоянии справиться. Многие шизофреники уверены в том, что их преследует устройство, непрерывно облучающее их вредоносными лучами и внушающее чужие мысли и чувства. Согласно классической работе Виктора Тауска (V.Tausk), эта воздействующая сила в действительности является собственным телом больного, отчуждение от которого делает невозможным восприятие переживаний как принадлежащих самому человеку. Так как шизофреники, в отличие от фобических больных, весь внешний мир воспринимают как угрожающий, шизоидное бегство не является способом избегания особых ситуаций, благодаря чему восстанавливается ощущение безопасности, но представляет собой попытку совсем уйти от физической реальности и существующих в ней людей. Поскольку это невозможно, шизофреник не находит выхода, но отрицает любую значимость для себя физического мира и реальных людей, и живет в воображаемой реальности собственной конструкции. Шизофрения, будучи психозом, не является, строго говоря, предметом настоящего исследования, но нужно учесть, что бегство от реальности в мир собственной фантазии наблюдается также у так называемой шизоидной личности, чьи контакты с окружающими сведены к минимуму, обеспечивающему только возможность предаваться своим мечтаниям без угрозы вторжения в их внутренний мир.
Бегство подразумевает не только движение от опасности, но и движение к безопасности, и последнее наблюдается как при фобической, так и при шизоидной защите. Фобическая личность, которую пугает открытое пространство, чувствует себя уверенно в замкнутом пространстве и дома, и одним из симптомов фобии является фобическое убеждение в охранительной энергии дома или определенных людей, обычно матери или супруга (супруги). Подобное убеждение так же иррационально, как и представления о вызывающих фобию ситуациях, и люди, от которых фобическая личность зависима, никаким образом не отбираются в соответствии со своей реальной силой или качеством отношений с больным. В предисловии упоминалась молодая женщина, которая не могла выйти из дома без сопровождения своего жениха, с которым пережила автокатастрофу. Хотя этот инцидент прошел без телесных травм, он испытал панику, и ей пришлось разрешать ситуацию самостоятельно, звонить в полицию и оказывать первую помощь пострадавшим пассажирам другой машины. Этот опыт, однако, не способствовал ни избавлению ее от фобии, ни пересмотру представления о том, что только жених способен ее защитить. Способность фобической ситуации провоцировать тревогу зависит от приобретаемого ею символического значения, возникающего вследствие проекции, тот же механизм действует и при формировании образа безопасной ситуации или опекающего человека. В известном смысле, фобическая защита представляет собой противоположность обсессивной. Вместо того, чтобы контролировать все на свете, фобическая личность ощущает себя отданной во власть судьбы, вечно преследуемой злобными внешними силами, и способна чувствовать себя в безопасности только под покровительством превосходящей благосклонной силы. И вместо того, чтобы защищать себя от тревоги за счет интернализации внешней среды, то есть процедуры, ведущей к усилению чувства ответственности, фобическая личность борется с тревогой посредством самоуничижения, то есть ценой усиления инфантильного чувства беспомощности. Несомненно, фобическая защита может быть названа самой наивной из защит, так как воспроизводит элементарную биологическую реакцию – стремление получить защиту от угрожающей ситуации у матери, а фобию как болезнь можно рассматривать как проявление конфликта между потребностью роста и расставания с матерью, с одной стороны, и желанием оставаться под ее защитой – с другой. При агорафобии потребность роста подвергается отрицанию и проекции, поэтому те ситуации, которые предоставляют условия для упрочения доверия к себе, представляются личности угрожающими. В то же время при клаустрофобии отрицается и проецируется стремление оставаться под защитой, поэтому те ситуации, которые в норме были бы приятными, так как дают ощущение уюта и безопасности, воспринимаются как подавляющие.
Шизоидная защита может рассматриваться как переходная форма между обсессивной и фобической. Подобно фобической личности, шизоид относится к внешнему миру как к угрожающему и находящемуся под его контролем, и проявляет тенденцию к отчуждению от реальности; однако он утрачивает уравновешивающую этот страх убежденность в том, что среди внешних сил существуют благожелательно настроенные к нему. Таким образом, окружающий мир для него абсолютно враждебен, и единственным безопасным местом является сфера его собственного воображения. Подозревая всех окружающих, он вместо идеализации определенного персонажа из реального окружения, которому приписывается функция защищающей материнской фигуры, идеализирует самого себя, воображая себя всемогущим и не нуждающимся в защите. В сильно выраженных случаях это приводит к мании величия, при которой больные считают себя некими очень значительными лицами. У Фрейда есть работа, посвященная анализу случая мужчины, заявлявшего, что он – правитель Тасмании, а автор настоящей книги работал с пациентом, считавшим себя императором Австралии. Процесс «самоидеализации» напоминает обсессивную защиту своей зависимостью от механизма интернализации, а также отношением к словам и мыслям как к реальности, чем на самом деле характеризуются только их объективные референты. Однако шизоидная защита отличается от обсессивной тем, что шизоидная личность не предпринимает попыток побудить реальных людей играть придуманные роли, шизоид ограничивает себя установлением власти на территории, которая является полностью выдуманной им самим.
Хотя и фобическая, и шизоидная защиты являются формами бегства от опасности, те угрозы личностной целостности, которые провоцируют их возникновение, действуют, по-видимому, разными путями. Фобии возникают у людей, чье воспитание проходило под знаком гиперопеки со стороны родителей, которые провоцировали тревогу, описывая угрожающий внешний мир, или воспринимая рост уверенности ребенка в себе как признаки утраты собственного авторитета, но при этом не подавляли человеческого достоинства и спонтанности своих отпрысков, пока те были детьми. Шизоиды, по-видимому, воспитываются родителями, которые весьма мало, если вообще обращали внимание на то, что ребенок – это личность; литература, посвященная шизофрении, переполнена сообщениями о «шизофреногенных» (провоцирующих шизофрению) матерях, иногда отцах, которые относились к своим детям как к автоматам или куклам, существующим только для того, чтобы подчиняться родителям. Эти родители, кажется, и не подозревают, что у ребенка есть собственные мысли, чувства и желания. Результатом такого различия в условиях воспитания является формирование у фобических личностей способности поддерживать отношения, пока они находятся в подчиненном положении, и возникновение тревоги в ситуациях, которые могли бы способствовать развитию самодостаточности. У шизоидов способность к контактам отсутствует в принципе, и любая инициатива со стороны окружающих вызывает только подозрение. Они ведут себя так, будто их окружают не представители их вида, а хищники, всегда готовые к нападению.
Подчинение и истерическая защита
Хотя мнение о том, что представители одного вида время от времени сражаются друг с другом за территорию или пару, достаточно распространено. Исследования этологического направления зоопсихологии, проведенные в естественных, а не в лабораторных условиях, показали, что на самом деле внутривидовая борьба – явление достаточно редкое. Согласно Тинбергену (Tinbergen), проявление силы в поединках животных обычно ограничиваются угрозами и обманными действиями, более сильное животное принимает устрашающие позы, скалит зубы, зрительно увеличивает размеры своего тела, топорща уши, ероша шерсть и поднимая хвост, а более слабое демонстрирует подчинение, уменьшаясь в размерах, для чего припадает к земле, опускает хвост и прижимает уши. «В итоге подчиненный изгоняется, а победившая сторона достигает своего без особого ущерба» (С.Барнетт). «И в настоящем бою проигравший волк, – пишет Лоренц (Lorenz), – просит и получает пощаду».
Много похожего можно наблюдать, когда мерятся силой представители человеческого рода. Когда мы уверены в себе, полны собственного достоинства, испытываем ощущения своей власти, то мы пытаемся навязать свою волю другим, мы повышаем голос, выпрямляемся во весь рост и вообще делаем все, чтобы усилить производимое на окружающих впечатление. Если же нас переполняют другие ощущения – смущение, подобострастие, желание смягчить гнев кого-то, кто сильнее нас, мы склоняем голову, говорим тише или преклоняем колени – метафорически или вполне физически. Обладая самосознанием, человек может имитировать, в случае необходимости, и бόльшую самоуверенность, и бόльшую униженность, чем переживает на самом деле, и это только делает соревнование и борьбу за власть более тонкой, а применение физической силы, и тем более, смертельный исход – все реже наблюдающимися явлениями.
Уверенная поза является формой агрессии или демонстрации превосходства и не может считаться невротической, а вот имитация уверенности в ряде случаев – может. Точно так же, подчинение вообще не невротично; это единственно возможная реакция в ситуации, когда субъект по своим физическим, психологическим или социальным характеристикам занимает подчиненную позицию и не может выбирать, но вынужден «поджать хвост». Столкновение воль при этом не приводит к окончательной победе одного из участников конфликта, как это происходит в мире животных, так как цели, преследуемые людьми, сложны и неоднозначны; в результате конфликты порождают компромиссы, в которых обе стороны кое-что выигрывают и получают возможность не терять лицо. Также вообще не всегда понятно, какая из сторон доминирует, так как физические, психологические и социальные факторы, определяющие положение в социуме, сильно варьируют. Если робкий и болезненный школьный учитель должен отстаивать свой авторитет при столкновении с самоуверенным восемнадцатилетним хулиганом, непонятно, кому будет принадлежать победа и кто почувствует себя маленьким по завершении общения.
Однако, длительность биологического детства человека, которое еще удлиняется благодаря социальным санкциям, позволяющим родителям сохранять полноту финансового и правового контроля над физически взрослыми детьми, создает ситуацию, когда внутрисемейные столкновения воль (включая эдипову конкуренцию между отцом и сыном, матерью и дочерью) могут быть разрешены благодаря привычной детской подчиненности, находящей свое продолжение и во взрослой жизни и создающей основу истерической защиты. Склонность детей играть подчиненную роль особенно усилилась в викторианскую эпоху, когда многие родители привлекали Бога в качестве источника своего авторитета и использовали религиозную обрядность в целях подавления детской воли.
Реакция подчинения в ситуации конкуренции порождает невротическую пассивность. В ситуациях, когда адекватным является уверенное и энергичное поведение, невротически пассивный человек выглядит слабым, заискивающим, неуспешным. У таких людей тревога порождается не только ситуацией актуального соревнования, но и опытом предшествующей конкуренции.
Крайняя форма невротической пассивности, выражающаяся не только в социальной неуспешности, но и в сексуальной неполноценности, наблюдается у мужчин, которые с детства усвоили подчиненную позицию как реакцию на активность, маскулинность, доминантность со стороны матери, и, таким образом, пассивны по отношению к женщинам, что препятствует гетеросексуальной активности. Принятие подчиненной роли может также заставить пассивного мужчину жениться на активной доминантной женщине, с которой возможно воспроизводить привычные с детства ситуации; такие браки можно считать успешными только с натяжкой.
Пассивные мужчины часто описываются как люди женственные или скрытые гомосексуалисты, но «женственность» представляется более подходящим определением, поскольку усвоенный образ и проявляемая беспомощность более характерны для невротичных, нежели для здоровых женщин, а скрытая гомосексуальность в процессе психотерапии не выявляется. Подчинение как защита, используемая мужчинами, должна быть в общем признана истерической, если такое применение слова, производного от греческого термина, обозначающего матку, не вызывает сопротивление при отнесении его к представителям сильного пола.
В некотором отношении, однако, истерическая защита или защита посредством покорности, гораздо четче проявляется у мужчин, чем у женщин, хотя у вторых картина осложняется традиционными представлениями о женщинах как о «естественно» пассивных и подчиненных и теми предположениями, в соответствии с которыми некоторые женщины в присутствии мужчин, не видя причин для уступки, все-таки им подчиняются. Это побудило некоторых психологов, в том числе Фрейда, трактовать женскую адаптивность и реактивность в терминах пассивности и мазохизма. Однако, если и отвергнуть идею о том, что женщина – существо по сути своей подчиненное и истеричное, следует признать, что существует класс женщин, считающих себя в принципе побежденными и последовательно занимающих подчиненную позицию и по отношению к мужчинами, и по отношению к другим женщинам, и чьи характеристики аналогичны описанным выше для пассивных мужчин. Такие женщины позволяют мужчинам обращаться с собой как с половой тряпкой, или в лучшем случае – как с куклой, и неспособны отстаивать права на самостоятельность (я знаю молодую женщину, которая согласилась на стерилизацию только потому, что ее муж не любит детей) и отказываются от любой конкуренции с другими женщинами. Они позволяют властвовать над собой, считающим их собственностью, родителям или эгоистичным мужьям и готовы все переносить и все прощать. Как и в случае с инертными мужчинами, невротическая подчиненность у женщин определяется не столько текущей тревогой, вызываемой необходимостью соответствовать ожиданиям мужчин или при конкуренции с женщинами, сколько результатом предшествующих актов подчинения в детстве, которые унижали чувство собственного достоинства и вынуждали игнорировать все возможности независимого поведения. В итоге, любая ситуация взрослой жизни, требующая такого поведения, воспринимается не с естественным волнением, но как сигнал опасности, связанной с подавленной враждебностью. Если, как это иногда случается в процессе психотерапии, прежде покорная женщина внезапно начнет отстаивать свои права, это становится катастрофой для тех, кто привык к ее послушанию.
Усвоение истерической защиты не устраняет агрессию и не уничтожает уверенность в себе, но загоняет их вовнутрь, и у людей, интенсивно использующих такую защиту, вытесненное проявляется в сильно искаженных формах. Если процесс прерывистый, то наблюдаются кратковременные и бесплодные «истерические» приступы гнева, или возникает новая форма самой роли подчиненного, посредством которой осуществляется контроль над окружающими, которым внушается чувство вины, или же признание себя проигравшим, что служит оправданием применения скрытых методов манипулирования окружающими. В последнем случае в тех ситуациях, где уважающий себя человек ведет себя прямо и открыто, используемая невротиком ложь оставляет впечатление неприглядности и непорядочности, вызываемой истерическим поведением, – впечатление, выраженное французским неврологом Лерми (L’hermitte) в формулировке: «истерия – мать обмана и мошенничества». Хорошо известна такая форма истерической лжи, как истерическая конверсия симптомов при симуляции физического заболевания.
Исходя из осознаваемых представлений о том, что он сам слаб и жалок, никому не интересен, истерик может пытаться привлечь внимание к себе, преувеличивая свою слабость и используя идею болезни как орудие для управления другими или призыва к милосердию. В таких ситуациях, где уверенный в себе человек от чего-либо открыто отказывается или дает свое согласие, истерик становится больным и, благодаря этому, неспособным что-то решать. Если человека обвиняют в симуляции или притворстве, то прежде всего для понимания каждого случая необходимо принять во внимание те обстоятельства, которые заставили его прибегнуть к такому унизительному способу выхода из затруднительного положения. Обвинение, чаще всего, бывает несправедливо еще и потому, что мы не знаем всех мотивов, которыми руководствуется истерик в своем поведении.
Мы упоминали, что применения техники подчиненного положения может использоваться истериком для контроля над теми, кого он считает сильнее себя, и которым он не в силах открыто навязывать свою волю или общаться на равных. Такой способ реакции подчинения мы обозначаем как следствие неудач в детской борьбе за любовь, внимание и власть. Переживание таких неудач ведет к двум психологическим проблемам: практической и эмоциональной. Первая связана с тем, как человеку выживать в мире, где каждый видится более сильным и имеющим больше прав, чем он сам. Вторая проблема – как удерживать в подавленном состоянии враждебность и чувство обиды, порождаемые необходимостью играть роль подчиненного. Истерические симптомы помогают и в практическом, и в эмоциональном плане, что позволяет беспомощность превращать в инструмент давления, а с другой стороны, выводят из строя все механизмы, с помощью которых агрессивный человек открыто может дать выход своей враждебности. Так, во время лечения одна пациентка психоаналитика чувствовала унижение при окончании каждого сеанса, поскольку эти моменты демонстрировали отсутствие власти над психотерапевтом. По завершении одного такого сеанса у нее парализовало обе ноги. Это не просто позволило ей дольше, чем было предусмотрено, оставаться на кушетке, но и создать впечатление больной настолько, что ее нельзя было оставить без помощи, благодаря этому она также избавилась от возможности пнуть ногой или ударить своего психоаналитика. В конце другого сеанса та же пациентка потеряла голос (истерическая афония). В данном случае опять психоаналитика заставляли почувствовать себя бессердечным, позволяющим уходить человеку с серьезными нарушениями; в то же время потеря голоса освободила ее от возможности выразить свое возмущение. Это было также формой бойкота: если он не хочет говорить с ней, то она не хочет – не может – говорить вообще.
Сексуальные расстройства, от которых страдают истеричные женщины, также выполняют двойную функцию, хотя аналитик не может наблюдать это непосредственно. Убеждение в своей фригидности и в том, что мужчины сильнее и важнее женщин, позволяет им воздерживаться от того, чего, как они уверены, в их жизни никогда не было и не будет, и получать власть над мужчинами посредством этого самого воздержания. Одновременно такая позиция предотвращает опасность спонтанного выражения чувств, при котором бы возникло искушение дать волю и враждебности, и любви. Символически это отражает также полное поражение в эдиповой конкуренции с матерью и, как следствие, невозможность обладания собственным мужем. Инфантильное ощущение проигрыша возрастает по достижении девушкой зрелости, что совпадает со средними годами ее матери; посредством акта сексуального отречения, несмотря на реальные возможности конкуренции, девушки избегают проявления материнской зависти и ревности. В современном обществе, настраивающем женщину на карьерный успех, такое принятие поражения от матери часто маскируется представлением о преимуществах маскулинной роли. В английском языке нет слова, находящегося в таком же отношении к понятию «мужественность», как «женоподобие» и «женственность»; при этом многие успешные деловые женщины выдают неестественность своей маскулинности, демонстрируя своеобразные, не свойственные настоящим мужчинам резкость и решительность.
В этом смысле истерическая защита, в чем убеждает не столько литература, сколько практика, заключается в привлечении внимания, что объясняется спецификой детских переживаний, создающих предрасположенность к истерии. Согласно положению Фрейда, истерические женщины страдают завистью к пенису, а более поздняя литература содержит указание на важность доминирования со стороны и страха к доэдиповой «фаллической» матери. Обе формулировки предполагают, что будущая истеричка чувствовала себя под властью более сильных личностей, и могут быть сведены к одной, если использовать понятие чувства поражения и принятие подчиненной роли, что переживается жертвой на сознательном уровне как беспомощность и неадекватность, а на неосознаваемом уровне – как зависть и возмущение. В моей практике все истерики – и мужчины, и женщины, – в детстве имели опыт глубоких переживаний собственной незначимости, а их родители были преимущественно озабочены своими собственными проблемами. Их передавали няням очень рано, если не с самого рождения, поскорее отправляли в закрытые школы или монастыри, и часто не забирали даже на каникулы, развозили по бабушкам или одиноким тетушкам, которым было скучно без ребенка в доме, и забирали обратно, когда их присутствие надоедало. У девочек не было и тени сомнения в том, что их братья гораздо более значимы, и что в реальный мир, принадлежащий мужчинам, им входа нет. В отличие от сверхопекаемых фобических личностей и шизоидов, воспитывавшихся в условиях ригидных родительских установок, игнорирующих чувства детей, истериками в детстве помыкали и пренебрегали, хотя их часто баловали, подкупая дорогими подарками, но в эмоциональном отношении отрицая и отвергая как личность.
В трех предыдущих разделах мы попытались найти связи между обсессивной, фобической, шизоидной и истерической формами защиты и тремя биологическими реакциями: агрессией, бегством и подчинением. При этом в целях наглядности картина была упрощена, и сейчас настало время это обсудить. Во-первых, описание защит выглядит так, как если бы они существовали изолированно друг от друга, то есть одна защита исключала бы наличие других. Однако это не так. На первый взгляд «чистые» обсессивные или истерические личности при более тщательном рассмотрении проявляют признаки других защит. Психоаналитики, имеющие с ограниченным кругом пациентов близкий контакт, позволяющий узнать их достаточно хорошо, часто довольно скептически относятся к диагностическим ярлыкам, но психиатры, работающие с пациентами и обязанные формулировать диагноз, прогноз и давать рекомендации по лечению, иногда на основе единственной беседы, как правило, не испытывают затруднений при определении, какая из перечисленных защит является доминирующей.
Во-вторых, каждая защита была описана так, как если бы она определялась бы единственной биологической реакцией. Это тоже не так: обсессивная защита подразумевает не только власть над собой и окружающими, но и подчинение по отношению к интернализованному авторитету, который отдает команды по управлению эмоциями. Фобическая защита не исчерпывается бегством во внутренний мир, но включает в себя подчинение интернализованной заповеди: «Не взрослей!». Шизоидная защита позволяет расти и расцветать властности в сфере фантазии; в истерической защите присутствует вытесненное противостояние авторитету и попытка выйти из-под его контроля. Таким образом, описанные защиты должны рассматриваться не как простые психологические эквиваленты частных изолированных биологических реакций, но как сложные стратегии, в которых отдельные реактивные компоненты агрессии, бегства или подчинения имеют центральное значение. Командующие армиями не могут проводить кампании, отдавая приказы только об атаках или только об отступлениях; та или иная тактика приобретает значимость только в рамках общей стратегии, и атака одного подразделения может прикрывать отступление другого, а сдача одной позиции позволяет защитить другую. Но, как некоторые генералы предпочитают одну из стратегий, так и невротик отстаивает целостность своей личности в борьбе с воображаемыми или реальными угрозами, тяготея к характерному способу защиты.
Глава 6 Неврозы
Описанные в предыдущей главе защиты сами по себе не являются невротическими. Каждый человек время от времени тревожится, и каждый время от времени использует защиты. Использование одной или другой из этих защит может рассматриваться как невротическое, только если оно становится привычным и к ней прибегают в таких условиях, которые либо вообще не требуют защиты, либо подразумевают применение более адекватных и эффективных способов. Человек, который постоянно пытается разрешать ситуации с помощью обсессивных действий, или постоянно избегающий опасности, или всегда уступающий другим, демонстрируют невротическое поведение, потому что это поведение делает невозможным спонтанность и ограничивает возможность получения удовольствия и развития субъекта. Таких людей называют обладающими невротическими характерами, «симптомом» чего является переживание неадекватности собственных компульсивных черт. Однако в прямом смысле слова это не болезнь, так как то, на что они жалуются, является не симптомом, разрушающим в целом здоровую личность, но только чертой этой личности, которую и сам человек, и его окружение принимают как некую особенность. Для людей с невротическими характерами возможно полностью отказаться от идеи о том, что с ними что-то не так, и отнестись как к нормальной, и даже привлекательной именно к той черте характера, которая психиатром диагностируется как невротическая. Чаще всего это происходит с людьми, прибегающими к обсессивной или шизоидной защите; фобическая и истерическая защиты не дают своим носителям возможность испытывать чувство превосходства.
Невроз в истинном смысле наблюдается только когда защита перестает работать. При этом желания, страхи, воспоминания и фантазии, которые раньше благодаря защите не осознавались, начинают проявляться, субъект переживает осознаваемую тревогу и это способствует образованию симптомов. Поскольку защита создается ценой ограничения личности и поведения, ситуация с неврозом приобретает парадоксальный оттенок. С одной стороны, это явно заболевание, сопровождающееся ростом тревоги и формированием симптомов, но с другой – прежде фиксированная личность приходит в состоянии подвижности и, благодаря этому, возникает возможность личностного роста и реинтеграции на более высоком уровне. Достижение такого позитивного исхода зависит от множества обстоятельств, одним из которых является то, довелось ли начинающему невротику встречаться с психотерапевтом до развития невроза. Другое обстоятельство – отношение его семьи. Многие ухудшения в состоянии невротика связаны с убежденностью его близких в том, что он сам должен постараться преодолеть это состояние (совет по большей части невыполнимый, поскольку это значит просить его вернуться в прежнее состояние, которое для него является неприемлимым), или которые сами настолько тревожные, что его невротическая тревога усиливается от осознания, что люди, в чьей поддержке он нуждается, сами требуют заботы.
Случай, когда человек, у которого развивается невроз, обращается за психотерапевтической помощью до того, как его состояние стало хроническим, является нетипичным, поэтому чаще всего после возникновения отдельных симптомов расстройства прогрессирует. Иногда симптомы являются составной частью спонтанного развития личности, как происходит в подростковом и юношеском возрасте, и исчезают при завершении кризиса. Иногда среда может оказаться более подвижной и податливой, чем считал пациент, благодаря чему ему удается перестроить свою жизнь таким образом, чтобы разрешить, вызвавший возникновение симптомов конфликт. Молодой человек, чьи ночные кошмары описаны в Главе 2, не стал хроническим невротиком. Его родители, пока он проявлял повышенную агрессивность к ним, оказались способными сохранять терпение и спокойствие, а когда он стал готов к выбору карьеры, они не стали этому препятствовать.
Однако, несмотря на то, что существуют кратковременные неврозы, исчезающие по мере преодоления внутреннего или внешнего конфликта, некоторые люди становятся хроническими невротиками. Это те неврозы, при которых различные проблемы заставляют избегать профессиональной помощи, и из-за них несчастных людей гораздо больше, чем могло бы быть. Известно, что на 2500 пациентов, обращающихся за помощью к врачу общей практики за год, только 175 получат консультации по поводу невротических заболеваний. Это составляет до десяти процентов всего взрослого населения, и кажется, что эти цифры скорее занижены, чем завышены. Невроз не обязателен для регистрации, поэтому большое число невротиков никогда не лечатся; хотя некоторые формы расстройства и не препятствуют профессиональной деятельности, несмотря на то, что обедняют личную жизнь, а другие проявляются в скрытой форме, и сам невротик принимает их за естественные жизненные проблемы.
Диагностика неврозов
Когда человек, у которого развился невроз, решает обратиться за медицинской помощью, он становится объектом медицинского обследования. Целью диагностики является, разумеется, определение заболевания, которым страдает пациент. Хотя иногда процедура ограничивается анализом наблюдаемых признаков и симптомов, производимым в знакомой пациенту обстановке, полная диагностика включает в себя применение всех возможных средств. Это особенно важно в случае невроза, поскольку его симптомы могут симулироваться в подражание физическому заболеванию, и врачи, как и широкая публика, чаще принимают невроз за физическую болезнь, чем наоборот. Такая асимметрия возникает вследствие ощущения, что более приемлемо иметь физическую болезнь, чем невроз. Невротические симптомы, выдаваемые за физические, как правило, не угрожают жизни, а физические признаки, сходные с признаками невроза, могут представлять угрозу – например, при опухоли мозга первым симптомом является головная боль, классический невротический симптом, – и лечение физических заболеваний, в целом, более систематизировано и стандартизовано, чем лечение неврозов.
Не только от физических заболеваний следует отличать неврозы; в расчет следует принимать психиатрические состояния: психозы и поведенческие нарушения, отличающиеся от неврозов и симптоматически, и в плане лечения и прогнозов. Следующие три раздела будут посвящены короткому анализу отличительных признаков неврозов по сравнению с соматическими болезнями, психозами и поведенческими нарушениями.
Невроз и физические заболевания
Поскольку симптомы невроза могут напоминать признаки физического дистресса, первым шагом при диагностике невроза является поиск доказательств того, что данные признаки не являются симтомами органического заболевания. Например, повышением уровня тревожности сопровождается тиротоксикоз или болезнь Грейвза, так как при нем нарушаются физиологические механизмы, обеспечивающие чувствительность при контакте со средой, а за другие физические проявления психогенной тревоги – сердцебиение или диарея, – могут нести ответственность сердечные или кишечные заболевания. Если у больного неврозом парализованы конечности, или у него нарушено зрение, или у него ком в горле, его жалобы на физическое состояние должны соответствовать не реальному функционированию организма, а имеющимся у пациента представлениям, как он работает в данный момент. Как уже отмечалось выше, для исключения физического заболевания важно, чтобы знания врача позволяли ему отличить то, что он видит сам, от того, что говорит ему пациент, и определить, что соматические жалобы истерика необоснованы.
Так как медицинские знания и методы диагностики не совершенны, доказательство психологического происхождения физических жалоб не может быть только негативным, то есть основанным на том, что все известные соматические заболевания могут быть исключены. Требуется также позитивные доказательства того, что симптомы выполняют психологическую функцию. В принципе, это можно делать двумя способами: посредством исследования обстоятельств первого проявления и усугубления признаков, а также выявляя отношение пациента к симптомам. Те из признаков, которые появляются в последний день каникул, утром перед уходом на работу или в школу, или когда в гости приходят родственники жены, скорее всего, являются симптомами невроза. Если пациент выражает явную беспечность по отношению к симптому, обнаружение которого должно было бы сильно его волновать, или если он описывает свой симптом с удовольствием, возникает впечатление, что пациент получает определенную выгоду от своего состояния. Хотя эти методы совершенно субъективны, практикующий врач часто достаточно компетентен в определении истерического и невротического поведения и ему легче ошибиться в тех случаях, когда невротик демонстрирует соматическое заболевание, чем на ошибочном признании соматического заболевания неврозом.
Невроз и психоз
Следующий шаг в диагностике неврозов – исключение возможных психозов. Психозы являются психиатрическими заболеваниями и отличаются от неврозов тем, что при них в значительной степени нарушена способность к рефлексии, поэтому пациент не может осознать факта своей болезни и ведет себя так, как если бы его расстроенные мысли и чувства были бы в порядке. Нормальных людей и невротиков объединяет способность знать, какого рода мысли у них в голове, и различать реалистичное мышление и грезы, серьезную деятельность и игру, буквальное и метафорическое, чувство вины и вину. Другими словами, они могут оценить логический ход каждой мысли и действия и даже грезя наяву, понимают, что это всего лишь грезы; если они чувствуют себя обязанным выполнять какой-то навязчивый ритуал и считают, что он необходим для избегания некой опасности, они при этом знают, что их действия лишены смысла и выполняются из суеверия. Если они находятся в депрессии и чувствуют себя так, как если бы совершили какое-то страшное преступление, они знают, что это только их настроение, и за ним ничего нет. У психотиков же такая способность к оценке мыслей, действий и чувств с точки зрения здравого смысла и определения их значимости и места в жизни больного утрачена. В результате кошмары и грезы превращаются в галлюцинации, а состояния депрессии или эйфория управляют поведением. Такая утрата понимания, конечно, представляет опасность и для пациента, и для общества, поскольку он может действовать на основе своих галлюцинаций. При мании величия человек ведет себя, как если бы он был кем-то другим, или присваивает право говорить от имени закона или даже приводить в исполнение смертные приговоры, вынесенные им самим. В состоянии эйфории человек может тратить не принадлежащие ему деньги; в состоянии депрессии – освобождать мир от зла, убивая себя; если такой человек считает, что его пищу отравляют, он может уморить себя голодом. Таким образом, различие между психозом и неврозом та же, что между нормой и ненормальностью, и для отнесения кого-то к категории невротиков нужно убедиться, что он обладает способностью соотносить свои проблемы с реальностью.
К вопросу о том, различаются ли психозы и неврозы по существу или только по выраженности, идет дискуссия. Хотя существует общее представление о том, что неврозы – это психологические нарушения, которые могут возникать у физически здоровых людей.
Мнения разделяются, когда речь заходит о так называемых функциональных психозах – маниакально-депрессивном и шизофрении, так как до сих пор не установлено, возникают ли они вследствие каких-то биохимических, метаболических или генетических нарушений, или являются психологическими расстройствами, и поэтому следует относиться к ним как к неврозам. Психиатры, придерживающиеся первой точки зрения, ссылаются на обширную литературу, в которой психозы соотносятся со специфическими физическими особенностями, хотя ни один из обсуждаемых случаев не имеет общего и непосредственного подтверждения, как это обычно бывает в медицине, когда какое-либо ранее загадочное заболевание в конце концов становится понятным. Психиатры, разделяющие второй взгляд, объясняют психозы либо выраженной травматической или эмоциональной депривацией, пережитой в раннем возрасте, либо использованием различных защитных техник. Так, согласно одной из теорий, предложенной в 1956 г. Дж. Бейтсоном (G. Beteson) и др. в работе «К теории шизофрении» (Towards a Teory of Schizophrenia), невозможность понимания при психозе не является базовым нарушением или дефектом, но может рассматриваться как защитный маневр, посредством которого психотик защищает себя от противоречий и неспособности выполнять требования, возникшей в детстве вследствие подавления активности по распознанию различий и нюансов в мыслях и чувствах. Согласно этому представлению, психотик охраняет свою целостность и свою идентичность, демонстративно принося их в жертву, – становясь никем, а также свою чувствительность, – делая ее недоступной для ощущений. В дальнейшем Лейнг (Laing), Эстерсон (Esterson) и Купер (Cooper) стали наиболее активными сторонниками данного представления о психозах.
Какую бы позицию мы ни занимали относительно сущности и проявлении психозов, практически важным различием между ними и неврозами является то, что первые связаны с тотальными личностными нарушениями, а вторые – с локальными, ограниченными нарушениями, наблюдающимися у людей, чья нормальность не вызывает сомнений, и на чье сотрудничество в процессе терапии можно рассчитывать. Таким образом, неврозы представляют собой предмет психотерапии, так как невротик способен вступать в «терапевтический альянс» с терапевтом, а нормальная и здоровая часть его личности способна осуществлять рефлексию сущности и причин его симптомов и его собственного участия в их преодолении.
Невроз и поведенческие нарушения
Третья стадия диагностики невроза – его дифференциация от так называемых поведенческих или личностных расстройств. В то время как неврозы характеризуются тревожностью, комплексами и симптомами, препятствующими личностным проявлениям, поведенческие расстройства характеризуются активностью, свободной от тревоги или переживания внутренних конфликтов, позволяющей говорить о девиациях, анормальности или эксцентричности, и ведущей к конфликту с обществом. Сексуальные извращенцы, наркоманы, алкоголики, психопаты, делинквенты и некоторые эксцентричные личности относятся психиатрами к категории страдающих от поведенческих расстройств, хотя и не все из них считают себя больными. Общество также не полностью уверено в том, что к таким людям нужно относиться как к больным.
Концепция поведенческого расстройства, действительно, весьма специфична. Под болезнью вообще понимается состояние, при котором страдание испытывает носитель. Хотя близкие пациента с диагнозом анемия или пневмония могут быть расстроены и обеспокоены его болезнью, нет никаких сомнений в том, что основная часть страданий выпадает на долю больного. То же справедливо в отношении психозов и неврозов. Если человек дезориентирован, находится в депрессии, страдает от импотенции или одержим навязчивыми идеями, главный страдалец – конечно же, сам пациент, и также несомненно, что он стремится скорее освободиться от своих симптомов, нежели удерживать их. Не существует серьезных аргументов в пользу того, что дезориентация, депрессия, импотенция или навязчивые идеи – это психические состояния, которые должны иметь моральную оценку.
Когда же мы имеем дело с гомосексуалистами, делинквентами, наркоманами или пьяницами, ни один из перечисленных признаков заболевания не работает. На самом деле: совсем не очевидно, что это гомосексуалист или пьяница страдает от гомосексуализма или алкоголизма, как не очевидно и то, что они хотели бы «вылечиться» от своей «болезни». И общество совсем не единодушно в своем отношении к людям с поведенческими расстройствами, как к объектам терапевтической помощи; их часто считают достойными осуждения и наказания, а не лечения. Действительно, такие люди выглядят на первый взгляд совершенно не похожими на физически больных, психотиков или невротиков, так как имеют в первую очередь не медицинские, а социальные проблемы, оказывающие негативное воздействие скорее на окружающих, чем на самих носителей, и находясь в условиях, вызывающих скорее общественное порицание, нежели взывающих к медицинской помощи.
Такое осуждение вызывается, в частности тем, что «симптомы» поведенческих расстройств самим нарушителям приятны. Гомосексуалисты отстаивают свое право получать удовольствие нравящимся им способом, а алкоголики – право на удовольствие пить, делинквенты также получают удовольствие или материальную выгоду от противоправных действий – хотя приятное или выгодное может вести к неприятным последствиям. Гомосексуалисты не радуются тому, что у них не может быть детей, алкоголику не может нравиться похмелье или цирроз печени, а делинквенту – тюремное заключение. Склонность осуждать людей с поведенческими расстройствами определяется также тем, что их действия не только антисоциальны, но и произвольны, по крайней мере, так выглядят. Идея о том, что кто-то получает удовольствие от действий, которые другие считают гадкими и отвратительными (как в случаях перверзий) или для которых эти другие слишком хорошо воспитаны (как в случаях делинквентности), весьма вероятно, может возбуждать зависть, а затем и моральное осуждение, а не сочувствие. Жалость и стремление лечить может возникнуть, только если мы примем во внимание отсроченные эффекты поведенческих расстройств.
Однако и помимо того, что исходы поведенческих расстройств могут вызывать сочувствие, есть причины рассматривать их как болезнь. Во-первых, тщательное клиническое обследование показывает, что страдающие поведенческими расстройствами не очень отличаются от тех, кто болен психически. Какие-то случаи можно, без сомнения, рассматривать и в рамках той модели неврозов, которая была описана выше. Например, мужская гомосексуальность может трактоваться как смесь бегства от женщин и подчинения мужчинам – и такой защитный ход объясняется психологическим климатом, в котором прошло детство этих людей. Алкоголизм и наркомании могут рассматриваться как способы фармакологической редукции невротической тревоги и депрессии или как формы бессознательного самолечения, которое является карикатурным вариантом попыток некоторых терапевтов лечить тревогу седативными средствами, а депрессию – стимулирующими.
На самом деле, поведенческие расстройства походят на неврозы тем, что являются реакцией на невротическую тревогу и защитой против нее. Отличие же заключается в том, что здесь тревогу пытаются преодолеть с помощью безрассудных действий, а не сдерживать ее, и что проблемы дезадаптации в большей мере связаны с попытками изменить внешний мир или состояние своего тела, чем с психологическими изменениями Я. Поведенческие расстройства являются примером аллопластической дезадаптации, в то время как неврозы – это пример аутопластической дезадаптации, если использовать термины, предложенные Ф. Александером (F.Alexander). Сходство этих форм косвенно подтверждается тем, что в обыденном употреблении слово «невротики» может относиться к представителям и той, и другой группы.
Другим основанием для того, чтобы рассматривать поведенческие расстройства как болезнь, является их саморазрушительность. Алкоголики и наркоманы активно разрушают собственное тело и сокращают перспективы собственной жизни, а делинквенты и психопаты в деструктивных действиях направляют вовне агрессивную энергию, которая неизбежно обращается на них самих.
Хотя существует крайне либеральная позиция, заключающаяся в том, что люди имеют право, если хотят, разрушать себя или свою жизнь, общество в целом придерживается другого мнения. Вплоть до недавнего времени суицид, саморазрушающее действие, был преступлением, и исторически это объясняется тем, что для Церкви самоубийство является преступлением против естественного закона и, следовательно, грехом. Секуляризация общества делает следование каноническому праву анахронизмом, но тот факт, что суицид не является уже преступлением, не значит, что он стал безразличным для общества действием; суицид остается феноменом, привлекающим общественное внимание, и безразлично, считают ли отдельные члены общества его грехом, преступлением или симптомом, или относят его в ведение Церкви, закона или медицины. Аналогично и люди с поведенческими расстройствами беспокоят общество, и при отсутствии эффективных средств, которыми духовенство ли, закон ли могли бы им помогать, заниматься ими должны будут психиатры, и мнение о том, что это больные люди, подкрепляемое теоретическими доказательствами, создает не нравоучительное или карательное, а терапевтическое отношение к ним. Однако, поскольку поведенческие расстройства превратились в социальную проблему, чего никак нельзя сказать о неврозах в узком смысле слова, их лечение вряд ли полностью передадут медикам, и мы едва ли увидим реализацию утопии, описанной С.Батлером (S.Butler «Te Way of All Flesh»), где он пишет об «обществе, где все преступники считаются больными».
Невроз, несчастливость и аномия
Есть еще два состояния, которые напоминают невроз, хотя соответствующие термины не являются медицинскими. Одно из них – это отсутствие счастья. Хотя невротик страдает и поэтому можно говорить, что он несчастлив, обратное утверждение о том, что все несчастливые люди – невротики, неверно. В этом отношении несчастливость напоминает тревогу или депрессию. Такое состояние может возникать вследствие какого-то вытеснения, или являться адекватной и неизбежной реакцией на изменение условий жизни. Представление о том, что идеально здоровый человек всегда счастлив, наверное, еще более абсурдна, чем представление о том, что такой человек никогда не волнуется; оно игнорирует такие очевидные факторы социальной жизни, как бедность и война, а также факт того, что психическое здоровье не имеет иммунитета к разочарованиям любви или неуспеха в карьере. Оно также предполагает, что счастье одного человека не зависит от состояния окружающих его людей. На самом деле, за исключением тех редких нарциссических личностей, которые в качестве своего жизненного девиза могут процитировать слова песни: «Какое мне дело до вас до всех, а вам до меня!», счастье зависит в равной степени от состояния тех, о ком человек заботится, от успеха в делах, от исполнения планов, важных для идентичности человека, от стабильности его личности и здоровья. Фрейд однажды заметил, что цель психоанализа заключается в превращении невротического страдания в обыкновенное несчастье. Несмотря на явный пессимизм, доля истины здесь все-таки есть: страдания невротика представляют собой приватные, ориентированные на себя переживания, которые предохраняют его от той боли и разочарования, которые неизбежны при активном образе жизни.
Другим состоянием является переживание своей неукорененности, известное в социологии под названием аномии. Этот термин впервые использовал Э.Дюркгейм (E.Durkheim) для описания состояния свободы от сдерживающих традиционных конвенциональных социальных ролей и ценностей, которое, как он полагал, ответственно за определенную форму суицида. Сейчас этот термин использует, в частности, Д. Райсман (D. Reisman) в работе «Толпа одиноких» (Te Lonely Crowd) для описания состояния дезадаптации и нарушения социальных соглашений. В таком широком смысле аномия наблюдается не только у тех, чьи жизни были перевернуты резкими социальными изменениями, но и у тех, кто активно отвергает конвенциональный образ жизни. Конформисты из числа психиатров могут быть склонны считать всех нонконформистов невротиками, но такое суждение имеет ценностное обоснование и ставит знак равенства между психическим здоровьем и конформностью, то есть тем образом жизни, который нравится им самим. Логическим выводом из такого представления будет переход психиатра из категории терапевтов в категорию охранителей социального порядка. Аномичные личности могут быть одинокими и чувствовать свою непринадлежность чему бы то ни было, но они не обязательно невротичны, так как это состояние детерминируется не психологически, а социально. Беженцы и эмигранты, не сумевшие из-за недостатка времени или возможностей вписаться в общество, одинокие старики, жертвы несовершенной социальной системы могут становиться одинокими и несчастными и даже совершать самоубийство; и если они это делают, то это скорее призыв к помощи, чем проявление неосознаваемых конфликтов. Конечно, невроз может приводит к аномии, особенно если речь идет о шизоидных и фобических формах защиты, так как связанное с ними отчуждение на самом деле влечет за собой реальную социальную изоляцию. Человек, страдающий фобиями, и никогда не выходящий из своего дома, шизоидная личность, с подозрением относящаяся к любым попыткам завязать с нею дружеские отношения, с течением времени утрачивают связи с друзьями и близкими и становятся одинокими так же, как и люди, испытывающие проблемы преимущественно социального характера.
Классификация неврозов
Когда установлено, что тревога и другие симптомы, наблюдающиеся у пациента, имеют невротический характер, следует решить, с каким именно типом невроза мы имеем дело в данном случае. Сам термин «невроз» не является исчерпывающим диагнозом, поскольку он всего лишь фиксирует, что пациент болен, а не одинок или несчастлив, и что обследовавшие его психиатры обоснованно уверены в том, что его заболевание не физическое и не относится к компетенции «большой психиатрии».
Следующий шаг заключается в определении вида невроза. К сожалению, однозначной стандартизированной процедуры, которую следовало бы иметь, в настоящее время не существует, так как, являясь отраслью медицины, раздираемой теоретическими спорами, психиатрия не имеет не только общих представлений о причинно-следственных связях, но и выработанных диагностических положений. В результате пациенты, обращаясь к разным психиатрам или в разные психиатрические клиники, коллекционируют противоречащие друг другу диагнозы, отражающие скорее пристрастия обследовавших их специалистов, нежели реальное состояние больного. Мне довелось видеть молодого человека, побывавшего за шесть лет в трех психиатрических клиниках, и получившего диагнозы: «психопатологическая личность» – в первом учреждении, «шизофрения» – во втором и «невротическая реактивная депрессия с обсессивными страхами» – в третьем. Первая клиника специализировалась на лечении личностных психопатологий, во второй занимались разработкой методов диагностики и лечения шизофрении, которые позволили бы заниматься болезнью еще до очевидного проявления ее симптомов (как сказал бы циник, при их отсутствии), профилем третьей клиники была психотерапия.
Следующая сложность вытекает из факта крайней индивидуализированности невротических симптомов, которые, к тому же, не такого рода, чтобы пациент мог их спокойно и отстраненно перечислять незнакомому человеку. Поэтому психиатры с разными личностными особенностями и использующие разные техники опроса могут извлекать из историй своих пациентов разные сведения, проблемы и симтоматику, и, следовательно, ставить разные диагнозы.
После этого неудивителен тот скепсис, который многие психиатры и психотерапевты выражают по отношению к диагностическим категориям, особенно к таким свернутым, как «истерия» или «обсессивный невроз», предпочитая им так называемые «динамичные формулировки». Типичным представителем последних является, например, «невротическая реактивная депрессия с обсессивными тенденциями»; эта формулировка информирует коллег о том, что пациент находится в депрессии, что это не психотическая депрессия, что, вероятно, она вызвана каким-либо событием, и что выявлена склонность пациента к использованию обсессивной защиты.
Оставляя в стороне эти сложности, можно говорить о необходимости выделения в рамках общей категории «невроз» нескольких частных подкатегорий, хотя бы для того, чтобы психиатрам было что писать в начале истории болезни; краткая классификация необходима также для статистических целей. Эта процедура имеет и эвристическую ценность, ввиду того, что дает возможность сложную феноменологию неврозов ограничить набором идеальных и легко распознаваемых «клинических картин», по отношению к которым случай конкретного клиента будет определяться как более или менее похожий.
Учитывая изложенный в данной работе материал, общую категорию «невроз» можно было бы разделить на четыре частных: невроз обсессивный, шизоидный, фобический и истерический. Однако это не так. Я лично считаю, что такая классификация теоретически возможна и практически полезна, однако не факт, что это убеждение соответствует диагностическим принципам отдельных психиатров или школ. Не соответствует это и Международной классификации болезней Американской психиатрической ассоциации (Te International Classifcation of Diseases or the American Psychiatric Association). Хотя обсессивный невроз, фобия (или фобические расстройства) и истерия являются используемыми всеми диагностическими терминами, понятие «шизоидный невроз» никогда не применяется, в то время как два других – «невротическая тревога» (или «состояние тревоги») и «невротическая депрессия», – употребляются часто.
Отсутствие категории, соответствующей предлагаемой «шизоидный невроз» означает, что пациенты, которые были бы определены как шизоидные невротики, получают другие диагнозы. В психоаналитической литературе широко употребим термин «шизоидно-обсессивный», а истерические и фобические расстройства часто интерпретируются как имеющие в основе шизоидную патологию. Причина отнесения пациентов, использующих шизоидную защиту, к другим диагностическим группам имеет исторический характер. Термин «шизоид» ввел Э.Блэйер (E.Bleuer) для описания личности (а не симптомов) пациентов, похожих на шизофреников своей отстраненностью, отчужденностью и взаимной непроницаемостью интеллектуальных и эмоциональных процессов, но при этом не дезориентированных, не имеющих галлюцинаций и, очевидно, остающихся по эту сторону границы, разделяющей норму и ненормальность. Следовательно, именно личность такого пациента, а не симптомы привлекает внимание психиатров, поэтому и речь идет о шизоидной личности или характере, а не о шизоидном неврозе. В последнее время, однако, в основном благодаря работам В. Фейрбейрна (Fairbairn) и М. Клейн (M. Klein), специфическое расщепление, или диссоциация, личности таких больных (на что, собственно, и указывает сам термин «шизоид») все чаще рассматривается как защитный маневр, используемый пациентами, которым не ставится диагноз «шизоидная личность». В результате шизоидная защита выявляется у людей, которые, будучи без сомнения невротиками, не создают впечатление потенциальных шизофреников, и таких пациентов, активно применяющих шизоидную защиту, по-видимому, имеет смысл называть шизоидными невротиками. Эти больные жалуются на застенчивость, робость, проблемы с идентичностью, ощущение бессмысленности, – и все эти симптомы возникают вследствие обостренной чувствительности к противоречиям между идеальным образом Я и банальным впечатлением, которое они производят в реальности.
Невроз тревоги
Невроз тревоги – термин, используемый для описания всех пациентов, чьи симптомы связаны преимущественно с тревогой, хотя большинство психиатров считают фобии, при которых тревога провоцируется специфическими ситуациями, либо отдельной клинической категорией, либо формой обсессивного невроза.
Пациенты, страдающие от невроза тревоги, жалуются на волнение, напряженность, раздражительность, возбужденность, взвинченность и т. д.; они постоянно находятся (или заявляют о том, что постоянно находятся) в тревоге. Их тревога «плавающая» в том смысле, что может вызываться (в отличие от случаев фобий) различными обстоятельствами и составляет фон их обыденной жизни.
Разумеется, единственного универсального объяснения такого общего симптома дать невозможно, в частности, потому, что невротическая тревога является всего лишь усиленной и пролонгированной во времени формой обычной эмоции. Иногда может сложиться впечатление, что жалобы тревожных людей частично объясняются ошибочным представлением об отсутствии тревоги у нормального человека и тревожности как признаке ненормальности. Однако, клинический и интроспективный анализ симптома «тревоги», переживаемого невротиками, дают основания для выделения в нем двух компонентов: сигнальная тревога, возникающая как следствие внешнего воздействия или ощущения того, что защиты не срабатывают, и эмоциональная, которая является либо реакцией на воздействие, либо сопровождает возвращение вытесненных образований, когда защиты перестают действовать. Этот второй элемент является, строго говоря, формой не тревоги, а какой-то другой эмоции, не очень понятной и пугающей больных. Часто случается, что пациент, жалующийся исключительно на тревогу, на самом деле впадает в гнев, неистовство или состояние сексуального возбуждения.
То, что человек считает себя тревожным, является доказательством не того, что он действительно таков, а только его мнения или желания считать себя таким. Поскольку психиатры и психоаналитики стремятся интерпретировать все функциональные симптомы, как проявление или следствие тревоги, и поэтому, как мы видели в Главе 1, используют слово «тревога» для описания всех видов психических расстройств или страданий, нетрудно встретить пациента, который говорит о своей тревоге, но не проявляет признаков этого состояния ни в одном из возможных значений термина. Недавно я консультировал мужчину, жаловавшегося на мучительную тревогу, преследующую его на протяжении десяти лет, и имеющего за плечами сотню часов психотерапевтических занятий по этому поводу. Так как он, рассказывая о своих мучениях «идеальному незнакомцу», выглядел совершенно довольным, я позднее навел справки и выяснил, что его убеждение в собственной тревожности было основано на ощущении постоянного дискомфорта в области живота. Этот дискомфорт, который он и три его психотерапевта называли «тревогой», ни разу в жизни не помешал ему заснуть, переваривать пищу, вести машину или играть в теннис. Таким образом, хотя у человека, испытывающего (или воображающего, что он испытывает) постоянную боль, наверное и в самом деле что-то не так, и хотя три разных специалиста имели основания полагать, что где-то в глубине скрывается тревога, от тревоги этот человек не страдал. Он так считал, и это давало ему законный повод для поиска психиатрической помощи и получения поддержки, необходимой по совершенно другим причинам.
Может показаться странным, что кто-то желает думать о себе, как о страдающем от тревоги, но для этого могут быть, по крайней мере, две причины. Во-первых, склонность к переживанию тревоги можно считать проявлением особой чувствительности и утонченности, которых лишены простые смертные. В избранных кругах может предпочитаться термин «angst», и страдать им – признак не только чувствительности, но и дань, приносимая «Эпохе тревоги», в которой мы якобы живем. Таких людей не заденет сентенция доктора Д. Джонсона (D. Johnson) о том, что происходящие в мире события не интересуют ни одного человека настолько, чтобы он из-за них проснулся бы на час раньше или съел бы на унцию меньше. Во-вторых, человек может хотеть считать себя страдающим от тревоги, чтобы склонять окружающих к оказанию ему поддержки в неприятных ситуациях. Этот ход основан на мнении о том, что тревога – это не только неприятное, но и разрушительное переживание, и считать, что тревожный человек сможет справиться со стрессом, так же жестоко и рискованно, как заставлять человека со сломанными ногами участвовать в гонках. Люди, получающие выгоду от идеи о том, что тревога – признак болезни, описывают, как правило, свою тревогу как «невыносимую», и при этом умело избегают ситуаций, в которых могли бы выяснить, каков на самом деле их порог переносимости тревоги. Так как защиты складываются в детстве, невротики склонны к общей недооценке своей возможности переносить тревогу; они принимают без доказательств, что их Эго все еще настолько же хрупкое, каким было на момент травмы, впервые спровоцировавшей защиту.
В предыдущем абзаце мы обсуждали истерические манипуляции с идеей тревоги, а не тревогу саму по себе, но ведь не все тревожные невротики таковы. Напротив, хроническая, постоянная тревога – совершенно реальный и тяжелый симптом и, поскольку физиологически тревога является проявлением состояния повышенной настороженности, вся жизнь ее жертв протекает при таком высоком возбуждении, которое здоровые люди испытывают только время от времени. В результате, переживающие невротическую тревогу страдают от физических симптомов двух видов: тех, которые являются физическим сопровождением тревоги, и тех, которые являются последствием непрерывного стресса.
При тревоге, как при страхе, возникает состояние повышенной физиологической активности. Учащается сердцебиение и дыхание, напрягаются мышцы, обостряются зрение и слух. Организм готовится к отражению нападения, но нападения не происходит. В результате физические ощущения тревоги сами переживаются как симптомы. У испуганного человека нет времени для того, чтобы осознать или учесть детали своего состояния; болезненно тревожный обостренно осознает, что его сердце колотится, дыхание учащено, он напряжен, а повышенная острота его зрения и слуха делает его раздражительным и буквально сверхчувствительным. Эти физические симптомы могут быть причиной, а не следствием тревоги, и многие по-настоящему тревожные пациенты жалуются, в первую очередь, на неприятное сердцебиение, проблемы с дыханием, мышечные боли. В прежнее время, случаи невроза тревоги нередко диагностировались как сердечные заболевания, и такой диагноз приводил к повышению тревоги, и, вследствие этого, к неоправданной инвалидизации.
Кроме страданий от физических проявлений тревоги пациенты с неврозом тревоги склонны к хроническому утомлению и истощению. Необходимость поддерживать длительное время психологическое состояние, призванное справляться с кратковременными опасностями, сама по себе истощает, а усугубляет положение тот факт, что тревога и глубокий сон несовместимы. Более того, в отличие от страха и нормальной бдительности, невротическая тревога не имеет адекватных путей отвода, и, следовательно, невротик расходует энергию на подавление потребности действовать, частично определяющей его тревогу. В результате люди с невротической тревогой склонны к напряжению, возникающему как из-за необходимости контролировать тревогу, так и из-за ее наличия.
Теоретически, невроз тревоги можно рассматривать как результат неудачного применения защитных техник, описанных в предыдущей главе, и она, предположительно, возникает до освоения этих техник, как это наблюдается в тревожных состояниях детского и подросткового возраста, или после того, как техники становятся неэффективными из-за изменений в образе жизни пациента. Поэтому часто невроз тревоги развивается после ухода из дома или школы, после окончания университета, после свадьбы, после рождения первого ребенка, после движения вверх по служебной лестнице или после выхода на пенсию – то есть, после таких изменений в условиях жизни, которые делают привычные паттерны поведения и защиты неадекватными или неприменимыми. В психотерапевтической практике много случаев, демонстрирующих ситуацию, когда фаза, на которой тревога была единственным симптомом, завершается формированием другого невроза.
Невротическая депрессия
Невротическая депрессия уже обсуждалась в Главе 3, где описывалось два вида депрессии: меланхолическая депрессия, при которой пациенты чувствуют вину, страдают от угрызений совести и ведут себя так, как если бы совершили ужасное преступление, и депрессия как более общее переживание подавленной витальности, возникающее при чрезмерном сдерживании. Первый и второй из признаков меланхолической депрессии могут быть основанием для диагноза невротической депрессии. Он похож на диагноз невроза тревоги тем, что просто указывает на основной симптом пациента, у которого нет ни физического заболевания, ни психоза. В случае невротической депрессии последнее имеет особое практическое значение, потому что депрессия является основным симптомом одного из функциональных психозов – маниакально-депрессивного, – при котором постоянно присутствует риск суицида. Согласно «Учебнику психиатрии» Гендерсона и Гиллеспи (Henderson, Gillespie. Textbook of Psychiatry), случаи, диагностируемые как невротическая депрессия, могут быть отнесены к категориям истерического или умеренно выраженного маниакально-депрессивного психоза. Однако, как я писал в Главе 3, переживания тревоги, вины и депрессии настолько плохо дифференцируемы, что жалобы на депрессию могут возникать при других видах неврозов.
Обсессивный невроз
Особенности обсессивного невроза уже обсуждались в Главе 3, где описано, как интернализация жестких авторитарных родительских образов приводит к конфликту между Суперэго и другими частями личности, и как на основе этого конфликта развивается невротическая вина, возникают обсессивные мысли и ритуалы. Я также рассказывал в Главе 5 о типе личности, который формируется у людей, привычно использующих обсессивную защиту. Обсессивный невроз наблюдается, как правило, на фоне обсессивных черт личности, хотя корреляция не абсолютна. Согласно Поллитту (1960), в 34 % из 115 случаев обсессивного невроза до расстройства характерных обсессивных черт не наблюдалось, при этом обсессивные личности склонны также к депрессии, которую, таким образом, можно рассматривать как интенсивную форму обсессивного чувства вины.
Симптомы обсессивного невроза могут быть двух видов: компульсивные, или навязчивые мысли и образы, и компульсивные действия или ритуалы. Компульсивные мысли отличаются от нормального мышления своей чуждостью системе осознаваемых отношений и ценностей пациента, они переживаются как насильственно вторгающиеся в естественное течение его мыслей и чувств. Фрейд в своей работе «Об одном случае обсессивного невроза» (Notes upon a case of Obsessional Neurosis) описывает молодого человека, мучимого навязчивым образом, – крысы, вгрызающейся в анусы его невесты и отца, – при том, что к невесте он относился с величайшим уважением, а его почтенный отец несколько лет как скончался. Этот пример ярко демонстрирует наиболее характерные особенности обсессивных мыслей: они эксцентичны, абсурдны, тягостны и грубы, поразительно контрастны по отношению к чистому, упорядоченному, логическому и возвышенному сознанию человека. Некоторые пациенты одержимы мыслями о том, что они могут внезапно, помимо желания, сделать что-либо возмутительное или отвратительное. Я уже упоминал о страхе разразиться богохульствами в церкви. Еще одним примером может служить случай молодой женщины, которая не могла есть за одним столом со своим мужем – ее мучало предчувствие того, что однажды она вонзит свою вилку ему в руку. Эта мысль не была выражением враждебности по отношению к мужу, которого она нежно любила.
Некоторые обсессивные больные, сделав что-то, сомневаются в том, сделали ли они это. Такие пациенты, например, проверяют и перепроверяют, выключили ли они газ, заперли ли дверь, оплатили ли счета, хотя легко могут восстановить в памяти соответствующие действия. Такие навязчивые сомнения иногда могут становиться настолько сильными и разрушительными, что буквально парализуют жизнь больного. Для обсессивных мыслей и сомнений характерно, что их довольно просто интерпретировать как доказательство гораздо большей амбивалентности, чем может позволить себе думать сам пациент. Навязчивая идея является выражением некоторого вытесненного импульса в замаскированной форме или представляет попытку защититься от разрушительного воздействия такого импульса. Однако, было бы ошибкой полагать, что амбивалентность всегда направлена непосредственно на объект обсессивной идеи. Женщина, представляющая себя вонзающей вилку в руку мужа, относится амбивалентно не к мужу как таковому, а к представителю целой категории мужчин, которые и вызывают у нее амбивалентные чувства.
Компульсивные действия обычно сами по себе являются тривиальными, а их болезненность определяется тем, что пациент чувствует необходимость повторять их, переживая в случае невозможности повторения тревогу. Они похожи на личные суеверия. Одежда, предметы на столе или доске должны находиться в особом, обычно симметричном порядке. Мыться надо в соответствии с особым алгоритмом, а когда уходишь из дома, к каким-то предметам надо прикоснуться, а каких-то избегать. Распространенная у детей привычка не наступать на трещины в мостовой часто указывается в качестве типичного навязчивого действия, хотя большинство детей, делавших это, повзрослев, не заболевают обсессивным неврозом. Еще одним вариантом проявления компульсивности может быть навязчивый счет. Таким людям, прежде чем принять решение, нужно сколько-то раз пересчитать, им нужно считать ступени на каждой лестнице, по которой они поднимаются, или им нужно избегать определенных чисел и поэтому прибегать к иносказаниям, называя результаты каких-то вычислений, где эти числа (не обязательно тринадцать) присутствуют. Такие действия бессмысленны, и пациенты понимают их бессмысленность, но, тем не менее, чувствуют, что только таким образом можно предотвратить некое зло, и если они этого не сделают, то с ними, их родителями, супругами или детьми может произойти нечто ужасное – что именно, обычно не формулируется. Совершая такие действия, напоминающие действия, продиктованные суеверием, больные пытаются защититься от иррациональных страхов с помощью настолько же иррациональных поступков, и логика здесь магическая, а не научная или обыденная. Такие действия следует рассматривать как перверзии защитных техник управления, описанных в Главе 5; чувствуя себя подверженными нападению со стороны непонятных и необъяснимых с точки зрения законов разума сил, обсессивные личности отвечают на такую угрозу, формируя аналогичный магический, или «контр-магический», стиль реагирования.
Фобии
Фобии обсуждались в Главе 1, где я ссылался на них как на очевидный пример невроза тревоги и указал объекты и ситуации, которые чаще всего провоцируют фобическую тревогу, а в Главе 5 я представил описание фобической защиты. Также мы говорили уже в этой главе о том, что одни психиатры рассматривают фобические симптомы как проявление тревожного, а другие – обсессивного невроза. Однако, фобия отличается от невроза тревоги тем, что фобическая тревога вызывается определенными объектами или ситуациями, в то время как во втором случае тревога генерализована и свободна. Отличие же от обсессивного невроза заключается в том, что при последнем акцентируются особые повторяющиеся действия, совершение которых должно предотвратить некие неопределенные, но страшные угрозы. Хотя ни фобические, ни обсессивные личности на самом деле не знают, что вызывает их тревогу, первые считают, что им это известно, но чувствуют себя неспособными противодействовать, а вторые считают, что им известно, как им справляться, но не знают, с чем. Другими словами, хотя фобия и обсессивный невроз похожи тем, что их симптомами являются защиты против тревоги, проявляющейся как невротическая тревога, они различаются тем, что в одном случае защита используется для избегания, а в другом – для контроля.
Истерия
Невроз тревоги, обсессивный невроз и фобия – термины с ясным происхождением (первые два понятия предложены Фрейдом), попросту фиксирующие основной симптом того состояния, которое эти слова обозначают. Они всего лишь удобные описательные маркеры, и ничего большего за ними не стоит. С истерией, однако, все по-другому. Со времен античной Греции это слово вмещает в себя некую научную концепцию, до сих пор еще не полностью изжитую, о том, что это специфическое заболевание, подобное тифозной лихорадке или рассеянному склерозу. Другим отличием от прочих психиатрических терминов является наличие уничижительного оттенка: назвать кого-то истериком – практически сказать, что тот способен на кривляние, симуляцию и притворство. Эти две причины сделали термин «истерия» крайне неудобным, и в 1952 г. Американская психиатрическая ассоциация исключила его из своей «Стандартной номенклатуры болезней» (Standard Nomenclature of Diseases), поместив вместо него термин «конверсиональный симптом». Однако в 1955 г. он оказался в «Международной классификации болезней» (International Classifcation of Diseases) (хотя и в развернутой форме: «истерическая реакция без признаков реактивной тревоги»), которую использует «Национальная служба здоровья» (National Health Service).
Так или иначе, идея истерии живуча, и этот диагноз частенько появляется в историях болезни. Наиболее близким к точному определению истерии будет такое, при котором требуется соблюдение условий: а) пациент жалуется на физические симптомы, которые не проявляются в каких-либо объективных признаках; б) симптомы соответствуют представлениям пациента о работе тела, а не реальным данным анатомии и физиологии; в) пациент не тревожен, сопротивляется идее о психогенном происхождении симптомов и избегает любой возможности выявить наличие у него психологических и личностных проблем.
Истерические проявления, такие как паралич рук или ног, потеря зрения или речи, судорожные припадки или обмороки со времен Фрейда описываются как конверсионные симптомы на том основании, что они возникают вследствие превращения (конверсии) идеи в физический симптом, в результате чего пациент (а чаще пациентка) отвлекается от болезненной идеи, воспоминания, эмоции или конфликта, вместо которых формируется физическое нарушение, оправдывающее поиск медицинской помощи. В предыдущей главе я предположил, что этот процесс конверсии является средством, с помощью которого пациент, чувствующий беспомощность в прямом отстаивании своих интересов, может занять подчиненную позицию и, таким образом, разоружить окружающих, привлечь внимание, на которое, по своему глубокому убеждению, он не имеет права. Интересно, что, хотя психоанализ и психопатология начинались с исследований именно истерии, механизм действия истерической конверсии остается полной загадкой, как и то, почему некоторые люди могут им пользоваться, а другие – нет. Однако отнесение истерии к психологическим расстройствам является признанным фактом.
Процесс конверсии определяет враждебность, с которой к истерику, вопреки Фрейду, нередко относятся как их близкие, так и их врачи. Те и другие чувствуют, что симптомы являются не тем, чем кажутся, а больной хочет не того, о чем просит; врач к тому же ощущает, что должен работать с симптомом, представляющим собой карикатуру или симуляцию тех нарушений, которые он умеет лечить. Поэтому окружающие чувствуют себя в ложном положении людей, которых просят помочь кому-то, кто не может или не хочет сказать, в чем же дело, и склонны реагировать на это раздражением. Со своей стороны, истерики оказываются объектом осознаваемого или бессознательного шарлатанства со стороны терапевтов, готовых признать соматический характер их расстройств. Истерик, добравшийся до кушетки аналитика, почти всегда рассказывает историю о своем лечении у представителей околомедицинских практик самого разного профиля – например, остеопатов, акупунктурщиков или сциентистов.
Данное положение дополнительно осложняется тем, что большинство истерических пациентов, как правило, составляют женщины, а большинство врачей, как правило, – мужчины. Вследствие этого требование внимания и драматическая, актерская манера предъявления симптомов создает у лечащего истерическую женщину врача ощущение общего эмоционального давления, имеющего, как он часто подозревает (и по большей части, справедливо) сексуальный характер. Ж. Брейер (J.Breuer), соавтор «Исследований истерии» (Te Studies on Hysteria), переориентировавших Фрейда с нейрологии на психоанализ, ушел со сцены, когда осознал, до какой степени истерия является сексуальным расстройством.
Идея о том, что истерия – это сексуальное расстройство, имплицитно присутствует в самом названии, происходящем от hysteron, греческого обозначения матки. До конца восемнадцатого века истерические симптомы обычно объяснялись как возникающие вследствие каких-то нарушений в матке. Согласно одной из теорий, матка является подвижным органом, – иные авторы даже считали ее животным, – который может перемещаться по телу, сдавливая другие органы и повреждая их. Согласно другой, истерия является следствием сексуального воздержания, из-за которого животные духи, освобождаемые при половом контакте, скапливаются, и это приводит к «удушью матки». Полагали также, что эти духи или «пары» распространяются от матки к другим органам, оказывая вредное воздействие, порождая параличи, ощущение удушья и судороги. С утомительной регулярностью литература указывает на бόльшую склонность к истерии девственниц и вдов по сравнению с замужними женщинами, и у женщин из хорошего общества по сравнению с простыми крестьянскими и рабочими девушками. Согласно Ильзе Вейт (I. Veith), из работы которой «Истерия: история болезни» (Te History of a Disease) я почерпнул эти донаучные и доаналитические теории истерии, сфера действия истерии изменилась в наше время в связи с социальной динамикой; она утверждает, что это расстройство наблюдается только у «необразованных из низшего социального слоя», и объясняет это распространением психоаналитических идей. Несмотря на это, истерия является обычным объектом частной психоаналитической практики.
Одним из достижений медицины девятнадцатого столетия, и в частности Фрейда, было спасение пациентов с конверсионным симптомом от этой смеси суеверных бессмыслиц и от порождаемых ими нелепых и часто бесчеловечных способов лечения, а также придание истерии статуса предмета научных исследований. Психологи и неврологи продемонстрировали, что маточные теории истерии были фантастическими, а Фрейд показал, что истерия – и психологическое, и непсихологическое нарушение. Он также выявил, что истерические симптомы могут наблюдаться у мужчин, хотя здесь он имел предшественника. В. Сиденхам (V.Sydenham) – врач шестнадцатого столетия, которого часто называют отцом английской медицины, открыл, что истерические симптомы могут быть у мужчин, и обошел сложности словоупотребления, связанные с диагностированием у них этого расстройства, предлагая называть мужскую истерию ипохондрией.
Хотя конверсионные симптомы являются главенствующим признаком истерии, существует еще ряд других состояний, традиционно обозначаемых как истерические. Среди них: потеря памяти (истерическая амнезия), псевдодеменция (при которой пациент ведет себя в соответствии с тем, как он представляет себе поведение ненормального), лунатизм, реакция бегства (при которой пациент может блуждать, забывая, где он и кто он), а также двойная или множественная личность (когда пациент переключается с одной личности на другую, забывая о действиях, которые он совершал, будучи другой личностью, подобно выдуманным доктору С. Джекиллу (S. Jekyll) и мистеру Б. Хайду (B. Hyde)).
Эти состояния характеризуют конверсивную истерию наличием раскола, диссоциации психической активности, который главная личность не осознает, и тем, что они производят на наблюдателя странное впечатление охваченности пациента какой-то посторонней для него силой. Одна из донаучных теорий истерии заключалась в том, что истеричка является невольной жертвой демона, овладевшего ею, и, таким образом, лечение должно быть сведено к изгнанию этого демона с помощью соответствующих религиозных обрядов. Иногда же она сознательно вступает в союз с дьяволом, имеет с ним половую связь и в этом случае является ведьмой. Ильза Вейт, чью работу я уже цитировал, и Дж. Зильбург (G. Zilboorg) полагают, что у большинства ведьм, подвергшихся жестоким гонениям в пятнадцатом и шестнадцатом веках, сейчас было бы диагностировано психическое заболевание и истерия.
Названные истерические состояния также похожи на конверсивную истерию тем, что допускают интерпретацию в терминах мотивации. В самом деле, в большинстве из них можно увидеть средства, с помощью которых человек, переживающий собственную беспомощность или неразрешимость ситуации, может, тем не менее, добиваться свободы. Истерическая псевдодеменция возникает, по-видимому, только у ожидающих суда заключенных; истерическая потеря памяти, как правило, сопровождает конфликтные ситуации, у которых нет – или кажется, что нет, – решений; а реакция бегства описывается в учебниках психиатрии как расстройство у мальчиков-учащихся закрытых школ, и солдат в действующей армии.
Сексуальные симптомы при неврозах
Хотя эта книга посвящена тревоге и неврозам, а не сексуальным расстройствам, необходимо отметить, что большинство невротиков жалуются на проблемы в сексуальных отношениях и ту или иную форму неспособности получать удовлетворение. Так как неврозы нарушают личностные отношения, тревога и защиты выражаются в сфере сексуального поведения. Это дает возможность применения той схемы, которую я обсуждаю на протяжении всей книги. Тревога сама по себе, а также четыре вида применяемых против нее защит препятствуют естественному сексуальному удовлетворению: так обсессивная защита нарушает спонтанность, шизоидная – делает невозможной эмоциональную вовлеченность, фобическая – может порождать импотенцию и фригидность, истерическая – приводит оба пола к пассивности и непостоянству, несовместимыми с сексуальной радостью. Однако, существует два возражения или ограничения такого подхода.
Во-первых, сексуальное поведение подразумевает участие двух, а не одного партнера. Хотя вполне оправданно рассматривать обсессивность или фобию как свойство личности, страдающей ими, не так просто сказать, является ли сексуальный «симптом» проявлением реальной патологии партнеров, – или же это свидетельствует о каких-то ненормальных отношениях между ними. Если мужчина жалуется на импотенцию, возможно, что у него невроз, из-за которого он не получает сексуального удовольствия при любых обстоятельствах и с любой женщиной, но также возможно, что его жена оказывает такое подавляющее воздействие, или же что отношения между ними таковы, что препятствуют даже возможности возникновения сексуального влечения. Довольно обычно для мужчин принимать обвинения в импотенции от своих жен, хотя на самом деле сами жены и расхолаживают их; или для женщин упрекать себя за фригидность, при том, что мужья не смогли разбудить их чувственность; или для обеих сторон уличать друг друга, в то время как в реальности их брак не имеет прочной основы.
Во-вторых, сексуальное поведение не определяется только функциональными возможностями, оно также связано с вопросами морали и эмоциональной близости, не подлежащих компетенции медицины. Состоящие в неудачных браках люди ищут решения своих проблем, убеждая психиатра излечить его «импотенцию» или ее «фригидность», обычно, хотя и не всегда, обманывая сами себя. Если же они обращаются к психотерапевту, они должны быть готовы потратить столько же времени на то, чтобы отрефлексировать разнообразные обманы, обиды и разочарования, которые накопились за время их брака, сколько и на обсуждение их сексуальных проблем.
Прогноз
Если бы это была глава медицинского учебника, ее следовало бы заключить обсуждением проблемы прогноза, то есть устойчивости разных видов невроза и шансов на выздоровление в случае лечения и при отсутствии лечения. Поскольку, разные виды неврозов не являются взаимно исключающими феноменами, то конкретные пациенты могут проявлять симптомы более чем одного невроза одновременно, поэтому, не всегда возможно установить прямую и очевидную связь между неврозом и соответствующим типом личностных защит, что затрудняет установку психиатрического прогноза. Некоторые обобщения, однако, возможны. Во-первых, защитные паттерны поведения относительно стабильны. Переход, скажем, с преимущественно обсессивной к преимущественно истерической защитной адаптации наблюдается крайне редко, потому что защитные паттерны формируются в детстве, и, вероятно, при влиянии конституции и темперамента. С течением времени, однако, паттерны защиты могут становиться более или менее ригидными, и спустя годы у человека обсессивность или истеричность может проявляться сильнее или слабее. Во-вторых, защиты и симптомы, возникающие вследствие процесса интернализации и выполняющие функцию предупреждения восстановления вытесненных, неосознаваемых импульсов, при отсутствии лечения должны меньше изменяться по сравнению с теми, которые являются реакцией на внешний стресс. Такие сложные психопатологические образования, какими являются депрессивный, обсессивный, шизоидный и фобические симптомы, формирующиеся при участии процессов интернализации, проекции и символизации, не должны исчезать сами по себе, в отличие от тревожных состояний или конверсивных симптомов. Последние, по крайней мере частично, соответствуют наличным средовым воздействиям, и поэтому будут ослабляться при улучшении внешних условий жизни. Конверсивные симптомы – но не предрасположенность к ним, – вероятно, в наибольшей степени зависят от взаимоотношений, в которых участвует пациент. Если им придают высокую ценность и при этом оказывается, что они способствуют определенного рода инвалидизации, приносящей внимание и власть, они будут сохраняться бесконечно долго; но в случае, если они никого не впечатляют и на них не обращают внимание, они так же внезапно исчезнут, как и появились. Я неоднократно оставлял пациентов с парализованными ногами на моей кушетке в абсолютной уверенности, что когда через полчаса я вернусь, ни паралича, ни пациента уже не будет.
Глава 7 Терапия неврозов
Хотя неврозы являются психогенным заболеванием, их причины следует искать в индивидуальной истории, эмоциональных связях, как в прошлом, так и в настоящем, учитывая физиологические особенности и их влияние. Как я подчеркивал ранее в этой работе, двумя самыми главными симптомами невроза действительно являются тревога и депрессия. Эти симптомы являются не просто психическими явлениями, но и психофизиологическими. Они являются проявлением всего нашего существования, где только вербальные условности вынуждают нас описывать эти явления, учитывая как психологию, так и физиологию. Все другие эмоции, как положительные, так и отрицательные имеют в этом сходство с тревогой и депрессией.
Следовательно, неврозы, или как минимум некоторые их проявления, могут изменяться под действием физиологических факторов. Тревожность и депрессию можно как увеличить, так и уменьшить физиологическими факторами. На практике, конечно, число случаев, когда кто-нибудь желает усилить депрессию или тревогу, почти не встречается. Однако, так как депрессия и тревога относятся к практически противоположным состояниям души и тела, передозировка успокоительных лекарств или гипноз, направленные на понижение тревожности, может привести к усилению депрессии, а передозировка транквилизаторов и антидепрессантов, возможно, увеличит тревогу.
Следовательно, физические аспекты тревоги и депрессии поддаются лечению психотропными препаратами, которые, несомненно, являются наиболее распространенным средством лечения невротиков. Эти лекарства разнообразны и включают в себя нейролептики, транквилизаторы и антидепрессанты, подробное обсуждение которых будет неуместно в данной работе.
Однако их популярность еще не означает их полную или даже частичную эффективность. Возможно, популярность во многом обусловлена рядом дополнительных факторов, таких как отсутствие у большинства врачей времени и подготовки для применения любой формы психотерапии. Хотя многие, возможно, даже большинство невротиков, предпочтут избавление от текущего несчастья посредством детального изучения себя, а не лечением препаратами. Использование медикаментов часто действительно является защитой, ввиду того, что это позволяет пациентам отрицать масштаб и природу их заболеваний, а врачам держать пациентов на психологической дистанции. Опыт работы доктора М. Балинта (М. Balint) в Тавистокской клинике показывает, что терапевты скрывают количество запрашиваемых препаратов для лечения обычных физических симптомов из-за нежелания использовать психологическую помощь и вдаваться в подробности невроза. Однако внутреннее сопротивление, как терапевта, так и пациента, должно быть преодолено.
Еще один фактор, относящийся к столь широкому использованию препаратов при лечении неврозов, является эффект плацебо, это видно при применении «пустышек» – фармакологически неактивных препаратов. Они часто на какое-то время успокаивают тревогу. Многие невротики, которые используют защиту от фобии и истерии, крайне внушаемы и в сочетании с доверием к медицине и уважением к врачу, который предписывает лекарство, их применение часто производит обнадеживающий эффект.
И, как заметил Иан Освальд (I. Oswald) в его последней книге «Сон» («Sleep»), снотворное сегодня исполняет роль, которую раньше играло слабительное, и все богобоязненные граждане прошлого поколения принимали его ежедневно. В 1963 году терапевты Государственной Службы Здравоохранения (National Health Service) выписали пять миллиардов пилюль снотворного, что в пять раз больше, чем десять лет назад, хотя никто не заявляет, что количество бессонниц увеличилось вдвое, или что нация более отдохнувшая и энергичная, чем раньше.
Помимо сомнений в эффективности, лекарства, которые используют при лечении неврозов, имеют ряд особенностей.
Во-первых, все лекарства, уменьшающие тревогу, обязательно снижают бдительность. Они также снижают эффективность решения сложных и опасных задач пациентом в чрезвычайных ситуациях. В недавнем «Информационном бюллетене», выпускаемом Министерством Авиации, один пилот отметил, что «страх – это нормальное состояние, он сильно повышает бдительность. Транквилизаторы и антидепрессанты являются причинами фатальных авиакатастроф».
Хотя мало кто из нас летчики, действия на земле тоже бывают опасными, требуя быстрых и обдуманных реакций. А использование лекарств, снижающих бдительность, которые обычно выписываются, чтобы позволить пациентам нормально работать, несмотря на их неврозы, не исключают этих рисков.
Во-вторых, эти лекарства, даже когда они облегчают симптомы, на самом деле не воздействуют на причину заболевания. Даже если пациент идет на поправку после определенного периода принятия лекарства, остаточные явления невроза остаются. Поэтому есть вероятность попадания пациентов в аналогичное состояние снова. Если было бы больше людей, способных осуществлять психотерапевтическую помощь, то возник бы массовый протест против распространенного лечения невротиков лекарствами. Однако, так или иначе, использование лекарств продолжается, т. к. врачи и пациенты считают, что хоть какое-то лечение лучше, чем его отсутствие. И это право пациента и долг врача предпринимать что-то, даже когда последний понимает, что не может быть достигнуто действенного результата. Это последнее утверждение прозвучит цинично только для врачей, которые считают, что их роль ограничена только прописанными терапиями и что они должны избегать всех действий, требующих психологического воздействия.
Я полагаю, уже должно было стать очевидным, что психотерапия является альтернативной формой лечения неврозов. Но перед тем, как обсуждать этот вопрос, необходимо затронуть относительно новую форму лечения, которая известна как поведенческая терапия. Эта форма лечения стала известна, в основном благодаря тому, что она использовалась Х. Айзенком (H. Eysenck).
Поведенческая терапия основана на теории научения. Она предполагает, что симптомы обязаны своим появлением неверно сформированным навыкам и ставит своей целью устранение этих симптомов с помощью приемов, направленных на отказ от старых и выработку новых навыков. Ее теоретическая база резко отличается, от основ психоанализа тем, что в ней отвергается идея о наличии скрытого процесса или болезни, симптомы которых являются лишь их внешним проявлением.
Большая часть успехов поведенческой терапии связана с лечением фобий и поведенческих расстройств, т. е. тех состояний, в которых возможно выделить какой-то определенный симптом, как мишень для терапевтического вмешательства.
Парадигма терапии поведения была создана Д. Ватсоном (J. Watson) американским психологом, который впервые экспериментально вызвал у 11-месячного сироты Альберта фобию на белую крысу, издавая громкий шум, как только Альберт пытался поиграть с ней, и потом с помощью ассистентки Мэри Ковер (M. Cover) он вылечил его от фобии. Ассистентка давала сироте шоколад, когда он видел белую крысу. Это экспериментальное лечение, изменяющее ассоциации и тем самым подавляющее невроз потребовало определенного времени. Сначала Альберт не замечал шоколадки и хотел сбежать от крысы. А когда ассистентка отнесла крысу в дальний угол комнаты, из которого эксперимент контролировался, Альберт брал шоколад охотно, хотя и смотрел с опаской на грызуна. Позже ассистентка с каждым последующим экспериментом подносила крысу все ближе и ближе, до тех пор, пока Альберт не перестал бояться и смог играть с ней. Научная ценность данного эксперимента заключается в том, что фобия может быть вылечена изменением условий или избеганием этих условий и обстоятельств.
При лечении неврозов у взрослых используются, конечно, более сложные процедуры. Они включают создание различных моделей или игрушек, вызывающих фобию. Смотря на них, разговаривая о них, обсуждая их вместе с терапевтом, происходит лечение пациента.
Хотя поведенческая терапия появилась как форма лечения фобий, она также может применяться при других поведенческих расстройствах, таких как фетишизм, гомосексуализм, алкоголизм.
Несмотря на то, что поведенческая терапия до сих пор находится в начале пути своего развития, есть предпосылки, что она может повторить раннюю историю психоанализа. Психоанализ появился как форма лечения специфических расстройств, таких как истерия, и сначала рассматривался как безличная техника используемая с одной целью – раскрытие подавленных воспоминаний и проигрывание конфликтной ситуации. Но психоанализ оказался формой лечения, которая подходила и для коррекции личных взаимоотношений. В газетах уже печатают обзоры, которые говорят о том, что поведенческая терапия – не просто безличная механическая техника для изменения условий пациента, который страдает от ложных представлений. Пишут о том, что поведенческая терапия включает отношения между терапевтом и пациентом, которые развиваются в процессе лечения. В недавней статье А.Криспа (A Crisp) «Изменения в поведенческой терапии»(Transference in behaviour-therapy) в Британском журнале «Медицинская психология» (Te British Journal of Medical Psychology) описывается спонтанное появление изменений в течение курса поведенческой терапии. Статистика показывает, что положительная трансформация повышает эффективность техник по изменению условий. И если эта тенденция продолжится, то полемика некоторых терапевтов-бихевиористов будет выглядеть довольно комично.
Однако психотерапия остается альтернативным методом лечения неврозов. Хотя должно быть признано, что различные виды психотерапии, в общем и целом наиболее эффективны, для лечения большинства типов неврозов.
Существует много факторов, способствующих такому неудовлетворительному состоянию дел. Некоторые из них характерны проблемам психологических расстройств, некоторые вовсе не относятся к применению психотерапии. Факторы, присущие проблемам психологическим расстройствам включают то, что идея осуществления психотерапии насчитывает не более ста лет. И поэтому не удивительно, что до сих пор существуют споры о базовых принципах как теории, так и техники. Другой фактор заключается в том, что психологические расстройства и симптомы довольно субъективны и плохо поддаются экспериментальным и статистическим исследованиям. Эти исследования являются двумя наиболее часто используемыми инструментами, применяемые исследователями, для выявления базовых принципов и установления эффективности методов лечения.
Еще одним неизбежным затруднением является то, что все теории о человеческой природе сталкиваются как с положительными, так и с отрицательными предубеждениями. Взгляды Фрейда на проникающее влияние сексуальности и взгляды Адлера на главенство желания управлять, воспринимаются людьми с предубеждением. Но эти формы тенденциозности, конечно, не могут изменить настоящего значения этих теорий.
Здесь мы увидим то, что может доказать существование ограничивающего фактора в психологии как науке. С фактом того, что существует что-то по своей сути парадоксальное в объективном отношении к субъективному или в изучении живых объектов, а также в изучении кого-то техниками, теми же, что и при изучении неживых объектов. Наука достигла больших успехов в изучении неживого, как и медицина при лечении заболеваний, которые можно рассматривать как механические неполадки индивидуальных органов или систем. Но неврозы – не просто расстройство, это нарушения функционирования человека как личности. Физик не должен применять законы физики на себе. Хирург может не ассоциировать себя со своей работой, органом, который он лечит. Но психотерапевт анализирует себя и остается начеку, зная, что его индивидуальность может повлиять на пациентов. Он также вынужден серьезно воспринимать тот факт, что любые гипотезы, к которым может привести его опыт, будут применены и к нему самому.
Не удивительно, что в психотерапии некоторые специалисты защищают себя от тревоги, пытаются работать в определенном спектре и ограничивать себя небольшим количеством ориентиров. И поэтому они держатся в рамках определенных теорий, к которым начинают относиться догматично. Цепляются за них как за спасительную соломинку, часто таким же образом поступают дети, хватая знакомые предметы, испытывая тревогу. Как результат, появляются противоположные школы психотерапии и психоанализа и существуют тенденции разделения психоаналитических направлений. Те потенциальные пациенты, которые хотят пройти психоанализ Фрейда, сталкиваются с тем, что необходимо выбрать между тремя различными направлениями психоанализа. Эта ситуация неблагоприятна как для пациентов, так и для психоаналитиков.
Два предыдущих раздела не должны восприниматься как аргумент в пользу нигилизма или скептицизма. Я полагаю, что они представляют собой пути выхода из видимого тупика релятивизма. Первый из них, который я применил в этой книге, заключается в обосновании психологической теории на основе биологических знаний. Другой, к которому я еще обращусь ниже, заключается в рассмотрении действующей практики психотерапии в качестве составной части коммуникаций. Интерпретируя защиту от неврозов, как усложненные и комбинированные реакции животных на угрозы, я смог сформулировать теорию, независимую от всех фундаментальных предложений о человеческой природе. Но в то же время, соглашаясь с тем, что человек является частью процесса эволюции. Однако, не допуская предположения о том, что главной движущей силой поведения человека является секс и агрессия, желание власти, или унаследованный конфликт между Эросом и Танатосом. Существует много базовых мотивов, инстинктов или врожденных моделей поведения. И это вопросы общей биологии, ведь их можно исследовать независимо от конкретных личных параметров и от философии. Нельзя не заметить, что ни одна из современных развивающихся психофизиологических теорий, с их уклоном на сексуальные и агрессивные мотивы, не включает рассмотрение в поведении человека таких животных моделей, как осматривание друг друга (у приматов), защита территории, несмотря на факт существования этих инстинктивных моделей поведения наряду с сексом и агрессией.
Я думаю, нет смысла аргументировать то, что причины невроза лежат в Эдиповом комплексе Фрейда, депрессивной позиции Мелани Клейн или в любом другом специфическим психологическом комплексе. Хотя эти условия относятся к процессу, который действительно можно наблюдать на практике, они, как мне кажется, являются вторым исключительным противоречием. Ведь эти специфические комплексы сами требуют объяснений. Также общий опыт человека не может быть использован для объяснения отклонений и ограничений человеческого развития, которые мы называем неврозом. Если воспринимать тревогу как особую форму бдительности, то невротическая тревога – это особая форма тревоги, которая возникает из тенденции человека переосмысливать окружающую его среду и защищаться от стресса, который может быть вызван как внутренними, так и внешними факторами.
Другой способ избежать нигилизма и скептицизма – воспринимать психотерапевтическую практику как часть общения. Существует множество видов психотерапии: психотерапия Фрейда, Юнга, Адлера, Клейна, неофрейдизм, клиент-ориентированная, поверхностная или глубинная, индивидуальная, групповая, поддерживающая, интерпретативная. Но их всех объединяет создание и последующее поддержание контакта, а также общение между доктором и пациентом.
Это, вероятно, лучше всего подтверждается в одной простой форме психотерапии – поддерживающей психотерапии. При ней психотерапевт не делает и не должен делать ничего, кроме как слушать, оказывать моральную поддержку, проявлять симпатию и, возможно, немного советовать. Вероятно, в большинстве случаев психотерапия осуществляется таким образом. Конечно, эта форма помогла многим пациентам во время эмоционального кризиса. Поддерживающая психотерапия была довольно цинично названа «покупкой дружбы», так как она предполагает поддержку и понимание. Это действительно показывает, что современное общество в какой-то степени не обладает общностью. И поэтому хорошо образованному персоналу, такому как врачи и социальные работники, а также лицам других специальностей, связанных работой с людьми, приходится тратить время на деятельность, которая мало связана или не связана с их профессиональными навыками.
Это способствует отстранению психотерапевтов и психологов от научных исследований распространенных психологических расстройств.
Поддерживающая психотерапия не претендует на лечение хронических неврозов, которые скорее относятся к сфере интерпретационной психотерапии. Здесь также главной целью является общение между терапевтом и пациентом. Хотя это немного размывается тем фактом, что обычно, интерпретируя пациента, психотерапевт действует против процесса коммуникации – хотя это тоже является элементом общения. Так как невротики по определению находятся в состоянии тревоги скрытой или очевидной, им не по себе с терапевтом и они не способны вести себя раскованно в его присутствии. Поэтому они вынуждены скрывать свою тревогу, используя защитные механизмы. Маниакальный больной будет пытаться контролировать себя и психотерапевта, шизоидный будет подозрительным, крайне равнодушным, страдающий фобией будет избегать контакта со специалистом или искать защиты у него, а истеричный будет льстить, пытаясь вызвать симпатию. Задача психотерапевта – во-первых, выяснить, как ведет себя пациент и, во-вторых, дать ему понять, какие формы поведения проявлять не следует. Сложность психотерапии – споры между различными школами – возникают как раз в этой второй стадии. После того, как выяснена конкретная защитная стратегия пациента, психотерапевт должен понять причину этой защиты. На этом этапе у него широкий простор для размышления. Защищает ли себя пациент от собственных импульсов или он вынужденно использует защитные механизмы от внешних условий? Если первое, то какие внутренние побуждения заставляют испытывать страх? И каким же образом специалист поможет показать пациенту, что они не такие опасные, как ему кажется? Если второе, то что за ситуация вызвала длительную защитную реакцию, и как психотерапевт сможет доказать, что прошлое – уже не настоящее?
На практике ответы на эти вопросы реализуются с помощью оговорок, которые содержатся в речи пациента. В определенных деталях его семиотики, жестах, оговорках, снах, эмоциях, которые он испытывает. Но так как эти оговорки являются непрямыми признаками, определенные выводы делаются с опорой на теорию (например, интерпретация снов) и уже конкретные заключения могут стать предметами споров. Некоторые специалисты будут пытаться придавать особое значение наследственным факторам, тогда как другие, влиянием окружающей среды.
К счастью, психотерапия – процесс, в равной степени включающий двух людей, пациента и психотерапевта. И всякое теоретическое предубеждение психотерапевта, скорее всего, будет скорректировано тем, что пациент, как активный участник лечебного процесса, не заинтересован в тонкостях теории и продолжении лечения до тех пор, пока не почувствует, что его случай понят до конца. И так как процесс психотерапии состоит из конкретных, а не общих проблем, то прогресс, вероятно, будет зависеть от того, насколько хорошо обе стороны понимают друг друга и насколько успешно их общение, в каких бы информационных рамках это не происходило. Теоретические различия между различными школами психотерапии, вероятно, ухудшают взаимопонимание между специалистами даже сильнее, чем между психотерапевтом и пациентом.
Длительные и серьезные неврозы, в идеале, должны лечиться каким-то видом интерпретационной психотерапии, но возможностей для оказания подобного вида лечения не хватает из-за недостатка квалифицированных психотерапевтов. Сложно сказать точно, насколько серьезна существующая нехватка квалифицированных психотерапевтов, так как нет надежной информации. Классический фрейдистский подход всегда предполагал, что все неврозы – стойкие расстройства, настолько глубоко закрепленные в личности пациента и его развитии, что их спонтанное исчезновение невозможно или что на них можно будет повлиять каким-либо краткосрочным сеансом. Хотя недавнее исследование показывает, что большинство невротиков идут на поправку, и это делает меня чрезмерно оптимистичным. Спонтанные выздоровления, даже от очень серьезных неврозов, иногда действительно происходят, но, как я заметил ранее, увеличивается количество данных, что только некоторые сложные формы невроза могут быть купированы краткосрочной психотерапией. И нет никаких предпосылок, что эта ситуация улучшится в обозримом будущем.
Во-первых, подготовка психотерапевтов – это долгое и затратное дело. И в условии отсутствия консенсуса между психотерапевтами непонятно, чему и как должен быть обучен студент. Общественные фонды вряд ли станут финансировать подготовку. Как результат, организации, осуществляющие интенсивную подготовку психотерапевтов, такие как Британское Психоаналитическое Общество и Общество Аналитической Психологии, скорее всего, останутся за рамками Национальной Службы Здравоохранения и университетов и продолжат финансирование частным образом, в основном за счет взносов от самих студентов. Одним из последствий данной ситуации является то, что курсы обучения интенсивной психотерапии или психоанализа более доступны тем студентам, которые планируют работать в частном секторе, а не в Национальной Службе Здравоохранения.
Во-вторых, психотерапия сама по себе медленный, трудоемкий процесс. «Полный курс» может длиться несколько лет, и даже быстрая психотерапия, рекомендованная Маланом (D.Malan) в книге «Изучение быстрой психотерапии» (A Study of Brief Psychotherapy) занимает от 10 до 40 сеансов. Как результат, количество пациентов, которых может вылечить психотерапевт, крайне ограничено.
Конечно, были сделаны попытки ускорить психотерапию, сочетая ее с гипнозом и лекарственной терапией, увеличивая количество пациентов, используя групповое лечение, при котором специалист занимается от 5 до 10 пациентов одновременно.
В-третьих, большинство основоположников психотерапии и психоанализа воспринимали свои методы терапии как панацею, от которой будет лучше всем, кроме тех, кому, в первую очередь требовалась помощь. Как результат, проводилось незначительное количество методических исследований, позволяющих решить проблему отбора пациентов для психотерапии. До настоящего времени сохраняется тенденция лечить всех желающих, не обращая внимания на природу, серьезность симптомов или насколько длительное лечение им предстоит. Также сохраняется тенденция лечить пациентов ежедневными сеансами, не обращая внимания на диагноз.
Одним из последствий всего этого является то, что психоаналитики вынуждены тратить часть жизни на лечение небольшого количества пациентов в течение длительного периода времени.
В книге Малана, которую я упоминал выше, описан, по сути, научный прорыв, который говорит о том, что даже тяжело страдающим пациентам становится лучше после быстрой психотерапии. И он выдвигает ряд критериев, как заранее определить таких пациентов.
Книга доктора Малана основана на исследованиях, сделанных в Тавистокской клинике. Она содержит статистический и практический материал подтверждающий, что пациентам с тяжелыми и длительными неврозами может быть оказана помощь на продолжительный срок быстрой психотерапией, обусловленной тремя условиями. Во-первых, психотерапевт должен применять технику, ставя в центр внимания одну определенную проблему для интерпретации, а не как в классическом психоанализе интерпретировать все появляющиеся ассоциации. Во-вторых, пациенты должны отбираться по замотивированности на лечение и способности понимать интерпретации. И, в-третьих, психотерапевт должен быть готов к «объективному эмоциональному взаимодействию» с пациентом и способен начать интерпретировать информацию с самого начала. Доктор Малан утверждает, что психотерапевт должен применять психоанализ, избегая трех традиционных правил аналитической техники: эмоциональной привязанности, соблюдения осторожности при интерпретации отклонений и разрешения пациенту самому выбирать тему каждого сеанса.
Вместе эти факторы породили сегодняшнюю парадоксальную ситуацию, при которой психоанализ и психотерапия вызывают огромный интерес общества, и многие психоаналитические идеи стали общеизвестными. Как заметил В. Ауден (W. Aunden), Фрейд «больше не просто индивидуум, теперь это целое настроение общества», но только маленькая часть населения имеет прямое отношение к лечению, которое основывается на этих идеях. И неудивительно, что многие идеи, которые считаются фрейдистскими или психоаналитическими, на самом деле не относятся к тому, что сказал Фрейд. И многие люди думают, что психиатрия и психоанализ – экзотические, эзотерические теории и что лечение, основанное на них, не связано с медициной, биологией или повседневной жизнью. Я надеюсь, эта книга сделала что-то для исправления такой ситуации, показав, что тревога и неврозы – это феномены, которые могут быть поняты нашим воображением.
Библиография
Abraham, Karl, (1924)
«A Short Study of the Development of the Libido» in Selected Papers on Psycho-Analysis (London: Hogarth Press, 1949)
Alexander, Franz, Te Psychoanalysis of the Total Personality (Nervous and Mental Disease Publishing Co., 1930)
Auden, W. H., «In Memory of Sigmund Freud» in Another Time (London: Faber & Faber, 1940)
Balint, Michael, Te Doctor, His Patient and the Illness (London: Pitman, 1957)
Barnett, S. A., «Te Biology of Aggression», Te Lancet (10 October 1964)
Bleuer, Eugen, (1911) Dementia Praecox (International University Press, 1950)
Bowlby, John, «Processes of Mourning», International Journal of Psycho-Analysis, vol. 42 (1961)
«Grief and Mourning in Infancy and Early Childhood», Psychoanalytic Study of the Child, vol. xv (1960)
Brown, Felix, «Depression and Childhood Bereavement», Journal of Mental Science, vol. 107 (1961)
Butler, Samuel, (1903) Te Way of All Flesh (London: Dent, 1954)
Erewhon (London; Dent, 1962)
Carstairs, G. M., «Concepts of Insanity in Diferent Cultures», Te Listener (30 July 1964)
Crisp, A. J., «Transference in Behaviour-Terapy», Brit. J. Med. Psych., vol. 39, pt 3 (1966)
Darwin, Charles, Te Expression of the Emotions in Man and Animals (London: John Murray, 1872)
Durkheim, Emile, (1897) Suicide (London: Routledge & KeganPaul, 1952)
Erikson, Erik H., Young Man Luther (London: Faber & Faber, 1959)
Evening Standard, «Nightmares after Rail Crash» (10 March 1965)
Eysenck, H. J., Fact and Fiction in Psychology (Harmondsworth: Penguin, 1965)
Fairbairn, W. R. D., «A Revised Psychopathology of the Psychoses and Psychoneuroses» in Psychoanalytic Studies of the Personality (London: Tavistock, 1952)
Freud, Anna, Te Ego and the Mechanisms of Defence (London: Hogarth Press, 1937)
Freud, S., (1909) «Notes upon a Case of Obsessional Neurosis» in Te Psychological
Works of Sigmund Freud, standard edition, vol. x (London: Hogarth Press, 1955)
(1911) «Psycho-Analytic Notes on an Autobiographical Account of a Case of Paranoia (Dementia Paranoides)», ibid. vol. XII
(1907) «Obsessive Actions and Religious Practices», ibid. vol. IX (1959) (1917)
«Mourning and Melancholia», ibid. vol. XIV (1957)
(1926) «Inhibitions, Symptoms and Anxiety», ibid. vol. xx (1959)
(1940) «An Outline of Psycho-Analysis», ibid, vol. XXIII (1964)
(1905) «Jokes and their Relation to the Unconscious», ibid. vol. VIII (1960)
«Te Psychopathology of Everyday Life», ibid. vol. XI (1960) with Breuer, J., (1893-5)
«Studies on Hysteria», ibid. vol. II (1955)
Glover, Edward, Te Roots of Crime (London: Imago, 1960)
Gorer, Geofrey, Death, Grief and Mourning in Contemporary Britain (London: Cresset Press, 1965)
«Psycho-Analysis in the World» in Psycho-Analysis Observed, ed. Charles Rycroft (London: Constable, 1966)
Gosse, Edmund, (1907) Father and Son (London: Heinemann, 1964)
Greenson, Ralph, (1949) «Te Psychology of Apathy», Psychoanalytic Quarterly, vol. XVIII
Halmos, Paul, Te Faith of the Counsellors (London: Con stable, 1965)
Hartmann, Heinz, (1939) Ego Psychology and the Problem of Adaptation (London: Imago, 1958)
Henderson and Gillespie, Textbook of Psychiatry, 9th edition (Oxford: O.U.P., 1962)
Kardiner, Abraham, «Te Neuroses of War» in Contemporary Psychopathology, ed. S. S. Tomkins (Cambridge, Mass; Harvard University Press, 1947)
Kessel, Neil, «Te Neurotic in General Practice», Te Prac titioner, vol. 194, p. 636 (1 May 1965)
Klein, Melanie, «Notes on Some Schizoid Mechanisms» In Developments in Psycho-Analysis by M. Klein et al. (Lon don: Hogarth Press, 1952)
Kubie, Lawrence, S., Neurotic Distortion of the Creative Pro cess (Lawrence, Kansas: University of Kansas Press, 195 8)
Laing, R. D. and Esterson, A., Sanity, Madness and the Family, vol. 1 (London: Ta-vistock, 1964)
Lambo, Professor Т., «Mental Health and Psychiatry in Nigeria», paper read to medical section of British Psycho logical Society (29 September 1965). Lancet, «In the Pink» (24 July 1965)
Leopardi, Giacomo, Poems from Giacomo Leopardi trans lated and introduced by John Heath-Stubbs (London; John Lehmann, 1946)
Liddell, H. S., Emotional Hazards in Animals and Man (Springfeld, Illinois: Charles C. Tomas, 1956)
«Te Role of Vigilance in the Development of Animal Neurosis» in Anxiety, ed. Paul Hoch and Joseph Zubin (New York: Hafner, 1950)
Lynd, Helen Merell, On Shame and the Search for Identity (Lon don: Routledge & Kegan Paul, 1958)
McDougall, William, (1908) An Introduction to Social Psycho logy (London: Methuen, 2nd edition, 1931)
Malan, D. H., A Study of Brief Psychotherapy (London: Tavis-stock,1962)
Mohr, J. W., Turner, R. E. and Jerry, M. R., Pedophilia and Exhibitionism (Toronto: Toronto University Press, 1964)
Oraison, Marc, «Te Psychoanalyst and the Confessor» in Problems in Psychoanalyses (London: Burns & Oates, 1963)
Oswald, lan. Sleep (Harmondsworth: Penguin, 1966)
Pavlov, I. P., Conditional Refexes (Oxford: O.U.P., 1927)
Pollitt, J. D., «Natural History Studies in Mental Illness: A Discussion based on a Pilot Study of Obsessional States», Journal of Mental Science, vol. 106, p. 95 (1960)
Riesman, David, Te Lonely Crowd (New Haven, Conn: Yale University Press, 1950)
Rycroft, Charles, «Beyond the Reality Principle», International Journal of PsychoAnalysis, vol. xliii (1962.) and Imagina tion and Reality (London: Hogarth Press, 1968) «Two Notes on Idealization, Illusion and Disillusion», International Journal of Psycho-Analysis, vol. xxxvi (1955) and Imagination and Reality (London: Hogarth Press, 1968)
Sartre, Jean-Paul, Being and Nothingness: An Essay on Phenomenological Ontology, translated by Hazel E. Barnes (New York: Philosophical Library, 1956)
Words, translated by Irene Clephann (London: Hamish Hamilton, 1964)
Schofeld, William, Psychotherapy: Te Purchase of Friendship (Englewood Clifs, N.J.: Prentice-Hall, 1964)
Sherrington, Sir Charles, Te Brain and its Mechanism (Cam bridge: C.U.P., 1933)
Spinoza, Benedict, «Te Origin and Nature of the Emotions» in Spinoza’s Ethics (London: Dent, Everyman Edition, 1960)
Tausk, Viktor, (1919) «On the Origin of the Infuencing Machine in Schizophrenia», Psychoanalytic Quarterly, 2. (1933)
Tomson, James, (1874) Te City of Dreadful Night (Tinker’s Library, 1932)
Times Medical Correspondent, «G.P. has no time to deal with Neuroses», Te Times (1 May 1965)
Tinbergen, N., Te Study of Instinct (Oxford: O.U.P., 1951)
Veit, Ilza, Hysteria: Te History of a Disease (Chicago, Illi nois: University of Chicago, 1965)
Whitehorn, J. C., «Physiological Changes in Emotional States», Research Publication Archives of Nervous and Mental Disease, vol. 19
Winnicott, D. W., Collected Papers (London; Tavistock, 1958)
Wolfenstein, Martha, Disaster (Glencoe, Illinois: Glencoe Press, 1957)
Wootton, Barbara, Social Science and Social Pathology (London; Alien & Unwin, 1958)
Zilboorg, Gregory, History of Medical Psychology (New York; Norton, 1941)
Примечания
1
Вигильность – бдительность, настороженность.
(обратно)2
Процитировано Мартой Уолфенштейн (Martha Wolfenstein) в «Бедствии» (Disaster).
(обратно)3
W.R.D. Fairbairn (1889–1964) был пионером расширения объектной теории, переопределив психоаналитические положения в терминах стремления индивида поддерживать контакт с объектом, в противоположность фрейдистской теории инстинктов, построенной вокруг стремления к поиску инстинктивного удовлетворения. Он утверждал, что в природе человека заложен поиск объекта, а не поиск удовлетворения, и что неврозы являются следствием попыток контролировать и избавиться от амбивалентности по отношению к объекту (в начале жизни, а затем бессознательно всю жизнь, таким объектом является мать). При этом в качестве средств используются четыре базовых защитных маневра, названные автором шизоидной, истерической, фобической и обцессивной техниками, различающихся способом интернализации объекта.
(обратно)
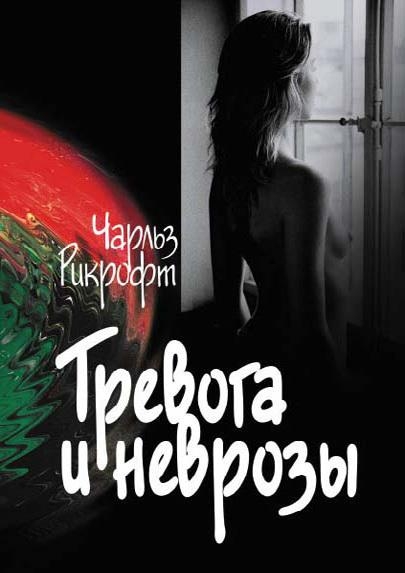


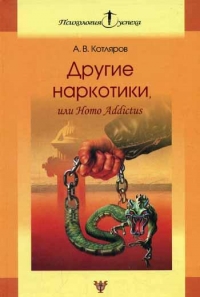



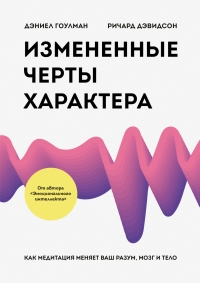

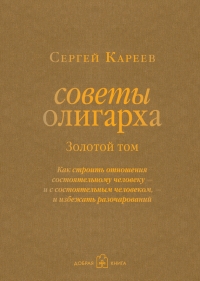



Комментарии к книге «Тревога и неврозы», Чарльз Райкрофт
Всего 0 комментариев