Мораль и разум. Как природа создавала наше универсальное чувство добра и зла Марк Хаузер
Предисловие к русскому изданию. Мораль и гены
Я хочу начать с того, чем обычно заканчивают подобные тексты, а именно с ответа на вопрос: для кого предназначена эта книга? кому она может быть интересна? Ответ на этот вопрос — очень важная содержательная характеристика представляемой русскому читателю книги известного американского ученого Марка Хаузера.
У ученых много правил, которым они стараются следовать. Наука, вообще, довольно серьезно регламентированный вид деятельности. Регламентировано, как и с кем писать статьи, как и перед кем выступать с докладом, как ставить эксперименты, как и какие формулировать гипотезы, как доказывать или опровергать утверждения, что может быть рассмотрено в качестве факта и научной теории, и т. д. Некоторые из правил описаны в книгах специалистами. Их задача — разработка этих правил, остальные правила являются неписаным соглашением. Но нарушение и тех, и других — серьезный проступок, за который могут приговорить к «высшей мере наказания» — потере доверия и уважения коллег. И тогда, хотя человек живет и работает, его труды не читают и не цитируют; в определенном — «внутринаучном» — смысле он перестает существовать[1].
Ссылки на труды коллег — важная характеристика работы ученого. По ним можно судить, насколько хорошо автор знает область, которой посвящен его труд. Они служат обеспечению преемственности в научных исследованиях. Ученые в своих работах, как правило, должны ссылаться на «серьезные источники»: статьи и книги, написанные для специалистов и не предназначенные для широкой публики. Так они и поступают.
Но есть книги-исключения. Они пишутся признанными авторитетами, у которых, кроме этого бесспорного достоинства, есть еще одно, — оно дано, к сожалению, далеко не каждому. Достоинство, заключающееся в умении изложить сложнейшие идеи так, чтобы эти книги были полезны не только для коллег, работающих в той же узкой области, но и чтобы описываемые проблемы стали понятны и интересны для ученых других областей знания и, вообще, для всех мыслящих людей.
Такие книги обычно доказательны, снабжены необходимыми ссылками на источники, цитируемые автором, и отвечают самым высоким требованиям, предъявляемым к серьезной научной литературе. Однако, наряду с этим, авторы могут цитировать в них беллетристические издания, газеты, рассказывать о содержании популярного сериала и т. п. В них они могут позволить себе больше фантазии и «дилетантских» вторжений в сопредельные области науки, а часто — даже выход за пределы науки, что, как правило, не допускается в специальных публикациях, предназначенных для ученых. Возможно, ощущение автором этой свободы и делает книгу интересной для читательской аудитории, находящейся вне научного сообщества.
Другое вознаграждение для автора, пишущего книгу подобного типа, — ознакомление с его идеями большого числа людей, гораздо большего, чем при публикации специального издания. Научные идеи в любом случае попадают в обыденное знание (folk science). Но путь этот может быть долгим, окольным, занимающим годы и годы. А здесь он быстрый и прямой.
Примером книг, оказавших значительное влияние не только на «узкое» научное сообщество, но и на науку в целом, на все общество, может служить книга Антонио Дамасио «Ошибка Декарта: эмоция, разум и мозг человека»[2] или Ричарда Доукинза «Эгоистичный ген»[3]. Например, Доукинз в своей книге изложил представление о том, что на определенном этапе эволюции конкуренция между генами, использующими наши тела просто в качестве «машин» для борьбы с другими генами, начинает проходить с применением в качестве эффективных инструментов единиц культуры: мемов. Эти мемы, как и гены, могут размножаться, используя в качестве среды мозг людей. К генетической эволюции добавляется меметическая.
Книга Доукинза стала не просто популярной в самых широких читательских кругах, она способствовала формированию нового направления в науке (или даже — новой науки): меметики.
Нет сомнений в том, что книга Марка Хаузера относится к изданиям подобного рода. Она, с одной стороны, представляя значительный интерес для специалистов в области философии, социологии, этики, психологии, биологии, может служить для них прекрасным специальным изданием, глубоко анализирующим проблематику этих и смежных с ними областей науки. А также изданием-с правочник о м, потому что в книге Хаузера приведены ссылки на множество цитированных им современных работ. Современность следует подчеркнуть особо. Хотя автор постоянно обращается к истокам развития нашего понимания морали, отсылая читателя к мыслям, высказанным века назад, но основной объем цитируемых источников — работы последних лет.
Книга Хаузера была издана совсем недавно: в середине 2006 года и сразу стала весьма популярной. Она вызвала отклики в наиболее авторитетных научных изданиях, таких как журналы «Наука» (Science) и «Природа» (Nature), а также рецензию в весьма значимом для любого автора «Книжном обозрении Нью-Йорк таймс» (New York Times Book Review), где в качестве обозревателя выступил один из самых авторитетных современных философов США Ричард Рорти[4].
С другой стороны, книга написана так, что для ее чтения и понимания нет необходимости в специальной подготовке. Надо просто иметь желание понять, как устроен мир и почему люди ведут себя так, а не иначе. Почему они именно так чувствуют? В чем они похожи на животных, а чем сильно от них отличаются?
Предположим, вы, управляя только что купленной машиной, упаси бог, сбили человека. Для многих очевидно, что вы должны попытаться спасти его от смерти, доставив в ближайшую больницу, даже если вы очень спешите и к тому же опасаетесь, что салон автомобиля будет перепачкан кровью и грязью. Почему же, если в Африке умирают от голода люди и вы можете спасти их, послав немного денег, далеко не каждому очевидно, что наш моральный долг — сделать это?
Представим себе, что едет трамвай, который может задавить пятерых человек, идущих по рельсам, если не остановить его, бросив под колеса одного человека. Правильно ли так поступить? Что вам подсказывает ваше нравственное чувство? А если под колеса бросить не человека, а крупное животное, — вам легче принять решение? Некоторым, вероятно, кажется — да. Почему?
Мы руководствуемся моральными нормами потому, что нам рассказали о них педагоги, сверстники или родители? Если нет, откуда мы их узнаем? И узнаем ли? Почему часто мы чувствуем и утверждаем с уверенностью, что это — хорошо, а это — плохо, но не можем логически обосновать свое утверждение?
Почему, хотя многие думают, что одна из главных функций религии — учить морали, мы видим, что религиозные люди могут вести себя, нарушая моральные нормы, а атеисты — вполне порядочно? Почему мораль, которая, как думают многие, является одной из основ, поддерживающих существование социума, так часто приходит в конфликт с тем, что требует от человека этот социум? Почему для одного народа почитание умерших родителей выражается в их сжигании, а для другого — в их поедании? Все, кого интересуют ответы на эти и им подобные вопросы, — потенциальные читатели книги М. Хаузера.
М. Хаузер последовательно проводит аналогию между представлением о «врожденности» языкового навыка, об изначально имеющемся у ребенка лингвистическом знании в понимании Н. Хомского (с которым у Хаузера имеется ряд совместных публикаций, посвященных языку) и «врожденностью» «морального инстинкта».
Этот инстинкт, которым изначально обладает каждый ребенок, нужен для быстрой оценки морально должного и недолжного, оценки, основанной на «бессознательной грамматике действий». Поскольку упомянутая аналогия — чуть ли не главный инструмент авторского анализа, остановимся на ней подробнее.
Идеи Н. Хомского[5] мало кого оставляют равнодушным, часто вызывая либо глубокую приверженность этим идеям, либо их отрицание. С точки зрения Хомского и его последователей, использование языка — видоспецифическое «инстинктивное» поведение, развитие которого зависит от культуры не более чем прямохождение. Подчеркивается, что язык хотя и является сложным навыком, но развивается у ребенка без всяких усилий — самопроизвольно. У всех детей с рождения есть общая для всех языков схема; в основе любого конкретного языка — «универсальная грамматика». К настоящему времени на основе исследования множества языков описаны сотни языковых универсалий.
Типы языка (как, кстати, и ходьбы) могут быть разными в разных культурах, но возникают они в любой культуре. Во всяком случае, противоположное — не показано: не обнаружо ни одного безъязыкого народа. Даже у сообществ, находящихся на уровне каменного века, имеется вовсе не примитивный («уровня каменного века»), а достаточно сложный язык.
Также и с моралью, считает М. Хаузер. Люди рождаются с «моральной грамматикой», фиксированной в структуре мозга эволюцией, буквально с «врожденной моралью», полагает он. Эта грамматика может быть представлена как универсальный набор абстрактных принципов, специфические исключения к которым устанавливаются в каждой культуре.
В соответствии с упомянутыми принципами человек подсознательно и «автоматически» оценивает, какие действия запрещены, а какие допустимы или даже обязательны. «Формирование морали скорее можно сопоставить с запрограммированным ростом конечности, чем с освоением знаний в воскресной школе», — пишет М. Хаузер, выступая против популярных представлений о поэтапном, стадийном формировании морали в процессе развития индивида как следствии воспитания, социокультурных влияний[6].
Говоря о неосознанности, интуитивности морального выбора, автор выступает против рационалистов, настаивающих на том, что моральное решение является следствием рассудочного выбора. Принятие рационалистской позиции, убеждает читателя М. Хаузер, ведет к ошибочным решениям в политике, праве и образовании. Именно поэтому теоретическая дискуссия между рационалистами и интуитивистами небезразлична и неспециалистам, людям «на улице».
Представление о том, что мораль и моральное поведение генетически детерминированы, и последовательное проведение аналогии с идеями Н. Хомского и его последователей обусловливают вывод М. Хаузера: у человека существует мозговой «орган морали» (moral оrgan), аналогичный врожденному видоспецифическому «органу языка» (language organ), по Н. Хомскому. Автор предполагает, что «орган морали» представляет собой специальную нейронную сеть, предназначенную для оперирования с моральными проблемами.
Заметим, что утверждения о генетической детерминации морали делались и раньше. Так, В. П. Эфроимсон более сорока лет назад писал, что нечто, вечно влекущее человека к справедливости, заложено в его «наследственной природе»[7].
Ж.-П. Шанже в 1989 году отмечал, что этика «подвержена генетическому детерминизму» и «предрасположенность нейронов к этике» свойственна всему человеческому виду. Как и М. Хаузер, обращаясь к идеям и терминологии Н. Хомского, Шанже связывал «генетическое наследие человека», обусловливающее этическое поведение, с формированием «порождающей грамматики» этики [8].
С. Пинкер, аргументировав наличие у человека врожденного «языкового инстинкта» (1994), подчеркивал, что этот инстинкт — врожденный «модуль» — не единственный. Кроме него, существует модуль «справедливость», предопределяющий врожденное чувство «права, обязанности и их нарушения»[9].
За много лет до этого (1907) И. И. Мечников писал: многие теоретики считают, что «основа нравственности заключается во врожденном чувстве каждого человека»[10]. Создатель аналитической психологии (1916) К. Г. Юнг связывал мораль с врожденными инстинктами, считая, что мораль «не навязывается извне» — человек имеет ее вне зависимости от опыта (a priori)[11]. А еще раньше, в конфуцианстве, возникшем более двух тысяч лет назад, было сформулировано базовое положение о том, что способность быть хорошим, вести себя правильно изначально заложена в нашей психике.
Даже сам термин «орган морали» (каким бы оригинальным он не казался, как и возражения против возможности его существования) имеет давнюю историю. Так, Л. С. Выготский более восьмидесяти лет назад писал, что человек, «нарушавший правила морали, казался ненормальным, больным. Педагогика в таких случаях говорила о моральной дефектности ребенка как о болезни — в таком же смысле, как обычно говорят об умственном или физическом дефекте. Предполагалось, что моральная дефектность есть такой же врожденный недостаток, обусловленный биологическими причинами... какого-то дефекта в строении организма, как врожденная глухота или слепота. ...Следовательно, есть дети, которые самой природой назначены сидеть за решеткой, потому что они родились преступниками. Нечего и говорить, что... физиологам никогда не приходилось наталкиваться на какие-либо особые органы морали [выделено мной. — Ю. А] в человеческом теле»[12].
Конечно, что бы ни было придумано нового, часто (если не всегда) можно обнаружить идеи, в большей или меньшей мере предваряющие это новое. Приведенные ссылки показывают, что подобная ситуация имеется и здесь. Однако нет никаких сомнений в том, что представляемая читателю книга обладает оригинальностью. И как бы дальше ни сложилась судьба отстаиваемых или опровергаемых Хаузером идей, его имя будет вписано в историю их развития.
Заслуга М. Хаузера состоит в том, что он свел и противопоставил противоборствующие точки зрения рационализма (рациональное, сознательное обоснование моральных выборов) и интуитивизма (бессознательный выбор, который post factum, т. е. после совершившегося выбора, может быть обоснован, если это требуется), а также последовательно и скрупулезно перечислил и связал единой логикой аргументы в пользу излагаемого им подхода к пониманию морали. В результате этот подход предстал совершенно четко и ясно сформулированным, а следовательно, доступным для критического анализа, что очень важно и в науке, и в обыденной жизни. Он подробно описал массу не только теоретических, но и экспериментальных исследований, тщательно проанализировал возможность использования данных этих исследований в обосновании каждого из логических звеньев своей концепции. По всем этим критериям книга М. Хаузера может быть оценена как высококачественный труд.
Позиция М. Хаузера ясна и тщательно обоснована. Однако, если читатель придерживается системных позиций[13], его взгляд на некоторые положения, представленные автором, может оказаться другим. Конечно, между геномом и моралью, как и культурой в целом, существует связь. И в этом, самом общем, смысле вряд ли можно усомниться в правоте М. Хаузера, как и цитированных выше Юнга, Эфроимсона, Шанже, Пинкера, а также других авторов, в том числе и упоминаемых самим Хаузером, высказывавших сходные точки зрения. Но прямая связь «гены — моральное поведение, грамматика действий», как мне представляется, есть некоторое упрощение, которому способствует и метафора «мозговой орган морали».
Гены связаны с поведением не напрямую, а через процесс специализации мозговых клеток (нейронов). Процесс специализации означает, что определенные нейроны «научаются» своей активностью обеспечивать сформированное индивидом поведение: работать с компьютерной программой, закидывать спиннинг, пилить дрова, танцевать определенный танец, считать в уме и т. п. Молекулярно-биологическое обеспечение процесса специализации — активация генетического аппарата клетки. В результате этого процесса нейроны меняются, по-видимому, необратимо.
Формирование навыков, подобных упомянутым выше, вовлекает весь мозг, весь организм, а не является делом какого-либо органа. Индивид хранит в памяти элементы субъективного опыта, сформированного в культуре и соответствующего актам индивидуального поведения, а не элементы культуры или закодированные нормы морали, «локализованные» в тех или иных мозговых структурах. Если принять такую позицию, то это будет означать, что вы, скорее всего, присоединитесь и к мнению об «органе морали», высказанному Л. С. Выготским. При этом на своей стороне вы обнаружите и упомянутого выше Р. Рорти, который, обсуждая идею специализированного «органа морали», приходит к следующему заключению: специальных нейронных сетей, обусловливающих «функционирование» нравственности, нет.
По существу, сопоставление только что упомянутой системной позиции с представлением М. Хаузера о существовании «органа морали» имеет отношение к более общей проблеме: соотношение между позициями «органогенеза» и «системогенеза». Обе они рассматривают закономерности созревания и развития организма, но делают это по-разному.
Первая основывается на традиционном понимании функции как отправлении какого-либо специфического морфологического субстрата. Фантазия авторов в придумывании функций, затем «привязываемых» к определенным структурам мозга, беспредельна. Направленность ее и используемая терминология зависят от образования автора (биохимик или генетик, физиолог или психолог, и т. д.) и его индивидуальной истории. Придумано множество функций: сознания, любви (романтической и родительской), сравнения, наблюдения, связывания отдельных актов поведения в цепочки, принятия решений, религиозности, политических пристрастий и т. д., и т. п. Кажется, их все никто не пересчитывал, да это и невозможно: пока вы будете считать, появятся новые.
С позиции такого понимания функции, созревание индивида есть последовательное формирование органов, выполняющих специфические функции. Сформировался новый орган — у индивида появилась новая функция, присущая данному органу.
Точка зрения М. Хаузера, по всей видимости, близка к этой «органогенетической» позиции. Хотя автор и отмечает, что он не предполагает существования в мозгу локального центра, «продуцирующего» мораль, но считает, что пусть и распределенный по разным областям мозга набор нейронов, реализующий функцию решения моральных проблем, существует.
В рамках второй — «системогенетической» — позиции, противостоящей «органогенетической», функция рассматривается в качестве системы, направленной на достижение полезного приспособительного результата в соотношении целостного организма и среды (например, получение необходимой пищи, необходимой информации, избегание повреждающих воздействий и т. п.). Такие системы, представление о которых разрабатывается в школе академика П. К. Анохина с 30-х годов прошлого века, называются функциональными. Их реализация требует вовлечения всего организма, элементов самых разных анатомических структур, как мозговых, так и телесных. Иначе говоря, эти системы не только не локализованы в одном или нескольких органах — они принципиально общеорганизменны.
Формирование функциональных систем в индивидуальном развитии совершается не за счет созревания отдельного органа, а за счет того, что на фоне общей незрелости элементов в каждом органе некоторые элементы созревают раньше других. И опережающе созревают именно те элементы разных органов и тканей, которые должны обеспечить достижение результата системы, необходимого на следующем, очередном этапе развития. Идею «органа морали» трудно согласовать с «системогенетической» позицией.
В тесной связи с идеей «органа морали» находится представление М. Хаузера о том, что существуют некие «врожденные» свойства, данные изначально в виде готовых «примитивов» — «кирпичиков», из которых строится нравственность, та или другая, в зависимости от культуры. Подчеркнем, что, когда автор говорит «строится», он имеет в виду, как уже говорилось, не формирование нравственности, связанное с обучением (например, в воскресной школе), а процесс, родственный запрограммированному росту конечности. В таком случае зависимость морали от специфики культуры можно представить себе, продолжив его аналогию, следующим образом: если в данной культуре (японской) маленькая стопа считается украшением женщины, то девочкам надевают тесную обувь или туго бинтуют стопу, влияя таким образом на запрограммированный рост конечности.
Из подобной логики следует, по-видимому, что, будучи «запрограммированной», какая-то конечность вырастет в любом случае (если нет уродства, порока программы). Можно проверить, так ли это применительно к рассматриваемой нами проблеме морали, вновь вспомнив о другой используемой автором аналогии: с представлением о «врожденности» языка, о «запрограммированном» «языковом инстинкте».
С. Пинкер рассказывает о трагических «экспериментах», которые «проводят» безнравственные родители, выдерживая детей в безмолвии темных комнат. Подобные эксперименты неизменно приводят к одному результату: дети вырастают немыми.
Мы прибегли к аналогии, используемой и М. Хаузером, потому что провести сходный «эксперимент» с «моральной изоляцией» сложнее, поскольку речь идет не о том, что надо просто смоделировать отсутствие внешних «моральных инструкций», а о необходимости полностью исключить любую коммуникацию, имеющую отношение к оценке получаемых индивидом результатов с точки зрения их приемлемости для других. Именно такую коммуникацию, по-видимому, можно рассматривать как необходимое условие формирования нравственных оценок. Да и интерпретировать результаты подобного «эксперимента» было бы сложнее, чем «языкового». М. Хаузер описывает, насколько трудно бывает доказать наличие подобных оценок собственного поведения или поведения других.
Существует солидная литература, посвященная анализу значения, казалось бы, ясного термина «врожденное». Она эффективно интегрирована в теоретической работе Р. Сэмуэлса[14]. Он, в частности, отмечает, что врожденными часто считаются свойства, особенности, которые не приобретены. Приобретенными считаются свойства, появившиеся в определенный период развития индивида, до наступления которого они отсутствовали. С позиций этого «совершенно здравого понимания приобретения», «все когнитивные структуры приобретены», или, формулируя иначе, если «врожденные свойства — те, что не приобретены», то «никаких врожденных когнитивных свойств нет» [15].
С таким общим заключением согласуются системогенетические представления, о которых уже шла речь. В соответствии с ними л ю б о е соотношение со средой, даже видоспецифическое (свойственное всем особям данного вида), как и индивидуальноспецифическое (появляющееся в связи с особенностями индивидуальной истории жизни у одних, но не у других индивидов), обеспечивается за счет активности специализированных нейронов. А их специализация возникает в процессе обучения. Это означает, что она обязательно формируется в процессе индивидуального развития, которое выступает как последовательность системогенезов.
Иначе говоря, любое «врожденное» поведение не врождено, т. е. не существует изначально в виде готового «кирпичика» («органа», «алфавита», интеграции, сети, системы и т. п.), но формируется в процессе индивидуального развития, является в этом смысле приобретенными несет в себе особенности данного развития.
В рамках этих представлений может быть дан очевидный ответ на вытекающий из логики врожденности «языкового инстинкта» вопрос, который С. Пинкер называет головоломкой: почему новорожденные не говорят? Потому что у них не произошла еще специализация нейронов, которая развернется при последовательном обучении все новым и новым действиям. Именно для оценки результатов этих действий с точки зрения «заинтересованного» социума будут использованы все новые слова и их сочетания, служащие строительным материалом при формировании языка у ребенка.
Из сказанного ясно также, что на вопрос о том, правомерно ли на основании концепции врожденности морали полагать, что падение морали в обществе маловероятно, поскольку мораль — в наших генах, следует ответить так: к сожалению, неправомерно. Как рост детей в обстановке безмолвия обусловливает безъязыкость, так, по-видимому, и их рост в обществе, где в результате попыток «создать новую мораль» смещены границы между морально запретным и приемлемым, может привести к нарушению оперирования с моральными проблемами. Не важно при этом, спланирована ли модификация границ с самыми благородными целями для «улучшения» общества (как это предусматривал, например, Б. Рассел[16]) или она используется для достижения каких-либо низких целей (как это делалось, например, нацистами[17]). Вообще, искусственная реконструкция общества на основе «научных концепций», как это подробно и убедительно обосновал лауреат Нобелевской премии по экономике Ф. А. фон Хайек[18], опасна.
Итак, связь между индивидуальным геномом и нравственностью — опосредованная. С системогенетической позиции, связь «ген — индивидуальное поведение» реализуется через научение, в основе которого — специализация нейронов. То, какие именно акты будут сформированы данным индивидом, в определенной степени зависит от особенностей его генома и, следовательно, от свойств его нейронов. Культура же не является набором выучиваемых норм (в том числе и моральных), а средой обучения, именно она определяет специфику набора актов, которые может в ней сформировать индивид.
Нравственность при этом может быть рассмотрена как одна из многих характеристик целостной структуры опыта, а не как отдельный домен (специальный, отграниченный от других компонент, модуль) опыта. Данная характеристика соотносима с ценностной оценкой событий и действий и обобщает множества единиц опыта по критерию этой оценки: приемлемы они в социуме или нет.
Таким образом, и с системогенетической позиции, М. Хаузер прав в том, что люди, как правило, действительно, не обучаются специально «моральному поведению», «моральным нормам». Не потому, однако, что они даны готовыми, изначально «закодированными» в наших генах. А потому, что индивиды обучаются не этому поведению и не этим нормам, а умению достигать самые разные полезные результаты в социальной среде. И нравственность появляется как следствие обучению достигать эти результаты.
Выше было показано, что возможен взгляд на некоторые проблемы, обсуждаемые в книге, отличный от взгляда М. Хаузера. Для науки (как, впрочем, и для обыденной жизни) неустранимое разнообразие взглядов — нормально. Взгляд ученого на любую проблему определяется тем, какова его «научная картина мира». Картин всегда было и будет больше одной. Поэтому подобное разнообразие можно продемонстрировать, рассматривая любую проблему, в том числе и менее сложную, чем проблема морали.
Несмотря на многовековой опыт размышлений о морали, мы все еще находимся в начале ее научного исследования. Очевидно, что работа М. Хаузера — значительный шаг на этом пути. Ясно и другое: обсуждаемые в ней проблемы вряд ли оставят читателей равнодушными. Вообще, любое прикосновение к морали — эмоционально. Об этом тоже подробно пишет автор книги. Прочитавшие ее взглянут на историю человека, его внутренний мир, на отношения между людьми и устанавливаемые ими правила, наверное, совсем с другой стороны. Они будут спорить с автором или соглашаться с ним. Специалисты будут использовать издание, кроме того, и как прекрасный обзор современной литературы по экспериментальной психологии, социологии, философии, антропологии и другим смежным дисциплинам. И те, и другие, прочитав книгу М. Хаузера, неизбежно придут к заключению о том, что изучение морали может происходить не только посредством теоретических разработок, но и через экспериментальные исследования и что на этом пути гуманитарные и социальные науки объединяются с естествознанием.
Профессор Ю. И. АлександровВыражения признательности
Из всех различий между человеком и низшими животными наиболее важным, несомненно, является нравственное чувство, или совесть... Содержание этого короткого, но важного слова имеет огромное значение. Это самое благородное из всех качеств человека, заставляющее его рисковать своей жизнью ради собрата без малейшего колебания или приносить ее в жертву во имя некой великой цели после глубокого размышления о справедливости и долге.
Чарлз ДарвинМораль возбуждает страсти и либо порождает действия, либо препятствует их возникновению. В этом случае размышление само по себе абсолютно беспомощно. Таким образом, моральные правила не являются плодом наших рассуждений.
Дэвид ЮмПочему все принимают как должное, что нам не надо учиться растить свои руки: мы устроены так, что они вырастают самостоятельно. Точно так же мы должны признать, что для развития моральных систем есть биологические предпосылки, которые настоятельно «требуют» от человека развивать систему моральных суждений и, если хотите, теорию справедливости, которая в действительности имеет широкий диапазон применения.
Ноам ХомскийЭта книга появилась на свет благодаря всесторонней поддержке и помощи разных людей. За превосходную библиографическую, почти «детективную» работу и критический анализ моих мыслей благодарю своих ассистентов Прасада Шилвалкара (Prasad Shilvalkar), Франциску Чен (Frances Chen) и особенно Файэри Кушмана (Fiery Cushman). Файэри не только находил ссылки на необходимые источники, он читал большую часть книги, комментировал детали и спорил со мной по многим позициям. Наконец, он присоединился к этому смелому проекту будучи еще студентом и продолжает работать по сей день.
Во время весеннего семестра 2002 года я вел курс эволюционной этики в Гарвардском университете и использовал в нем материалы этой книги. Студенты увлеченно спорили, делились впечатлениями, а я извлекал большую пользу из этого обсуждения. Некоторые части этой книги я также представлял в своих лекциях на факультетах психологии, нейронауки, права, антропологии и на конференциях в Массачусетском технологическом институте, Нью-Йоркском университете, Принстонском центре по изучению гуманитарных ценностей, на Таннеровских лекциях[19] в университете Мичигана, в университетах Йеля, Ратгера, Университетском колледже Лондона и Институте Санта-Фе.
Особая благодарность Стиву Стичу (Steve Stich), позволившему мне представить часть этой работы группе жаждущих новизны философов, занимающихся проблемами морали, которые целый день терпели биолога, вторгавшегося в их сферу.
Я в долгу перед своей академической «семьей» — лабораторией, где мы работаем. Мои студенты — источник вдохновения, восхищения и радости. В подготовке этой книги принимали участие (без какой-либо систематизации, кроме хронологического порядка): Лори Сантос (Laurie Santos), Кори Миллер (Cory Miller), Азиф Газанфар (Asif Ghazanfar), Текумсе Фич (Tecumseh Fitch), Рут Тинкоф (Ruth Tincoff), Ройан Эгнор (Roian Egnor), Джоанна Брайсон (Joanna Bryson), Джеф Стивенс (Jeff Stevens), Альберто Паллерони (Alberto Palleroni), Джош Мак-Дермот (Josh McDermot), Бриан Хэйр (Brian Hare), Кит Чен (Keith Chen), Джастин Вуд (JustinWood), Лиана Янг (Liane Young), Файэри Кушман (Fiery Cushman), Санг Ах Ли (Sang Ah Lee), Тим О’Донелл (Tim O’Donnell) и еще целый ряд представителей замечательной студенческой молодежи.
Мне повезло встретить друзей — студентов, коллег, специалистов из разных университетов, которые с готовностью участвовали в глубоком критическом обсуждении содержания и стиля книги. Некоторые из этих выдающихся исследователей отвечали на мои вопросы, другие комментировали отдельные научные темы, включая вопросы теории эволюции, экономики, нейробиологии, психологии, лингвистики, права, религии. Это Джордж Эйнсли (George Ainslie), Эван Балабан (Evan Balaban), Джонатан Бэрон (Jonatan Baron), Ким Биман (Kim Beeman), Нед Блок (Ned Block), Джеймс Блэр (James Blair), Пол Блум (Paul Bloom), Седрик Броекс (Cedrik Broeckx), Кристофер Боем (Christopher Boehm), Роберт Бойд (Robert Boyd), Сэмюэль Боулз (Samuel Bowles), Сьюзан Кэри (Susan Carey), Дов Коэн (Dov Cohen), Ричард Коннор (Richard Connor), Леда Космидес (Leda Cosmides), Элан Дершовиц (Alan Dershowits), Адель Даймонд (Adele Diamond), Сьюзан Двайэр (Susan Dwyer), Эрнст Фер (Ernst Fehr), Дэниел Фесслер (Daniel Fessler), Ларри Фиддик (Larry Fiddick), Роберт Франк (Robert Frank), Норман Фролич (Norman Frohlich), Дрю Фьюденберг (Drew Fudenberg), Джон Галати (John Galaty), Сьюзан Гелман (Susan Gelman), Герберт Гинтис (Herbert Gintis), Энн Грейбил (Ann Graybiel), Джошуа Грин (Joshua Green), Пол Гриффитс (Paul Griffiths), Джонатан Хайдт (Jonathan Haidt), Дэвид Хэйг (David Haig), Лилан Хаузер (Lilan Hauser), Джозеф Хенрих (Joseph Henrich), Сара Хрди (Sarah Hrdy), Рей Джекендоф (Ray Jackendorf), Сьюзан Джонсон (Susan Johnson), Дэниел Канеман (Daniel Kahneman), Франциска Камм (Frances Kamm), Луис Кэплоу (Louis Kaplow), Тим Кетелар (Tim Ketelaar), Дэвид Лейбсон (David Laibson), Алан Лесли (Alan Leslie), Матиас Мальмэн (Matthias Mahlmann), Джон Микайл (John Mikhail), Эрл Миллер (Earl Miller), Даг Мок (Doug Mock), Шон Николз (Shaun Nichols), Ричард Низбет (Richard Nisbett), Джо Оппенгеймер (Joe Oppenheimer), Давид Примак (David Premack), Джесси Принз (Jesse Prinz), Джон Ролз (John Rawles), Адина Роскиес (Adina Roskies), Эл Рот (А1 Roth), Пол Рубин (Paul Rubin), Ребекка Сакс (Rebecca Saxe), Вольфрам Шульц (Wolfram Schultz), Сьюзан Сейгел (Susanna Siegel), Питер Сингер (Peter Singer), Вальтер Синнотт-Армстронг (Walter SinnottArmstrong), Элизабет Спелке (Elizabeth Spelke), Дэниел Спербер (Daniel Sperber), Стив Стич (Steve Stich), Алан Стоун (Alane Stone), Джудит Томпсон (Judith Thompson), Роберт Триверс (Robert Trivers), Фриц Цао (Fritz Tsao), Питер Унгер (Peter Unger), Джеймс Уитмен (James Whitman), Дэвид Слоан Уилсон (David Sloan Wilson) и Ричард Рангхэм (Richard Wrangham).
Особая моя признательность покойному Джону Ролзу (он уделил мне время для изложения своих взглядов, касающихся роли философии морали в нашем понимании правосудия) и Джону Микайлу (его тезисы, посвященные лингвистической аналогии Ролза, существенно повлияли на ход моих размышлений), а также Джонатану Хайдту за смелое предположение, что в сфере философии морали фокус сдвигается с размышления на интуицию. Мы с ним расходимся в вопросе о том, когда эмоции вторгаются в наши размышления, но разделяем точку зрения относительно интуитивных моральных представлений.
Некоторые из перечисленных исследователей читали черновики избранных глав книги или всю книгу целиком и представили честную, хотя нередко и довольно резкую критическую оценку (а зачем еще нужны друзья?). Это Ноам Хомский, Дэниел Деннет, Сьюзан Двайэр, Рей Джекендоф, Стивен Пинкер и Питер Сингер. Большое спасибо всем вам.
Я провел прекрасные длительные отпуска, выделенные для размышлений и написания книги, в Австралии, Палау и разных странах Африки. Я люблю Гарвард и Кембридж, но возможность на время уехать — это настоящий подарок, преумножающий жизненные силы. Будучи в Австралии, я имел счастье встретиться с четырьмя старыми друзьями: Анной и Аланом Голдизен (Goldizen), Уве Хёг-Гальбергом (Ove Hoegh-Guldberg) и Софи Дав (Sophie Dove). Они не только познакомили меня со многими достопримечательностями, но и сделали мое пребывание в стране интересным и продуктивным. В Палау я бесконечно благодарен Лори Колин Белл (Lori Colin Bell), в первую очередь за снятые для нас апартаменты на вершине холма, с которого открывался вид на прекрасную вереницу островов и самую бирюзовую воду, которую мне когда-либо приходилось видеть. Мне жаль участников шоу «Остаться в живых», которые вынуждены были бороться за выживание и не могли насладиться волшебством этой страны, красотой ее людей. В Кении я вновь встретился со своими друзьями по аспирантуре, благодаря Синтии Мосс (Cynthia Moss) я смог оставаться в ее блаженно-мирном заповеднике слонов в Национальном парке Амбосели. Эта книга вобрала в себя все лучшее из этих впечатлений, демонстрируя как универсальность человеческой природы, так и ее интересные изгибы, повороты.
Я приношу искреннюю благодарность Гарвардскому университету за полную финансовую поддержку, Фонду Мак-Донелла за грант, предоставленный на изучение вопросов, касающихся языка, и Фонду Гугенхайма за грант, позволивший закончить эту книгу, а также собрать данные с нашего и с некоторых других веб-сайтов и провести исследование на выборках больных.
Мои агенты — Джон Брокман (John Brockman) и Катанка Матсон (Katinka Matson), спасибо им, и еще раз спасибо. Их энтузиазм, поддержка и рекомендации были выше всех похвал, а самоотверженное стремление приблизить науку к широкой публике заслуживает самой высокой оценки.
За постоянное участие и значительную помощь в редактировании книги с самого начала работы над ней я благодарю Дэна Халперна (Dan Halpern) и Тима Уайтинга (Tim Whiting). Я также признателен за прекрасное редактирование Эмили Такодес (Emily Takoydes). Удаление больших фрагментов книги напоминает хирургическую операцию типа ампутации конечностей, но благодаря этому книга стала более живой, увлекательной.
Я знаю, что многие женатые писатели, выбирая супругу, учитывали, будет ли она мириться с рассеянностью и странностями мужа, будет ли она готова к стрессам, наконец. Я не отрицаю наличия у себя всех этих черт. Моя дорогая Лилан, как ты вынесла мою работу? Я поднимаю свой бокал в восхищении перед тобой, с любовью и неиссякаемой страстью!
Пролог. Справедливые голоса
Главная идея этой книги проста: человек обладает моральным инстинктом (инстинктом нравственности). Я определяю этот инстинкт как способность выносить быстрые суждения по поводу того, что правильно или ошибочно с точки зрения морали. Эта способность естественным образом формируется у каждого ребенка и основывается на неосознаваемых алгоритмах поведения, в дальнейшем именуемых «грамматикой действия». Одни компоненты этой способности сформировались под действием дарвиновского естественного отбора за миллионы лет до того, как появился наш биологический вид. Другие компоненты были добавлены или усовершенствованы в процессе эволюции вида и являются уникальными, присущими только человеку и его морали. Представление о моральном инстинкте сложилось под влиянием идей, распространившихся из области изучения другого инстинкта — инстинкта, лежащего в основе нашей способности к овладению языком.
Революция в лингвистике, произведенная Ноамом Хомским в 1950-е годы[20], красноречиво описана Стивеном Пинкером в книге «Язык как инстинкт». В основе этой революции — изменение теоретических позиций. Согласно новому подходу, вместо сравнительного анализа различных языков и анализа роли опыта в обучении языку исследователи должны переориентироваться на достижения биологических наук. Им следует рассматривать язык как искусно спроектированный орган — универсальную умственную способность человека. Универсальная грамматика, которая составляет сущность нашей языковой способности и является частью нашего видоспецифического врожденного дарования, обеспечивает средства для овладения конкретными языками.
Овладев родным языком, мы говорим сами и понимаем, что говорят другие, не рассуждая и не имея осознаваемого доступа к лежащим в его основе правилам или принципам. Я утверждаю, что наши способности в сфере морали обеспечиваются универсальной моральной грамматикой[21], которая создает инструментарий для построения конкретных моральных систем. С этих позиций, овладение культурно-специфическими нормами — процесс, больше напоминающий развитие какого-либо органа тела, чем просиживание в воскресной школе за изучением пороков и добродетелей. Благодаря универсальной моральной грамматике мы судим о том, какие действия допустимы, обязательны или запрещены, не рассуждая и не имея доступа к лежащим в их основе принципам.
Эта книга — о радикальном переосмыслении наших представлений о принципах поведения. Эти представления основываются на аналогии с теорией происхождения языка, которая получает все больше подтверждений благодаря бурному росту научных фактов. Наши моральные инстинкты не восприимчивы к руководящим наставлениям, открыто декларируемым религиями или правительствами. Наша моральная интуиция иногда согласуется с теми представлениями, которые диктует культура, а иногда и расходится с ней.
Схема анализа, которой я придерживаюсь в книге, следует определенной традиции, ее истоки можно найти в трудах Галилея. Она была принята большинством физиков, химиков и рядом исследователей в других естественных и социальных науках. Это позиция, которая утверждает сложность мира и допускает тщетность попыток дать его полное описание. Такое признание усмиряет исследователя. В логике этой позиции наилучший путь к продвижению состоит в том, чтобы выделить небольшой фрагмент проблемы, принять несколько упрощающих положений и попытаться получить некоторое понимание, продвигаясь в глубину области.
Стремясь понять психологию морали, я не буду исследовать все способы, которыми с ее помощью мы ежедневно взаимодействуем с другими людьми. Я использую подход, принятый в лингвистике Хомского. Как известно, лингвисты, последователи Хомского, отложили решение вопросов использования языка. Вместо этого они сфокусировались на подсознательном знании, которое дает каждому из нас способность выражать и оценивать бесконечное число предложений. Я применил такой же узкий подход к изучению принципов морали. Результатом этого явилось детализованное объяснение того, как неосознаваемая и универсальная грамматика морали составляет основу наших суждений о добре и зле.
Внутреннюю работу наших моральных инстинктов рассмотрим на примере. Алчный человек рассчитывает получить значительную сумму денег, если умрет его молодой племянник. Согласно первой версии истории, дядя спускается в ванную комнату, имея намерение утопить своего племянника в ванне, и осуществляет его. По второй версии, дядя спускается в холл, намереваясь утопить своего племянника, но тот лежит в ванне лицом вниз, т. е. уже тонет. Дядя закрывает дверь и оставляет своего племянника без помощи. Обе версии имеют один и тот же несчастливый конец: племянник умирает. Дядя в обоих случаях имеет одно и то же намерение, но в первой версии он его непосредственно воплощает, а во второй версии — нет. Удовлетворит ли вас, если суд присяжных сочтет дядю виновным в первой версии и невиновным — во второй? Вряд ли. Такое решение почему-то кажется фальшивым, противоречащим нашей моральной интуиции. Дядя представляется равно ответственным за свои действия и свое бездействие, а также за трагические последствия, к которым они привели. И если интуиция признает это в случае с дядей, почему такого не происходит в любом моральном конфликте, где есть различия между действием с отрицательными последствиями и оплошностью, приводящей к действию с такими же отрицательными последствиями?
Теперь рассмотрим эвтаназию и отношение Американской медицинской ассоциации к этой проблеме: «Намеренное прекращение жизни одного человеческого существа другим — убийство из сострадания — противоречит профессиональным медицинским нормам и политике Американской медицинской ассоциации. Прекращение использования исключительных средств для продолжения жизни тела, когда имеются неоспоримые доказательства того, что биологическая смерть неизбежна, определяется решением пациента и/или его ближайших родственников». Врачу запрещается окончить истощенную до предела Жизнь пациента, но разрешается прекратить поддержание жизнеобеспечения. В одном случае рассматриваются действия, в другом — их отсутствие. Соответствует ли это четко аргументированное разделение, поддерживаемое большинством стран в этой сфере, нашей моральной интуиции? Согласно моей интуиции, НЕТ.
Эти два случая ставят в центр внимания три проблемы: во-первых, законные власти часто игнорируют или скрывают существенные психологические различия, такие как нашу врожденную склонность рассматривать совершение действий по-одному, а несовершение — по-другому. Во-вторых, если эти различия установлены, они нередко вступают в конфликт с нашей моральной интуицией, и, наконец, в-третьих, когда политика и интуиция конфликтуют, политика оказывается в проигрыше. Один из хорошо скрываемых секретов медицинского сообщества заключается в том, что число убийств из сострадания в Соединенных Штатах и Европе существенно выросло в последние десять лет, хотя официальная политика осталась неизменной. Врачи следуют своей интуиции вопреки установленным правилам даже при угрозе лишиться медицинской практики[22].
В случаях, когда врачи придерживаются официальной политики, они нередко нарушают сложившуюся в АМА практику предпочтения бездействия в отношении таких больных. Например, в июне 2004 года доктор, открыто противопоставивший себя принятой в штате терпимости в отношении убийства из сострадания с помощью передозировки препаратов, заявил: «Я пришел в медицину помогать людям. Я не готовился к тому, чтобы давать им предписания умереть». Вполне возможно помогать пациенту, прекращая поддержку его жизнеобеспечения, но не допустимо помогать пациенту, выписывая ему сверхдозу препарата. Эта логика звучит фальшиво. Как показала реакция американцев на дело Терри Шейво, обнародованное в 2005 году, многие воспринимают прекращение поддержки жизнеобеспечения как законное действие, единицы оценивают его как морально неправильное. А для многих в Соединенных Штатах моральные нарушения равнозначны нарушениям религиозных норм, действиям, которые попирают слово Господа.
Генри Уодсуорт Лонгфелло, вторя большинству голосов, утверждавших, что религия с необходимостью должна освящать мораль, писал так: «...мораль без религии — это только разновидность мертвого исчисления, попытка установить наше место в бушующем море путем измерения расстояния, которое мы преодолели, но без бдительного ока божественных сил». Я утверждаю, что этот союз между моралью и религией не только вынужденный, но и не нужный, требующий развода.
Очевидно, что в сфере медицины, так же как и во многих других сферах, где возникают нравственные конфликты, политические позиции ослабевают. Политики должны более внимательно прислушиваться к нашей моральной интуиции и устанавливать правила, которые эффективно учитывают нравственные принципы, присущие нашему виду. Учет нашей интуиции не означает ее безусловного принятия. Не только возможно, но и вероятно, что некоторые из интуитивных ощущений, которые мы имеем, в настоящее время не могут быть применены к текущим социальным проблемам. Однако, формулируя политические требования, которые диктуют людям нормы поведения, мы с большей вероятностью создадим долгосрочные и эффективные законы, если будем принимать в расчет интуитивные склонности, которые сопровождают наши первоначальные реакции на навязываемые социальные нормы.
Возникает крайняя необходимость объединить весь материал, посвященный этой проблематике. Меня побуждает к этому, говоря словами Мартина Лютера Кинга, «жесткая срочность текущего момента». Господствующее представление о том, что нравственное решение — результат рассудочного выбора, ведет к ошибочным решениям в сфере политики, права и образования. Я полагаю, что подлинной причиной такой ситуации является наше незнание природы моральных инстинктов и способов их взаимодействия с постоянно меняющимся контекстом. Пришло время изменить ситуацию. К счастью, темпы научных достижений в области изучения морали настолько стремительны, что в тот момент, когда вы будете читать эти строки, я уже буду работать над новым прологом, отражая новое состояние проблемы.
Что не так?
Вы, прародители человеческой расы... погубившие себя ради яблока, что вы могли бы сделать ради индейки, фаршированной трюфелями?
Бриллат-Саварин[23]*
Сотни книг серии «Помоги себе сам», ответы на телефонные обращения на радиостанции вместе с проповедями таких американских гуру по этике, как Уильям Беннет и Ренди Коэн, снабжают нас принципиальными установками и методами для ведения благочестивой жизни. Юридические школы по всему миру ежегодно выпускают тысячи специалистов, обученных рассуждать по поводу случаев мошенничества, краж, насилия и несправедливости. Учебники по правоведению насыщены принципами, согласно которым следует судить человеческое поведение как моральное или аморальное. Большинство ведущих университетов включают в программы обязательные курсы, призванные обучить студентов беспристрастной логике, движению от доказательств к выводу, проверке исходных посылок и недвусмысленному формулированию умозаключений и гипотез. Медицинские и юридические заключения предоставляют продуманные и рациональные правила, устанавливающие нравственные ориентиры для морально запрещаемого, разрешаемого и наказуемого действия. В коммерческой деятельности при заключении контрактов стремятся к прозрачным способам ведения равноправных переговоров и расчетов. Военные наставники обучают солдат действовать хладнокровно, обдумывая альтернативные стратегии, планируя эффективные атаки, учат сдерживать эмоции и инстинкты, которые могут вызвать импульсивное поведение именно в тот момент, когда для достижения нужного результата требуется остановиться и порассуждать. Создаются президентские комитеты, в задачи которых входит четкое определение этических принципов и последствий применения насилия как внутри страны, так и за рубежом. Все эти профессионалы разделяют общую позицию: сознательные размышления на основе недвусмысленных принципов являются источником наших моральных суждений. Согласно классическому тексту по философии морали, «мораль прежде всего предмет обсуждения оснований поведения человека. Морально оправданным в любых обстоятельствах является то, что имеет наибольшие основания для исполнения»[24].
Доминирующая позиция становится жертвой иллюзии. Тот факт, что, обсуждая проблему добра и зла, мы можем осознанно комментировать декларируемые принципы, которые адресуют нам родители, учителя, правоведы, религиозные лидеры, не означает, что эти принципы служат источником наших нравственных решений. Напротив, я утверждаю, что моральные суждения обусловлены неосознаваемыми процессами, скрытой «моральной грамматикой», которая оценивает причины и следствия действий, наших собственных и чужих. Это объяснение переносит всю тяжесть ответственности с философии морали на науку о морали.
Эта книга рассказывает, почему возникли и как действуют наши интуитивные моральные представления. В ней также делается попытка предвосхитить будущее человека как биологического вида. Я рассматриваю психологические основы морали как инстинкт, т. е. как сложившуюся в эволюции способность человеческой психики неосознанно и автоматически порождать суждения о добре и зле. Благодаря этой способности, мы можем лучше понять, почему некоторые из наших поведенческих реакций и решений всегда будут рассматриваться как несправедливые, недопустимые или наказуемые и почему некоторые ситуации заставляют нас грешить перед лицом общественной нравственности, диктуемой нам законами, религией и образованием. Наши развившиеся в эволюции нравственные инстинкты не делают моральные суждения неизбежными. Скорее они придают акценты восприятию, ограничивают моральные установки и оставляют нас при этом в недоумении, потому что управляющие принципы оказываются глубоко спрятанными в хранилище нашего подсознания.
Хотя я в основном сосредоточусь на том, что делают люди в контексте морального конфликта и как и почему они приходят к тем или иным моральным решениям, — важно понять связь между описанием и предписанием, между тем, что есть, и тем, что должно быть.
В 1903 году философ Джордж Эдуард Мур указывал, что доминирующая философская перспектива — утилитаризм[25] Джона Стюарта Милля часто впадает в натуралистическое заблуждение[26]: пытаясь оправдать особые моральные принципы обращением к тому, что есть добро[27]. Для Милля утилитаризм был политикой реформ, предназначенных изменить представление людей о том, как следует вести себя. Утилитаризм должен был побудить людей сосредоточиться на идее всеобщего добра, определяя его в категориях естественных свойств человеческой натуры, таких как всеобщее счастье. По Муру, уравнивание понятий хорошего и естественного было ошибочным, поскольку есть естественные вещи, которые очень плохи (полиомиелит, слепота и т. п.), и искусственно созданные вещи, которые хороши (вакцины, очки и т. п.). У нас нет оснований считать, что, двигаясь от естественного, мы обязательно придем к чему-то хорошему.
Натуралистическое заблуждение становится еще более ощутимым при попытках вывести понятие должно быть из понятия есть. Рассмотрим факты. В большинстве культур женщины уделяют больше времени уходу за детьми, чем мужчины (половые различия, которые совпадают с имеющимися у наших предков — приматов), мужчины более агрессивны, чем женщины (и это также совпадает с нашим приматологическим прошлым), и полигамия распространена гораздо шире, чем моногамия (что характерно для большинства животных). Из этих фактов мы не имеем права заключать, что женщины должны выполнять всю работу по уходу за детьми и их воспитанию, в то время как мужчины будут пить пиво; что обществу следует одобрять мужскую агрессивность, потому что тестостерон делает насилие неизбежным, а женщинам следует терпеть и поддерживать мужской промискуитет, потому что это заложено в их гены и составляет часть природного плана. Описательные принципы, раскрывающие человеческую природу, не обязательно имеют причинную связь с принципами предписания. Выведение причинно-следственной связи здесь было бы ошибочным.
Характеристика натуралистического заблуждения, данная Муром, явилась причиной того, что поколения философов либо игнорировали, либо преуменьшали открытия биологических наук. Вместе с работами философа-аналитика Готлоба Фреге эта установка привела к усиленной критике этического натурализма — философского направления, которое пыталось определить понятие правильного через обращение к естественному. Она также привела к интеллектуальной изоляции тех, кто всерьез задумывался о моральных принципах, и тех, кто пытался раскрыть особенности природы человека. Таким образом, обсуждение моральных идеалов было отделено от фактов морального поведения и психологии.
Резкое отделение фактов от идеалов, однако, оказывается слишком экстремальным. Рассмотрим следующий пример[28].
ФАКТ: единственное различие между двумя операциями (первую проводит врач, дающий девочке обезболивающее, вторую — врач, не дающий обезболивающего) состоит в том, что ребенок будет испытывать мучения во время второй хирургической операции. Анестезия не причинит вреда ребенку, но послужит причиной временной потери сознания и чувствительности к боли. Девочка проснется после операции без плохих последствий и в лучшем состоянии благодаря работе доктора, применившего анестезию.
ОЦЕНОЧНОЕ СУЖДЕНИЕ: следовательно, доктор должен дать ребенку анестезию.
Здесь представляется разумным перейти от факта к оценочному суждению. Этот переход, как и математическое доказательство, требует немного больше, чем просто понять различие между последствиями выполнения действия и воздержанием от действия. В таком случае кажется разумным использовать термин есть, чтобы получить требование должно быть.
Одни только факты не способны заставить нас действовать. Однако когда мы изучим факт и вникнем в его детали, то нередко выносим оценочное суждение, предполагающее, что что-то должно быть сделано. Что побуждает нас заключить, что доктор должен дать обезболивающее? В первую очередь это мысль, что девочка не должна чувствовать боль, если боли можно избежать. Наше отношение к боли, а именно то обстоятельство, что, если возможно, ее необходимо снять, заставляет нас перевести факты этого случая в оценочное суждение. Но такой переход не всегда будет правильным. Нам необходимо понять, что направляет наши побуждения и установки.
Суть всего этого достаточно проста. Иногда объединение факта и желания ведет нас к логическому заключению о том, что следует сделать, но это происходит не всегда[29].
Нам необходимо рассматривать факты в каждом жизненном случае. Природа не будет определять переходы от фактов к оценочным суждениям и от них к действиям. Природа, однако, может ограничить то, что морально допустимо, и предложить способы, с помощью которых человек и, возможно, животные побуждаются к действию.
Когда в фильме «Африканская королева» Кетрин Хепберн поворачивается к Хамфри Богарту и говорит: «Природа, мистер Олнат, это то, что мы вкладываем в данное слово, чтобы возвыситься», она произносит одно слово неверно. Мы не должны возвышаться над природой, мы должны возвышаться вместе с природой.
Задача сформулировать стабильные принципы, предписывающие нормы поведения, как через официальные законы, так и через религию может быть решена только в том случае, если понять, каким образом они будут рушиться перед лицом тех способностей, которыми снабдила нас мать-природа[30].
Реальный мир
Программа MTV «Реальный мир» дает возможность наблюдать за усилиями людей, которые стараются решить «реальные» моральные дилеммы. В 15-м эпизоде сезона 2004 года девушка по имени Френки поцеловала юношу по имени Адам. Позднее девушка пыталась убедить своего бойфренда Дейва в том, что это была ошибка — ничего не значащий поцелуй после излишнего количества выпитого спиртного. Френки сказала Дейву, что он — ее настоящая любовь, но Дейв не клюнул на наживку. Подавленная конфликтом, Френки заперлась в комнате и нанесла себе ножевые ранения.
Даже если это выглядит мелодраматично и больше напоминает суррогатные чувства, задумайтесь над следующим обстоятельством. Хотя верность и не является характерной особенностью этой возрастной группы, эмоциональный пролог и эпилог к промискуитету угнетает многих. Тысячи подростков он ведет к членовредительству. Дистресс — один из признаков признания разумом наличия социальной дилеммы, арены борьбы интересов.
Но что поднимает социальную дилемму до уровня моральной и делает суждение морально значимым?[31] В чем отличительные признаки моральной дилеммы по сравнению с социальной дилеммой, не имеющей морального аспекта? Это принципиальный вопрос для всех, кто занимается проблемами строения и механизмов сознания. Точно так же, как лингвисты задаются вопросом по поводу определяющих характеристик речи, в отличие от других акустических сигналов, мы хотим понять, какие специфические отличия имеют моральные дилеммы.
Френки столкнулась с моральной дилеммой: она предала Дейва, так как обязалась быть верной. Целовать кого-то другого запрещено. Нет письменных законов, устанавливающих, какие действия обязательны, а какие запрещены в романтических, но не брачных отношениях. И все же любой признает, что существуют ожидаемые паттерны поведения и последствия, связанные с их нарушением. Если даже авторитетная личность сказала вам, что нет ничего страшного в том, чтобы обмануть свою первую возлюбленную (или возлюбленного), независимо от того, насколько мы к этому склонны, мы будем испытывать чувство неловкости, чувство того, что совершаем нечто неправильное. Если учитель в классе сказал детям, что в любых случаях нужно ударить соседа, чтобы разрешить конфликт, большинство, если не все дети будут возражать против этого. Авторитетные фигуры не могут оправдать моральных нарушений. Однако это не срабатывает в отношении других социальных норм или договоренностей, например таких, которые связаны с приветствиями или с поведением за столом. Если владелец ресторана объявил, что все посетители могут есть руками, некоторые из них воспользуются этим разрешением, а другие нет — в зависимости от их настроения и воспитания.
Чтобы понять смысл моральной дилеммы, мы должны, по крайней мере, выявить конфликт между двумя разными обязательствами. В прологе я описывал классический случай морального конфликта: мы все верим в то, что, с одной стороны, никто не имеет права укорачивать наши жизни, и, с другой стороны, в то, что мы не должны являться причиной чьей-то боли или способствовать ее продолжению. Однако некоторые люди также верят в то, что допустимо прекратить чье-либо существование, если он или она страдает от неизлечимой болезни. Таким образом, мы сталкиваемся с конфликтом между сокращением и сохранением чьей-либо жизни. Сегодня этот конфликт приобрел более экстремальный характер, чем это было в нашем эволюционном прошлом. Во времена охотников/собирателей выживание человека зависело от состояния его здоровья, тогда не было доступа к новым лекарствам и системам поддержки жизнеобеспечения, которые в настоящее время продлевают наши жизни далеко за пределы ожиданий, обусловленных природными возможностями. Поэтому, когда у нас возникает соблазн закончить чью-либо жизнь сегодня, мы должны учитывать и ту возможность, что новые средства лечения могут находиться где-то рядом. Из-за этого возникает конфликт между немедленным прекращением страданий человека и продолжением этого страдания до момента появления нового метода лечения. Какой из вариантов долженствования есть у нас и какой из вариантов долга является ключевым в моральной дилемме?
Для того чтобы увидеть, каким образом долг может играть определяющую роль в споре двух противоположностей, я приведу несколько классических примеров. Предположим, я утверждаю, что моральный фундамент общества зависит от непротиворечивой позиции лиц, которые соблюдают свои обязательства, в частности возвращают свои долги. Если я обещал вернуть долг своему другу, я должен выполнить обещание и отдать деньги. Это кажется обоснованным, особенно потому, что альтернатива — нарушение обещания — ослабит дружеские узы.
Предположим, что я занимаю у своего друга охотничье ружье и обещаю вернуть его в следующий охотничий сезон. За день до предполагаемого возврата ружья я узнаю, что у моего друга клинически диагностировали склонность к неконтролируемым приступам ярости. Хотя я обещал вернуть ружье, возникает ощущение, что у меня есть новое обязательство оставить его у себя, таким образом предохранить моего друга от нанесения возможного вреда себе и другим. Два обязательства находятся в конфликте: выполнение обещания и защита людей. При такой формулировке кое-кто может возразить, что здесь нет конфликта: обязанность защитить других от потенциального вреда по своей значимости перекрывает обязательство выполнить обещание и вернуть долг. Простая модель соотношения цены и выигрыша подсказывает решение: спасение многих жизней перевешивает нарушение личного обязательства. Решение не устраняет моральной проблемы, хотя и имеет определенное значение.
Мы можем усилить проблему морального конфликта, сославшись на дилемму Уильяма Стайрона из фильма «Выбор Софи». Несмотря на то что ситуация придумана, эта дилемма и другие, подобные ей, возникали в годы войны. Когда Софи и ее дети оказались в нацистском концентрационном лагере, немецкий офицер предложил Софи на выбор: указать на одного из двух детей — он погибнет, зато второй останется жить; если откажется выбрать, оба ребенка погибнут. Убеждая ее, что хуже иметь двух мертвых детей, чем одного, офицер заставляет Софи сделать выбор между своими детьми, выбор, который ни одйн родитель не захочет сделать и не должен делать никогда. Рассматривая проблему таким способом, кто-нибудь может сказать, что у Софи нет выбора: согласно трезвому математическому расчету, 1 > 0. Если отсутствует выбор, — нет моральной проблемы. Однако формальный взгляд на трудное положение Софи игнорирует несколько других вопросов. Будет ли плохо со стороны Софи отвергнуть предложение офицера и допустить гибель обоих детей? Будет ли Софи нести ответственность за смерть двух своих детей, если она решит отказаться от выбора?
Поскольку невозможно обратиться к прямым и непротиворечивым принципам, чтобы ответить на эти вопросы, мы остаемся с моральной дилеммой — проблемой, которая сталкивает конкурирующие обязательства в конфликт. Ответственность Софи как матери заключается в том, чтобы защищать обоих детей. Даже если она постоянно воюет с одним ребенком и никогда — с другим, она все равно сталкивается с дилеммой. Личностные особенности, даже неприятные, не обеспечивают достаточного права для решения вопроса о жизни другого человека, несмотря на то что они могут сместить наши эмоции в том или другом направлении. Представьте, если бы закон позволял личностным различиям вмешиваться в наши суждения о справедливости и наказании. Мы могли бы осудить мелкого воришку на длительное тюремное заключение из-за его наглого поведения и в то же время освободить другого такого же вора от приговора благодаря его очаровательной улыбке. Софи приносит в жертву свою маленькую дочь, чтобы спасти старшего, более сильного сына. Затем она теряет его след и, годы спустя, совершает самоубийство.
При обсуждении описанных выше случаев сначала мы выдаем, по-видимому, автоматическую реакцию на дилемму, а потом критически оцениваем, что бы мы сами стали делать, оказавшись в положении персонажа.
Мы сочувствуем переживаниям Софи, понимая, что выбор необходим. Однако осознаем, что без твердой основы для выбора можно с равным успехом положиться на жребий. Эмоции, сопровождающие выбор, стимулируют предпочтение. В то же время недостаток эмоционального предпочтения одного выбора по сравнению с другим заставляет решать вопрос с помощью жребия. В тех жизненных ситуациях, когда от нас требуется объяснять свои решения, мы нередко оказываемся в замешательстве. Хотя, без сомнения, у нас есть интуитивные основания для выбора, но насколько мы можем быть уверены, что чувства, вызвавшие наше суждение, не войдут в противоречие с грядущими последствиями? Если эмоции воздействуют на наше решение незаметно, мы тем более не имеем доказательств того, что эти две составляющие причинно связаны, как в тех случаях, когда укол булавкой вызывает боль.
Ни мы, ни какое-либо другое живое существо не может просто испытывать эмоцию. Что-то в мозге должно признать — сразу же или через некоторое время, — что эта ситуация эмоциональна. Когда Софи решилась сделать выбор, он вызвал у нее чувство вины. Почему? Вина представляет собой одну из форм ответа на социальный проступок — насилие над общественными нормами. Перешла ли Софи границы? Нарушила ли Софи закон? Было ли ее решение выбрать одного из детей морально допустимым или достойным порицания? Если бы Софи никогда не испытала чувства вины, стали бы мы о ней хуже думать? Мое ощущение, что поступок Софи допустим, даже, может быть, обязателен при условии выбора между двумя мертвыми детьми или одним. Почему тогда возникает чувство вины? Наиболее вероятно, что эта эмоциональная реакция, как и все другие, возникает из-за часто не осознаваемого анализа причин и следствий действия человека. Кто-то сделал что-то кому-то, почему и с помощью каких средств и с какой целью? Этот анализ должен предшествовать эмоции. Если система анализа сталкивается с проблемой, она может включить эмоцию в мгновение ока, автоматически. Понимание этого процесса объясняет, почему Софи ощущала вину, несмотря на то что она не сделала ничего ошибочного. Выбор, вынужденный необходимостью, может запустить такую же тревогу и тоску, которая сопровождает выбор добровольный. Характер переживаемой эмоции вытекает из бессознательного анализа причин и следствий действия. Этот анализ, с моей точки зрения, сфера действия моральных способностей.
Против каузальной силы эмоций выступают те, кто думает, что мы можем решать моральные дилеммы, сознательно рассуждая с помощью набора принципов или правил. Эмоции же мешают нашим трезвым размышлениям. В крайнем варианте этой перспективы — признание того, что моральных дилемм не существует. Потому что для каждого очевидного конфликта, включающего два или более конкурирующих оснований, есть только один выбор. Надпись на стене церкви в Йоркшире (Англия) гласит: «Если у вас есть противоречащие друг другу обязательства, одно из них — не ваше». Если у вас есть совершенная теория морали, в ней должен быть сформулирован точный принцип, или правило, основания выбора. Теория морали должна быть похожа на физику — систему, которую мы можем описать с помощью законов, потому что она обнаруживает закономерные повторяемости. Подобно знаменитому уравнению Эйнштейна, позволяющему понять связь между массой и энергией: E= mc2, мы должны иметь столь же красивые уравнения для сферы морали. С такими уравнениями мы можем анализировать детали ситуации, варьируя числами, и на выходе иметь четкий и разумный ответ при моральных выборах. Дилеммы в этом контексте становятся весьма иллюзорными. Ощущение морального конфликта происходит из того факта, что личность, оценивая ситуацию, не думает четко и рационально, не видит вариантов выбора — причин и следствий. Человек использует скорее свои инстинкты, чем разум. Наши эмоции не обеспечивают правильного течения процесса для осуществления выбора, даже если они направляют нас в том же направлении, в каком это делает наш разум.
Побуждаемые напряженными сомнениями, с которыми мы сталкиваемся, выделяя источник наших моральных суждений, рассмотрим последний набор случаев[32].
Это случаи из реальной жизни, они заставят нас задуматься о различиях между действием и бездействием. Различия такого рода уже были обозначены в прологе, когда я писал об эвтаназии. Представьте. Вы едете по сельской дороге в своей новой машине с откидным верхом, салон отделан безупречной кожей. На краю дороги вы замечаете маленькую девочку с окровавленной ногой. Увидев вас, она просит о помощи. Ее нужно доставить в больницу. Вы в растерянности. Ее окровавленная нога испортит кожаное сиденье машины, и за химчистку вам придется заплатить 200 $. Но вскоре вы осознаете, что это недостаточные основания для колебаний. Жизнь человека, конечно, стоит гораздо больше, чем кожаный салон машины. Вы берете ребенка и везете его в больницу, принимая прогнозируемые последствия своего решения — счет на 200 $ за чистку кожаной обивки машины.
Теперь рассмотрим сходную ситуацию. Вы получаете письмо из ЮНИСЕФ с просьбой сделать пожертвование для умирающих детей в бедной африканской стране. Причину смерти, кажется, легко устранить: нужно больше воды. Пожертвование в размере 50 $ спасет 25 жизней, обеспечив каждого ребенка пакетом медикаментов, которые устранят обезвоживание, вызванное диареей. Если статистика по диарее и обезвоживанию не захватывает вас, переведите ее в число других равно устраняемых причин смерти (голод, корь и авитаминоз), вызывающих ежегодную многомиллионную детскую смертность. Большинство людей выбрасывают эти письма о помощи в мусорную корзину. Они поступают так, даже если в письме есть фотография детей, умирающих от жажды. Фотография у многих вызывает сострадание, но оказывается недостаточной, чтобы стимулировать подписание чека.
Для тех, кто заботится о принципах, лежащих в основе наших моральных суждений, важно выявить, что различает эти два случая. Что заставляет большинство людей думать, возможно сначала неосознанно, что необходимо остановиться и помочь ребенку на краю дороги, в то время как помощь иностранным детям, умирающим от жажды, не обязательна? Если к таким заключениям ведет разум, тогда те, кто критически анализирует эту дилемму, должны дать принципиальное объяснение своих суждений. Если их спросят: почему они не делают пожертвований, они назовут такие причины, как неопределенность, связанная с перечислением денег и гарантией того, что они будут доставлены умирающим детям. Далее будет упомянут тот факт, что они могут помочь лишь небольшому числу нуждающихся детей и что такие пожертвования должны находиться в компетенции богатых правительств, а не частных лиц. Все эти соображения выглядят достаточно разумными, но в качестве принципов для ведения благочестивой жизни они не годятся. Деятельность многих организаций, осуществляющих помощь детям, особенно ЮНИСЕФ, прозрачна и имеет исключительно высокие показатели передачи фондов по назначению. И хотя пожертвование-в 50$ спасет только 25 детей, разве не лучше спасти 25, чем не спасти никого? Вероятно, правительства разных стран могли бы помогать больше, но они этого не делают. В связи с этим почему бы не сделать пожертвования и не спасти нескольких детей? Когда большинство людей сталкиваются с такими встречными аргументами, они обычно неохотно соглашаются в принципе, а затем все-таки находят причины для отказа. В конце концов, они сдаются и приходят к вымученному заключению, что именно сейчас они не могут сделать это пожертвование — может быть, на следующий год.
Обращение к эволюции поведения помогает снять некоторое напряжение, которое возникает, когда мы сравниваем степень готовности оказать помощь раненому ребенку или детям, умирающим от жажды. Оно дает возможность частично объяснить наши рассуждения и плохо согласующиеся оправдания противоречивого поведения в этом и во многих других случаях.
В эволюционном прошлом человеку предоставлялись возможности помогать только тем, кто находился рядом: охотнику, раненному буйволом, голодающему родственнику, стареющему человеку и женщине с осложненной беременностью. Возможности для альтруизма на расстоянии не существовало. Психология альтруизма формировалась в контактах с ближайшим окружением, на расстоянии вытянутой руки. Хотя и сейчас нет гарантии, что мы обязательно поможем другим, оказавшись в тесной близости с ними; принципы, которые руководят нашими действиями, гораздо лучше объясняются с помощью категорий «близости» и «вероятности». Раненый ребенок, лежащий на краю дороги, вызывает немедленную эмоциональную реакцию и создает психическое состояние, побуждающее к действию, последствия которого имеют высокую вероятность успеха. Мы сочувствуем девочке и уверены, что наша помощь с высокой степенью вероятности облегчит ее страдания и спасет ей ногу. Фотография голодающих и умирающих детей также вызывает сострадание, но изображение не способно вызвать эмоцию такой же интенсивности, как реальное событие. Кроме того, даже если эмоция при виде детей на фотографии и возникает, связь между действием (пожертвованием) и его следствием (облегчением участи детей) психологически оказывается очень слабой.
Из приведенной выше дискуссии нам не следует делать далеко идущих выводов о том, что наши интуитивные представления всегда обеспечивают наилучшие варианты решения — в отношении того, что морально оправдано, а что нет. Как объясняет психолог Джонатан Бэрон, интуиция может привести к неудачным и даже вредным результатам[33]. Например, мы с высокой вероятностью определим действия с отрицательными последствиями как запрещаемые. Одновременно с этим бездействие, которое приводит к таким же отрицательным последствиям, мы можем оценить как допускаемое. Вспомним, когда речь идет об эвтаназии, приоритетность позиции бездействия побуждает нас благосклонно относиться к прекращению жизнеобеспечения смертельно больного человека, в отличие от действия, цель которого — смерть человека. Такой же перевес в сторону бездействия позволяет одобрить отказ от серии прививок даже в тех случаях, когда они спасают жизни тысячам детей на фоне нескольких, умерших от побочных эффектов. Как показывает Джонатан Бэрон, эти ошибки коренятся в интуитивных представлениях, которые не дают нам возможности оценить последствия наших действий. Если интуитивные ощущения поднимаются до ранга правил, то умственная слепота оборачивается фантазиями. Необходимость оправдать наши мнения приводит к тому, что мы оказываемся вовлеченными в сложную психологическую игру.
Подведем черту. Рассуждения и эмоции играют определенную роль в нашем моральном поведении, но ни те, ни другие не могут считаться полностью ответственными за процесс, ведущий к моральному суждению. Мы пока еще не установили, почему у нас есть специфические эмоции и специфические принципы для суждений. Мы представляем причины, но они часто оказываются недостаточными. Даже когда они убедительны, неизвестно, эти ли причины вызывают наши моральные суждения или наши суждения являются следствием неосознаваемых психологических манипуляций? Каким причинам мы должны доверять и конвертировать их в универсальные моральные принципы? У нас возникают эмоциональные реакции на большинство, если не на все моральные проблемы, но зачем нужны именно эти специфичные эмоции, почему мы должны к ним прислушиваться? Можем ли мы гарантировать, что другие люди испытают такие же чувства по поводу данной моральной дилеммы?
Философы обсуждали эти проблемы веками. Они очень сложны. Моя цель — продолжить их разъяснение. Мы можем продвинуться в решении проблемы, если обратимся к анализу большого объема новых научных фактов. Эти факты мы будем рассматривать в контексте идеи о том, что человек обладает моральными способностями — некоторым ментальным органом, который обеспечивает универсальную грамматику действия[34].
Те, кто достаточно смел, присоединяйтесь к Мильтону: «Внутрь первозданного хаоса, в чрево природы!»[35]
Ошибочная логика
У Томаса Гоббса в книге «Левиафан», опубликованной в 1642 году, написано: «Справедливость и несправедливость не являются способностями, присущими телу или духу». Переформулируем это утверждение: мы начинаем с чистого листа, позволяя опыту формировать наши моральные понятия. Гоббс защищал эту позицию, приводя «мысленный» эксперимент с «диким» ребенком. Он утверждал, что, если биология определяет наши способности к моральным рассуждениям, таким как способность быть мыслящими, рефлексивными, сознательными, осмотрительными, принципиальными и отстраненными от наших эмоций или страстей, тогда они «могут присутствовать, наряду с чувствами и переживаниями, у человека, который оказался один в мире»[36].
Взгляды Гоббса на человека порождают удобную идею о том, что все плохие яйца могут превратиться в хороших цыплят, если на них будет влиять мудрость старшего поколения. И это единственная причина, по которой мы можем поддерживать согласованную, преемственную систему правосудия. Особенности нашей биологии и психологии представляют просто хранилища для информации и для последующего размышления о содержании сохраняемой информации средствами рационального и хорошо построенного логического процесса. Но каким образом этот процесс определяет, что нам следует делать?
Верно, что общество предлагает нам принципы и указания, когда мы рассуждаем по поводу того, что должно быть сделано. Но почему мы должны их принимать? Каким образом мы должны определять — являются ли они справедливыми и разумными? У философов прошлого, начиная с Рене Декарта, мы обнаруживаем один бесспорный ответ: избавьтесь от страстей и отдайте приоритет размышлениям и рациональности. Из этой рациональной и определенно разумной позиции имеются два следствия. С одной стороны, мы можем рассмотреть специфические, имеющие отношение к морали примеры, включающие ущерб, согласование и наказание. Опираясь на детали конкретного примера, мы можем прийти либо к утилитарному суждению, базирующемуся на одном-единственном основании — приносит ли этот результат наибольшую пользу, либо к этическому суждению, которое базируется на идее, что каждое морально релевантное действие является или правильным, или неправильным, независимо от его последствий. Утилитарный взгляд фокусируется на следствиях, в то время как этическая перспектива концентрируется на правилах, иногда допуская некоторые исключения. С другой стороны, мы можем попытаться очертить общий набор руководящих принципов для характеристики наших моральных обязательств, независимо от особенностей ситуаций и чувства удовлетворения. Это путь, который проложил философ Иммануил Кант, утверждая в наиболее жесткой форме категорического императива: «Поступай так, чтобы максима твоей воли всегда могла быть вместе с тем и принципом всеобщего законодательства»[37].
Для Канта моральные основания — мощные стимулы для должного действия. Поскольку они не ограничены специальными обстоятельствами или содержанием, они имеют универсальные применения. Иначе говоря, только универсальный закон может обеспечить мыслящему человеку достаточные основания действовать добросовестно.
Если этим объясняется, как устроена наша мораль, тогда один из существенных аспектов этой работы — программа, которая обеспечит возможность исключить наши аморальные действия. Программа написана как императив, оформленный в виде правила или приказа. Спаси ребенка! Помоги старушке! Накажи вора! Этот императив является категорическим, потому что он выполняется без исключений. Он хорошо совмещается с другим категорическим императивом Канта, поддерживающим Золотое правило: «Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой». И он не совпадает с императивом, позволяющим смягчить Золотое правило с учетом личной выгоды: «Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой, но только в том случае, если это обеспечит тебе большой личный выигрыш или обернется недорогой ценой».
В своем универсальном подходе Кант идет еще дальше, добавляя другой императив, другой принцип: «Действуй таким образом, чтобы всегда обращаться к человечеству (и в своем собственном лице, и в лице любого другого) как к конечной цели, но никогда — просто как к средству». Принцип категоричен, потому что описывает неоспоримое требование и определяет не подлежащее обсуждению условие: «Никогда не используйте людей просто как средства». К людям следует относиться как к высшим целям — индивидуумам с желаниями, намерениями и надеждами.
Один из способов обдумать категорический императив Канта — это рассмотреть его как руководство к действию[38].
1.Человек формулирует принцип, который обусловливает причину его действия.
2.Затем он переформулирует этот принцип в универсальный закон, который, по его убеждению, применим ко всем остальным мыслящим существам.
3.Затем он анализирует выполняемость универсального закона при условии, что он знает о мире и о присутствии в нем других мыслящих существ. Если человек приходит к выводу, что закон применим, он переходит на позицию 4.
4.Он задает себе вопрос: должен ли я и могу ли действовать по этому принципу в этом мире?
5.Если его ответ на позицию 4 — «да», то его действия морально оправданы.
Один из главных примеров Канта — это вероломные обещания.
Фред беден и голодает. Он просит своего друга Билла одолжить денег на еду. Фред обещает вернуть Биллу долг, но в действительности не собирается этого делать. Это пустые обещания.
Давайте применим метод Канта.
Шаг 1. Фред полагает, что, поскольку он голоден и беден, он имеет право просить взаймы и обещать возврат долга. У Билла есть деньги, заем не нанесет существенного ущерба его финансам, и их дружба сохранится, даже если заем никогда не будет возвращен. Заключение по этой ситуации может звучать приблизительно так: морально оправдано для Фреда изменить обещанию, данному Биллу, поскольку выгоды для Фреда перевешивают цену события для Билла.
Шаг 2. Переформулируем заключения, сделанные по этому специфическому случаю, в универсальный закон: морально оправдано для любого мыслящего существа изменить своему обещанию в том случае, если его личная выгода от этого перевешивает цену такого поступка для других.
Шаг 3. Насколько применим этот универсальный закон? Можно представить себе мир, в котором большинство обещаний не выполняется или, по крайней мере, в большинстве случае их результаты непредсказуемы с точки зрения правды или лжи? Ответ кажется ясным. Нет! Не будет шагов 4 или 5. Морально недопустимо давать вероломные обещания. Однако, как я подчеркивал в последнем разделе, это не означает, что мы всегда обязаны выполнять свои обещания. Может быть оправданным нарушение обещания, если позитивные следствия отказа будут перевешивать негативные следствия выполнения.
Императив Канта показывает, что в рационально устроенном мире единственный путь к справедливому и универсальному набору принципов — это гарантировать, что данные принципы применимы к каждому без исключения. Поэтому категорический императив препятствует возникновению теоретически возможных сообществ, в которых воровство, ложь и убийство составляют часть универсального закона. Причина очень проста: последствия этих законов наносят вред даже эгоистичным индивидуумам, они могут потерять свою собственность, друзей или жизнь.
Давайте назовем индивидуумов, которые формулируют свои моральные суждения исходя из сознательных рассуждений на основе релевантных принципов, «созданием Канта». Мы изображаем его здесь и далее в виде маленького существа с огромным мозгом, которое в задумчивости прикладывает палец к виску. Хотя я использую воззрения Канта как образец такого подхода, позвольте отметить: даже Кант признавал, что житейские представления о добре и зле, и особенно эмоции, могут определять мотивы поведения. Но для Канта и многих его последователей наши эмоции являются препятствием. Мы приходим к заключительным моральным суждениям через сознательное размышление — процессу, который влечет за собой обдуманное отражение принципов или правил, благодаря которым некоторые вещи становятся морально оправданными, а другие — аморальными.
Чтобы увидеть, насколько хорошо создания Канта справляются с внешним миром, рассмотрим следующий пример. Мне предлагают принцип, согласно которому я должен всегда говорить правду, потому что правдивость ведет к стабильным и более эффективным взаимосвязям. Проанализируем этот пример с помощью метода пяти шагов. Кажется, что этот принцип работает, может быть, даже слишком хорошо.
Когда мой отец был ребенком, в оккупированной Франции добрая девочка предупредила его, что нацисты собираются прийти к ним в деревню, и если он еврей, то он может спрятаться в их доме. Хотя и недовольный необходимостью открыть, что он еврей, отец поверил девочке и укрылся в ее доме. Когда нацисты пришли и стали расспрашивать, есть ли в деревне евреи, девочка и ее родители сказали, что нет, и, к счастью, этим все и закончилось. И девочка, и ее родители солгали. А если бы они были подлинными созданиями Канта, для них было бы невозможно не объявить об укрытии моего отца. Я, со своей стороны, радуюсь тому, что кантианцы иногда могут отвергать свой принцип.
Кантианцы попадают в такую же трудную ситуацию, когда речь идет о причинении вреда другому индивидууму. Они могут желать, чтобы все придерживались категорического императива, согласно которому убийство — неправильное действие, потому что не могут допустить, чтобы индивидуумы, даже с весомыми личными причинами, могли убить кого-либо. Им кажется столь же невозможным рекомендовать убийство как морально оправданное решение для спасения жизней нескольких других индивидуумов. В этом случае прагматический расчет может подтолкнуть нас к такому действию, но этическая оценка не допустит: убийство, безусловно, порочно.
Дебаты по поводу наиболее значительных теорий о моральных суждениях, таких как категорические императивы Канта, продолжаются и в двадцать первом столетии. Эта насыщенная и интересная история здесь не должна нас касаться. Наибольшее значение для нас имеет связь между философией морали и психологией морали. Те же исследователи, кто продолжает традиции, связанные с проблемами сознательного рассуждения, ориентируются на философские воззрения Канта.
Психология морали, особенно в аспекте развития, была представлена в двадцатом и двадцать первом веках идеями Жана Пиаже и Лоренса Колберга[39]. Оба придерживались той точки зрения, что моральные суждения диктуются обществом и совершенствуются в результате опыта (вознаграждения и наказания). Они базируются на способности рассуждать, разбираясь «в рельефе» моральных дилемм, и завершать этот процесс заключением, которое основано на четко определенных принципах. Колберг определяет эту позицию так: «...моральные принципы — это активная реконструкция опыта»[40].
Таким образом, психология, признавая, что сознательное рассуждение приводит к моральному суждению, следовала философии Платона и Канта. Цель развития ребенка состояла в том, чтобы подготовить идеально рациональное существо и выпустить его в жизнь с готовностью к практическим рассуждениям и логическим выводам[41].
Во многих отношениях Колберг превзошел Канта, утверждая, что наша психология морали — рациональная и высокоинтеллектуальная психология, основывающаяся на четко сформулированных принципах.
Пиаже и Колберг сфокусировались на проблеме справедливости, определяя характеристики морально зрелой личности, и попытались объяснить, как опыт ведет ребенка от моральной незрелости к зрелости. Пиаже выделил три стадии морального развития, в то время как Колберг описал шесть. Разница в числе стадий объясняется стремлением Колберга выделить каждую стадию на основе более точно определяемых способностей. Каким образом ребенок приобретает эти умения? Кто именно, если таковой имеется, объясняет ему, что такое «хорошо» и что такое «плохо», помогая каждому ребенку ориентироваться в сложном лабиринте действий, которые имеют моральное оправдание или не имеют его? Поднимая эти вопросы, я не сомневаюсь, что некоторые аспекты детской моральной психологии по мере развития ребенка изменяются. Я также не отрицаю, что с возрастом дети приобретают все более утонченный стиль сознательных рассуждений. Однако наиболее интересные проблемы здесь: что изменяется, когда, как и почему?
Рассмотрим, например, историю, в которой девочка по имени София обещает своему отцу, что она никогда одна не будет переходить большую улицу с интенсивным движением. Однажды София видит посреди улицы щенка, испуганного и неподвижного. Спасет ли София щенка или сдержит свое обещание? Дети моложе шести лет обычно отправляются спасать щенка. Когда их спрашивают, что при этом будет чувствовать их отец, они отвечают: «Удовлетворение», объясняя свой ответ тем, что отцы тоже любят щенков. Если эти дети узнают, что отец Софии накажет ее за то, что она перебежала через улицу — нарушила обещание, они ответят, что спасение щенка не предмет выбора. Если их спросят, что София почувствует, оставив щенка на дороге, они ответят: «Удовлетворение». Дети думают, что, поскольку подчиниться авторитету — это хорошо, тогда они тоже должны испытывать хорошие чувства, послушавшись своего отца.
Ответы на эти варианты вопросов меняются с возрастом. Дети уходят от ответов, которые фокусируются на менее значимых пунктах, существенных лишь здесь и сейчас, открывая путь к более тонким взглядам по поводу причин и следствий, а также разницы в установках, которые следует иметь, размышляя о себе и других. Но что вызывает эти изменения? Это плавный, «танцующий» переход с одной стадии на другую, в котором нелегко выделить отчетливые границы между стадиями. Возникает, однако, вопрос, все ли дети обязательно проходят через одни и те же стадии, начиная со стадии 1, где закрепляется голос авторитета, и кончая стадией 6, идеальным состоянием, при котором индивидуумы приобретают абстрактные принципы для рационально обоснованного выбора среди многих других? Каким образом наша среда формирует кантианское создание — личность, которая судит о добре и зле, приобретая осознанное отношение к релевантным моральным принципам?
Допустим, так же как Пиаже и Колберг, что дети переходят с одной стадии морального развития на другую с помощью возрастающей способности обобщать то, что им говорят родители. Согласно Фрейду, можно представить, что дети очерчивают понятия «хороший» или «разрешаемый» по отношению к тем вещам, которые родители рекомендуют им делать, и определяют понятия «плохой» или «вредный» по отношению к тем вещам, которые родители им запрещают. Хорошие поступки вознаграждаются, а плохие наказываются. Специалист по обучению животных Беррес Фредерик Скиннер показал, что можно научить крысу нажимать на педаль за вознаграждение и избегать нажатия на педаль при угрозе наказания ударом тока. Опираясь на этот способ, родители также могут обучать своих детей. Каждая стадия морального развития связана с различными принципами действия. Каждая стадия является предпосылкой для достижения следующей. На каждой стадии способности ребенка узнавать различия между властью и моралью, причинами и следствиями, важностью обязательств и ответственности ограничены.
Теория морального развития сталкивается с целым рядом препятствий[42].
Препятствие первое. Как и почему должен действовать авторитет? Нет сомнения, что вознаграждение за соответствующие действия и наказание за несоответствующие могут заставить ребенка вести себя по-разному, но что делает конкретные действия морально релевантными? Родители предъявляют к своему ребенку большое количество требований, многие из которых не имеют моральной основы. Чтобы ребенок получил вознаграждение, мы говорим: делай домашнюю работу, ешь капусту или принимай ванну. Угрожая наказанием, мы говорим: не играй своей едой, займись делом или возьми лекарство из ящика. Вознаграждаемые действия, несомненно, хороши с точки зрения того, что они удовлетворяют родителей и способствуют развитию самостоятельности ребенка. Точно так же наказуемые действия плохи, потому что они вызывают отрицательные эмоции у родителей и наносят вред развитию самостоятельности ребенка. Но что позволяет ребенку отличать смысл хороших или плохих поступков в том случае, когда оценка «плохой» — «хороший» исходит от другого человека? Обращение к авторитету не обеспечивает ответа. В решении проблемы это возвращает нас на один шаг назад и поднимает другой вопрос: что делает приговор родителя нравственно верным или ошибочным?
Связанное с этим второе препятствие касается соответствия между опытом и словесными метками «хороший» и «плохой» или их эквивалентом в других языках. Множество исследований, посвященных развитию, позволяет утверждать: некоторые понятия дети легко усваивают, потому что эти понятия подкрепляются жизненным опытом ребенка. Другие понятия воспринять труднее, потому что они абстрактны. Возьмите как пример слова «сладкий» и «прокисший». Хотя нам было бы сложно дать им удовлетворительные определения, когда мы рассуждаем о значении этих слов, они, безусловно, связаны с тем, что мы чувствовали на вкус или по запаху. Сладкие вещества вызывают чувство удовлетворения, в то время как прокисшая пища обычно вызывает отвращение, желание отказаться. Словам «хороший» и «плохой» не хватает взаимосвязи с восприятием и ощущением. Присвоение чему-либо определений «хорошего» или «плохого» обеспечивает удобные наименования для обозначения вещей, которые нам нравятся или не нравятся, но это не объясняет значения вещи. Мы должны еще раз спросить: почему одни действия вызывают приятные чувства, а другие — неприятные? Словесные метки «хороший» и «плохой» вместе с их эмоциональными коррелятами положительных и отрицательных чувств появляются после того, как разум вычисляет допустимость действия, основываясь на его причинах и следствиях.
Третье препятствие касается стадий развития. Какие критерии мы будем использовать, чтобы указать, на какой стадии находится ребенок? Необходимы ли психологические достижения на данной стадии развития для продвижения к последующим и существует ли моральное превосходство на более продвинутых стадиях?
Рассмотрим стадию 1 в схеме Колберга — период, который включает детей в возрасте до десяти лет. На этой стадии конкретные действия рассматриваются как непременно хорошие или плохие, установленные и неизменяемые, как действия, определяемые родительским авторитетом. Если родительская власть предоставляет полную свободу, все, что ребенок получает от взаимодействия с родителем, — это ярлык для поступка. Есть картофельное пюре руками — плохо, так же как ковырять в носу, швырять вещи, досаждать учителю, пинать собаку и мочиться в штаны. Это своеобразный «шведский стол» культурных соглашений, вопросов физической безопасности, родительской эстетики и нравственно запрещенных действий.
Утверждение, что ребенок следует родительскому авторитету, ничего не говорит о его собственном моральном статусе. Дети ежедневно слышат множество команд, изрекаемых назидательным родительским голосом. Каким образом ребенок должен выбрать между социальными соглашениями, которые можно нарушить (спаржу ты можешь есть руками, а картофельное пюре нет), и моральными соглашениями, которые нарушать нельзя (ты не можешь ударить брата ножом, независимо от того, насколько он тебя раздражает) ?
Ситуация ухудшается по мере продвижения ребенка по моральной лестнице. Колберг признавал, что заключительная стадия представляет труднодостижимый идеал, но предполагал, что индивидуумы проходили через другие стадии, сталкиваясь лицом к лицу с новыми конфликтами и включаясь в игру типа «моральных музыкальных стульев»[43], — и открывали для себя новые перспективы. Колберг был прав, полагая, что конфликт запускает механизм морали. Должен ли я... поделиться пирожком или оставить его себе? Сказать маме, что я прогулял школу, или сохранить это в тайне? Спасти щенка или выполнить обещание и не выбегать на дорогу? Колберг был также прав, думая, что оглядка на будущее очень важна в принятии морального решения. Однако он ошибался, когда полагал, что каждый ребенок разрешает конфликт одним и тем же способом — принимая в расчет позицию другого. Колберг придерживался этой точки зрения, потому что верил в универсальность морального развития ребенка.
Каждый ребенок проходит все стадии развития, реализуя один и тот же набор принципов и принимая одни и те же решения.
Хотя стремление понять другого и оценка возможного развития событий являются важными факторами в процессе формирования нравственных аспектов поведения личности, трудно представить, какую роль они могут выполнять в конфликте интересов. Вряд ли это будет роль высшего арбитра, и я докажу это в следующем разделе. У меня есть убеждение, что женщина имеет право на аборт. Я встречаю людей, которые с этим не согласны. Я могу себе представить, что это должно значить — придерживаться их точки зрения. Они пытаются встать на мою сторону. Теперь мы лучше понимаем позиции друг друга, однако это не позволяет принять единое решение. Сопереживание сближает нас, но никогда не является арбитром.
Финальная стадия в схеме Колберга достигается индивидуумами, которые осознанно и рационально размышляют об универсальных требованиях, принимая многие из принципов Канта, включая первое требование: никогда не обращайтесь с людьми как с простым средством, но всегда — как с высшей целью. Колберг оценивал нравственное развитие индивидуума на основе сорокаминутного интервью, в котором он просил собеседников высказать свое мнение по поводу нескольких моральных дилемм и затем обосновать свои ответы. В работе такого рода требуется искусство интерпретации. Например, если я нанимаю повара и использую его как средство, чтобы приготовить обед, я аморален? Нет, я нанимал его на работу, имея в виду именно эту цель. Он — средство для достижения моих целей. Но это действие не входит в сферу морали, потому что оно не ущемляет его независимости. Он принял задание, зная условия работы. В моем поступке нет ничего безнравственного. Теперь представьте, что я попросил повара приготовить свинину, хорошо зная, что он хасид, что такое поручение нарушает его религиозные верования. Это безнравственная просьба, потому что она отражает преимущество, даваемое асимметрией власти, которая позволяет использовать другого человека как простое средство для достижения цели.
Принятие принципов Канта как критерия оценки морального прогресса немедленно приводит к возникновению проблемы.
Хотя Колберг, возможно, поддерживал эти принципы и использовал мастерство Канта в «интеллектуальном ландшафте», чтобы обосновать свои представления, другие философы равного с ним статуса, назовем для примера Аристотеля, Юма и Ницше, совершенно не согласны с Кантом. Этот факт оставляет две возможные интерпретации: или различные принципы противоречат друг другу, или некоторые из самых больших мыслителей нашего времени так и не достигли заключительной стадии морального развития по схеме Колберга.
Последняя проблема с описанной Пиаже и Колбергом схемой морального развития состоит в том, что в ней имеет место переход от корреляции к установлению причинной обусловленности. Мы все можем согласиться с тем, что имели опыт логического анализа моральной дилеммы, размышляя по поводу того, должны ли мы голосовать «за» или «против» абортов, однополых браков, смертной казни, использования стволовых клеток. Нет никакого сомнения, что сознательное размышление составляет часть нашей способности вынести моральный приговор. Остается неясным, однако, предшествует ли рассуждение моральному вердикту или следует из него? Например, множество опросов показывают, что люди, которые являются противниками абортов, придерживаются мнения, что жизнь возникает в момент зачатия и, таким образом, аборт является формой убийства; так как убийство или намеренный вред плохи, т. е. нравственно запрещены, то же самое касается и аборта.
Для других людей жизнь начинается при рождении ребенка, и, таким образом, аборт не является убийством; он морально допустим. В конце 2004 года суд присяжных признал Скотта Петерсона виновным в двух преступлениях: в убийстве своей жены и их будущего ребенка. Лейси Петерсон была на восьмом месяце беременности. По-видимому, это классический случай перехода от сознательно разворачиваемого принципа, согласно которому аборт — это убийство человека, к тщательно аргументированному заключению: убийство человека запрещено. Хотя обычно мы заканчиваем принципом и, видимо, используем его для вынесения морального суждения, можно ли считать, что это единственный путь? У него есть альтернатива: мы подсознательно реагируем на способ прекращения жизни ребенка отрицательно, и это чувство приводит к суждению, что аборт является неправильным. Оно вызывает рассуждение: прерывание жизни плохо, и, следовательно, оправдывается представление о том, что жизнь начинается в момент зачатия. В этом случае мы также заканчиваем категоричным рассуждением, но оно опирается на эмоциональный ответ, который непосредственно ответствен за наше суждение. Таким образом, даже по отношению к детям, достигшим самой сложной стадии морального развития, ни одно из наблюдений самого Колберга или кого-нибудь из его последователей не дало оснований ответить на вопрос: рассуждение идет первым или последним?
Пиаже и Колберг заслуживают уважения за признание важности изучения психологии морального развития и за то, что отметили существенные изменения в способности ребенка рассуждать по поводу моральных дилемм. Очевидно, что в соответствии с подходом Канта к моральному суждению мы можем участвовать (и часто участвуем) в сознательных рассуждениях по поводу нравственности, основанных на четко выражаемых принципах. Очевидно также, что этот вид рассуждений в некоторых обстоятельствах действительно определяет наши моральные суждения.
Признание, что мы действительно реализуем сознательные, рациональные рассуждения, не означает того, что эти рассуждения являются единственной формой умственных операций, лежащих в основе наших моральных суждений. Именно в этом смысле оценки пути развития ребенка, данные Пиаже и Колбертом, были существенно подорваны — и концептуально, и методологически. Так как восприятие ребенком моральных дилемм может меняться, определение стадии морального развития каждого индивидуума — это большое искусство. Однако и оно не в состоянии объяснить, каким образом достигается каждая стадия. Поскольку метод выбора включал представление моральных дилемм, вслед за которым надо было дать суждения и их обоснования, с его помощью нельзя оценить моральную компетентность ребенка в полном объеме. Судя по некоторым данным (я буду говорить о них далее), дети в значительно более раннем возрасте, чем в том, когда, согласно Пиаже и Колбергу, начинается моральное развитие, уже распознают различия между намеренными и случайными действиями, социальными и моральными соглашениями, намеренными и ненамеренными, но прогнозируемыми последствиями. Многие из их суждений возникают быстро, непроизвольно, без привлечения четко определяемых принципов. Важно, что и взрослые высказывают некоторые из таких же суждений, хотя также не имеют четких представлений о принципах, лежащих в их основе. Кантианские создания не могут в полной мере представлять присущие нашему виду психологические признаки.
Путь страсти
Оцените, пожалуйста, каждый из следующих эпизодов по десятибалльной шкале, характеризующей силу отвращения, где 10 баллов — «чрезвычайно отвратительно».
1. Вы приходите домой с работы, и ваша дочь бросается к вам с возгласом: «Папа! Я только что вошла в ванную, а там мама слизывает мороженое с сиденья для унитаза. Увидев меня, она сказала: «Это восхитительно, — и затем спросила: — Не хочу ли я немного?»
Мать, слизывающая мороженое с сиденья для унитаза, была: [1 — не отвратительна] 123456789 10 [10 — чрезвычайно отвратительна]2. Брат и сестра вместе проводят каникулы. Чтобы обогатить свои отношения, они решают, что должны заняться любовью. Так как у него была операция по поводу удаления семявыводящего протока, а она принимает противозачаточные таблетки, никакого риска беременности нет. Они страстно занимаются любовью, и это замечательный опыт для обоих. Они сохраняют все в тайне, как нечто такое, о чем всегда будут помнить и чем будут восхищаться.
Любовные отношения брата и сестры были: [1 —не отвратительны.] 123456789 10 [10 — чрезвычайно отвратительны]Мой собственный эмоциональный барометр показывает около 6 — для первого сюжета и 8 — для второго. Когда я впервые услышал об этих случаях[44], у меня возникла немедленная бессознательная ответная реакция. Оба вызывали отвращение. Но эти два случая кажутся различными. Я еще могу вообразить, что меня убедили, хотя с некоторой долей принуждения, в приемлемости слизывания мороженого (или любого другого продукта питания) с унитаза: это совершенно новое сиденье, и оно стерильно чистое; это единственная пища в доме, а я ничего не ел два дня; это был спор со старым другом. А вот на то, чтобы вообразить аргументы в пользу кровосмешения, мне требуется гораздо больше времени. Я не могу представить никаких оснований для того, чтобы когда-либо заниматься любовью с сестрой, если бы она у меня была. Кровосмешение представляется нравственно неправильным, тогда как облизывание унитаза кажется просто непристойным!
Если бы кто-нибудь разработал новомодный, самоочищающийся унитаз и Министерство здравоохранения объявило бы населению, что отныне на этих предметах можно принимать пищу, вероятно, потребуется не слишком много времени, чтобы люди изменили свое отношение к месту для обеда. С другой стороны, если бы наши медицинские центры заявили, что контрацепция полностью застрахована от ошибок, устраняя, таким образом, риски зачатия при половых контактах братьев и сестер, большинство из нас, вероятнее всего, отвергнут мысль об этом, независимо от того, используют они противозачаточные средства или нет. Не является ли отвращение в этом случае вариантом непреднамеренной эмоциональной реакции, которая связывает нас со сферой морали? Если так, то почему моральное суждение порождается в одном случае и не возникает в другом? Что служит его источником? Что делает сексуальные контакты братьев и сестер отвратительными и поэтому нравственно неприемлемыми? Или действительно, это нравственно неправильно и поэтому отвратительно? В настоящее время имеются научные факты, которые позволяют отвечать на эти вопросы, но идеи, которые лежат в их основе, уходят в далекое прошлое.
Если Кант заслуживает уважения как ведущий идеолог беспристрастного морального рассуждения, то философ семнадцатого столетия Дэвид Юм получает признание как первый светский философ, творец идеи, согласно которой моральные суждения возникают на основе переживаний. Он был первым человеком, который указал, что моральное поведение имеет «утилитарное значение» для достижения наибольшего блага. Его проникновение в природу наших моральных суждений заключалось в следующем: он рассматривал их в том же самом свете, в каком мы воспринимаем наши ощущения и образы мира. Человеку не нужно прилагать сознательных усилий, чтобы увидеть цвет предмета, например красный, услышать музыку, воспринимать запахи духов или ощущать шероховатость поверхности. Тем же самым способом, как полагал Юм, мы воспринимаем помощь как правильное действие, потому что оно вызывает хорошие чувства, а мошенничество как неправильное, потому что оно связано с плохими чувствами.
Идеи Юма бросали прямой вызов тем, кто придерживался точки зрения, согласно которой чистое рассуждение — единственное средство, обеспечивающее добродетельную жизнь, необходимое противоядие нашему эгоизму. В отличие от этих теоретиков, Юм видел свою цель в построении философии морали как центральной в науке о природе человека. К сожалению, в то время главные работы Юма по этике очень плохо распространялись и наука никоим образом не ассимилировала их. Сегодня его труды изучаются в большинстве университетов, и идеи Юма переживают возрождение, включаясь в поток новых достижений когнитивных наук[45].
Основанием для теории Юма служит рассмотрение моральных суждений через призму трехстороннего взаимодействия: субъект (действующее лицо), реципиент (адресат или получатель) и наблюдатель. Идея заключается в том, чтобы понять, какие добродетели и пороки побуждают субъекта действовать тем или иным способом; понять, как действия субъекта влияют на реципиента и что чувствует наблюдатель по отношению к субъекту и реципиенту, отслеживая результаты их взаимодействия. Если субъект проявляет милосердие, этот доброжелательный акт отмечается в характеристике личности как знак добродетели. Юм полагал, что некоторые черты индивидуальности, такие как доброта, великодушие и милосердие, являются врожденными. В то же время другие черты, такие как справедливость, преданность и целомудрие, приобретаются благодаря воспитанию и приобщению к культуре. У Юма не было никаких научных доказательств в поддержку этих предположений. Исходная сила его аргументов состояла в том, что такие черты, как доброта и справедливость, являются мощными источниками мотивации действия. Действие вызывает ответную реакцию и у реципиента, и у наблюдателя. Проявление милосердия вызывает у реципиента добрые чувства и заставляет очевидцев, наблюдающих за реципиентом, испытать чувство расположения. Положительные чувства наблюдателя вызывают суждение: моральное одобрение исходного действия. Поскольку очевидец, переживая за реципиента, испытывает положительные чувства, он преобразует эти чувства в оценку действия, выполненного субъектом, приписывая его к категории добродетели — в противоположность пороку. Одобрение, таким образом, подобно эстетическому суждению о красоте в противоположность дедукции или выводу в математике. Оценка красоты орхидеи является автоматической, она дается легко и без размышления о причинах. Построение логического вывода из постулата или решение математической задачи требует времени. Эти действия целенаправленны и продуманы в контексте необходимых для их выполнения аксиом и операций. Нравственное одобрение милосердия значительно больше напоминает эстетическое признание красоты орхидеи.
Анализ переживаний участников трехстороннего взаимодействия привел Юма к замечательному заключению: «Разум является и должен быть только рабом страстей и никогда не может претендовать ни на какую иную роль, чем служить и повиноваться им». Так появилось «создание Юма», обладающее врожденным моральным чувством, которое обеспечивает механизм аргументированных суждений, без сознательных размышлений. Эмоции воспламеняют моральные суждения. Разум следует за этой движущей силой. Разум позволяет думать об отношениях между нашими средствами и целями, но он никогда не может мотивировать наши выборы или предпочтения. Наше моральное чувство формирует наши эмоциональные реакции, которые побуждают к действию, делая возможными суждения о добре и зле, допустимом и запрещенном. Моральное чувство создания Юма походит на его другие инстинкты, составляя часть дара природы: «[Моральные чувства] столь укоренены в нашем строении и душевном складе, что, не уничтожив полностью человеческий разум болезнью или безумием, нельзя искоренить и уничтожить их... Природа должна снабдить нас необходимыми возможностями и дать нам некоторое понятие о моральных различиях»[46].
Наше моральное чувство — неизбежный результат нормального развития, не отличающегося от развития руки или глаза.
Создания Юма, несомненно, реальны. Мы испытываем бесчисленные моральные дилеммы на протяжении всей нашей жизни, и часто у нас возникает чувство, что мы решаем их быстро, подсознательно и без какого-то видимого влияния законов или религиозных доктрин. Ученые только недавно признали вездесущность юманианских созданий. Они обнаружили фундаментальную иллюзию в нашей психологии: сознательное размышление часто не играет никакой роли в наших моральных суждениях, и во многих случаях отражается post factum в оправдании или объяснении ранее проявившихся склонностей или верований.
Если, как предполагал Юм, мы снабжены моральным чувством, подобным сенсорным системам зрения, слуха, вкуса, осязания и обоняния, то для этого чувства также должны быть предназначены специализированные рецепторы. По Юму, моральное чувство обладает оценочным механизмом, просчитывающим добродетельность или порочность действия и в соответствии с этим обеспечивающим центральную силу мотивации. Любой сенсорный орган, питающий эмоции, функционирует как рецептор для нашего морального чувства. Так, в отличие от других чувств с их установленными «входными каналами» для звука, запаха, осязания или зрелища, моральное чувство не связано ни с одной конкретной модальностью. Я могу видеть, как мужчина бьет женщину, слышать ее плач, чувствовать ее горе, когда она рыдает на моем плече. Я могу даже вообразить, если на самом деле не присутствовал при этой сцене, каково это — быть свидетелем того, как мужчина бьет женщину. События (разворачивание преступления) и действия (нанесение ущерба) непосредственно вызывают у нас эмоции, побуждая нас к тому, чтобы приблизиться или убежать, почувствовать вину или стыд, ненависть или горе. Симпатия вызывает альтруизм и протест против насилия, принимая во внимание то, что ожидает получателя. Наши эмоции формируют правила для определения того, что считать добром или злом.
Для Юма наше восприятие морально релевантного действия подобно восприятию объекта. Когда мы видим объект, например, красного цвета, цвет — это объективный факт: это красный. Мы верим, что это красный, и наше убеждение правильно. Этот цвет имеет отношение к свету, поглощенному и излучаемому. При ином освещении мы будем воспринимать другой цвет объекта, и еще раз предметом обсуждения будет его цвет и наше понимание этого. Юм думал, что наши действия закодированы сходным образом. В категориях допустимых и запрещенных действий есть также свой предмет — моральная истина. Эта истина может изменяться при различных условиях, как может меняться наше восприятие цвета объекта. Юманианские создания могут быть глубоко убеждены, что убийство — это зло. Наблюдение за актом убийства заставляет их чувствовать гнев, возможно, даже ненависть к убийце. Они могут также чувствовать себя виновными, если не сообщили об убийце властям, потому что убийство — это преступление. Наблюдение за тем, как некто совершает убийство в целях самозащиты, вызывает другой набор эмоций. Юманианские создания часто испытывают благоговение перед тем, кто имеет мужество защитить себя и других от убийцы, и вряд ли они чувствуют вину, если у них нет возможности сообщить об индивидууме, действующем в целях самозащиты. Поэтому существует проблема нравственной оценки сути действия и его эмоционального заместителя.
Юм проводил различие между действием, вызывающим эффекты, и его способностью нести некоторую объективную моральную ценность. Возвращаясь к визуальному восприятию и нашим эстетическим суждениям, подчеркнем, что объект не является красивым сам по себе. Мы выносим суждения о внешнем виде объектов, считая некоторые из них красивыми, при определенных условиях. Многие из нас, не осознавая этого, испытывают благоговейный трепет, восхищаясь красотой пирамид в Египте, но чувствуют отвращение к их воссозданию в Лас-Вегасе — всемирной столице азартных игр. Как заявлял Юм, «красота — не свойство объекта, а некоторое чувство наблюдателя, т. е. того, кто смотрит на этот объект, точно так же добродетель и порок — не свойства личностей, но чувства наблюдателя». Ни личность, ни действие, согласно Юму, не являются нравственно хорошими или плохими. «Когда вы объявляете какое-либо действие или личность порочными, вы не имеете в виду ничего другого, кроме того, что из-за особенностей вашей натуры у вас возникает ощущение или чувство вины при размышлениях об этом».
Объявляя Эрика Харриса и Дилана Клеболда порочными изза их отвратительного нападения на учащихся и преподавателей колумбинской (Columbina) средней школы, мы обнаруживаем у себя чувство вины. Теперь, когда мы лучше понимаем психологические причины, лежавшие в основе их нападения, когда у Клеболда диагностировали клиническую депрессию, а у Харриса психопатию, это объяснение у некоторых из нас вызывает другую эмоцию. Хотя у тех, кто пострадал в результате стрельбы, вряд ли изменится отношение к этому ужасающему событию, однако многие начинают реагировать с чувством печали и на потери в колумбинской школе, и на отягощенное психическое состояние этих двух убийц-подростков. Их действия не имеют нравственного оправдания. Мы не хотим делать законной систему, которая бы разрешала подобные действия. Но мы также не хотим иметь систему законов, которая механически приписывает действия (даже такие, как убийство) к определенным моральным категориям, утверждая, что одни из них — добро, а другие — зло, и, таким образом, препятствует обсуждению, как будто эти категории являются моральными абсолютами. Подобно рассмотрению объекта в различных условиях освещения, наше моральное чувство вызывает различные эмоции в зависимости от условий, в которых мы воспринимаем действие. Утверждение, что наше моральное чувство вызывает различные эмоции, однако, не объясняет того, как это делается. Очевидно, что мы имеем различные эмоции. Неясным остается процесс, который должен возникнуть в начале, обеспечивая эмоциональные реакции различных оттенков в разных ситуациях.
Кантианские создания вступают в спор с созданиями Юма по двум следующим позициям. Во-первых, кантианец полагает, что вы должны иметь серьезные основания, чтобы сформулировать специфическое суждение. Когда создание Юма просят дать обоснование, то все, что оно может сделать, — это пожать плечами и сказать: «Чувствуется, что это правильно». По выражению философа Джемса Рэчэлса, это похоже на то, как если просить кого-то объяснить его эстетические предпочтения.
С одной стороны, если кто-то говорит: «Я люблю кофе», ему не надо искать причину, он просто заявляет факт, касающийся его, и ничего больше. Не существует такого процесса, как «рациональное обоснование» пристрастия или нелюбви к кофе, поэтому не может быть и никакого спора по данному вопросу. Пока человек сообщает о своих вкусах, все, что он говорит, должно считаться истиной... С другой стороны, если кто-то говорит, что кое-что нравственно неприемлемо, он, действительно, должен указать причины, и, если его причины являются убедительными, другие люди должны признать их силу. По той же логике, если он не имеет никаких весомых причин для того, что он утверждает, а только шумит по этому поводу, нам нет необходимости обращать на него внимание[47].
Вторая позиция кантианца наносит более разрушительный удар: если мы решаем, что является правильным или неправильным, привлекая наши эмоции, то как мы можем достигнуть беспристрастности, объективного и всеобщего смысла того, что допустимо или запрещено?
Рассмотрим пример с ложью. Прогуливаясь, я замечаю мужчину, который выронил бумажник. Я подбираю бумажник раньше, чем он успел обернуться. Внутри я вижу 300 $. Я думаю о кожаном пальто, которое хочу купить, и о том, покроет ли эта сумма стоимость пальто. Мысль о возможности приобрести пальто рождает хорошее чувство. Однако у меня возникает и другое чувство: было бы неправильно оставить у себя бумажник и деньги. Впрочем, рассуждаю я далее, что тот, кто носит с собой такую сумму наличными, должно быть, преуспевает и вряд ли заметит пропавшие деньги. Когда мужчина оборачивается и спрашивает меня, видел ли я бумажник, я немедленно отвечаю: «Нет» — и продолжаю свой путь. Я оправдываю свою реакцию, говоря, что солгать в этом случае уместно, потому что мужчина не будет особенно расстроен из-за потери этих денег. Эмоции управляют этим событием, но они являются пристрастными, толкающими к эгоистичному поведению. Эмоционально управляемая интуиция, если это именно она, терпит неудачу, потому что не может быть беспристрастной. Эти аргументы не отрицают того факта, что эмоции играют роль в наших моральных действиях. Скорее они указывают на слабость в использовании эмоций с целью развития представления об общих принципах нравственного действия.
Мысли Юма о моральном поведении оказывали небольшое влияние на науку до тех пор, пока в двадцатом столетии специалист по возрастной психологии Мартин Хоффман не привлек к ним внимания. Это расхождение между философией и психологией можно прямо сопоставить с отношениями между Кантом и Колбергом. Фактически беспристрастная, рациональная и рассчитываемая мораль Канта соответствует базирующейся на рассуждении схеме морального развития Колберга, в то время как страстная, интуитивная и эмоциональная мораль Юма сопоставима с базирующейся на эмпатии схеме морального развития по Хоффману. Подобно Юму, Хоффман поместил эмпатию в центр своей теории морали в качестве сущности юманианских созданий. Сочувствие — как «искра, зажигающая в человеке беспокойство о других, клей, на котором держится социальная жизнь»[48].
В отличие от Колберга, Хоффман придавал меньшее значение устойчивым стадиям морального развития. Формирование созданий Юма происходит в основном в ранние и поздние периоды эмоционального созревания. Ранний, или примитивный, период морального развития встроен в биологию ребенка, с проблесками его приматологического прошлого, комбинацией эгоистического и сострадательного мотивов. Большинство самых ранних форм эмпатии ребенка являются автоматическими и бессознательными, часто вызванными его собственными способностями к подражанию, которые не поддаются контролю. Сразу после рождения, приблизительно в течение одного часа, ребенок, едва способный видеть, может подражать выражению лица взрослого. Подражая мимике и жестикуляции, моторная система поддерживает эмоциональную систему. Так, когда ребенок подсознательно подражает выражению лица другого (печаль это или восхищение), он невольно устанавливает сцепление между выражением эмоции и ее переживанием. Следствием этого действия является то, что, когда маленькие дети видят других, испытывающих специфическую эмоцию, они могут одновременно чувствовать нечто подобное. Сочувствие передается как инфекция, как игра с эмоциональной меткой. Эта форма сопереживания никогда полностью не исчезает, как доказал социальный психолог Джон Барг, назвав ее «эффектом хамелеона»[49].
Когда мы общаемся с кем-то, кто много жестикулирует в течение разговора, часто касается своего лица или говорит на особенном диалекте, мы, с определенной степенью вероятности, станем так же жестикулировать и употреблять слова того же диалекта, даже если это не характерная для нас форма ведения разговора. Когда мы сталкиваемся с информацией о чьем-то возрасте или расовой принадлежности, мы бессознательно активируем стереотипы или предубеждения, которые впоследствии также без их осознания влияют на наше поведение. Когда мы видим пожилого человека, в реальной жизни или на фотографии, мы, с большой долей вероятности, станем замедлять свои действия, реагируя на это взаимодействие. Когда мы оперируем с образом этнической группы, по отношению к которой имеем бессознательные отрицательные или враждебные установки, возникает вероятность того, что, рассердившись, мы станем более агрессивными, чем тогда, когда мы оперируем с образом нашей собственной этнической группы или группы, которая вызывает положительные установки. Мы, подобно хамелеонам, примеряем различные цвета, чтобы соответствовать особенностям нашего социального партнера.
Хоффман описывает этот ранний период развития эмпатии как основополагающий, но простой, поскольку сочувствие «основывается на совокупности поверхностных признаков и требует самого поверхностного уровня когнитивной обработки»[50].
Тем не менее здесь появляется различие между исключительно эмоциональным созданием Юма и тем, у кого уже имеется некоторое слабое понимание того, что он делает и почему. Только в более зрелом периоде развития эмпатия объединяется с психическим отражением и пониманием. Зрелое создание Юма не только опознает, когда кто-то находится в состоянии блаженства или страдает от боли, но также и понимает, почему у него должно возникнуть желание помочь, протянуть руку дружбы или поучаствовать в радостном переживании. Со зрелостью приходит способность встать на позицию другого. Хотя способность принимать чью-либо точку зрения, как эмоционально, так и рационально, не ограничена областью морали, она играет более значительную роль. Но умственное развитие ребенка, подобно развитию его легких и сердца, зависит от временной динамики процессов созревания.
С возрастом мы становимся свидетелями возникновения способностей, которые необходимы для вынесения моральных суждений, но эти способности не являются для них специфическими. Сопереживание проходит путь от исключительно эмоциональной формы, которая становится рефлексивной по мере роста вашего ребенка, превращаясь в форму сочувствия, которое учитывает, что другие знают, во что верят и чего желают. Из анализа нарушений развития (таких, как аутизм, при котором неспособность встать на позицию другого имеет разрушительные последствия для понимания моральной сферы) мы знаем, что эти способности необходимы.
Нет сомнения, что Хоффман прав: эмпатия действительно играет большую роль в наших моральных действиях. Она мотивирует все юманианские создания. За последние двадцать лет изучение психики обеспечило глубокое понимание эмпатии, включая ее эволюцию, развитие, неврологические основы и распад при психопатии.
Хотя в дальнейшем я буду иметь возможность намного больше рассказать об этих результатах и более общей роли эмоций в формировании нашего морального поведения, здесь я хочу высказать предостережение. Наши эмоции не могут объяснить, как мы судим, что является правильным или ошибочным, не могут объяснить, как ребенок проводит границу между социальными правилами и моральными нормами. Опыта ребенка недостаточно, чтобы провести разделительную линию между обычными социальными нарушениями традиционных норм поведения вообще и моральными нарушениями в частности. Маленькая девочка ударила малыша из-за того, что тот не пускает ее играть в песочнице. Отец девочки рассердился, объясняет ей, что драться плохо, и настаивает, чтобы она извинилась перед мальчиком. Приобретая этот опыт, малышка прочитывает эмоцию гнева на лице своего отца, связывает эту эмоцию с предыдущим случаем и заключает, что удар — это плохо. Несколько минут спустя та же девочка берет песок и кладет его в рот. Отец снова сердится, хлопает ее по руке, промывает ей рот и затем говорит, что она никогда не должна брать песок в рот. Та же самая эмоция, различное заключение. Ударить другого — поступок, имеющий моральный аспект, использовать песок вместо пищи — нет. Каким образом эмоции ребенка адресуют одно действие к моральному чувству, а другое — к здравому смыслу? И каким образом девочка начинает понимать, что она не может стукнуть малыша, но отец может иногда хлопнуть ее по руке, стряхивая песок? Эмоции могут побуждать ее к некоторым действиям, но не могут научить ее различать социальные и моральные правила, не могут объяснить, почему некоторые действия нравственно неправильны в одном контексте (стукнуть мальчика, рассердившись), но не в другом (ударить дочь по руке, беспокоясь за ее здоровье).
Следовательно, нам необходимо понять, каким образом прогрессируют оценки, которые вызывают эмоцию. Это необходимо сделать по двум причинам: независимо от того, что это за система, она является первым шагом в нашем моральном анализе и может предоставить точку отсчета для наших моральных суждений. Рассматриваемая с другой стороны, это часть нашего разума, которая оценивает намерения, действия и последствия; возможно, она является центром морального размышления, частью нашей психологии, которая выносит исходный приговор о допустимом, обязательном или запрещенном поведении. Если этот взгляд является правильным, тогда наши эмоции, включая эмпатию Хоффмана, находятся в «нижнем слое движения», представляя фрагменты психики, вызываемые бессознательными моральными суждениями. Эмоции играют свою роль, как утверждали Юм и Хоффман. Но в большей степени, чем внося вклад в порождение морального суждения, наши эмоции могут функционировать подобно весам, заставляя нас склониться к одному выбору, а не к другому. Когда, вследствие мозговой травмы, эмоции слишком сильны или, напротив, отсутствуют, наша компетентность судить о моральных ситуациях может остаться без изменений, даже если способность совершать правильные поступки существенно падает. Серийные убийцы, педофилы, насильники, воры и другие преступники могут признавать разницу между добром и злом, но им не хватает эмоционального компонента, чтобы следовать своим интуитивным размышлениям.
Рассмотрим опорные моменты. Моральные дилеммы создают конфликт, как правило, между двумя или более конкурирующими обязательствами. Столкнувшись с такими дилеммами, мы выносим суждение, приговор относительно характера человека или действия, признавая его нравственно хорошим или плохим. Эти суждения всегда делаются, сознательно или бессознательно, со ссылкой на набор определяемых культурой добродетелей и пороков. Некоторые суждения действительно возникают подобно вспышкам молнии, спонтанной, непредсказуемой и мощной. Кровосмешение — плохо, точно так же как издевательство над ребенком ради забавы. Помочь старику перейти через улицу — хорошо, так же как нянчить ребенка и давать деньги на благотворительные цели. Другие суждения появляются медленно и осознанно, после осторожного взвешивания всех «за» и «против».
Если мы соглашаемся, что женщина имеет право принимать решения, касающиеся ее тела, то аборт должен быть ее правом. Но плод также имеет некоторые права, даже если он не способен реализовать их. Конфликты часто возникают, когда разные стороны нашей личности выбирают между кантианским рассуждением и интуицией Юма: аборт может быть допустим, но чувствуется, что это неправильно, потому что аборт — убийство.
Интуиция и сознательное рассуждение осуществляются поразному. Интуитивные решения являются быстрыми, автоматическими, непреднамеренными, требуют небольшого внимания, рано возникают в развитии, они реализуются в отсутствие явных причин и часто кажутся нечувствительными к возражению. Рассуждение протекает медленно, является преднамеренным, вдумчивым, требует значительного внимания, поздно возникает в развитии, оно может быть обоснованно и открыто для тщательно сформулированных и принципиальных контраргументов. Подобно всем дихотомиям, здесь существуют оттенки. Но пока мы можем начать с этих двух контрастирующих позиций, используя их, чтобы перейти к третьей.
Моральные инстинкты Рассмотрим следующие сюжеты.
1. Хирург направляется в больницу, навстречу ему выбегает медсестра, описывая сложившуюся неординарную ситуацию: «Доктор! Санитарная машина только что доставила пять человек, все они в критическом состоянии. Двое имеют повреждение почек, один поражение в области сердца, у другого сильно травмировано легкое, наконец, у последнего — разорванная печень. У нас нет времени для поиска доноров этих органов, но сейчас в приемной сидит здоровый, молодой человек. Он только что вошел, чтобы сдать кровь. Мы можем спасти всех пятерых пациентов, если возьмем необходимые органы у этого молодого человека. Конечно, он не выживет, но мы спасем пять человек».
Действительно ли морально допустимо для хирурга взять органы этого молодого человека?
2. Поезд движется со скоростью 150 миль в час. Внезапно на панели загорается лампочка, указывающая на полный отказ тормозов. Прямо перед машинистом, вдоль путей по ходу движения поезда, идут пять человек, очевидно не осознающих, что на них движется поезд. Машинист замечает, что впереди есть разъезд и по той ветке идет только один пешеход. Машинист должен принять решение: продолжать двигаться по своему пути, таким образом, убив пятерых, или изменить направление движения поезда и, таким образом, убить одного человека, но спасти пятерых.
Действительно ли морально допустимо для машиниста изменить направление движения поезда?
Если вы сказали «нет», отвечая на первый вопрос, и «да», отвечая на второй, вы похожи на большинство людей, которых я знаю, или на тысячи испытуемых, которых я тестировал в ходе экспериментов[51].
Далее. Вы, наиболее вероятно, ответили на эти вопросы немедленно, не тратя много времени на размышления. Что, однако, определило ваш ответ? Какие принципы и факты отличают эти сюжеты? Если ваши суждения исходят из религиозного учения или положений этики, согласно которым убийство — это зло, тогда у вас имеется непротиворечивое объяснение первого случая, но плохо согласующееся с этим объяснение второго случая. Во втором сюжете (с поездом) перевод стрелки, казалось бы, имеет смысл: возникает ощущение правильности действия — убить одного, чтобы спасти жизни пяти человек. В первом сюжете (с больницей) возникает чувство неприемлемости действия — убить одно лицо, чтобы спасти пятерых. Вы могли бы объяснить случай в больнице, ссылаясь на то, что незаконно совершить намеренное убийство, особенно если вы — врач, ответственный за жизнь людей. Именно так утверждает закон. С верой в это мы были воспитаны. Наша культура запечатлела это в сознании каждого из нас, когда мы были молодыми, неопытными, восприимчивыми, иными словами, были «чистой доской». Теперь попробуем описать эпизод с поездом юридической лексикой: вы намереваетесь убить одного человека, чтобы спасти от смерти пятерых. Вы действительно намерены сделать нечто во втором случае, чего не хотели делать в первом.
Зачем эти умственные упражнения? Потому что во втором сюжете происходит кое-что отличное. Для большинства людей это отличие трудно сформулировать. В эпизоде с больницей, если поблизости не окажется человека, обладающего тканевой совместимостью с пострадавшими, нет никакого способа спасти пятерых пациентов. В дорожном эпизоде, если боковой путь свободен, машинист может изменить направление движения поезда; фактически в этом сценарии он должен переключить стрелку — обязательное действие, — поскольку нет никаких отрицательных последствий при переводе движения на боковой путь.
Мы можем объединить эти рассуждения и объяснить их, апеллируя к следующему принципу: вред, возникающий как побочный продукт при достижении весомого положительного результата, допускается, но непозволительно использовать вред как средство для получения такого результата. В примере с поездом убийство одного человека — косвенное, хотя и предсказуемое следствие при выполнении другого действия, которое спасает пятерых. Ключевой момент — повернуть переключатель с целью перевести поезд на другой путь — не имеет никакой эмоциональной значимости; это ни положительно, ни отрицательно, ни хорошо, ни плохо. В примере с больницей доктор вынужден нанести непоправимый вред одному человеку, используя его органы как средство для спасения жизни пятерых. Действие, заведомо предполагающее нанесение физического вреда здоровью, вызывает безусловно отрицательное чувство; это плохо. Эти различия объясняют суть понятия, известного как «принцип двойного эффекта». Философские исследования раскрыли этот принцип, но только после многих лет дебатов и изучения специфических моральных дилемм[52].
Каждый, кто выслушивал эти доводы, однако, решал подобную дилемму немедленно, без какого-то намека на обдумывание сути проблемы, принципов ее разрешения. Все ответы кажутся аргументированными, но у нас нет никакого осмысленного рассуждения. Фактически, опираясь на несколько исследований, которые я буду обсуждать в главе 2, ряд читателей этих сценариев формулируют этот принцип как объяснение своих суждений. Эту неспособность обеспечить соответствующее истолкование нельзя оправдать ни юным возрастом, ни отсутствием образования: она характерна и для образованных взрослых, мужчин и женщин, специально подготовленных и далеких от философии морали или религии.
Если Колберг прав, то все эти люди имеют задержку морального развития, оставаясь на стадии 1 — морали пещерных людей. Без серьезных обоснований наших действий мы нравственно незрелы, нам необходимо учиться рассуждать на темы морали, начать, может быть, с пособий типа CliffsNotes[53] к претенциозной прозе Канта.
Диагноз Колберга в лучшем случае неполон, а в худшем случае — глубоко ошибочен. Педагоги, которые следуют его оценкам, должны задуматься над этим. Кто-то считает, что, поскольку эти сюжеты искусственны, далеки от наших каждодневных переживаний, от тех житейских конфликтов и проблем, которые часто возникают среди друзей и в семьях, поскольку они навязаны нам без возможности для осмысления, эти сюжеты не могут использоваться для понимания нашей психологии морали. Это несерьезные, «игрушечные» примеры, адресованные тем, кто живет в башне из слоновой кости. Однако, как указывал философ-моралист Ричард Хэйр, полемизируя со своими коллегами, «дело в том, что ни у кого нет времени, чтобы обдумать, что сделать, так что каждый полагается на мгновенные интуитивные реакции; но они не дают никакого основания для того, чтобы установить, что именно критическое размышление предписало бы, если бы время для него было»[54]. Эти сюжеты действительно искусственны. Но именно благодаря своей искусственности они обеспечивают единственное средство, чтобы продвинуться вперед, — научный метод для понимания моральной интуиции[55].
При решении философских проблем выдвигается необходимое условие — применение научного метода. Это требование формирует основу многих наук, включая психологию. Например, специалисты, изучающие зрительное восприятие, используют так называемые двойные фигуры, чтобы исследовать, как наше внимание и системы представлений взаимодействуют с тем, что мы видим и потенциально можем увидеть. Рассмотрите рисунок. Что вы видите?
Кто-то видит кролика, кто-то — утку, а некоторые — попеременно то утку, то кролика. Рисунок (информация) не меняется, но изменяется ваша интерпретация образа. А если вы покажете этот рисунок трехлетнему ребенку, он скажет, что видит или кролика, или утку: ребенок не способен переходить от одного образа к другому, туда-сюда. Только начиная приблизительно с четырех лет дети могут сохранять в памяти два различных образа и быстро переключаться с одного на другой.
В использовании искусственных и неожиданных моральных дилемм есть преимущества. Они не могут вызвать ассоциаций со знакомыми событиями, мы вряд ли сможем сформулировать суждения (основанные на одних эмоциях или на некотором опыте, применимом к данному случаю), которые бы соответствовали букве закона или религиозным нормам. Делая персонажей этих сюжетов чужими, неузнаваемыми, мы с большой вероятностью гарантируем беспристрастность оценок, не позволяем проявиться субъективным установкам, которые мешают достижению действительно универсальной теории морали. Кроме того, создавая искусственные дилеммы, мы можем свободно изменять их, параметр за параметром. Как пишет философ-моралист Франциска Камм, «философы, использующие этот метод, пробуют выявить причины специфических реакций и на основе полученных данных установить общие принципы. Затем ученые оценивают эти принципы через ответы на три вопроса. Соответствуют ли они интуитивным реакциям? Согласуются ли их базисные понятия или отличаются друг от друга? Являются ли эти принципы или основные понятия, лежащие в их основе, с точки зрения морали, правдоподобными и значительными или даже рационально обязательными? Попытка определить, насколько понятия и принципы нравственно значительны и востребованы разумом, необходима, чтобы понять, почему принципы, извлеченные из подобных случаев, должны быть широко приняты». Я считаю, что, когда искусственные примеры исследуются вместе с примерами из реальной жизни, мы сможем постигать важные грани в происхождении наших суждений.
Подобно всем моральным дилеммам, рассмотренные два сюжета содержат что-то, имеющее место в реальной жизни: конкретные лица, которые оказываются перед выбором между двумя или более действиями, причем каждое действие может быть ими выполнено. Результаты каждого действия будут иметь морально релевантные следствия, при этом, по крайней мере, одно из них будет положительным и одно отрицательным по отношению к благополучию и здоровью человека. Например, во время разрушительного урагана Катрина осенью 2005 года член Национальной гвардии штата Техас оказался перед таким выбором: «Я видел семью из двух человек на одной крыше и семейство из шести человек на другой крыше, и я должен был решить, кого спасать»[56].
Выбор между спасением немногих и спасением многих не ограничен размышлениями философа. И подобно другим моральным дилеммам, он вызывает конфликт между конкурирующими обязанностями или обязательствами, где решение выбрать один путь не является скорым и абсолютно очевидным. Мы можем спросить, например, зависят ли эти два приведенных выше случая от абсолютных величин (убить сто, чтобы спасти одну тысячу)? Может быть, выбор определяется дистанцией между действием и его результатом — ущербом, к которому оно ведет? (Например, переключение тумблера изменяет направление движения вагонетки, и та сбивает корову; падающая корова обрушивается на пешехода, и день спустя тот умирает.) Конфликт присутствует в обоих случаях, человек может выбирать, но что должно быть сделано, не очевидно.
Предположим, что каждый, читая об этих двух случаях, высказывает суждения — автоматически последовательно и быстро, но они основаны на плохо сформулированном или даже несвязном объяснении[57]. Если возможен ответ, представляющий своеобразный консенсус для каждого из этих сюжетов, то нам необходима теория, которая бы объяснила это единство мнений, или всеобщий взгляд. Точно так же мы должны объяснить, почему люди имеют именно такие интуитивные представления, но редко выдвигают основополагающие принципы, чтобы оправдать их. Мы должны также объяснить, как происходит усвоение этих принципов — в индивидуальном развитии и в эволюции — и как мы используем их, формулируя морально релевантные решения. Иногда, оказавшись в конфликтной ситуации, мы одновременно обнаруживаем и оцениваем силу нашей интуиции, признавая, что она побуждает нас к действиям, которые мы не должны предпринимать.
Мое объяснение этих противоречивых наблюдений состоит в том, что все люди обладают моральной способностью — способностью, которая позволяет каждому индивидууму подсознательно, автоматически оценивать безграничное разнообразие действий, опираясь на принципы, которые диктуют то, что допустимо, обязательно или запрещено. Истоки этого вида объяснения уходят в прошлое, к экономисту Адаму Смиту, впрочем, как и к Дэвиду Юму, хотя он и делал ставку на эмоции, но осознавал экспрессивную мощь нашей моральной способности и необходимость охарактеризовать ее принципы: «Теперь можно сформулировать вопрос в общем, касательно данной боли или удовольствия, что отличает мораль, лежащую в основе добра и зла. Из каких принципов это проистекает и как возникает в человеческом сознании? На это я отвечаю в первую очередь тем, что абсурдно полагать, будто в каждом специфическом случае эти чувства возникают в соответствии с исходными качествами и первичной конституцией. Поскольку количество наших моральных обязательств, в сущности, бесконечно, наши первоначальные инстинкты не могут распространяться на каждое из них и с самого раннего, грудного возраста формировать в человеческой психике все то множество образов, которые содержатся в сложнейшей системе этики. Такой способ не соответствует правилам, которыми руководствуется природа, где несколько принципов обеспечивают огромное разнообразие, наблюдаемое во Вселенной, и все исполняется наиболее легким и самым простым способом. Необходимо, следовательно, ограничить эти первичные импульсы и найти некоторые более общие принципы, на которых основаны все наши моральные понятия».
Современное продолжение этого спора связано с трудами выдающегося представителя политической философии Джона Ролза и лингвиста Ноама Хомского, которые предположили, что, возможно, существует большое сходство между языком и моралью, особенно в том, что касается наших врожденных способностей в этих двух областях познания[58].
Если аналогия уместна, что нам следует ожидать в процессе изучения нашей моральной способности? Существует ли здесь грамматика и, если так, как «моральный филолог» может раскрыть ее структуру? Позвольте мне объяснить, почему вы должны отнестись к этим вопросам серьезно: аналогичный перечень вопросов привел к потрясающему набору открытий в лингвистике и смежных с ней областях знания.
Мы знаем больше, чем проявляется в наших действиях. Это утверждение звучит банально, но фактически, по Хомскому, оно отражает одно из наших первичных интуитивных представлений о языке, так же как и о других способностях разума. Зрелый носитель языка — английского, корейского, суахили — знает о языке больше, чем раскрывает его речь. Когда я говорю, что знаю английский язык, я имею в виду, что могу использовать его, чтобы выразить свои мысли, идеи и понять то, что мне скажут поанглийски другие. Это житейское понимание знания. Хомский вкладывает в это понятие другой смысл: на первый план он выдвигает неосознаваемые принципы, которые лежат в основе использования и понимания языка. То же самое касается бессознательных принципов, которые лежат в основе понимания некоторых аспектов математики, музыки, восприятия объектов и, я полагаю, морали[59].
Когда мы говорим, то не думаем о принципах (правилах), которые определяют порядок слов в предложении, о том, что все слова относятся к различным абстрактным категориям частей речи (существительные, местоимения, глаголы и т. д.), что есть ограничения на количество лексико-грамматических сочетаний, которые могут быть объединены в предложения. Если бы мы в процессе разговора действительно думали хотя бы о некоторых из этих аспектов языка, наша речь напоминала бы тарабарщину. И точно так же, когда мы слушаем чью-то речь, мы не разлагаем высказывания на языковые единицы и грамматические категории, несмотря на то что каждый носитель языка способен мгновенно оценить фразу и решить, насколько хорошо или плохо она построена.
Когда Хомский составил предложение «Бесцветные зеленые идеи неистово спят», он намеренно соединил слова, которые никто никогда прежде не сочетал. Он построил грамматически правильное, но совершенно бессмысленное предложение. Искусственность предложения Хомского, однако, дает возможность понять одну важную черту нашей языковой способности. Она устанавливает различие между синтаксисом предложения и его семантикой, или смыслом. Большинство из нас не знают, что именно делает предложение Хомского (или любое другое предложение) грамматически правильным. Мы можем выразить некоторый принцип или правило, о которых узнали в курсе грамматики, но таких сформулированных положений вряд ли достаточно, чтобы объяснить, что фактически лежит в основе наших суждений. Это именно они — неосознаваемые, или оперативные, принципы, которые обнаруживаются лингвистами и никогда не появляются в учебниках, — объясняют образцы лингвистического разнообразия или сходства. Например, каждый носитель английского языка знает, что предложение «Ромео любит Джульетту» является правильно построенным, в то время как фраза «Его любит ее» — нет. Однако немногие из носителей английского языка знают почему. К тому же вряд ли кто-то стал бы использовать в речи — даже изредка — последнее предложение, включая малышей, только начинающих говорить по-английски. Потому что когда эти принципы проявляются в языке, тогда то, что мы осознаем как наше знание, «тускнеет» перед знанием, которое является оперативным, но недоступным для выражения.
Языковая способность лежит в основе принципов, позволяющих развиваться любому языку. Когда лингвисты именуют эти принципы как грамматику говорящего, они имеют в виду правила или операции, которые позволяют любому нормально развивающемуся человеку подсознательно порождать и постигать безграничный диапазон правильно построенных предложений на своем родном языке. Когда лингвисты ссылаются на универсальную грамматику, они обращаются к теории о неких принципах, доступных каждому ребенку, для того чтобы усвоить любой определенный язык.
Еще не родившись, ребенок не может знать, с каким языком он встретится, более того, он может столкнуться даже с двумя языками, если рожден в двуязычной семье. Но у него нет необходимости что-либо знать об этом. Что он действительно знает на уровне бессознательных ощущений, так это набор принципов, применимых для всех языков мира: мертвых, живых и тех, которые еще только могут возникнуть. Среда снабжает его специфическими звуковыми образцами родного языка, таким образом «включая» принципы только одного языка (или двух, если семья двуязычна). По этой причине процесс обретения языка напоминает процедуру установки ключей в определенное положение. Каждый ребенок начинает со всеми возможными вариантами положения ключей и без специфических ограничений. Эти ограничения устанавливает лингвистическая среда, действующая согласно законам родного языка ребенка[60].
От этих общих проблем Хомский и другие исследователи порождающей грамматики перешли к предположению, что мы нуждаемся в открытой характеристике языковой способности. Что это такое, как она развивается в жизни каждого индивидуума и как эта способность, возможно уникальная, сложилась в эволюции нашего вида? Я попытаюсь последовательно ответить на каждый из этих вопросов.
Что такое языковая способность? Чтобы ответить на этот вопрос, надо описать те виды психической и мозговой деятельности, которые являются специфическими для языка — в противоположность процессам, которые имеют общую основу с другими проблемно-ориентированными видами деятельности, включая пространственную ориентацию, социальное взаимодействие, узнавание объектов и локализацию источника звука.
В частности, необходимо описать принципы, которые управляют лингвистической компетентностью зрелого индивидуума, так же как и механизм, который позволяет этим принципам функционировать. Я собираюсь охарактеризовать эту систему независимо от факторов, которые «вмешиваются» в процесс использования языка или намерений говорящего. Например, мы используем органы слуха при речевом общении или когда пытаемся определить, откуда доносится сирена «скорой помощи». Но как только звуковой сигнал от наших ушей достигает области мозга, вовлеченной в его расшифровку, цель которой — определить, что это за звук и что с ним делать, механизм обработки меняется, поскольку одна система отвечает за обработку речи, а другая — за обработку неречевых сигналов.
Рассматривая механизмы работы мозга, мы видим, что восприятие речи включает систему, отличную от системы общей звуковой обработки. Мы также знаем, что язык не ограничен только звуковой стороной. Мы одинаково способны к выражению наших мыслей и эмоций на языке знаков. Хотя разговорный язык опирается на наши слуховые ощущения, а знаковый язык использует наш визуальный опыт, оба вовлекают одну и ту же систему, которая отвечает за «приписывание» слову лексического значения и за правильность сочетаний слов для создания имеющих смысл предложений. Оба способа восприятия речи так или иначе говорят нам, что мы находимся в сфере языка, в отличие, например, от восприятия музыки. Некоторые аспекты языковой способности, таким образом, специфичны только для языка, а некоторые являются общими с другими системами.
Как только система обнаруживает, что мы находимся в сфере языковой компетенции, готовясь произнести что-либо или услышать кого-либо, включается группа правил, которые организуют бессмысленные звуковые последовательности (фонемы) в значащие слова и предложения и позволяют сформироваться речи — монологической или диалогической. Таким образом, когда мы говорим о языковой способности, мы имеем в виду компетентность здорового, взрослого индивидуума, владеющего принципами, которые лежат в основе его родного языка. Что именно этот индивидуум говорит, определяется предметом его деятельности, на которую будет влиять его состояние (утомлен ли он, счастлив ли, находится ли в ссоре с возлюбленной или обращается к аудитории в несколько сот человек на митинге). Языковая компетентность касается принципов, которые обеспечивают порождение речи и ее понимание каждым нормально развивающимся человеком. Эти принципы и есть языковая способность. Анализ того, что мы говорим, кому и как, составляет предмет лингвистической деятельности и управляется множеством разных центров мозга, а также зависит от многих факторов, внешних по отношению к работе мозга, включая окружающих людей, разные учреждения, даже погоду и расстояние до потенциальной аудитории.
Как развивается языковая способность? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо объяснить, как ребенок продвигается к зрелому состоянию лингвистической компетентности, к состоянию, которое включает способность создавать самим и понимать безграничный диапазон осмысленных предложений, порожденных другими носителями того же языка. Ключевым здесь является вопрос об исходном речевом статусе ребенка — имеющихся у него неосознаваемых лингвистических принципах, предшествующих его контакту со звучащим или жестовым языком, а также степени, до которой этот исходный статус ограничивает не только то, что он изучает и когда, но и чему он может научиться, слушая речь или наблюдая за жестами.
Известно, что в разговорном английском употребляются две различные формы глагола «есть» — полная «is» и сокращенная «’s», например в выражениях «Фрэнк — глупый» и «Глупый Фрэнк». Однако мы не можем использовать сокращенную форму «’s» везде, где захочется. Например, в предложении «Франк более глупый, чем Джо» нельзя употребить сокращенную форму глагола после имени собственного Джо. Откуда мы это знаем? Никто не учил нас этому правилу. Никто не внес его в список исключений. Тем не менее ни взрослые, ни маленькие дети никогда не ошибаются, используя сокращенную форму глагола. Объяснение, основанное на значительном лингвистическом исследовании, таково: исходный лингвистический статус ребенка включает принцип сокращения глагола — правило, которое утверждает, что нечто подобное «’s» является слишком маленькой звуковой единицей, чтобы функционировать изолированно; всякий раз, когда вы используете эту сокращенную форму, за ней должно следовать другое слово[61].
Окружающая среда — звуковой образец английского языка — заставляет этот принцип действовать, буквально вытягивая его из «корзины» принципов, как по волшебству. Ребенок рождается с этим рабочим принципом, несмотря на то что он не может выразить это знание.
Как эволюционировала языковая способность? Чтобы ответить на этот заключительный вопрос, обратимся к нашей истории и выделим два относительно независимых аспекта: филогенез и адаптацию. Филогенетический анализ обеспечивает описание эволюционных отношений между видами, выстраивая ветвистое дерево жизни. Когда мы описываем часть этого дерева, мы получаем представление о том, какие виды наиболее близко связаны и как далеко назад, в прошлое, эти отношения простираются. Мы можем также использовать филогенетический анализ, чтобы определить, являются ли сходные признаки некоторых видов гомологичными (благодаря происхождению от общего предка, обладавшего этим признаком) или аналогичными (т. е. совпадающими благодаря конвергентной эволюции). Когда мы сталкиваемся с гомологией, перед нами историческая или эволюционная непрерывность в развитии видов. Обнаруживая аналогии, мы становимся свидетелями нарушения исторической или эволюционной непрерывности. Таким образом, логично задаться вопросом, какие компоненты нашей языковой способности являются общими для нас и для других видов и какие присущи только человеку? В случаях, где компоненты обнаруживают сходство, мы можем спросить, развивались ли они непрерывно от некоторого исходного предшественника или фрагментарно, как части общего решения специфической адаптивной проблемы?
Рассмотрим способность ребенка овладевать словами. В большинстве случаев изучение слова вовлекает звуковое подражание. Ребенок слышит, как его мать говорит: «Хочешь конфету?», и он повторяет: «Конфета». Слово «конфета» не кодируется в разуме, как спираль ДНК. Но способность подражать звукам — один из врожденных даров человеческого детеныша. Имитация не является специфическим компонентом способности к языку, но без этого ни один ребенок не смог бы овладеть лексикой своего родного языка, достигая ошеломляющего уровня — приблизительно пятьдесят тысяч слов у обычного выпускника средней школы.
Чтобы установить, свойственна ли вокальная имитация только людям, обратимся к другим видам. Хотя мы имеем 98% общих генов с шимпанзе, они не обнаруживают никаких признаков звукоподражания. То же самое характерно для всех других человекообразных обезьян, а также для низших обезьян. О чем говорит этот факт? О том, что люди развили способность к вокальной имитации спустя некоторое время после того, как отделились от нашего общего с шимпанзе предка, 6—7 миллионов лет назад. Другие виды, связанные с нами более отдаленно, чем любой из отряда приматов, обнаруживают способность к вокальной имитации: это относящиеся к отряду воробьиных певчие птицы, попугаи, колибри, а также дельфины и некоторые киты. Этот факт свидетельствует о том, что вокальная имитация свойственна не только людям. Кроме того, он еще раз подтверждает, что способность к вокальной имитации наследована людьми не от приматов. Более вероятно, что вокальная имитация развивалась у людей, некоторых птиц и некоторых морских млекопитающих независимо друг от друга. Вышеизложенное представляет относительно полный ответ на вопрос, как эволюционировала языковая способность?
Обращаясь к вопросам адаптации, мы можем охарактеризовать взаимосвязи между функциональной организацией и генетическим результатом. До какой степени способность к звуковому подражанию обеспечивает преимущества для отбора с точки зрения воспроизведения вида? Причем звуковое подражание может использоваться в различных контекстах — для усвоения лексики родного языка, в том числе и диалектной, для копирования каждого слова родителей — их манеры говорить, иногда даже их раздражения. Какой из первоначальных факторов оказывал наибольшее давление на селекцию? Для чего в первую очередь развивалась вокальная имитация и в чем заключается ее теперешняя польза? Ответы на эти вопросы отличаются неопределенностью. Хотя мы нисколько не сомневаемся в повседневных преимуществах имитации, особенно важна ее роль в сохранении разных диалектов, формировании традиций и т. д., все же неясно, почему эта способность развилась у одних групп животных, а не у других.
Стремясь охарактеризовать способности к языку, мы обсудили три относительно независимых вопроса. Однако каждый из них требует использования своей системы доказательств. Например, лингвисты выявляют так называемые «глубинные структуры», лежащие в основе построения предложений. С этой целью они используют суждения о правильности грамматической формы, сравнивают различные языки, чтобы показать общие абстрактные принципы, которые проявляются через очевидные различия. Возрастные психологи изучают способы усвоения языка, пытаясь установить, достаточен ли релевантный лингвистический «вход», чтобы объяснить итоговый результат. Нейропсихологи изучают пациентов с избирательными мозговыми травмами, выбирая случаи со специфическими аспектами нарушения речи при сохранности всех других или, напротив, случаи, когда речь остается сохранной, а другие познавательные способности снижены. Специалисты в области когнитивной нейронауки используют методы визуализации такого типа, как функциональный магнитный резонанс (fMRI), чтобы понять, какие области мозга участвуют в процессе обработки речи, и охарактеризовать схему органа речи и языка. Эволюционные биологи исследуют, какие аспекты языковой способности являются общими для человека и для других видов, пытаясь точно определить, какие из них могли бы объяснить столь мощные различия в выразительной силе нашей коммуникации и коммуникации у животных. Математические биологи используют модели, которые помогают исследовать, как различные механизмы обучения влияют на усвоение языков, или выявить условия, ограничивающие эволюцию универсальной грамматики. Это междисциплинарное сотрудничество способствует подлинному постижению природы языка. Мы начинаем понимать, что означает — знать конкретный язык и уметь использовать его при взаимодействии с миром.
Совместные усилия ученых, принадлежащих разным научным школам, направлены на изучение нашей моральной способности. Теперь мы готовы оценить и развить творческие идеи Ролза, особенно его лингвистическую аналогию. Я представляю вам «создание Ролза», обладающее механизмом, который позволяет выносить моральные вердикты, основанные на бессознательных, недоступных для разума принципах. Это существо с моральными инстинктами.
Грамматика действия
Один из способов применения лингвистической аналогии к моральной способности состоит в том, чтобы обсудить те же вопросы, которые Хомский и другие специалисты в области генеративной грамматики ставили для языковой способности. Вот как Ролз оценивал эту аналогию.
Прежде всего целесообразно провести сравнение с проблемой описания чувства грамматической правильности, которой мы обладаем, строя предложения на родном языке. В этом случае цель состоит в том, чтобы охарактеризовать способность опознавать правильно построенные предложения, формулируя четко выраженные принципы, на основе которых устанавливаются те же самые различия, которые осуществляет носитель языка. Это сложное и еще не завершенное исследование, как известно, требует теоретических построений, которые далеко опережают ситуативные требования доступного нам грамматического знания. Сходное положение дел, по-видимому, сложилось и в философии морали. Нет оснований полагать, что наше чувство справедливости можно адекватно охарактеризовать в соответствии со знакомыми предписаниями здравого смысла или извлечь из очевидных принципов обучения. Правильное объяснение моральных способностей, конечно, будет включать принципы и теоретические построения, которые существуют вне норм и стандартов, на которые ссылаются в повседневной жизни[62].
Параллельно с использованием лингвистами грамматически правильных суждений с целью выявить некоторые из принципов языковой компетентности исследователи морального поведения могли бы начать с использования этических суждений, чтобы раскрыть некоторые из принципов, лежащих в основе наших суждений о нравственно допустимых действиях. Грамматически правильные суждения появляются спонтанно, быстро и практически без раздумья. Суждения этики должны были бы возникать точно так же, но базироваться на нравственно релевантных действиях. Тем же самым способом, которым грамматически правильные суждения появляются на основе принципов и параметров универсальной грамматики, этические суждения созданий Ролза появляются на основе универсальной грамматики морали, содержащей общие принципы наряду с культурно-специфичными параметрами. Исходя из этой логики, можно утверждать, что каждая культура строит собственную моральную грамматику. Однако разнообразие культурно-специфических вариантов моральной грамматики имеет границы, которые определяются общими принципами.
Моральная грамматика зрелого индивидуума позволяет ему подсознательно порождать и постигать безграничный диапазон допустимых и обязательных действий в пределах родной культуры, опознавать насилие, когда оно возникает, и интуитивно предугадывать наказуемые нарушения. Как только индивидуум осваивает определенную моральную грамматику, другие моральные грамматики могут стать для него непостижимыми, как китайский язык для коренного носителя английского языка.
Чтобы разъяснить взаимосвязи между универсальностью и культурными разновидностями, рассмотрим акт детоубийства. Для американцев это варварский акт. С их точки зрения, людям, совершающим подобные действия, требуется специальная обучающая программа по охране детства. Для эскимосов и представителей некоторых других культур детоубийство является нравственно допустимым, и его можно оправдать на основании ограниченных ресурсов и других аспектов воспитания и выживания. Если две культуры видят мир через диаметрально противоположные моральные линзы, то наши этические ценности относительны, соотносятся с признаками местной культуры и могут свободно меняться. Нет никакой абсолютной морали, никаких истин, никакого универсума.
Эскимосы могли бы выглядеть как бессердечные, не заботящиеся о детях родители. Но при таком подходе исчезает то, что является универсальным для всех людей, включая американцев и эскимосов: забота о детях — универсальный моральный принцип. Во всех культурах общепринята родительская забота о своем потомстве. Во всех культурах издевательства над младенцами в форме развлечения или спортивного мероприятия запрещаются. Межкультурные различия обнаруживаются в условиях, которые делают допустимыми исключения из правил, в том числе и условия отказа. Дело объясняется просто: наша моральная способность «оборудована» универсальным набором правил, а каждая культура устанавливает специфические исключения из этих правил. Мы хотим понять универсальные аспекты наших моральных суждений так же, как их разновидности, выяснив при этом, что учитывается и что ограничивается.
Создание Юма утверждало бы, что универсальность возникает на основе нашей общей способности не только переживать эмоции, но и испытывать тот же самый вид эмоций в определенных контекстах. Причина, почему каждый нашел бы нравственно неприемлемым наблюдать или представлять взрослого, бьющего беспомощного младенца, состоит в том, что каждый испытал бы отвращение в этом контексте. Наш общий эмоциональный кодекс порождает общий моральный кодекс. Культурные вариации появляются, потому что отдельные культуры воспитывают специфические моральные представления, используя для этого образование и другие факторы, имеющие эмоциональный компонент. Получив аффективную окраску, подпитываемую неосознаваемыми эмоциями, ответы на нарушения морали бывают быстрыми и лишенными рефлексии.
Ролзовские создания отвечают примерно так же, как юмовские, но полагаются на причины и последствия действий, а не на эмоции.
Мы можем использовать в своих интересах эту грубую характеристику созданий Ролза и Юма, так же как их более отдаленных родственников, созданий Канта, чтобы построить три общие модели формирования наших моральных суждений. Эти модели абстрагируются от сложности реальных жизненных ситуаций, чтобы точно определить некоторые из существенных компонентов в процессе построения морального суждения.
Модель 1 описывает архетипическое создание Юма. Здесь, после восприятия и предполагаемой классификации действия или случая, возникает эмоциональный ответ, который немедленно порождает моральное суждение. Мы видим одного человека с ножом, другой человек — мертвый, у его ног, и мы классифицируем ситуацию как убийство, действие, которое порождает отрицательное чувство, приводящее к суждению «запрещено». Это этическое требование касается природы специфических действий, требование, которое возникает при объединении любого подобного действия и классификации по критерию «добро» или «зло». Эмоция обеспечивает прочность объединения. Повреждение мозговых областей, вовлеченных в эмоциональную обработку, вызвало бы полный распад моральных суждений, потому что моральные суждения созданий Юма обусловлены эмоциями.
Модель 2 — гибрид между созданиями Юма и Канта, смесь бессознательных эмоций и некоторых форм принципиального и сознательного рассуждений, возможно основанных на прагматических следствиях или доступных этических правилах[63].
Эти две системы могут сходиться или расходиться в своих оценках ситуации. Если они расходятся, то должен включиться некоторый другой механизм, чтобы решить конфликт и сформулировать суждение. Блокировка чувств неправильна, но иногда допустима, если позволяет получить больший позитивный эффект. Повреждение центров мозга, обеспечивающих эмоции, вело бы к распаду только тех аспектов моральных суждений, которые зависят от эмоций, оставляя холодное, преднамеренное рассуждение, чтобы решить остальное. Наоборот, повреждение частей мозга, участвующих в обеспечении осознанных рассуждений, привело бы к суждениям, которые игнорируют последствия, сосредоточиваясь вместо этого на правилах, диктующих, какие действия являются допустимыми, а какие — нет.
Модель 3 характеризует создание Ролза. В отличие от двух других, восприятие действия или случая вызывает анализ причин и последствий, которые, в свою очередь, актуализируют моральное суждение: разрешено, обязательно, запрещено. Эмоции, если они играют роль, включаются после вынесения суждения. Человек не намеревался использовать убийство с определенной целью — получить больший позитивный результат, скорее это было предсказуемое последствие. Его намерение состояло в том, чтобы спасти пятерых посредством нанесения вреда одному, и уничтожение одного было единственным решением.
Изучение побуждений или оснований действия, наряду с исследованиями преднамеренных и предсказуемых последствий, обеспечивает эмпирические материалы, которые могут иметь прямое отношение к характеристике нашей моральной способности. Функции эмоций в том, что они могут так или иначе модулировать наши действия. Другими словами, под контролем эмоций находится только то, что мы фактически делаем, а не то, что мы понимаем или воспринимаем как нравственно допустимое. В отличие от других «игрушечных» моделей, повреждение центров, отвечающих за эмоции, не имеет никакого воздействия на моральные суждения созданий Ролза. Эмоции возникают в соответствии с этими суждениями, но не вызываются ими. Психопаты представляют случай для проверки этой идеи. Они, как кажется, могут формулировать нормальные моральные суждения, но вследствие недостатка адекватных эмоций ведут себя неправильно, совершая нравственно недопустимые действия.
Только научное доказательство в противоположность философской интуиции может определить, какая модель является правильной. Однако в любом случае важно иметь все варианты, сведенные вместе и открытые для критического осмысления. До сих пор не было никакого серьезного обсуждения идей, связанных с созданием Ролза (модель 3). Чтобы заняться этим, мы должны достигнуть уровня детализации, сопоставимого с тем, который присущ современным работам по лингвистике, извлекая принципы, которые могут объяснить (с помощью соответствующей терминологии), как мы воспринимаем действия и события, их причины и моральные последствия для себя и для других[64].
Способность к языку подразумевает умение различать входные дискретные элементы, которые могут быть объединены, в том числе повторно, чтобы создать бесконечное разнообразие значимых выражений: фонем (термин лингвистики) — для индивидуумов, которые слышат, знаков — для тех, кто глух. Когда одна фонема объединена с другой, может образоваться слог. Когда объединяются слоги, они могут создать слова. Когда слова объединены, они могут создать фразы. А когда объединены фразы, может возникнуть «Илиада», «Происхождение видов» или журнал «Псих»[65].
Действия, кажется, существуют в параллельной иерархической Вселенной. Подобно фонемам, многим действиям недостает смысла. Будучи объединены, действия часто приобретают значение. Подобно фонемам, когда действия объединены, они не смешиваются между собой: индивидуальные действия сохраняют свою целостность. Когда действия объединены, они могут выступать в роли целей субъекта, его средств и последствий другого действия или пропуска действия. Когда некоторое число мелких целей объединяются, могут появиться весьма значительные события, включая, например, балет «Щелкунчик», Мировые серии (национальный чемпионат США по бейсболу) и гражданскую войну. Иерархическая структура действий предполагает, что этика базируется на системе общих принципов или правил, а не является списком определенных примеров. Оценивая агрессивное нападение Джона на Фреда, согласно принципу, мы перечисляем ролевые функции, или переменные, такие как СУБЪЕКТ, ДЕЙСТВИЕ, ПРИЕМНИК, ПОСЛЕДСТВИЕ, МОРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА. Например, запись в соответствии с принципом можно прочитать так: СУБЪЕКТ — УДАРЫ — ПРИЕМНИК — БОЛЬ — НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНО. Вопрос о том, храним ли мы также информацию о Джоне, нападении и в особенности о Фреде, — это уже другая история.
Анализируя содержание принципа, мы получаем вторую параллель для сравнения с языком: чтобы достичь присущего ему безграничного диапазона выразительности, принципы нашей моральной способности должны иметь конечный набор элементов, которые можно повторно объединять в новые, значащие единицы или принципы. В языке мы неоднократно объединяем слова в сочетания более высокого порядка, образуя из них фразы и целые тексты. Применительно к нравственному закону — мы повторно объединяем действия, их причины и следствия.
Подобно Хомскому, Ролз предположил, что нам, вероятно, придется изобрести абсолютно новый набор понятий и действий, чтобы описать всеобщие моральные принципы. Наши формулировки всеобщих правил, в основном опирающиеся на здравый смысл, оказываются не в состоянии усвоить исчисления разума, до известной степени так же, как изучение школьной грамматики не может обеспечить овладение принципами, которые являются частью нашей языковой способности. Например, все перечисленные ниже действия, как правило, запрещаются: убийство, причинение боли, воровство, обман, мошенничество, нарушение обязательств и прелюбодеяние[66].
Из этих моральных правил, как и из других правил, есть исключения. Так, убийство вообще запрещается во всех культурах, но в большинстве из них, если не во всех признаются условия, при которых убийство разрешается или может быть оправданным: война, самозащита, невыносимая боль вследствие болезни. Некоторые культуры даже сохраняют условия, при которых убийство является обязательным. Так, в ряде арабских стран, если муж застает жену на месте преступления, родственники жены должны убить ее, таким способом смывая позор семьи. Но что делает эти правила всеобщими? Какие аспекты этих правил подвержены культурным изменениям? Действительно ли правила устанавливают отношения между сущностью релевантных действий (например, НАНЕСЕНИЕМ ВРЕДА, ПОМОЩЬЮ), их причинами (например, НАМЕРЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ) и следствиями (например, ПРЕДОПРЕДЕЛЕННЫЙ, ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ)? Есть ли здесь скрытая взаимосвязь или принципы действуют бессознательно и лишь поддаются обнаружению средствами науки? Если, как интуитивно полагал Ролз, аналогия между моралью и языком допустима, то наши объяснения, основанные на здравом смысле, будут недостаточны, потребуется более глубокий поиск скрытых принципов. Этот поиск раскроет набор принципов, которые подсознательно направляют наши моральные суждения о допустимом, обязательном и запрещенном действии.
Как развивается моральная способность? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны понять принципы, руководящие суждениями взрослого. Описав эти принципы, мы можем изучать, как они приобретены. Для этого необходимо выяснить ряд вопросов. Окружение ребенка обеспечивает достаточное количество информации, чтобы строить моральную грамматику, или ребенок обнаруживает компетентность, которая не зависит от особенностей среды? Приобретаем ли мы наши природные моральные нормы легко и без наставления или в результате кропотливых попыток запомнить детали новых традиций культуры? Есть ли критический период для приобретения наших моральных норм?
На самом основном уровне должны существовать какие-то врожденные способности, которые позволяют каждому ребенку строить определенную моральную грамматику. Никакие другие известные нам биологические виды не строят сложных моральных систем. Нечто уникальное, присущее умственным способностям человека делает возможным это строительство из поколения в поколение. Но в итоге мы хотели бы знать, за счет чего некоторые моральные системы поддаются обучению и что делает некоторые виды опыта нравственно релевантными? Здесь мы сталкиваемся с самым значительным вызовом в наш адрес, особенно по контрасту с достижениями в лингвистике. В отличие от армии лингвистов, которые обеспечили большие и содержательные списки того, что люди на различных языках говорят и понимают, нам не хватает сопоставимого каталога действий людей и их суждений в нравственно релевантных ситуациях. В отсутствие такой информации и в совокупности с набором описательных принципов, которые могут объяснять только сложившуюся систему представлений, трудно решить, с чем может ассоциироваться проблема развития. Вопросы приобретения знания в полном объеме можно поднимать только тогда, когда мы понимаем, что есть «зрелое (дефинитивное) состояние».
Как эволюционировала моральная способность? Как и в случае с языком, мы можем обратиться к этому вопросу, подразделяя моральную способность на ее составляющие и затем исследуя, какие компоненты являются общими для человека и других видов, а какие являются специфическими только для нашего вида. Осуществив это разделение, далее мы можем задаться вопросом, уникальны ли «человеческие компоненты» для системы морали или являются общими и для других систем познания? На вопрос об уникальности морали человека мы отвечаем, изучая других животных, на вопрос об уникальности нравственного закона мы отвечаем, изучая другие системы познания, анализируя, как они работают и как они развивались.
Один из способов охарактеризовать моральную компетентность животных состоит в том, чтобы исследовать их ожидания по отношению к тем, кто следует правилам, и к тем, кто их нарушает; установить, чувствительны ли они к различию между намеренным и случайным действием, испытывают ли они некоторые из морально релевантных эмоций и, если так, какую роль эти эмоции играют в их решениях. Если животное не способно различать намеренное и случайное, тогда оно будет воспринимать все следствия одинаково, не обращая внимания на их происхождение. Наблюдение за событием, когда шимпанзе случайно падает с дерева и ранит одного из стаи, будет эквивалентно наблюдению за событием, когда шимпанзе прыгает с дерева, чтобы нанести вред одному из стаи. Поведение животного, которое целенаправленно протягивает часть своей пищи другому, нельзя будет отличить от поведения животного, которое, потянувшись, чтобы достать пищу, случайно роняет часть ее на колени другого животного. Обнаружение параллелей так же важно, как обнаружение различий, поскольку и те, и другие освещают траекторию нашей эволюции, особенно то, что мы унаследовали и что изобрели сами.
Подобно всем другим областям знания, наше моральное знание развивалось отнюдь не в нервно-психическом вакууме, в изоляции от других процессов. Более того, наше моральное поведение зависит от других систем психики. Таким образом, то, что мы собой представляем, есть результат взаимодействия процессов двух видов. Во-первых, это процессы, специфические для этики, во-вторых, неспецифические процессы, которые играют важную поддерживающую роль. Например, мы были бы не в состоянии оценить моральное значение действия, если бы каждый случай, воспринятый или предполагаемый, мгновенно исчезал из памяти, не имея паузы для оценки. Основываясь на этом соображении, было бы неправильно считать, что память — определенный компонент нашей моральной анатомии. Память обеспечивает многие стороны нашей жизни, включая обучение игре в теннис, и впечатления о первом концерте рок-музыки, и представления о запланированных каникулах на побережье Карибского моря. Некоторые из этих воспоминаний касаются специфических аспектов нашей личной жизни (автобиографическая информация о первом посещении дантиста). Некоторые воспоминания связаны с более ранними переживаниями (эпизодически возникающее ощущение запаха яблочного пирога, испеченного матерью), некоторые присутствуют в долгосрочном хранении (например, дорога к дому), а другие хранятся недолго (номер телефона от оператора). Конечно, благодаря воспоминаниям, также сохраняется информация о нравственно запрещенных действиях, мысли о них вызывают некомфортные ощущения, мы оцениваем, что нужно изменить, чтобы улучшить наше моральное состояние. Поэтому наши системы памяти — часть «команды поддержки» для моральных суждений, но они не являются специфическими для моральной способности.
Подобно памяти, наши концептуальные представления о верованиях, желаниях и целях других также фигурируют в процессах, связанных с моралью и не связанных с ней. Рассмотрим различия между намеренным и случайным действием. Эти различия — часть нашего здравого смысла, житейских представлений о разуме других, включая такие психические конструкты, как вера, желание и намерение.
Мы делаем заключение об этих невидимых свойствах психики, основываясь на косвенных показателях (например, куда ктото смотрит, или чего добивается, или где кто-то был). Многие моральные различия зависят от способности улавливать различие между намеренным и случайным действием, даже при том, что это различие не является специфическим для сферы морали. Чем отличаются фразы: «Джо намеренно наносит удар Джону» и «Джо случайно наносит удар Джону»? Лингвистически четыре из пяти компонентов идентичны. Те же самые индивидуумы вовлечены в обе ситуации, и действие — удар — то же самое. Если мы можем раскрыть причину действия Джо, то мы припишем ему ответственность при условии, что он ударил Джона намеренно. Напротив, если Джо нанес удар Джону случайно, то, хотя последствия для Джона могут быть те же самые, мы, возможно, не захотим признать Джо ответственным за это.
Способ наших суждений о нравственной стороне чьих-либо действий может также повлиять на наше определение причины действия. Существует взаимодействие между более общей житейской психологией и более специализированной психологией морали. Рассмотрим следующий сценарий.
Вице-президент компании пришел к председателю правления и сказал: «Мы думаем о запуске новой программы. Она поможет нам увеличить прибыль, но программа небезопасна для окружающей среды». Председатель правления ответил: «Меня вообще не заботит состояние окружающей среды. Я хочу только одного: получить как можно больше прибыли. Давайте запускать новую программу». Они начали реализацию новой программы, будучи достаточно уверены в том, что окружающей среде она нанесет вред.
Какова степень вины председателя за то, что он сделал? Ответьте по шкале: от 1 [.значительная вина] до 7 [нет вины] Председатель намеренно нанес вред окружающей среде? Да__ Нет__Когда испытуемые отвечают на этот вопрос, они, как правило, говорят, что председатель заслуживает осуждения, потому что он намеренно причинил вред окружающей среде. Напротив, когда они читают фактически идентичный сценарий, в котором слово «вред» заменяется на слово «польза» и слово «обвинение» заменяется на слово «одобрение», они обычно говорят, что председатель правления заслужил небольшую похвалу, хотя его действия не ставили целью принести пользу окружающей среде. В основе этих сценариев общий вопрос: воспринимается ли побочный эффект действия как преднамеренный или нет? В этих случаях — явная асимметрия. Когда побочный эффект действия дает отрицательный результат, люди с большой готовностью говорят о том, что исполнитель причинил вред. Ситуация выглядит иначе, когда результаты — положительные или полезные. Недавние эксперименты показали, что такие эффекты наблюдаются у детей уже с трехлетнего возраста. Эти данные заставляют предполагать, что мы обладаем способностью с большей вероятностью воспринимать действия как преднамеренные, когда они нравственно плохи, чем тогда, когда они нравственно хороши[67].
Позвольте мне дать еще одну заключительную иллюстрацию, чтобы завершить обсуждение процессов, которые являются необходимыми для наших моральных суждений и поведения, но не специфичны для этики. Наши эмоции и мотивационные побуждения связаны с нашими моральными суждениями и действиями, но не являются специфичными для морали.
Мы испытываем страх и радость по поводу многих вещей, которые не имеют никакого морального значения, включая боязнь змей и радостную удовлетворенность от нашей работы или рожка мороженого. Однако, как и в случае различения преднамеренного и случайного, небольшое изменение в контексте жизненной ситуации может изменить значение этих базисных эмоций, придать им моральное значение. Например, наблюдателю кажется, что есть что-то неправильное (по отношению к морали) в поведении мужчины, наслаждающегося рожком мороженого, который он только что отобрал у ребенка. Поскольку ребенок плачет, мужчина должен чувствовать себя плохо, потому что он сделал нечто непозволительное. Если эти эмоции вызваны нравственно релевантными действиями, то они должны быть частью моральной способности. Это классическое представление возвращает нас назад, по крайней мере к Юму, а в настоящем отмечено социальным психологом Джонатаном Хайдтом, который предполагает, что мы «снабжены» четырьмя семействами моральных эмоций:
(1) другой — осуждаемый: презрение, гнев и отвращение;
(2) осознающий себя: стыд, смущение и вина;
(3) другой — страдающий: сопереживание;
(4) другой — восхваляемый: благодарность и восхищение.
Эти моральные эмоции управляют всем. От них зависят наши интуитивные представления о том, что является правильным или неправильным и что мы должны или не должны делать.
Невозможно отрицать, что мы нередко испытываем чувство вины, сострадания или благодарности, что эти эмоции возникают в контексте морального поведения, реального или воображаемого, изменяя состояние и психики, и всего организма. Эти переживания, однако, оставляют открытыми два вопроса: каковы пусковые механизмы этих эмоций и когда они возникают в ходе моральной оценки? Для того чтобы эмоция возникла, нечто должно ее вызвать. Некоторая система в мозге должна опознать планируемое или законченное действие и оценить его с точки зрения последствий. Когда эмоция проявляется в контексте, описываемом как морально релевантный, оценочная система идентифицирует действие, которое часто касается человеческого благополучия — или собственного, или чьего-либо другого.
Активация мозговой системы, которая воспринимает действие и, очевидно, дробит непрерывный поток событий на части со специфическими причинами и последствиями, должна предшествовать возникновению эмоциональной реакции. Например, мы плохо себя чувствуем, когда наше действие причинило комуто вред, вызвало у кого-то стресс, привело к чьей-то потере. Появляется знакомое вам переживание, мы называем это чувство виной[68].
Обычно мы судим об этом действии как о неправильном или непозволительном. Я не отрицаю чувств. Но я действительно оспариваю причинную роль, приписанную нашему чувству. Вина могла бы вызвать наши суждения, но и сама могла бы явиться следствием наших суждений. То же самое может быть верно в отношении других моральных эмоций. Позднее у меня будет намного больше возможностей, чтобы обсудить это. Пока единственный имеющий отношение к делу факт — то, что наши эмоции не являются специфичными, специализированными компонентами моральной способности.
Наша моральная способность позволяет каждому нормально развивающемуся ребенку приобрести любую из существующих систем этики. Ниже приводится грубый эскиз моральной анатомии создания Ролза, его сущности и принципиального устройства. Это описание является непосредственным следствием лингвистической аналогии, взятой по ее номиналу. Это — дорожная карта, путеводитель, чтобы двигаться дальше по страницам этой книги.
Анатомия моральной способности создания Ролза
1.Моральная способность состоит из набора принципов, которые направляют наши моральные суждения, но строго не определяют, как мы действуем. Принципы составляют универсальную моральную грамматику, видоспецифический признак.
2.Каждый принцип обеспечивает автоматическое, быстрое суждение, касающееся нравственно допустимого, обязательного или запрещенного.
3.Принципы недоступны сознательному пониманию.
4.Принципы оперируют переживаниями, которые не зависят от их сенсорного происхождения, включая воображаемые и чувственные визуальные картины, слуховые события и все формы языка: разговорного, письменного и знакового.
5.Принципы универсальной моральной грамматики являются врожденными.
6.Усвоение врожденной моральной системы осуществляется быстро и легко, не требуя никакой инструкции. Содержание врожденной морали устанавливает ряд параметров, рождающих специфические моральные системы.
7.Моральная способность ограничивает диапазон возможных и устойчивых этических систем.
8.Принципы универсальной моральной грамматики присущи только человеку и являются специфическими только для моральной способности.
9.Чтобы функционировать необходимым образом, моральная способность должна взаимодействовать с другими способностями разума (например, способностью к овладению языком, зрительным восприятием, памятью, вниманием, эмоциями, верованиями), некоторые из них свойственны только людям, иные являются общими для человека и для других видов.
10.Поскольку моральная способность основывается на специализированных мозговых системах, повреждение этих систем может привести к отдельным нарушениям в моральных суждениях. Повреждение областей, вовлеченных в поддержку моральной способности (например, эмоций, памяти), может вызвать нарушение моральных действий, т. е. того, что индивидуумы фактически делают, в отличие от их понимания того, что некто должен сделать.
Особенности 1—4 — это в значительной степени характеристики способности в ее уже сложившемся виде, которую здоровые взрослые люди хранят в форме бессознательного и недоступного морального знания.
Особенности 5—7 — это в большей степени характеристики развивающиеся, которые определяют проблему приобретения системы морального знания, включая видовые признаки и культурные влияния.
Особенности 8—10 отражают эволюционные проблемы, включая уникальность нашей моральной способности и ее развитой структуры.
В целом это анатомическое описание обеспечивает схему для характеристики нашей моральной способности.
Я представил грубый эскиз того, как мы должны характеризовать моральную психологию в свете наших знаний о языке. Основываясь на характеристике языковой способности, введенной Хомским, которую развивали и критиковали несколько поколений лингвистов, теперь мы готовы следовать за этой традицией и изучать природу нашей моральной способности. Аналогия с языком будет стратегически полезна, вынуждая нас обращаться к новым вопросам о природе морального знания. Аналогия также покажет глубокие параллели между этими областями, в той же мере как и новые представления об их различиях. Различий следует ожидать, исходя из их очевидных функций: мораль зависит от беспристрастности оценки, язык — нет; мораль регулирует социальные взаимодействия, в то время как язык вносит свой вклад в этот процесс, но также обеспечивает трансляцию наших мыслей. Углубляясь в принципы, лежащие в основе обеих систем, мы раскроем то, что является общим для них и что — уникальным, как каждая область знания эволюционирует и естественно развивается у каждого ребенка.
Я также намеренно оставил одну проблему открытой и поддающейся толкованию, по крайней мере, двумя способами: являются ли создания Канта, Юма и Ролза в совокупности частью нашей моральной психологии или создания Ролза действуют в одиночку, так сказать, солируют, а создания Канта и Юма вмешиваются, когда мы решаемся на действия, соответствующие нашим моральным убеждениям? Я не буду говорить о выборе между этими возможностями здесь, потому что должен обеспечить необходимые доказательства. Ответ будет получен в дальнейшем.
Часть I. Универсальные декларации
Справедливость и правосудие для всех
Военное правосудие имеет такое же отношение к правосудию, как военная музыка к музыке.
Грачо Маркс[69]*
Имевшая огромный успех книга Ричарда Доукинза «Эгоистичный ген» является оригинальным введением в социобиологию, она представляет новый подход к объяснению поведения человека и животного. Согласно Доукинзу, ответственность за развитие альтруизма, проявление насилия, обмана, сексуальных пороков несут гены. Многие интерпретировали книгу Доукинза как разрушительный результат научного творчества, цель которого — элиминировать свободу воли, оправдать отвратительные человеческие действия, обращаясь к нашей биологии, поставив нас лицом к лицу с крошечными вредными спиралями ДНК. Доукинз и другие эволюционные биологи изо всех сил противостояли таким залпам обвинительных комментариев, которые сильно напоминали большие оксфордские дебаты 1860 года между епископом Вилберфорсом и Томасом Генри Гексли[70].
Прочитав книгу Дарвина «Происхождение видов» и обнаружив ее потенциал, подрывавший религиозные наставления и моральные устои, Вилберфорс начал атаку, вооружившись сарказмом и витиеватой риторикой. Как известно, он закончил свою резкую, обличительную речь, затем, обратившись к Гексли, спросил, через бабушку или дедушку тот ведет свое происхождение от обезьяны? Гексли отвечал: «У человека нет причин испытывать стыд по поводу того, что его предком была обезьяна. Если и имелся предок, вспоминая которого я должен стыдиться, то, вероятнее всего, это был мужчина беспокойного и разностороннего ума, не обремененный сомнительным успехом в своей деятельности, погружавшийся в научные вопросы, о которых он имел весьма отдаленное представление, способный только затуманить их бесцельной риторикой и отвлекать внимание слушателей от насущных проблем красноречивыми уклонениями от темы и искусными обращениями к религиозным предубеждениям».
Хотя Доукинз может оказаться реинкарнацией Гексли, являясь защитником «эгоистичной» роли гена — темы, к которой я обращусь позже, лишь единицы заметили следующую мысль из той книги: «Кин-отбор[71] и обоюдный альтруизм... вероятны в тех пределах, в которых они действуют. Но я нахожу, что они не учитывают труднопреодолимое возражение в объяснении культурной эволюции и огромных различий между человеческими культурами во всем мире... Я думаю, что мы должны вернуться к исходным принципам. Для понимания развития современного человека мы должны выдвинуть ген как единственное основание наших идей относительно эволюции»[72].
Раскрывая этот комментарий, Доукинз справедливо предполагает, что есть нечто и более значимое для человеческой природы, чем чистый, настоящий интерес к самим себе. Что, однако, является ответственным за наиболее благотворные аспекты человеческого поведения? В какой мере они зависят от разума, который получает эмоциональную награду за помощь другим? Какой вклад вносят правила и инструкции, которые разрабатывает каждое общество, чтобы ограничить наши эгоистичные тенденции? Каким образом мы могли бы продвигаться к обществу, основывающемуся на принципах справедливости, или к некоторой другой системе, которая приносит пользу тем, кто нуждается, или тем, кто выполняет наиболее тяжелую работу? Разве мы не будем достаточно мудрыми, чтобы прислушаться к матери-природе, даже если в конце мы благодарим ее, не испытывая благодарности?
Что позволило нам жить в больших группах свободно перемещавшихся, несвязанных индивидуумов, так это развившаяся способность психики, которая порождает всеобщие и неосознаваемые суждения о справедливости и ущербе. В ходе истории мы изобрели законотворческую политику и религиозные доктрины, которые иногда предписывают соблюдать эти интуитивные правила, но часто находятся в противоречии с ними. Третий американский президент Томас Джефферсон, прославившийся своим видением правосудия, красноречиво изложил доводы относительно нашей моральной способности и в то же время указал на напряженность между интуитивными представлениями и сознательным рассуждением.
Тот, кто сотворил нас, был бы жалким, ничтожным ваятелем, если бы правила нашего морального поведения сделал достоянием науки. На одного человека науки приходятся тысячи, кто не имеет к ней отношения. Что случилось бы с ними? Предназначение человека — жить в обществе. Его нравственный закон поэтому должен быть сформулирован для этой цели. Именно в связи с этим ему дано ощущение добра и зла. Это ощущение — в значительной степени часть его природы, как слух, зрение, другие чувства; это — истинная основа морали... Моральное чувство, или совесть, является такой же частью человека, как его нога или рука. Оно дается всем людям в большей или меньшей степени, как сила членов дана им в большей или меньшей мере. Оно может быть усилено упражнением, как могут быть натренированы руки или ноги. Этим чувством действительно в некоторой степени руководит разум; но для этого требуется лишь небольшое влияние: даже меньше, чем то, что мы называем здравым смыслом. Изложите дело, касающееся морали, крестьянину и профессору. Первый решит его так же, а часто лучше, чем последний, потому что его не уводят в сторону искусственные правила[73].
Комментарии Джефферсона охватывают несколько тем, которые будут возникать здесь и в следующих главах: интуитивные суждения против осознанной разумной политики, врожденные способности и приобретенные ценности, интуитивные представления обычного человека против рассуждений образованного человека. Помня о мыслях Джефферсона, я теперь обращусь к исследованию того, как универсальные суждения о справедливости ограничивают диапазон межкультурных изменений и до какой степени люди осознают принципы, которые направляют их моральные суждения.
Чтобы подготовить почву, позвольте вернуться к случаю со спортивным автомобилем и дилеммам милосердия, обсуждавшимся в главе 1. Оба случая ставят вопрос: когда нравственно обязательно помочь кому-то и действовать бескорыстно?
1. Спортивный автомобиль. Мужчина едет в новом спортивном автомобиле и видит на краю дороги девочку с окровавленной ногой. Ребенок просит водителя отвезти ее в ближайшую больницу. Владелец обдумывает эту просьбу, принимая в расчет, что чистка кожаного интерьера машины будет стоить 200 $.
Действительно ли обязательно для человека отвезти этого ребенка в больницу ?
2. Милосердие. Мужчина получает письмо от фонда ЮНИСЕФ с просьбой внести вклад в размере 50 $, чтобы спасти жизни двадцати пяти детей, обеспечив их препаратами, устраняющими обезвоживание, вызванное диареей.
Действительно ли обязательно для человека отправить деньги для этих двадцати пяти детей?
Хотя наши эгоистичные гены и наша эгоистичная психология подталкивают нас ответить «нет» в обоих случаях, некоторая другая часть нашей психики склоняет нас к ответу «да» в случае 1, а для намного меньшей части людей и в случае 2. Чтобы понять природу этого психологического напряжения, я постараюсь установить, что совпадает в обоих случаях, а что их различает. Цель здесь состоит в том, чтобы выделить в каждой дилемме близкие измерения, включая особенности каждого субъекта и реципиента (получателя), отношения между субъектом и реципиентом, набор действий и следствий, наряду с их разворачиванием через какое-то время, и следствиями действия или бездействия и для субъекта, и для реципиента. Выделение этих случаев как различающихся и их анализ ни в коем случае не исчерпывают содержания и имеют предварительный характер.
Преобразовав каждый сценарий в отобранный набор релевантных характеристик, мы получаем возможность увидеть, что нами движет в одном направлении в случае 1 и в другом — в случае 2. В таблице серым цветом выделены характеристики, отличающие один случай от другого. Поразительно, как анализ затрат склоняет нас в направлении, противоположном тому, которое можно было ожидать. В случае 1 затраты больше по отношению к случаю 2. В случае 1 больше затрата времени субъекта, больше денежная затрата — на 150 $, и спасается только одна жизнь, фактически только одна нога — по сравнению с двадцатью пятью жизнями. Трудно вообразить принципы закона или религиозную доктрину, которые бы вынесли приговор в пользу действия, которое ведет к одной спасенной ноге вместо двадцати пяти спасенных жизней. Кроме того, есть асимметрия в причине проблемы реципиента. В случае 1 ребенок или виноват сам, идя по дороге, или причина травмы неоднозначна. В случае 2 дети не виноваты; они — жертвы тяжелых условий жизни и чрезвычайной бедности. Учитывая эту асимметрию в сюжетах и принимая тот факт, что ответственность индивидуума затрагивает некоторым способом наши моральные суждения, мы должны больше хотеть сделать пожертвование, чем остановиться и помочь раненому ребенку. Что же тогда могло бы объяснить совершенно противоположное соотношение наших интуитивных установок?
Субъект и реципиент не знают друг друга, не связаны между собой и происходят из различных социальных групп. Но, возможно, мы подсознательно кодируем эти случаи по-разному, принимая предположение, что субъект и реципиент являются представителями одной и той же группы в случае 1, но определенно «нет» в случае 2.
Многие могут подумать, что случай 2 предполагает участие белого американского мужчины и черных африканских девочек. Хотя это предположение и этнически-расовая дискриминация, которую оно за собой влечет, могут играть некоторую роль, нетрудно переписать эти случаи, чтобы уравнять отношения между субъектом и реципиентом. Если бы водитель был пятидесятилетним белым американским мужчиной, а ребенок — черным африканским подростком из Судана, эта ситуация все равно вызывала бы более сильный эмоциональный отклик у людей по сравнению с просьбой о пожертвовании. Фактически, даже если получатель письма был черным африканским мужчиной из Судана, но живущим в Соединенных Штатах, эта ситуация в целом вызывала бы у людей меньше сочувствия, чем случай с пострадавшей девочкой.
Характеристики случаев Случай 1 Случай 2 Спортивный автомобиль Милосердие Субъект Один человек Один человек Реципиент Один ребенок 25 детей Общий характер действия Помощь/спасение Помощь/спасение Конкретное действие Физическая помощь Финансовая помощь Негативные следствия действия для субъекта Затрата 200 $ и времени на перевозку ребенка в больницу Затрата 50 $, затрат времени нет Позитивные следствия действия для реципиента (ов) Нога ребенка будет спасена 25 детей выживут Значение срочности действия для реципиента Высокое Среднее Связь между субъектом и реципиентом Не знакомы, не родственники Не знакомы, не родственники Временной интервал между действием и следствием Короткий Длинный Следствие представляет прямой или косвенный ответ на действие? Прямой Прямой Каково следствие бездействия? Один ребенок потеряет ногу, и возможны большие осложнения 25 детей погибнут Действие имеет личный или безличный характер? Личный Безличный Альтернативы действенной помощи со стороны субъекта Маловероятны, но может подъехать другой водитель Вероятны, включая других спонсоров, правительств, организаций Вероятность, что действие прямо вызовет следствие Высокая Низкая для субъекта, высокая для организации Является ли реципиент лично ответственным за сложившуюся ситуацию и потребность в помощи? Либо «да» либо «неопределенно» НетВыделяется одна дополнительная характеристика, которая в последней теме выражена слабее: случай 1 представляет собой завершающееся личное действие, в то время как случай 2 предполагает отдаленное и безличное действие. Действие на расстоянии производит более слабое альтруистическое напряжение, потому что мы недостаточно продвинулись в психологической эволюции. Помощь индивидуумам, которые находятся вне досягаемости руки, иногда вне поля зрения, является сравнительно недавно возникшим образцом действия и взаимодействия.
Мы можем соединить эти детали, чтобы сформулировать принцип, который настойчиво подталкивает нас помогать в случае 1, но вызывает неуверенность или отрицание в случае 2.
Если мы можем непосредственно предотвратить с высокой степенью уверенности нечто плохое, не жертвуя чем-нибудь, сопоставимым по значению, мы обязаны сделать это[74].
Это — начало. Оно представляет принцип, который можно было бы реализовать с помощью кантианского метода с пятью пунктами, но оно несовершенно. Как определить степень уверенности? Как следует решать проблему стоимости затрат, которая сопровождает понятие принесения в жертву сопоставимого значения? Сформулировав этот принцип так жестко, как я это сделал, мы получаем некоторый выигрыш за счет выделения ряда характеристик, вовлеченных в качестве опосредующего звена в наши суждения о справедливости.
Под завесой неведения
Философы-моралисты продолжительное время интересовались нашим ощущением справедливости, тем, что можно считать законным, и тем, как можно сформулировать релевантные принципы. В двадцатом столетии Джон Ролз выделяется как один из наиболее важных участников обсуждения этой проблемы. Когда вышла его «Теория справедливости», идеи Ролза оказались настолько глубоки и важны для дисциплин за пределами философии, что книга стала классическим произведением, переведенным на множество языков. Ее читали политики, адвокаты, экономисты, антропологи, биологи, психологи и тысячи обычных людей. Ее цитировали в политических беседах, в обсуждениях спортивных матчей и даже в популярной на американском телевидении программе «Западное крыло». Поэтому кажется странным, что сегодня во многих обсуждениях, в частности эволюции этики и справедливости, или игнорируют взгляды Ролза, или извращают их.
Что же такое представлял собой Ролз? Побывав на войне, задумываясь о неравенстве, он потратил целую жизнь, пытаясь понять наше общество, образ жизни его членов, систему правосудия. Центральное место в его размышлениях занимало понятие «отношение тождества», принцип справедливости как честности. Отношение тождества подразумевает, что честность не является компонентом справедливости, или формой справедливости, или чем-то, имеющим отношение к справедливости. Честность и есть справедливость. Подобно британским философам Просвещения, особенно Дэвиду Юму, Ролз верил в моральное чувство, ощущение справедливости, выработанное на основе принципов, которые «определяют надлежащий баланс между конкурирующими требованиями, направленными на получение пользы для социума». Он также полагал, наряду с Юмом, что мы можем понять природу нашего морального чувства, используя инструменты науки. Однако, в отличие от Юма, Ролз придавал небольшое значение роли эмоции. Скорее неосознаваемые принципы ведут наши моральные суждения. Эта перспектива, выдвинутая на первый план в предыдущей главе, имеет четыре желательные особенности[75].
Первая особенность является стратегической. Мы должны более широко исследовать принцип справедливости как честности и моральную способность, используя тот же способ, которым лингвисты, следуя традиции генеративных лингвистов, в первую очередь Хомского, исследовали языковую способность. Как я кратко очертил в главе 1, Ролз занял данную позицию, признавая много параллелей между этими системами знания, в той же мере как и возможность применения подхода, заимствованного из лингвистики. Например, подобно лингвистическим системам, моральные системы безграничны в своих возможностях выражения и интерпретации. Опираясь на конечный и часто ограниченный набор ощущений, мы распространяем наши интуитивные представления на все новые и новые случаи. Дети осваивают ограниченный набор лингвистических знаний, но их собственная лингвистическая «продукция» имеет более широкий диапазон. То, что оказывается на выходе, намного богаче того, что было воспринято.
Подобно этому, моральный вклад и продукция кажутся асимметричными. Госпожа Смит дает своему сыну Фреду упаковку конфет и говорит, что он должен разделить ее с другом Билли. Фред дает Билли только часть, а остальное оставляет себе. Билли говорит: «Это нечестно». Госпожа Смит соглашается. Маловероятно, что Фред придет к заключению, что нужно поровну разделить конфеты, в то время как необходимость поделиться с другими допускает неравное распределение. Фред, наиболее вероятно, подумает, что, когда придет необходимость делиться, каждый получит свой шанс. Фред имеет интуитивное понимание принципа справедливости, а культура, к которой он принадлежит, обеспечивает ему пространство параметров, диапазон распределений или ценностей, которые рассматриваются как справедливые. Из этого примера не следует, что процесс обобщения — перехода от отдельного случая к более общему принципу — специфический для этики. Возможно, что процесс обобщения является тождественным для лингвистики, математики, классификации объектов и этики. Необходимо другое доказательство[76].
Если дети рождены с набором моральных принципов, то это основание помогает решать проблему приобретения. Бедность опыта больше не проблема для ребенка. Из нескольких примеров, предложенных местной культурой, он может извлечь надлежащие принципы. Ограниченность содержания стимула, ставшая знаменитой благодаря размышлениям Хомского о языке, можно охарактеризовать с помощью простого четырехшагового метода, который направляет движение научного процесса. С этой целью следует:
1)идентифицировать специфическую часть знания у взрослых индивидуумов;
2)выделить, какой вклад необходим или обязателен для ученика, чтобы приобрести эту часть знания;
3)продемонстрировать, что эта часть знания не присутствует в окружающей среде или недоступна из нее;
4)показать, что знание является тем не менее доступным и существующим в психике ребенке в самом раннем возрасте до любого релевантного поступления информации.
В ходе освоения языка дети порождают конструкции, которые в их опыте найти невозможно. Если ребенок создает соответствующие конструкции, то он подсознательно имеет знание. Ролз соединяет эти идеи в контексте справедливости: «Оценивая события, мы приобретаем умение быть справедливыми или несправедливыми и объяснять эти суждения определенными причинами. Кроме того, мы обычно имеем некоторое желание действовать в соответствии с этими заявлениями и ожидать подобного желания со стороны других. Очевидно, что эта моральная способность необычайно сложна. Чтобы увидеть это, достаточно обратить внимание на потенциально бесконечное и разнообразное число суждений, которые мы готовы сделать. Факт, что мы часто не знаем, что сказать, и иногда наш разум оказывается в состоянии нерешительности, не умаляет сложности той способности, которой мы обладаем». Это заключительное предложение ведет ко второй особенности представлений Ролза.
Ролз полагал, что нередко мы можем судить о том, что является справедливым или несправедливым, допустимым или непозволительным, не зная причин, не будучи в состоянии оправдать наши действия или дать объяснение, которое является совместимым с нашим поведением. Факт, что мы можем действовать, не зная почему, ставит вопрос: что означает «знать» и, в частности, «знать» о принципах справедливости? Предположение Ролза, основанное на лингвистической аналогии, заключалось в том, что многие из наших нравственно релевантных суждений появляются быстро, часто без участия рефлексии, в отсутствие сильной эмоции и, как правило, без возможности ясного обоснования или объяснения. Более того, эти суждения имеют тенденцию быть здравыми, что подтверждается упорством, с которым индивидуумы придерживаются своих интуитивных представлений перед лицом разумных альтернативных суждений.
Простая идея, которую я предлагаю, состоит в том, что есть различные способы знать. Для каждой специфической области знания мы можем установить, что все выполняемое или воспринимаемое в ней базируется на оперативных принципах, которые мы не можем выразить. Наша способность выражать такие принципы может появиться только тогда, когда мы формально обучались соответствующей дисциплине: лингвистике, музыке, зрительному восприятию, акустике, математике, экономике. Когда люди дают объяснения своего морального поведения, они могут не иметь вообще или иметь смутное представление об основополагающих принципах. Их ощущение осознанности рассуждения на основе определенных принципов иллюзорно. И даже, если кто-то узнает основной принцип, не очевидно, что это понимание изменит его суждения в ежедневных взаимодействиях. Наличие сознательного доступа к некоторым из принципов, лежащих в основе нашего морального восприятия, может иметь такое же незначительное воздействие на наше моральное поведение, как знание законов языка воздействует на нашу разговорную практику.
Третья характеристика позиции Ролза состоит в попытке объединить неосознаваемые, но действующие принципы с теми, которые получают свое выражение, когда мы размышляем над нашими действиями, теми, которые произошли или произойдут.
Ролз предположил, что мы решаем моральный конфликт посредством обоснованных суждений. Обоснованные суждения делаются быстро, автоматически, без участия рефлексии, с полной уверенностью, в отсутствие сильных страстей и без явных собственных интересов. Они делаются без какого-либо осознания моральных принципов или правил. Когда мы судим действия как справедливые, одновременно с этим у нас не возникает мыслей типа: «Бедный сосунок! Он не понимает, что я поступаю как бандит. Я только что нарушил принцип карательного правосудия, поскольку смог вывернуться из ситуации, получив наименее строгое осуждение своего преступления». Ролз объясняет это так: «Обоснованные суждения — это суждения, оформленные в условиях, благоприятных для упражнения чувства справедливости, и поэтому их нельзя получить в обстоятельствах, где действуют более общие оправдания и объяснения возможной ошибки». Однако, как только такие суждения делаются, они становятся открытыми для пересмотра, обработки и, возможно, прямого отклонения. Эти действующие суждения открыты и для других ограничений, включая такие позиции, как, например, находится ли человек в плохом настроении, может ли называть детали спора, отвлекаться, или он намерен потратить время на обдумывание дилеммы. Что является важным поэтому, так это установление различий между принципами, которые сопровождают суждения при идеальных условиях, и теми, которые лежат в основе суждений, формулируемых перед лицом фактической моральной дилеммы, возникающей здесь и теперь и требующей немедленного ответа.
Заключительная характеристика подхода Ролза связана с мысленным экспериментом, цель которого — показать неосознаваемые принципы справедливости, встроенные в нашу моральную способность. В исходной позиции, согласно описанию Ролза, собирается группа людей, чтобы обсудить основные принципы справедливости как честности. Их задача состоит в том, чтобы оценить такие проблемы: как распределить вознаграждение за индивидуальные действия; как естественные преимущества или недостатки должны оцениваться относительно конечного результата; как такие принципы воздействуют на структуру учреждений и индивидуумов, которые на них опираются. Все это следует традиции философов, представителей контрактарианизма[77], которая восходит ко времени Томаса Гоббса.
Для Ролза договор был идеализацией, методом выявления принципов справедливости, которые являются беспристрастными, свободными от корыстных предубеждений: «Концепция исходной позиции не предназначена объяснять человеческое поведение, кроме тех случаев, когда она способствует объяснению наших моральных чувств и помогает обосновать наличие у нас ощущения справедливости».
Этот подход соответствует позиции Хомского по отношению к языку: «Любая интересная генеративная грамматика будет иметь дело, главным образом, с психическими процессами, которые находятся далеко за пределами уровня фактического или потенциального сознания. Более того, весьма очевидно, что сообщения говорящего о своем поведении и компетентности могут быть ошибочными. Таким образом, генеративная грамматика пытается определить, что говорящий фактически знает, а не то, что он может сообщить о своем знании»[78]. В этической сфере мы должны быть готовы обнаружить, что знание индивидуума имеет мало общего с тем, о чем он или она сообщает или что они намереваются делать.
Проблема, признанная не одним поколением ученых, состоит в том, как разработать метод, который «извлекает» принципы справедливости, несмотря на компенсирующее давление личного интереса. Как отмечал Адам Смит более двухсот лет назад, «каждый индивидуум обязательно трудится, чтобы пополнить ежегодный доход общества, настолько значительно, насколько он может. На самом деле он, как правило, не имеет намерений внести вклад в общественную копилку и не знает, насколько ему это удается... Его интересует только его собственная выгода, и он, ведомый, оказывается втянутым в это дело, как и во многих других случаях невидимая рука направляет его к цели, о которой он и не помышлял». Более образно Смит написал так: «Мы получаем свой обед благодаря не доброжелательности мясника, но его собственному, личному интересу».
Ролз полагал, что можно было бы получить доступ к основным принципам нашего чувства справедливости, устанавливая ограничения на то, как протекает обсуждение: когда индивидуумы обсуждают принципы справедливости, они должны работать под завесой неведения. Завеса покрывает собственное знание или чьи-либо личные характеристики типа возраста, богатства, религиозных верований, здоровья или этнической принадлежности. Эти характеристики, как утверждал Ролз, мешают трезвым размышлениям о справедливости. Они являются предпосылками корыстных предубеждений, характеристиками, не имеющими отношения к морали, искажающими нашу способность ясно формулировать принципы справедливости на основе беспристрастной перспективы. Завеса обеспечивает беспристрастность, сообразуясь с тем фактом, что каждый участник глубоко эгоистичен: стремится получить лучшее дело, больше ресурсов и самые благоприятные возможности. Удивительно, но все это имеет мрачное сходство с марксистской политикой, в которой индивидуальное исчезает в групповом, вне зависимости от усилий, прилагаемых индивидом, и его таланта.
Кого мы привлекаем восседать за завесой и прояснять принципы справедливости? Согласно Ролзу, участники должны быть способны к рациональным суждениям, он называл их «рассудительными людьми». Это лица, независимые от благосостояния, социального статуса, расы, пола, национальности или религии, они должны иметь следующие характеристики:
(1) зрелое интеллектуальное и эмоциональное ядро;
(2) типичный для их возраста уровень образования;
(3) способность в большинстве случаев формулировать разумные суждения;
(4) достаточный уровень симпатии к другим, чтобы учитывать их чувства, интересы, способность проявить сострадание.
Индивидуумы с этими характеристиками должны сформулировать спонтанные суждения, «очевидно определяемые самой ситуацией и пережитой реакцией [на нее], возникшей в результате прямого наблюдения... [они] не руководствуются сознательным применением некоторого правила, критерия или теории. Одну модель непосредственного суждения можно было бы представить как реакцию, которая возникает, когда мы неожиданно видим перед собой некоторый объект — чрезвычайно красивый и естественный. Мы не знаем об этом объекте абсолютно ничего, но, увидев его, непроизвольно восклицаем, как это красиво. Появление непосредственного суждения будет похоже на эту ситуацию, но его содержание будет касаться художественного вкуса, добродетельного действия, различных предметов и т. п.»[79].
Ролз полагал, что под завесой неведения каждый должен руководствоваться двумя центральными принципами — принципами справедливости, которые являются частью нашей моральной способности: (1) все члены общества имеют равное право или доступ к основным привилегиям; (2) распределение социальных и экономических благ должно быть установлено так, чтобы приносить пользу наименее благополучным членам общества; второй принцип допускает неравное распределение, но только если те, кто оказывается внизу, извлекают пользу. Ролз далее утверждал: так как эти принципы — часть нашей моральной способности, мало того что они будут проникать из-под завесы неведения, они являются оправданными и должны быть приняты всеми разумными членами общества.
Хотя мы подробно обсудили принципы Ролза, здесь я хочу сделать акцент на двух небольших пунктах. Во-первых, мы должны различать процессы, которые являются ответственными за внедрение этих принципов в нашу голову, и процессы, которые ведут нас к тому, чтобы принять или отклонить их. Даже если эти принципы — часть нашего врожденного «обеспечения», у нас нет необходимости принимать их. Если мы отклоняем их, решая, что другие принципы являются более совместимыми с нашим чувством справедливости, мы должны быть готовы к конфликту и нестабильности. Во-вторых, даже если определенные принципы Ролза, касающиеся справедливости, оказываются несостоятельными, его методологические положения акцентируют наше внимание на соответствующих аспектах проблемы, включая вопросы личного интереса, беспристрастности, действующих принципов и спонтанных суждений[80].
Использование Ролзом лингвистической аналогии важно, потому что показывает, что некоторые аспекты нашего восприятия справедливости могут основываться на принципах, которые действуют вне нашего понимания. Его использование исходной позиции важно для выработки методологического критерия, с помощью которого можно выявить принципы справедливости. Его интерпретация справедливости как честности представляет идеальную модель. Когда же рассматриваются реальные ситуации, в которых справедливость оказывается под угрозой, как мы обычно поступаем?
Только параметры
Каждое утро, в семь тридцать утра, Ричарду Грассо вручали пачку бумаг. Через несколько мгновений он поднимался из-за стола и звонил в колокольчик. Этот ритуал, напоминающий момент открытия боксерского матча, был частью его работы в качестве председателя и главного администратора Нью-Йоркской фондовой биржи. 17 сентября 2003 года он подал в отставку. Почему же кто-то, перезаключая контракт, который приносит ему приблизительно 140 миллионов долларов вознаграждения, может уступить свое место другому? После общественной демонстрации негодования Грассо решил, что ему надо уйти.
С одной стороны, общественная реакция не имеет смысла. Посмотрите на годовой доход Грассо в 2001 году: он был немного выше, чем доход телеведущего Дэвида Леттермана и звезды баскетбола Шекила О’Нила, но меньше, чем столь же масштабной звезды баскетбола Майкла Джордана и известной певицы Бритни Спирс. Мы можем завидовать этим знаменитостям, но мне все же не приходилось слышать воинственного возгласа «Несправедливо!». С другой стороны, реакция приобретает смысл, когда рассматривается с точки зрения справедливого распределения ресурсов, основанного на приложенных усилиях. Работал ли Грассо более напряженно и вносил ли больший вклад, чем водопроводчик, художник, преподаватель или архитектор, которые могут трудиться шестьдесят часов в неделю? Обладает ли Грассо умениями, которые более востребованы по сравнению с умениями главных администраторов других фирм с Уоллстрит? Нет, и нет. Грассо брал больше, чем свою справедливую долю. Люди заслуженно осудили его, вынудив уйти в отставку.
Случай с Грассо выглядит пристойно по сравнению с другими корпоративными разгромами, включая истории корпораций «Энрон» и «Волдком». Грассо ни о чем не умалчивал и никого не обманывал. А вот главный администратор «Энрона» Кеннет Лей держал персонал в абсолютном неведении, присваивая себе миллионы долларов. В каждом из этих случаев, однако, публика чувствовала недоброе.
До настоящего момента я обсуждал справедливость, не останавливаясь специально на ее значении, принципах, на которых основан обмен между отдельными лицами (независимо от того, являются ли эти принципы универсальными, или легко меняющимися под влиянием культурных традиций, или некоторой комбинацией всеобщих и культурно-своеобразных факторов). Принимая аналогию с языком, можно было бы ожидать универсального принципа справедливости, который изменяется под влиянием культуры как функция вариативности параметров; опыт, получаемый в родной обстановке, навязывает определяемые культурой специфические признаки справедливости и справедливого обмена. Как только параметры установлены, суждения о справедливости могут казаться столь же непостижимыми для разных культур, как суждения о грамматической правильности для порядка слов. Но каковы отношения между принципом и параметром? Лингвист Марк Бейкер[81], для того чтобы разобраться в принципах и параметрах, предлагает рассмотреть простую метафору. Принципы напоминают рецепты приготовления пищи, по крайней мере, в двух отношениях: определенные ингредиенты, называемые «параметрами», являются необходимыми, в то время как другие являются дополнительными. Как только ингредиент добавили, он взаимодействует с другими компонентами: иногда в известной мере, а иногда и очень существенно. Когда мы печем пирог, мы должны сделать некоторые вещи в определенном порядке, например включить духовку прежде, чем поместить туда тесто, отрегулировать температуру до правильного уровня, чтобы пирог не подгорел, тщательно перемешать тесто и поместить его в форму с учетом того, что пирог поднимется. Некоторые из ингредиентов, которые мы кладем в тесто, необходимы, если мы собираемся печь определенный вид пирога. Сладкий пирог требует такого компонента, как сахар или его заменитель. Он также требует яиц и пищевой соды, чтобы подняться. Другие ингредиенты, такого типа как шоколад, являются дополнительными, так же как и их количество. Такой взгляд на приготовление пищи сдвигает непрерывный процесс выявления и смешивания компонентов к дискретному процессу, в соответствии с которым специфические решения принимаются на каждом шаге выполнения рецепта. Это способ действия параметров в языке и, я думаю, также в морали.
У нас есть и другой способ раскрыть эту метафору. Рецепт «создает» изделие: попурри, рыбное карри или суфле. Поэтому мы можем начать с конца: имея конечный продукт, выяснить, какие компоненты входят в его состав, каков порядок их объединения. Хороший повар решил бы эту задачу, определяя на вкус и запах ключевые компоненты и выясняя, как они смешиваются. Но даже самый лучший повар испытал бы трудности при определении точных пропорций каждого компонента и последовательности, в которой они соединяются.
Изменение технологии даст новый рецепт, отличный от оригинала. Хотя наличие рецепта, несомненно, гарантирует однотипность конечного продукта, вариации все же возникают. Если десять человек будут использовать один и тот же рецепт, шансы высоки, что каждый приготовит свой вариант пирога. Один может быть легче, другой слаще, третий более сухой, чем другие. Различия в продукции можно было бы объяснить качеством ингредиентов, которые использовал каждый повар, его вниманием, кулинарным опытом, терпением, наконец, свойствами духовки. Но все это вопросы выполнения, и на их основе вообще нельзя судить о том, что повара знают, сознательно или подсознательно.
Оценивая значение параметрических различий при сравнении языков и укрепляя аналогию с моралью, рассмотрим параметр порядка слов. Языки различаются тем, как в них соединяют слова, чтобы построить вопросительное предложение. Ни в одном живом языке, однако, при формулировании вопроса не используется порядок слов, характерный для утвердительного предложения, например: «Президент живет в Белом доме» и «В Белом доме живет президент?» Это абсолютное ограничение, без исключений. Есть также различия между словами, классифицируемыми как существительные и глаголы. Все языки имеют эти различия. Другие универсалии обеспечивают право выбора, но только в ограниченном диапазоне. Например, большинство языков мира используют следующий порядок слов: либо «подлежащее — сказуемое — дополнение», либо «подлежащее — дополнение — сказуемое». Если бы слова могли соединяться в предложения абсолютно произвольно, в любом порядке, мы обнаружили бы бесконечное множество моделей предложений, как мы находим множество видов хлебных злаков или стилей одежды.
Должны существовать ограничения на изменение языка, потому что язык, который мы усваиваем в ходе развития, устанавливает действующие принципы и параметры. Как только рожденный в Америке ребенок начинает овладевать своим родным языком и создавать предложения, помещая подлежащее перед сказуемым, а сказуемое перед дополнением, ему становится трудно размещать слова любым другим способом. Принимая во внимание, что каждый ребенок рожден со способностью приобрести диапазон возможных порядков соединения слов, когда родной язык освоен, его трудно заменить альтернативными формами.
Если подход, связанный с выделением принципов и параметров, является правильным, по крайней мере в некоторой форме, тогда мы можем охарактеризовать лингвистическое разнообразие, определяя, как устанавливается каждый из основных параметров. Смешайте несколько параметров таким образом — вы получаете английский. Соедините те же самые параметры другим способом, добавьте еще несколько параметров, и вы получаете китайский. Если этот подход правилен, то мы можем не только объяснить разнообразие всех возможных языков, мы можем также определить набор невозможных языков, тех, которым нельзя научиться, основываясь на ограничениях, установленных врожденными принципами, которые составляют нашу универсальную грамматику. Это сопоставимо с высказыванием о том, что мы не можем осуществлять эхолокацию, подобно летучей мыши, потому что мы не имеем необходимых приспособлений. Есть ограничения на то, что является доступным для обучения. Некоторые из ограничений обусловлены внутренними свойствами системы (язык для людей, эхолокация для летучих мышей), а некоторые — внешними, включая ограничения, наложенные памятью, способностями голосового аппарата производить звуки и системы слухового восприятия, расшифровывающей их.
В размышлениях лингвистов о значении параметров для строения языка есть разногласия. Независимо от того, как это обсуждение развертывается, согласно моему собственному ощущению, понятие параметра является полезным для того, чтобы подумать о морали и справедливости более определенно. Тем же самым способом, которым наша универсальная грамматика обеспечивает комплект инструментов, чтобы «строить» конкретную грамматику, в которой одни принципы и параметры удерживаются, а другие — нет, наша всеобщая моральная грамматика обеспечивает различный комплект инструментов, позволяя нам основываться на одних специфических принципах и параметрах, а не на других. Эта структура поднимает новые вопросы: какие компоненты являются дополнительными и какие являются обязательными для данной этической системы? Когда специфические компоненты установлены, как это может воздействовать на будущие изменения?
Давайте вернемся к общественному протесту против Ричарда Грассо. Что мы подразумеваем под «справедливостью» и принципами, которые лежат в основе наших суждений о равноценном обмене? Рассматривая концептуальный «ландшафт», лингвист Джордж Лакофф предложил десятиуровневую таксономию (классификацию) справедливости (см. таблицу)[82].
Таксономия Лакоффа вынуждает нас признать, что критерии справедливости являются несколько расплывчатыми в отсутствие более точной спецификации утверждения: «Я действовал справедливо, потому что я разместил ресурсы согласно необходимости». Не имеет смысла задавать главный вопрос: «Действительно ли это было справедливо?» — поскольку наши суждения обусловлены специфическими особенностями обмена или распределения. Чтобы сформулировать суждение о справедливости, мы должны оценить связанные с ней вариации параметров: будет ли это распределение целей, возможность, ответственность, сила или некоторые другие факторы?
Таксономия Лакоффа также поднимает вопросы об отношениях между различными формами справедливости: будет ли общество, которое осуществляет одну форму справедливости, обязательно осуществлять (или исключать) частично или полностью все другие? Например, вряд ли общества, которые придерживаются равенства распределения, будут также допускать скалярное распределение, учитывающее различные усилия работников, которые поставлены в одинаковые условия. Решение этих проблем будет влиять на академические обсуждения того, как люди отказываются от личного интереса в пользу альтруистических установок, а также прольет свет на политику и на то, что мы думаем о правах человека в целом[83].
Тип справедливости Конкретный пример справедливости Равенство распределения Каждое лицо получает одну порцию пищи Равенство возможности Каждый имеет право на труд Процедурное распределение Выгоды установлены правилами игры Справедливость на основе прав Вы получаете то, на что имеете право (например, собственность) Справедливость на основе нужды Те, кто нуждается больше, получают больше Скалярное распределение Те, чья работа тяжелее, получают больше Договорное распределение Вы даете то, что обещали Равное распределение ответственности Усилие справедливо разделено Скалярное распределение обязанностей Те, кто может сделать больше, имеют большую ответственность Равное распределение власти Каждый имеет право голосаИгры для взрослых
«Остаться в живых» — родоначальник реалити-шоу на телевидении. Оно было создано и как развлекательная программа, и, возможно, чтобы попытаться узнать что-либо об образе жизни наших предков, которые жили в саванне как охотники и собиратели, каждый день участвуя «в играх сотрудничества и соперничества».
Шестнадцать «потерпевших крушение» спускались на великолепный полинезийский остров и делились на два племени. Они участвовали в дарвиновской игре на выживание, и наиболее успешный получал приз в миллион долларов. Как это происходит и в природе, соревновались и в пределах племени, и целыми племенами; часть соревнования в пределах племен была построена на кооперации, доверии и обязательствах, поскольку два или больше индивидуумов образовывали альянсы, чтобы «опрокинуть» третьего.
Казалось, будто эти люди, оторванные от своей повседневной работы водителей грузовика, тренеров, учителей и уволенных в запас офицеров флота, изучили страницу из дневников Джейн Гудол, посвященных шимпанзе, или из книги о племенах охотников/собирателей. После тридцати девяти изнурительных дней Ричард Хач был объявлен победителем. Говоря о своей победе, Хач подчеркнул: «Я действительно заработал свое первое место. Как только мы появились на острове, я стал определять стратегию: надо сосредоточиться на том, чтобы подружиться с четырьмя участниками. Я не хотел обидеть кого-то, оскорбить чьих-то чувств, хотел лишь все спланировать, чтобы выиграть игру. Я не чувствую, что играл дьявольскую роль. В этой игре была этика... Я не сожалею ни о чем, что я сделал или сказал, и я не изменил бы ничего».
Комментарии Хача охватывают несколько ключевых элементов шоу, а также помогают объяснить, почему «Остаться в живых» и последующие программы развлечений такого типа собирают в Соединенных Штатах более 50 миллионов телезрителей в неделю. Мы с удовольствием и азартом наблюдаем борьбу других людей (искушения и конфликты), судим о том, допустимы или нет те или иные действия. В основе комментариев Хача — проблемы личной ответственности, справедливости, лояльности, желания построить социальную стратегию. Хач говорит, что он зарабатывал свою награду и не чувствовал вины за свой «стратегический заговор». Для него это было игрой с правилами, и он играл справедливо и правильно. Он никому не намеревался нанести прямого вреда, даже если имел возможность сделать это; его цель состояла в том, чтобы победить, не создавая эмоционального хаоса для других. Когда возник более выгодный союз, он воспользовался этим. Когда представилась другая возможность — «переметнуться» в лагерь противника, он сделал это не сразу, а рассчитав, когда такой поступок принесет больше преимуществ. Победа Хача — очень точное балансирование между искушением и контролем, что является характерным для нашего биологического вида и для многих других, которые нам предшествовали. Она также поднимает вопрос о принципах, руководящих нашими суждениями о специфических действиях, особенно относительно того, что мы считаем справедливым и этичным. Только инструментарий науки может пролить свет на эту проблему.
Интуитивный мотив большинства экономических игр сотрудничества состоит в том, что человек всегда стремится получить максимальное вознаграждение: деньги, пищу, помощников, детей. Если вознаграждение за измену выше, чем вознаграждение за сотрудничество, индивидуум отступает. Это интуитивное представление было отражено в захватывающем фильме «Счет»[84] со звездами Эдом Нортоном и Робертом де Ниро. Персонажи фильма вовлечены в заговор: они планируют ограбление. Его цель — французский скипетр шестнадцатого столетия, находящийся под строгой охраной. Притворившись умственно отсталым уборщиком, Нортон вошел в доверие к охранникам, и теперь был хорошо знаком со всеми входами и выходами. Нортон, однако, нуждается в навыках де Ниро — вора и взломщика сейфов. Зная это, де Ниро требует разделения долей шестьдесят к сорока. Нортон первоначально отклоняет это предложение как несправедливое, мотивируя тем, что он один разработал план грабежа. Де Ниро отстаивает свою долю, утверждая: или шестьдесят к сорока, или никаких дел. Нортон соглашается. По мере разворачивания событий становится ясно, что Нортон передумал: он хочет убежать с добычей, оставив де Ниро ни с чем. Де Ниро, однако, предвосхищает хитрые планы Нортона, обманывает его и полностью изменяет ситуацию, оставляя Нортона без пенни. Этот заговор иллюстрирует простой трюизм о сотрудничестве: как только участники дела понимают, что есть возможность получить неравные вознаграждения, каждый игрок быстро оценивает различия, часто подсознательно и со скоростью молнии двигается к стратегии, которая обеспечит ему максимальный выигрыш. И во многих играх сотрудничества лучшая стратегия для игрока — изменить сотрудничеству, т. е. отступничество.
Чтобы исследовать, как люди распределяют ресурсы, экономисты создают простые игры, предназначенные для того, чтобы охарактеризовать некоторый аспект действительности. Традиционно экономисты начинают с предположения, что люди являются корыстными и делают все возможное, чтобы получить максимальный выигрыш[85].
Две из наиболее изученных игр — это «Диктатор» и «Ультиматум». В классическом варианте играют двое, причем противники не обладают какой-либо информацией друг о друге. Подобно воображаемому сценарию Ролза для конструирования принципов справедливости, эти игры проводятся под покровом неведения. Однако, в отличие от сценария Ролза, эти игры устраняют возможность для переговоров. Каждая игра построена таким образом, что один индивидуум играет роль проектировщика, в то время как другой играет роль получателя (реципиента). Оба игрока знают правила игры и стартовую сумму. В игре «Диктатор» проектировщик начинает с 10 $ и имеет выбор: предоставить реципиенту некоторую часть из 10 $ или не дать ничего. Как только проектировщик оповещает о своем предложении, игре конец: реципиент не имеет никакой возможности для переговоров. Игра «Ультиматум» начинается с того же самого момента: проектировщик предлагает или некоторую часть из 10 $, или вообще ничего не предлагает. Затем реципиент или принимает, или отклоняет предложение проектировщика. Если реципиент принимает предложение, он удерживает предлагаемую сумму, а проектировщик сохраняет то, что остается. Если реципиент отклоняет предложение, оба игрока уходят с пустыми руками.
Если, как обычно полагают экономисты, проектировщики — это те, кто стремится к увеличению денежных средств (Homo есоnomicus), тогда в обеих играх они должны делать наименьшее из возможных предложений. Эта логика должна быть прозрачна для любого обдумывающего ситуацию реципиента: реципиенты не имеют никакого выбора в игре «Диктатор», но в игре «Ультиматум» они могут принять или отклонить любое предлагаемое количество денег. Однако, когда с изменяющимися исходными суммами играют взрослые различного социально-экономического статуса в таких индустриальных обществах, как Соединенные Штаты, Великобритания и Япония, результаты обеих игр указывают на некоторые весьма существенные различия. В игре «Диктатор» предложение самой незначительной суммы не имеет никакой цены, потому что реципиент должен взять то, что предлагается. Многие проектировщики следуют за этой логикой и не предлагают ничего. Другие, поддаваясь, очевидно, иррациональному правилу, предлагают половину исходной суммы.
В игре «Ультиматум», напротив, реципиент может отклонить предложение — возможно, это способ отомстить или форма выражения злости — оставить обоих игроков без денег. Но почему реципиент так поступает? Рациональные «увеличители» денежных средств должны предложить маленькую сумму, назвав 1 $ из 10 $. Реципиенты должны принять предложение, так как кое-что лучше, чем ничего. Но здесь проектировщики предлагают до 5 $, и реципиенты отклоняют предложения менее 2 $. Поэтому кажется, что в обеих играх участники поступают нелогично. Никто не призывал их играть справедливо и делить пирог пополам в игре «Диктатор». Никто не учил их быть глупыми и отклонять 2 $ в игре «Ультиматум». Учитывая, что игроки не являются пациентами с поврежденным мозгом и дефицитом в принятии решения, почему они настолько иррациональны? Что произошло с нашим рациональным, корыстным, жадным до денег игроком? Что произошло с Homo economicus?
Стандартное объяснение этих результатов состоит в том, что, хотя мы, возможно, развивались как Homo economicus, мы также рождены с глубоким чувством справедливости, касающимся благосостояния других, даже когда наши действия лишают нас личной выгоды. Как выразились специалисты в области математической биологии Мартин Новак и Карл Зигмунд, «выдумка о рациональных Homo economicus, неуклонно оптимизирующих материальную полезность, уступает место представлению об «ограниченно рациональных» лицах, которые принимают решение движимые инстинктами и эмоциями. Это представление определяет особенности человека, склонного к взаимодействию, — Homo reciprocans»[86].
В игре «Ультиматум» проектировщикам свободно дают деньги без необходимости оплачивать какие-либо издержки. Реципиентов, которые отклоняют предложения, можно считать глупыми, поскольку они отказываются от некоторых наличных денег, но их отказы говорят о многом. В глазах получателя и в его «умственном аккумуляторе», который заряжает эмоции, некоторые предложения кажутся откровенно несправедливыми. В конце концов, экспериментатор просто вручил проектировщику некоторые наличные деньги. Справедливой считается сумма, приближающаяся к половине начального капитала. По крайней мере, об этом свидетельствуют результаты изучения одной игры, в которую играют молодые люди в индустриальных странах.
Совместные действия часто повторяются, иногда с тем же составом людей, иногда с новым составом в каждом раунде. Скажем, вы только что играли один раунд «Диктатора» с игроком А, который не предложил вам ничего, и один раунд с игроком В, который предложил вам 5 $ из 10 $ стартового капитала. Теперь ваша очередь играть один раунд «Диктатора» с А и один с В. Вы будете делать одинаковые предложения игрокам А и В или разные? Если вы похожи на большинство людей, которые играют повторно и знают, что соперники предлагали в предыдущих раундах, то вы ничего не дадите игроку А и выделите приблизительно 5 $ игроку В. Люди придерживаются таких стратегий в повторных играх потому, что, сотрудничая с кем-либо, они помнят о его репутации. Математические модели этой проблемы показывают, что справедливость развивается как устойчивое решение игры «Ультиматум», если проектировщики имеют доступ к информации о прошлом поведении получателя[87]. Когда эта информация учитывается в деятельности группы, репутация укрепляет сотрудничество и обеспечивает защиту от отступлений[88].
Многие игры, которые придумывают экономисты-экспериментаторы, вовлекают анонимных участников, следующих в игре тактике короткого однократного взаимодействия. В некотором смысле это можно было бы сравнить с нашей ранней эволюционной историей, когда кочевые охотники и собиратели случайно сталкивались с другой группой и, видимо, имели возможность обменяться товарами или информацией. Когда образ жизни охотника и собирателя изменился и они перешли к оседлости, изменились две характеристики нашей среды, которые навсегда преобразили сотрудничество: увеличился размер группы, и мы начали полагаться на разделенные ресурсы, доступные через развитие сельского хозяйства и фермерства. С увеличением числа людей увеличились возможности для взаимодействия и сотрудничества, особенно между лицами, генетически не связанными. Это привело к развитию нашей способности помнить, кто что сделал, кому и когда. Соедините увеличение размера группы с оседлостью, и вы имеете новую форму использования и разделения ресурса. Вместо того чтобы передвигаться с места на место при охоте и сборе растений, люди стали вести хозяйство на определенной территории, они стали зависимы от того, что они производят и используют поблизости. Хотя охотники и собиратели сотрудничают между собой и разделяют ресурсы, они, как правило, не сталкиваются с тем, что специалист в области социальных наук Гаррет Хардин назвала «трагедией общин»[89].
Основная идея здесь состоит в том, что существует некоторый общественный ресурс, который каждый может свободно использовать и потенциально злоупотреблять им. Учитывая проблему злоупотребления, как группа может предотвратить эгоистичное использование ресурса одним или более лицами? Если каждый будет использовать ресурс индивидуально, то нет никакого способа поймать мошенников. Отдельные лица впадают в искушение брать немного больше, чем установила группа при справедливом распределении.
В четырнадцатом столетии британские деревни неоднократно являлись жертвой политики, которую проводила палата общин. Каждая деревня была связана с общим пастбищем для рогатого скота и овец. Пастбище представляло разделенный ресурс. Но по мере того как в домашнем хозяйстве увеличивалось число животных, пасущихся на пастбище, появлялось искушение приобрести больше. Больше животных — больше использования пастбища. Больше использования пастбища — меньше свободного пастбища. Меньше возможностей — больше соревнования. Больше соревнования — больше борьбы. Больше борьбы — меньше деревенского единения. В конечном счете, деревня за деревней распадались. Появилась частная собственность как альтернатива,
контролирующая искушение обмануть. Каждое домашнее хозяйство имело и обслуживало свое собственное пастбище. Но скоро эта стратегия также потерпела неудачу, поскольку индивидуальная жадность вела к новым способам приобрести больше земли. Так возникли крупные и мелкие землевладельцы, а вскоре появились богатые поместья с большим количеством земли и бедные домашние хозяйства, не имеющие вообще ничего. Такое экономическое неравенство постоянно усиливалось и распространялось во всем мире, часто без беспокойства за судьбу следующих поколений. Писатель и путешественник Дейтон Дункан зафиксировал это стремление к бесконтрольному и свободному использованию земель у скотоводов штата Техас, которые после перегрузки пастбищ, возникшей в результате гражданской войны, говорили на городском собрании: «Решено, что отныне ни один из нас не знает или не хочет ничего знать о травах, аборигенах или о чем-то другом, кроме того, что в настоящее время они [пастбища] имеются в большом количестве, хорошем состоянии, согласно отчетам, и мы получаем большинство из них, пока они еще есть»[90].
Один из способов поддерживать совместное использование земли — поставить ресурс под контроль общественного мнения. При этом образ индивидуума или его репутация могут сыграть решающую роль в сотрудничестве[91].
Экономисты-исследователи провели несколько лабораторных экспериментов с участием студентов колледжа, показав, что и репутация, и наказание оказывают положительное влияние на сотрудничество[92]. Например, в экспериментах, проведенных экономистом Эрнстом Фером, испытуемые играли в игру, предусматривающую наличие общей корзины — денежной суммы. Кроме того, каждый игрок имел возможность оплатить наказание того участника, который уклонялся от сотрудничества. Сначала некоторые лица пытались извлечь из корзины доход в свою пользу, не внося соответствующего вклада. Но, как только игроки осознавали, что мошенников могут наказать, ситуация быстро менялась. В итоге поступление вкладов в общественную корзину налаживалось. Тот факт, что индивидуумы были готовы заплатить, чтобы наказать мошенников, показывает, что моральное негодование может вызвать действия, которые не принесут прямой личной выгоды, но принесут пользу в виде накопления общественного блага.
Наказание в этих играх может иметь и эгоистичную мотивацию: если я наказываю других, мой статус повышается относительно их статуса. Правильно ли это утверждение? Рассмотрим еще раз исходную игру «Ультиматум». Если бы реципиенты хотели понизить чей-либо статус, они должны отклонить предложение, предусматривающее деление меньше, чем поровну, 50 на 50 $. Они этого не делают. В игре «Ультиматум», где проектировщик имеет 10 $, но может предложить только 2 $ или 10 $, предложение в 2 $ должно быть отклонено. Оно, однако, не отклоняется. Наказание, конечно, понижает чей-то статус, но иногда люди используют наказание, чтобы ясно дать понять, кто находится в игре и кто из нее выходит, даже когда это требует их личных затрат.
Результаты этих игр свидетельствуют о таком глубинном качестве человеческой натуры: единственный способ гарантировать устойчивые, кооперативные сообщества — обеспечить открытую экспертизу репутации и предоставить возможности для того, чтобы наказывать мошенников. Всегда будут слабые личности, которые не способны контролировать искушение обмануть и взять больше, чем им положено. Выделяя таких индивидуумов и обеспечивая механизмы для того, чтобы наказывать их, мы можем сохранить общественные блага, на которые имеет право все человечество, — принцип справедливости как честности Ролза.
Все больше антропологов и экономистов обнаруживают данные, рассматриваемые в настоящее время как свидетельство в пользу уникальной человеческой познавательной адаптации. С одной стороны, в значительной степени мы унаследовали от наших предков эгоистичную природу, но с другой — мы развили уникальную, человеческую психологию, благодаря которой предрасположены к различным формам альтруистического поведения: прочной взаимности[93].
Взаимный альтруизм, первоначально постулированный биологом-эволюционистом Робертом Триверсом, базируется на эгоизме: я чешу твою спину, ожидая, что позднее ты почешешь мою. Я чешу твою спину только потому, что я знаю, что буду нуждаться в тебе, чтобы ты когда-нибудь почесал мою. Мое действие просто эгоистично. Сильной взаимности тут нет. Ведущими специалистами этого направления сильная взаимность определяется как «предрасположение сотрудничать с другими и наказывать за свой счет тех, кто нарушает нормы сотрудничества, даже когда нельзя ожидать, что эти затраты будут возмещены: или кем-то другим, или когда-нибудь позднее». Хотя сильная взаимность не эгоистична, она имеет стратегический характер: сотрудничайте только с теми, кому вы доверяете, и отстраните тех, кто не надежен, потому что они могут обмануть. Наказание, конечно, иногда оборачивается благом для тех, кого наказывают: мошенники могут возвратиться к нормальной жизни и быть хорошими гражданами. Но намерение наказываемого мошенника состоит не в том, чтобы преобразиться. Поэтому он должен платить отлучением от круга кооперирующихся участников. В результате должно стать явным различие между положением внутри группы и положением вне группы. Поведенческие эксперименты Фера поддерживают это объяснение, потому что участники готовы платить, чтобы наказать мошенников, даже если им никогда не придется с ними взаимодействовать. Поэтому наказание не может ставить целью вернуть их в группу, превратить из грешников в добродетельных сотрудников. Более того, те, кто наказывает больше других, — это также и те, кто вносит самую большую сумму в играх с общественным благом. Это дает основание предполагать, что именно они больше всех рискуют и больше всех заинтересованы в поддержании круга соучастников. Как и ожидается, мошенники и вносят меньше, и наказывают меньше.
Все исследования, обсуждаемые в этом разделе, подводят к следующему заключению: мы развили способность наказывать тех, кто обманывает, и сотрудничать с теми, кто заслуживает доверия. Но этот подход характерен для Запада, дающего объяснения исторических событий с позиций развитого индустриального мира. Что можно сказать о Востоке, о мелких сообществах охотников и собирателей в Африке, Австралии и Южной Америке?
Даже Бонго-Бонго[94]
Социальные антропологи любят указывать на исключения (характерные для разных культур) из всеобщих образцов человеческого поведения: но только не в случае Бонго-Бонго! Экономисты-экспериментаторы в значительной степени ограничили свои испытания единственной подчиненной им частью населения: студентами университетов. До какой степени изучение этих испытуемых — своеобразного эквивалента лабораторных мышей у психологов — дает результаты, которые можно распространить на других людей, позволяя сделать широкие обобщающие заключения о нашем биологическом виде?
Необыкновенный совместный проект антропологов, психологов и экономистов, посвященный изучению мелкомасштабных, неиндустриальных сообществ, начинается с обращения к вопросу о том, является ли справедливое распределение универсальным свойством нашей видоспецифической психики? Точно так же, как все люди имеют универсальную грамматику, но могут говорить на китайском, английском или французском языке, не может ли оказаться, что все люди обладают универсальным чувством справедливости распределения, — с межкультурными различиями, своеобразием форм обмена, законности, регулирования ресурса? Возвращаясь к нашей аналогии с языком, подчеркнем, что идея здесь состоит в том же: является ли справедливость всеобщим принципом, обладающим потенциалом для изменений параметров и ограничений? Культуры устанавливают параметры, основанные на специфических деталях их социальной организации и экологии, и эти установленные ограничения и есть дополнительные формы обмена и распределения.
Используя преимущество полевых исследований, проводимых на каждом из континентов земного шара, антрополог Джозеф Хенрих и его коллеги изучали разнообразные игры с торговыми сделками в пятнадцати небольших сообществах, включая собирателей диких растений и садоводов, пастухов-кочевников и оседлых мелких земледельцев[95].
Испытуемые в каждой игре действовали анонимно за потенциальное вознаграждение, равное одному или двум дням заработка. В отличие от результатов игры «Ультиматум», характерных для студентов колледжа в индустриальных обществах, самое обычное предложение в этом варианте располагалось в диапазоне от 15 до 50%. Игроки или никогда не отклоняли низкие предложения, или отклоняли их настолько часто, что это занимало 50—80% времени. Эти изменения предполагают, вопреки стандартным экономическим моделям, что у игроков нет никакого ясного представления о том, что означает справедливое предложение в этой игре. В то же время есть существенные межкультурные различия, которые позволяют составить своеобразную карту распределения социальных норм в пределах каждой культурной группы. Например, среди земледельцев Папуа — Новой Гвинеи отдельные лица предлагают в диапазоне, типичном для индустриального общества (40%), но отклоняют по намного более высоким нормам (50—100%). Объяснение этой высокой нормы отклонения состоит, по-видимому, в том, что среди этих земледельцев предоставление дара играет центральную роль. Принятие даров, даже если они не запрашиваются, устанавливает обязательства для будущего взаимного обмена. Если дар является большим, то реципиент находится в зависимом положении и, как ожидается, возвратит такой же большой дар. Таким образом, получение незапрашиваемых даров может вызвать у этих людей беспокойство. Это беспокойство может заставить их отклонять даже весьма справедливые предложения. Такая игра — кошмар для них.
Напротив, занимающиеся собиранием растений туземцы из Парагвая принимают низкие предложения и, как правило, предлагают больше 40%. Этот образец великодушия приятно совпадает с их кооперативными отношениями в жизни: туземцы неизменно делят свою «добычу» с остальной частью племени. Занимающиеся подсечно-огневым земледелием туземцы Перу делали самые низкие предложения (15%) из всех выбранных народностей и редко отклоняли эти низкие предложения (10%). Этот образец также хорошо соответствует их культурным традициям, включающим немного сотрудничества, обмена и общности вне семейной ячейки. В целом каждое сообщество обнаруживает определенное чувство справедливости, но они различаются своим восприятием несправедливости и готовностью наказать посредством отклонения предложений. Некоторые сообщества отклоняют предложения, когда считают их несправедливыми, в то время как другие никогда не отказываются, независимо от предлагаемого количества.
Эти простые экономические игры показывают, что справедливость — всеобщий принцип с набором параметров, устанавливаемых, по-видимому, местной культурой преимущественно на ранних этапах развития. Например, в игре «Ультиматум» есть параметры отвечающего игрока, которые касаются источника ресурсов, зависимости от других для приобретения ресурсов и выбора в отклонении предложения. Будучи единожды установлены, психологические особенности культуры определяют, что считать справедливой и допустимой сделкой и что рассматривать как несправедливость при распределении ресурса. Если культура устанавливает параметр проектировщика в категории «ответственность» (в противоположность установке на полное отсутствие ответственности) и параметр отклонения как «обязательный» (в противоположность дополнительному), то игроки могут воспринимать игру «Ультиматум» как родственную игре «Диктатор», где нет никакой возможности отклонить предложение. Этот вариант напоминает тактику туземцев из Перу в такой же степени, как и собирателей и охотников из Танзании.
Интересно отметить, что ни одна из культур в выборке, представленной Хенрихом и его коллегами, в игре «Ультиматум» не делала предложений меньше чем 15% или больше чем 50%. Если представление об этом параметре правильно и аналогия с языком сохраняется, то никакая культура не будет когда-либо отклонять предложения менее чем 15% и никакая культура не будет когда-либо предлагать больше чем 50%. Если в какой-либо культуре такие (исключительные!) образцы поведения все-таки возникнут, то они очень быстро исчезнут. По крайней мере, это одно из предсказаний, сформулированных на основе описанных исследований, которое полевые антропологи могут проверить.
Как население индустриальных обществ не может дать полной картины психологических особенностей нашего биологического вида, так и лабораторные мыши не охватывают богатств мировой фауны, и студенты университетов не отражают разнообразия человеческой природы. Экономическая теория, которая рассматривает Homo economicus как свой целевой предмет, обречена на неудачу. Экономическая теория, которая придерживается противоположных взглядов, предполагая, что мы являемся простыми устройствами, действующими по принципу «ты почешешь мою спину, а я твою», — Homo reciprocans — также не работает. Индивидуумы не действуют на основе только личного интереса. Они не действуют и на основе некоторого согласованного набора представлений о справедливости. В большой степени на варианты обмена влияют местные культурные традиции.
Экономическая теория может быть эффективной, если признает всеобщий принцип справедливости, наряду с признанием того, что культуры влияют на изменения параметров с целью ограничить понятие допустимого обмена. Наши моральные способности порождают принципиальные интуитивные представления о дистрибутивной справедливости. Несомненно, однако, что будут существовать различия между нашими интуитивными суждениями о праведной сделке и нашим поведением в той же самой ситуации. Многие могут иметь интуитивное чувство, что какое-то действие несправедливо, но, когда дело доходит до принятия решения, игнорируют интуицию и удовлетворяют личный интерес. Мы не должны, однако, предполагать, что, поскольку люди действуют незаконно или дают несвязные оправдания своим действиям, сама идея моральной способности является фикцией. Наши знания, с одной стороны, и выбор способов действия — с другой, часто оказываются не связаны между собой.
Неандертальское благосостояние
В 1993 году рок-группа Crash Test Dummies написала песню о наших эволюционных предшественниках, о пещерных людях, с припевом: «Посмотри, в моем теле части тела обезьян». Но они могли бы попутешествовать во времени несколько дольше, как это сделал экономист Кен Бинмор, когда предположил, что интуитивные представления, лежащие в основе модели социального договора Ролза, могут быть обнаружены в архитектуре нашего мышления, в схеме, оставшейся от пещерных людей[96].
Изучение образа жизни собирателей и охотников помогает проникнуть в исходный социальный договор, потому что у них нет философа, облеченного властью, который тщательно разрабатывает и затем навязывает всем правила. Собиратели и охотники образуют в значительной степени эгалитарную группу. Когда они объявляют решение, то это решение принято совместно. Фактически, как указал антрополог Кристофер Боем, когда люди достигли современной ступени развития, они полностью изменили иерархию подчинения своих родственников-приматов и лишили индивидуумов возможности повышаться в статусе. Однако, как отмечает Бинмор, эта эгалитарная система требует осторожного согласования всех факторов: «Охота и сбор как образ жизни сами по себе не гарантируют эгалитарной политической ориентации. Казалось бы, кочевой образ жизни и отсутствие хранения продовольствия служат необходимым условием и гарантом эгалитаризма. Однако это не так, поскольку после одомашнивания животных некоторые пастухи-кочевники были равноправными, а другие образовывали иерархические группы. Переход к оседлости и хранению продовольствия не приводит к исчезновению эгалитарного идеала и равноправия как принципов жизни общества. Например, соседи племени Куакиутл, такие как Толоуа и Прибрежный Юрок, также круглый год жили в деревнях и хранили продовольствие, но они не предоставляли своим вождям особых властных полномочий и были политически эгалитарными».
В жизни охотников/собирателей самое большое проявление моральных принципов было связано с разделением продовольствия. Из-за непредсказуемости результатов опасной охоты — в противоположность относительной предсказуемости труда собирателей — нормы справедливости развивались стихийно, главным образом, в зависимости от удачной или неудачной охоты и от разделения функций между членами группы. Их формирование происходило при социальном принуждении, необходимом для поддержания статус-кво каждого члена группы. Опираясь на эти представления, Бинмор выдвигает предположение, что человек с самого раннего детства (практически с рождения) руководствуется принципом справедливости. Цель этого принципа — равное распределение активов, но его реализация зависит от экологических условий и особенностей каждой культуры.
В пользу предположения Бинмора свидетельствуют результаты исследований в области экспериментальной экономики: игры с заключением сделок построены так, чтобы воспроизвести некоторые аспекты жизни собирателя/охотника, включая маленькие группы знакомых индивидуумов, где репутация и наказание могут управлять поведением. Таким образом, в играх, где участники знают друг друга, могут побеседовать до выдвижения предложения, имеют информацию о репутации других игроков, знают их как щедрых или скупых и могут наказать тех, кто обманывает, кооперация приводит к победе над нахлебниками и мошенниками. Более определенное свидетельство того, что эти лабораторные игры действительно моделируют реальную жизнь собирателя/охотника, приходит от антрополога Кима Хилла и его длительного изучения индейцев Ачи из Парагвая[97].
Как я уже упоминал, индейцы из Парагвая очень склонны к кооперации. Когда они играют в «Ультиматум», предложение проектировщиков близко к 50% начального капитала и реципиенты его редко отклоняют. До какой степени эта искусственно созданная игра соответствует их естественным образцам поведения, особенно в контексте, который имеет для них наибольшее значение — охоте за непредсказуемой и очень ценной дичью? Хотя индивидуумы охотятся поодиночке, и мужчины, и женщины жертвуют около 10% своего драгоценного времени, отведенного на охоту, на совместный поиск пищи. В течение нескольких дней индивидуумы могут посвятить более чем 50% своего времени на кооперативный поиск. О чем свидетельствует этот факт, если рассматривать его с позиции справедливости как честности? Сохраняем ли мы в себе какие-либо признаки нашего пещерного прошлого? Осознаем ли мы эти принципы? Поддержали бы мы принцип дифференциации Ролза, фиксируя внимание на худшем и используя его в качестве стандарта для распределения ресурса? Большинство экспериментаторов не просят игроков обосновывать свои предложения или ответы. Они думают, что любые их оправдания не имеют достаточных оснований и зависят от ситуации, включая условия тестирования, разнообразные эмоции и др. Однако некоторые экономисты и психологи, проявляющие интерес к экономическим принципам, не только исследовали обоснования в традиционных играх с заключением сделок, но и манипулировали экспериментами, чтобы определить, применимы ли абстрактные идеи Ролза в реальном мире[98].
Вспомните, что использованный Ролзом метод исследования предполагает извлечение принципов справедливости, допуская широкий личный интерес участников, равные способности и потребности сотрудничать для достижения конкретных целей. На этой основе мы достигаем беспристрастности, требуя от индивидуумов формулировать принципы под завесой неведения и без участия эмоций. Ролз полагал, что этот двухаспектный подход будет гарантировать моральную победу, справедливое общество. Он суммировал свои убеждения в последнем предложении «Теории справедливости»: «Чистосердечие, если бы его можно было достичь, заключается в том, чтобы видеть ясно и действовать с этой точки зрения — благородно и сдержанно».
Политические психологи Норман Фролич и Джо Оппенгеймер пригласили американских студентов колледжа в лабораторию, предложив им правила, сформулированные на основе контрактарианского подхода Ролза. Студентам также было предложено обсудить и установить принципы справедливого распределения благ. Как и предсказал Ролз, испытуемые с готовностью установили принципы справедливости. Но принцип, регулирующий выигрыш, не был сформулирован, что тоже предсказал Ролз. Ни одна из групп не выбрала принцип дифференциации, согласно которому распределение осуществляется с учетом блага худшего. Вместо этого группы установили принцип, который максимально увеличивал общие ресурсы группы и в то же время препятствовал снижению блага худшего ниже некоторого установленного минимального уровня дохода. Этот принцип обеспечивал безопасную систему для тех, кто по любой причине оказывался в проигрышной ситуации, в то же время предоставлял дополнительные выгоды тем, кто внес наибольший вклад в общественное дело. Возвращаясь к таксономии, описанной Лакоффом, подведем итог: принцип выигрыша объединяет параметры равного и скалярного распределения.
Одна из проблем этих экспериментов состоит в том, что они не учитывают долгосрочного рефлексивного результата, или размышления, что предвидел Ролз. Что бы случилось, если бы те испытуемые, которые были вовлечены в исходные скрытые переговоры, вернулись в повседневную жизнь, на свои рабочие места и затем спустя месяцы сообщили бы, как были установлены параметры и принципы? Стали бы испытуемые придерживаться принципа, который, как они могли видеть, обеспечивал справедливость как честность? Возвращаясь к лингвистической аналогии, зададимся вопросом, до какой степени наша компетентность судить о том, что было бы справедливым для общества, выстраивается в одну линию с нашим поведением, приводящим в действие принципы, которые мы считаем справедливыми? Даже при том, что наши эмоции могут и не играть никакой роли в оценке релевантных принципов, включаются ли они, когда мы работаем, собирая и распределяя недостаточные ресурсы?
Фролич и Оппенгеймер разработали эксперимент, чтобы привести наши суждения о справедливости в ситуацию выполнения. Было создано три группы. Две группы прочитывали набор потенциальных принципов для перераспределения дохода, и затем все вместе выбирали один принцип распределения, чтобы управлять схемой налогообложения; одна группа требовала единодушного голосования, другая — большинства голосов. Поскольку испытуемые выбрали принцип, не зная о задаче, они фактически работали под завесой неведения, не будучи способны предсказать как собственную производительность, так и статус в местной экономике. В третьей группе экспериментатор установил принцип распределения, который максимизировал средний доход всех членов группы, не позволяя кому-либо опуститься ниже некоторого минимума. Затем каждый индивидуум в каждой группе должен был «работать», исправляя орфографические ошибки, которые были «сфабрикованы» на материале замысловатых трудов американского социолога Талкотта Парсонса.
Размер оплаты был одинаковым для каждой группы и базировался на ее продуктивности. После раунда работы экспериментатор подсчитывал доход каждого индивидуума и за вычетом налога указывал его ежегодный заработок. Затем он перераспределял доход, основанный на принципе, принятом в игре. Каждая группа играла три раунда этого процесса перераспределения «оплата — работа», и после каждого раунда оценивалось отношение игроков к этому принципу и к их производительности.
Индивидуумы, игравшие в группах открытого выбора, установили принцип, который максимально увеличивал средний доход и в то же время позволял поддерживать контроль над минимальным уровнем дохода. Таким образом, все три группы начали работу, применяя один и тот же принцип, несмотря на то, что только две группы выбрали этот принцип самостоятельно. В обсуждении большинство групп указывало на свою неполную осведомленность как на ограничение, выдвигая своей целью достижение максимального личного дохода (эгоизм). Этический аспект работы воспринимали как важный компонент, нечто достойное дополнительной компенсации. Оценка этих принципов была высокой и, как оказалось, почти не изменялась в ходе эксперимента. Однако в тех группах, где испытуемые имели свободу выбирать, их удовлетворенность принципом и вера в него были значительно выше, чем в том случае, когда тот же самый принцип был установлен извне.
Принцип, ставивший во главу угла «средний доход и минимальный уровень», оказался очевидным победителем. После многократных повторений цикла перераспределения «оплата — работа» он устойчиво доминировал, при этом позволял привить доверие к участникам — и к тем, кто оказался наверху, и к тем, кто оказался внизу. Вопреки многим текущим политическим исследованиям, принцип распределения дохода, который учитывает неравенство при заботе о тех, кто больше всего нуждается, не уменьшает стимулов упорно трудиться, он также не создает лазеек для мошенников, тех, кто использует общее благо, не внося собственного вклада. Те, кто принимал других игроков и активно участвовал в выработке лучшего принципа, почти удвоили свои усилия, чтобы внести вклад в общий доход. Напротив, те, кто работал в том же самом режиме, но с принципом, навязанным извне, обманывали и преуменьшали свои усилия, потому что воспринимали перераспределение через налоги как свое право.
Мы можем получить простое уравнение из этих экспериментов, эмпирическое определение, которое добавляет немного «цемента» к фундаменту кооперативного общества:
Свобода выбора + обсуждение принципов = = справедливость как честность.В формулировке Ролза свобода, обоснованные, независимые суждения и размышления, направленные на достижение рефлексивного равновесия, — существенные компоненты для того, чтобы не только обнаружить, но и осуществлять принципы справедливого общества. Так, многие современные крупные фирмы установили, что формирование у каждого сотрудника, независимо от его вклада в производство, чувства, что он является ценным работником и имеет голос, увеличивает производительность, удовлетворенность и сотрудничество. Поклонники сериала «Я люблю Люси» помнят замечательный эпизод, где Этель и Люси работают на кондитерской фабрике. Они не успевают за процессом и не имеют возможности остановить конвейер. Ничего другого им не остается, кроме как есть конфеты, по мере того как те проносятся по сборочной линии. Неудовлетворенность и расстроенность работающего человека в их наиболее приятной форме.
Фролич и Оппенгеймер завершили свое исследование выводом: «Беспокойство о бедных и слабых, готовность признавать их права на материальную поддержку, необходимость учитывать мотивы, стимулирующие производительность, — все эти факторы фигурируют в обсуждении испытуемыми справедливых правил». Испытуемые в этом случае были студентами колледжа. Последующие исследования в Польше, Японии, Австралии и на Филиппинах привели почти к идентичным результатам, заставляя Ролза отметить: «Если результаты содержат этот вывод, может оказаться, что принцип дифференциации противоречит сущности человеческой натуры»[99].
Конечно, это не совсем принцип дифференциации Ролза, и он не может противоречить натуре человека. Как мы узнали из исследований с заключением сделок, проведенных в небольших сообществах, результаты, полученные в индустриально развитых странах, представляют небольшую часть вариативности суждений о справедливости. Фролич и Оппенгеймер не учитывают еще одного аспекта интуитивных представлений Ролза. Принципы, лежащие в основе справедливости как честности, могут походить на принципы грамматики, являясь сценарием, встроенным в нашу психику и действующим без участия сознания. Во всех исследованиях, проведенных к настоящему времени, экспериментатор предлагает испытуемым список потенциальных принципов или навязывает один из них. Модель социального договора Ролза представляет индивидуумов, работающих в обстановке неведения, обсуждая потенциальные способы создания справедливого общества. В итоге спонтанно объединяются два принципа: один, обеспечивающий основные свободы, и другой, допускающий неравенство при условии, что оно позволяет тому, кто занимает в обществе нижние ступеньки, подняться по социальной лестнице. Немногие спорили с первым принципом. Политики правого крыла, однако, критиковали принцип дифференциации на том основании, что он предполагает право отбирать и перераспределять то, что кто-то справедливо заработал. Политики левого крыла нападали на тот же самый принцип по причине его терпимости к несправедливости. Основным же результатом работы Фролича и Оппенгеймера является вывод о том, что людей не беспокоит несправедливость до тех пор, пока наименее богатый может жить удовлетворительной жизнью. И никто не считает наступлением на свои права, если его доход перераспределяется до тех пор, пока средний доход в его группе держится на высоком уровне. Эти результаты оставляют открытым вопрос о роли интуитивных процессов, включая неосознаваемые принципы и эмоции, в руководстве как суждениями, так и поведением людей в контексте распределения или оценки ресурсов.
Одно из самых глубоких истолкований нашего интуитивного чувства справедливости было дано в работе психолога и нобелевского лауреата по экономике Дэниела Канемана и его постоянного сотрудника психолога Амоса Тверски[100]. Основываясь на схеме, названной «теория перспективы», они утверждают, что люди подходят к решению проблем, создающих моральный конфликт, с эмпирическими правилами, или эвристиками, которые ориентированы на оценку потерь и прибылей. Нашу восприимчивость по отношенйю к удовольствию или страданию можно рассматривать как свидетельство тесных взаимосвязей между психикой, мозгом и поведением. Определяя ценность или полезность ресурса, мы исходим из особенностей своего текущего состояния и прогнозируем изменение этого состояния в результате получения ресурса. Подобно большинству других организмов, люди не склонны к потерям, включая утраченные возможности и уменьшение имеющихся ресурсов. Проблемы, включающие отсроченное вознаграждение, решаются тяжело, из-за конфликта между ожиданием большой выгоды и упущенной возможностью получить немедленную, но меньшую выгоду. Обретение небольшой выгоды, но сразу — это потеря возможностей увеличить прибыль. Однако ожидание зависит от текущих потребностей каждого индивидуума. Если вы голодаете, ожидание не адекватный выбор. Поэтому еще один аспект оценки справедливости может быть связан с особенностями текущего момента, субъективными ощущениями индивидуума, наличием или отсутствием значимых для него в данное время факторов. В связи с этим возникает важная проблема, которая вступает в противоречие со многими работами по экономике и политическим наукам. Суть ее в том, что понимание текущего субъективного состояния приобретает решающее значение, когда нужно предсказать последствия изменения этого состояния.
Чтобы проиллюстрировать этот подход и вернуть разговор к теме справедливости, рассмотрим пример другого недавнего нобелевского лауреата по экономике, политолога Томаса Шеллинга. Стали бы вы голосовать за такую налоговую политику, которая предоставляет больше льгот многодетным семьям с высоким доходом по сравнению с многодетными семьями с низким доходом? Большинство людей отклоняет эту политику из-за простого эвристического правила: определение прибылей и потерь не должно зависеть от имеющегося благосостояния.
Хотя эти интуитивные представления работают в некоторых конкретных случаях, но терпят неудачу, когда дело касается более общих вопросов. Эти представления также иллюстрируют наше восприятие тонкостей словесных формулировок. Стандартная налоговая таблица адресована бездетным семьям. В теории она могла быть адресована семье с двумя детьми. При этой системе семьи без детей заплатили бы дополнительные средства. Вы высказались бы в пользу налоговой политики, которая налагает равные дополнительные налоги на бедные и богатые семейства без детей? Большинство людей воспримет такую политику как несправедливую. Постановка этих вопросов высвечивает наши интуитивные представления относительно этой проблемы. Они вызывают у нас ощущение, что налогообложение произвольно и не имеет смысла. Решение проблемы состоит в том, чтобы установить доход, остающийся после уплаты налога, для каждого уровня исходного дохода (т. е. до уплаты налога) для семейств, имеющих детей и без детей. Обращение к конечному доходу не дает возможности оценивать прибыли и потери относительно точки отсчета.
Простой способ проиллюстрировать эффект точки отсчета в нашем восприятии справедливости основан на анализе случаев, где учреждение или компания изменяет отпускную цену конкретного товара в зависимости от некоторого изменения условий. Для каждого случая, приведенного ниже, укажите, считаете ли вы, как потребитель, это справедливым или несправедливым:
Магазин скобяных изделий поднимает цену лопаток для уборки снега во время весенней метели. СПРАВЕДЛИВО □ НЕСПРАВЕДЛИВО □ Владелец поднимает арендную плату за жилье, узнав, что съемщик нашел поблизости хорошую работу и не захочет переезжать. СПРАВЕДЛИВО □ НЕСПРАВЕДЛИВО □ Торговец легковыми автомобилями устанавливает цену популярной модели выше цены по прейскуранту, когда возникает дефицит. СПРАВЕДЛИВО □ НЕСПРАВЕДЛИВО □ Предприниматель, у которого дела идут плохо, снижает заработную плату рабочих на 5%, чтобы избежать или уменьшить потери. СПРАВЕДЛИВО □ НЕСПРАВЕДЛИВО □ Владелец, который сдает квартиры в двух идентичных зданиях, устанавливает арендную плату за одну из них выше, потому что для этого здания требовался более дорогостоящий фундамент. СПРАВЕДЛИВО □ НЕСПРАВЕДЛИВО □Большинство людей — без особых рассуждений — считают первые три случая столь же НЕСПРАВЕДЛИВЫМИ, как последние два СПРАВЕДЛИВЫМИ. Как показывают работы Канемана, ключевая идея, которая объясняет все эти случаи, — это референтная сделка, что я охарактеризовал бы как другой параметр принципа справедливости. Этот параметр, редко выражаемый в обоснованиях людей, определяет прибыль и набор установленных условий для индивидуума или группы, наделенных властью, относительно того, что предлагается. Индивидуум(ы) во власти может изменить условия, но действия этой власти, которые нарушают режим эксплуатации, оцениваются как несправедливые. То, что определяет содержание правила, зависит от особенностей культуры и специфики товара, но принцип является общим, абстрактным и, очевидно, применяется с минимальным сознательным отражением или без него. Как и в ситуации с неосознаваемой природой лингвистических суждений, кажется, что вычисления потерь, прибылей и суждений о справедливости появляются на основе нашей неосознаваемой установки параметра референтной сделки.
Референтная сделка — только один путь, на котором наши суждения о прибылях и потерях или удовольствии и неудовольствии руководствуются неосознаваемыми принципами и параметрами, являющимися частью дизайна созданий Ролза. В прекрасных экспериментах Канеман продемонстрировал, что суждения испытуемых в ходе решения задачи не соответствуют их ретроспективной оценке переживаний в то время. В этих исследованиях мы являемся свидетелем того, как наши субъективные переживания удовольствия и неудовольствия связываются с нашими суждениями о специфических действиях.
В одном эксперименте люди держали руку в болезненно холодной воде (14 °С) в течение шестидесяти секунд. После этого они держали другую руку в той же самой емкости с водой 14 °С в течение шестидесяти секунд, а затем воду слегка нагревали — до 15 °С; вода такой температуры все еще крайне холодна. Когда впоследствии их спрашивали, которое из испытаний они повторили бы, большинство выбирали второе. Это удивительно, если рассматривать данное переживание с гедонистических позиций: больше боли хуже, чем меньше боли. Следуя точке зрения Канемана, можно ожидать, что вы рассматриваете переживания, связанные с двумя моментами опыта: его окончанием и пиком. Потепление воды ощущается как относительно приятное и составляет заключительное переживание. Ощущения в момент кульминации опыта — одни и те же в обоих условиях. Таким образом, мы формулируем наши суждения, основываясь на ощущениях в момент кульминации и окончания, не замечая всей его продолжительности.
Наше неосознаваемое вычисление, основанное на оценке «пик — завершение», должно привести к другим суждениям, включая нашу оценку распределения ресурса. Например, если полное распределение дохода в случае А достигает пикового значения в 100 $ и заканчивается суммой в 80 $, в то время как в случае В имеет место устойчивое состояние в 50 $, случай А будет восприниматься как предпочтительный, даже если общая сумма полученных денег та же самая в обоих случаях. Этот эксперимент имел предварительный характер, но есть свидетельство, что люди воспринимают постепенно увеличивающийся доход как лучший по сравнению с устойчивым или уменьшающимся доходом, даже если при этом доход в обоих случаях одинаков. Если предсказанный паттерн ощущений подтвердится, это могло бы привести к некоторой необычной динамике с точки зрения оценки справедливости. Кое-кто при условии распределения годового дохода по типу В после двух лет работы мог бы воспринять это распределение как несправедливое, если в предыдущем году он получил распределение дохода по типу А. Это причудливое суждение возможно, если справедливость оценивается по полному доходу в противоположность оценки распределения дохода во времени.
Как объясняет Канеман, «пренебрежение продолжительностью составляет ошибку познания... глубоко встроенную в структуру наших представлений, которую, вероятно, невозможно предотвратить». Хотя мы можем сознательно желать увеличения продолжительности удовольствия и уменьшения продолжительности неудовольствия, глубоко в нашей психике есть система, которая работает на автопилоте, вне досягаемости для наших наиболее настоятельно охраняемых убеждений, что все должно быть иначе.
Канеман прекрасно суммирует эту позицию: «...даже в ненадежной области субъективного переживания и суждения нередко возникает истина, которая не всегда доступна искушенной интуиции. Одна интуиция не смогла бы привести нас к тому, чтобы отбросить изящное представление последствий как заключительных состояний и предпочесть более громоздкое и достаточно произвольное их описание с точки зрения прибылей и потерь. Одна интуиция не убедила бы нас в существовании ловушек оценочной памяти, которой каждый из нас доверял всю жизнь. И интуитивные представления, сложившиеся на основе хитроумных мысленных экспериментов, не будут надежно приводить к правильным предсказаниям ответов на ситуации, наблюдаемые при межличностных взаимодействиях. Короче говоря, я пробовал убедить вас, что иногда бывает полезно добавить к философской интуиции неинтуитивные результаты эмпирического психологического исследования». Когда дело касается создания суждений, будь это суждения о температуре, справедливом обмене или конфликте между нанесением вреда и предоставлением возможности другому человеку уйти из жизни, мы можем не иметь доступа к основополагающим принципам. Ролз был, по крайней мере, частично прав. А более общие представления Хомского о неосознаваемых, недоступных для интроспекции принципах оказываются попавшими в точку! Взгляды Канемана и его работы хорошо согласуются с этими идеями.
Всегда ли справедливость должна быть руководящим принципом, когда происходит обмен и распределение? Всегда ли справедливость — лучший или самый подходящий принцип в решении вопросов индивидуального благосостояния? Является ли стремление получить максимальный средний доход с ограничением нижнего уровня тем, что выбрали бы наши предки или сегодня выберут охотники и собиратели, если бы им пришлось играть в любую из игр Оппенгеймера и Фролича? Может ли благосостояние индивидуума когда-либо опускаться ниже нормы справедливости? В настоящее время нет никаких ответов относительно универсальности предложенных Ролзом принципов справедливости[101]. И никто так и не привлек собирателя/охотника Африки, Южной Америки и штата Аляска к игре с социальным договором. Однако частично ответы все-таки дала область, связанная с пониманием значения принципов справедливости для индивидуального благосостояния или, более широко, для экономики благосостояния. И это именно та область, в которой наши социальные нормы и чувство справедливости часто входят в противоречие с индивидуальным благосостоянием и особенно с юридической практикой, которая была развита нашими институтами власти.
В мастерском изложении политики велфаризма[102], данном экономистами и юристами Луисом Кэплоу и Стивеном Шейвеллом, предлагается считать, что приверженность справедливости часто ведет к несправедливости относительно распределения и, следовательно, может увеличить, а не уменьшить число случаев ее нарушения под влиянием соблазна[103]. Основная проблема состоит в том, что большинство понятий справедливости сосредоточивается на нормативных принципах — неточных правилах, которые диктуют то, что нужно сделать, независимо от их последствий для благосостояния индивидуума. Принципы, основанные на справедливости, по определению несправедливы, поскольку они принимают во внимание иные факторы, нежели индивидуальное благосостояние. Так, например, Ролз концентрировался на статусе худшего. Как указывали Кэплоу и Шейвелл, «принцип справедливости может одобрить юридическое правило, которое некоторым способом создает препятствие для продавцов наносить вред покупателям. При этом правило приведет к тому, что покупатели будут ущемлены в своих интересах даже больше, потому что больше заплатят за защиту. Можно было бы тогда спросить, действительно ли такой результат справедлив по отношению к покупателям?» Эта перспектива ведет к неожиданному заявлению: все законы должны игнорировать проблемы справедливости и вместо этого фокусироваться на экономике благосостояния. Чтобы не быть неправильно истолкованными, Кэплоу и Шейвелл не отрицают, что наш разум порождает сильные интуитивные представления о равноправном распределении ресурсов и возможностей. Что они действительно отрицают, так это то, что наши учреждения должны быть рабами этих интуитивных представлений. Поэтому мы должны исследовать, когда наши интуитивные ощущения вводят нас в заблуждение относительно индивидуального благосостояния. И здесь возникает классическая напряженность между описательными и нормативными принципами: между тем, что имеется и что должно быть. Хотя мы должны быть осторожны, чтобы не уравнять эти различные уровни анализа, ошибкой также будет прямо отклонить то, что наша интуитивная моральная психология дает для понимания проблем справедливости.
Накажи или погибни
В компьютерном анимационном фильме «Муравей Зет» герой, рабочий муравей Зет, обеспокоен тем, как складывается его жизнь, задумывается над предназначенной ему ролью, недостатком возможностей выбора, он травмирован своим положением среднего ребенка в семействе из пяти миллионов: «Должно же быть кое-что лучше там, за пределами... Я не должен был стать рабочим... Предполагается, что я все делаю для колонии. А как быть с моими потребностями? Как быть со мной?» Зет решает порвать с такой жизнью, оставляет свою колонию ради зеленых пастбищ Насекомии. Это — мощное выражение свободной воли и явное нарушение социальных норм, за что муравей подвергнут остракизму. Зет, в конечном счете, возвращается в колонию, спасает ее от разрушительных намерений новой Нижней челюсти (Мандибулы) — генерала-военачальника. Кроме того, его охватывает страсть, истинная любовь к принцессе Бале, что еще раз нарушает кастовые законы муравьиной системы. Когда камера откатывается назад, показывая вход в муравейник, Зет говорит последнее слово: «Итак, что вы имеете: ваш главный герой — мальчик встречает девочку, мальчик любит девочку, мальчик изменяет лежащий в основе общества социальный порядок».
Социальные нормы — это правила и стандарты, которые ограничивают поведение в отсутствие официально действующих законов[104].
Многие наши нормы произошли от более простых систем, которые существуют в мире животных для регулирования территориального поведения и внутригрупповых отношений, включая доминирование, и которые впоследствии распространились на другие области, особенно на процедуру распределения пищи. Происхождение некоторых норм обусловлено проблемами здоровья, другие выступают как сигналы преданности группе. Нормы, особенно механизмы, которые поддерживают их, представляют стартовую позицию для того, чтобы исследовать, как наш биологический вид развивал новые системы с целью поддержать справедливость как честность.
Одно из следствий социальной нормы состоит в том, что она функционирует как групповой маркер, признак общих верований относительно таких проблем, как родительская забота (действительно ли связанное с полом детоубийство допустимо?), потребление продовольствия (что является запретным?), сексуальное поведение (множественность партнеров допускается или отвергается?) и взаимное участие (обмен подарками обязателен или нет?). Когда мы нарушаем норму, мы чувствуем себя виновными. Когда мы видим кого-то, нарушающего нормы, мы можем сердиться, завидовать или чувствовать себя оскорбленными. Эти эмоциональные ответы могут вести к изменениям, поскольку индивидуумы признают свои собственные грехи («моя вина» — mea culpa) и выступают против других виновных, пуская в ход сплетни, остракизм и агрессивные выпады.
Социальные нормы имеют два интересных психологических свойства. С одной стороны, они представляют собой сложные правила, которые диктуют, какие действия являются допустимыми. Хотя мы можем ясно сформулировать основные правила, они работают автоматически и часто подсознательно. Когда мы следуем за нормой, мы похожи на людей, испытывающих зрительную иллюзию, мы похожи на муравьев, придерживающихся правил жизни в колонии с ее кастовой организацией. Хотя мы можем вообразить причины, почему не обязательно следовать нормам, и более определенно, почему мы, как индивидуумы, не должны следовать им в каждом случае, мы гораздо чаще не обнаруживаем готовности к этому противопоставлению. Нормы не были бы нормами, если мы могли вмешиваться в них, постоянно подвергая сомнению, почему они существуют и почему мы должны следовать им. Их эффективность заключается в неосознаваемом действии и могучей способности сформировать подчинение.
С другой стороны, хотя социальные нормы часто оказывают неосознаваемое давление на поведение человека, «контролируя» его, мы действительно иногда нарушаем их. Когда мы это делаем или замечаем, что кто-то другой совершает насилие, наш мозг отвечает каскадом эмоций, предназначенных и для того, чтобы зафиксировать нарушение, и для того, чтобы восстановить нарушенное равновесие. Когда мы не выполняем обещания, мы чувствуем себя виновными. Вина может заставить нас восстановить отношения, компенсируя нанесенный ущерб. Когда мы видим, что кто-то другой нарушает обещание, мы сердимся, возможно, испытываем зависть, если он получил ресурсы, которые и нам хотелось иметь. Когда брат и сестра вступили в сексуальный контакт и уличены в этом, их кровосмесительное соитие представляет нарушение социальной нормы. Оно может вызвать чувство стыда у родных братьев и сестер, иногда самоубийство и часто гнев у генетически связанных членов семейства и у заинтересованных, но не связанных родственными узами третьих лиц. И опять эти процессы осуществляются вне наших осознанно действующих систем контроля. Эффективность эмоции определяют два вида свойств: автоматизм и защищенность от влияний сознательных, рефлексивных и умозрительных мыслей о том, что должно быть.
Нормы имеют и другое интересное свойство: они появляются спонтанно в различных обществах и, в конечном счете, напрямую сталкиваются с правительством или официальным юридическим органом, который может занимать другую позицию по отношению к тому, что считать справедливым, разумным или устойчивым. Специалист в области юриспруденции Эрик Познер интересно обобщает этот исторический процесс.
В мире, где нет законов и даже слабого правительства, все равно существовал бы некоторый порядок. Это следует из антропологических исследований. Порядок появился бы как обычное согласие с социальными нормами и коллективным наказанием: санкциями для тех, кто нарушает их, включая клеймение инакомыслящего и остракизм неисправимых. Люди приносили бы символические обязательства сообществу, чтобы избежать подозрений по поводу своей лояльности. Люди, кроме того, были бы вынуждены часто объединяться для выполнения работ. Они должны были держать слово и полагаться на обещания других, воздерживались бы от нанесения вреда своим соседям, вносили бы вклад в публично вдохновляемые проекты, делали подарки бедным, предоставляли помощь тем, кто оказался в опасности, и присоединялись к маршам и собраниям. Но дело также и в том, что некоторые люди иногда нарушали бы обещания и наносили вред. Остальные в этих случаях вынуждены были бы вести дискриминационную политику против тех, кто не по своей вине стал ходячим символом методов, которые группа отклоняет. Начинались бы споры, иногда агрессивные. Возникла бы вражда, которая могла никогда не закончиться. Сообщество могло бы расколоться на фракции. Порядок со всеми его выгодами обнаружил бы свою подлинную цену. Здравый во времена мира, он показал бы свою сомнительность в моменты кризиса[105].
Теперь совместите мощное и доброжелательное правительство со способностью создавать и проводить в жизнь законы. Может ли правительство выборочно вмешиваться в некоторые неофициальные (не закрепленные юридически) нормы, выбирая для реформирования те, которые нежелательны, и поддерживая те, которые были удачны? Могло бы оно осуществлять избирательную коррекцию, используя налоги, субсидии и санкции, чтобы устранить, скажем, вражду и дискриминацию, не противодействуя приветливой доброте и доверию?
Как я говорил ранее, все общества имеют нормативное представление о справедливости. Межкультурные различия обнаруживаются в диапазоне допустимых ответов на ситуации, которые выявляют суждения о справедливости. В сущности, каждая культура устанавливает свои «ножницы» — набор параметров для справедливого действия. Однако никому еще не удалось ясно обозначить эти границы. Каждый только учится определять, где они. Это типичное явление, когда вмешиваются официальные законы, потому что действенные принципы, лежащие в основе социальных норм, нередко наносят вред индивидуумам. Возвращаясь к точке зрения Кэплоу и Шейвелла, укажем, что, хотя большинство людей имеют сильные интуитивные представления о справедливости и во всех обществах проблемы обмена основываются на необъявленных нормах справедливости, результат этих суждений часто не является лучшим исходя из перспективы благосостояния. Официально действующие законы поэтому могут играть главную роль, отвергая наши интуитивные представления о справедливости. Трудность заключается в том, что закон идет против течения. Этот конфликт может вызвать беспокойство и, возможно, искушение обмануть, потому что закон воспринимается как несправедливый. Поэтому законотворческая политика должна не только устанавливать, почему определенные принципы являются оправданными, но и что случается с теми, кто их нарушает. Наказание — единственный ответ. Здесь вновь современные открытия в области экспериментальной экономики и теоретической биологии выдвигают на первый план важность наказаний в эволюции кооперации и, в частности, в уникальных формах человеческой цивилизации, которые появились более чем тысячи лет назад и сохранились до сих пор, несмотря на искушение их разрушить. Они также готовят почву для того, чтобы обдумать, каким образом законы должны принимать во внимание наши интуитивные представления о наказании и сосуществовать с ними.
Позвольте возвратиться к идее сильной взаимности, потенциальному решению проблемы сотрудничества в больших группах, которую можно рассматривать как исключительно человеческую познавательную адаптацию. Сильная взаимность возникает, когда члены социальной группы получают выгоду от следования местным нормам и стремятся наказывать нарушителей, даже когда акт наказания является дорогостоящим и к тому же нет никакой возможности проследить за дальнейшими действиями человека. Когда в игре «Ультиматум» индивидуумы отклоняют предложения, они принимают на себя расходы, чтобы подвергнуть издержкам того, кто делает предложение. Интерпретация этих результатов в том, что реципиенты считают предложения небольших сумм несправедливыми. Таким образом, они предпочитают не иметь ничего, чем принимать незначительное по сумме предложение, которое закрепляет убеждение, что асимметричный обмен только забавен. Если вы играете в «Ультиматум» с двумя реципиентами и вводите понятие конкуренции, динамика усиливается. Если оба реципиента принимают предложение, каждый из них имеет 50%-ный шанс на получение предложенного количества. Если один принимает, а другой отклоняет, принимающий реципиент берет предложенную сумму, в то время как отвергающий остается с пустыми руками. В этой игре эффективность наказания — отклонение предложения — функционально скрыта, и, таким образом, оба реципиента, как правило, принимают предложение, причем принимают более незначительные предложения, чем в классической игре «Ультиматум». Предлагающие, учитывая затруднительное положение, с которым сталкивается каждый реципиент, делают более низкие предложения, чем в неконкурентной игре «Ультиматум». Предлагающие знают, что они могут избежать неприятностей, используя в высшей степени асимметричное предложение. Этот результат позволяет нам сделать два вывода. Многие из нас ищут возможности удовлетворить личный интерес, и в отсутствие наказания это искушение могло бы легко одержать верх. На любых переговорах поэтому отдается дань тому, чтобы выявить возможности, которые позволяют наказать и получить наказание. Ваш разум проводит вычисление автоматически и подсознательно.
Эрнст Фер разработал эксперимент. Его цель — установить, когда люди используют возможность наказания, даже если оно лично для них является дорогостоящим действием. Играют три субъекта: лицо, ведающее распределением, получатель и третье лицо — наблюдатель. Лицо, ведающее распределением, начинает с суммы в сто денежно-кредитных символов, реципиент без средств, а наблюдатель с пятьюдесятью символами; в конце игры все игроки преобразуют символы в деньги. Игра проводится один раз, все игроки остаются анонимными. Лицо, ведающее распределением, может передать любую часть своих символов реципиенту, и тот не имеет другого выбора, как только принимать то, что предложено; эта фаза походит на игру «Диктатор». В этом случае экспериментатор говорит наблюдателю о предложении лица, ведающего распределением. Владея этой информацией, наблюдатель может использовать часть своих символов, чтобы наказать лицо, ведающее распределением; для каждого символа, который наблюдатель инвестирует в наказание, сумма средств лица, ведающего распределением, уменьшается на три символа.
Результаты показывают, что наблюдатели за всю игру инвестируют в наказание меньше пятидесяти символов. Количество символов, которое инвестируют в наказание, увеличивается по мере того, как предложение уменьшается. При этом получатели с полной уверенностью ожидают, что наблюдатели вложат капитал в наказание, который будет изменяться как функция от предложения лица, ведающего распределением. Так как игроки не связаны родством и игра одноразовая, наблюдатель, инвестируя в наказание, не приобретает ничего, кроме повышения эмоционального тонуса — возмездие за нечестную игру[106].
Наблюдатель не только не получает никаких денежно-кредитных возмещений от наказания лиц, ведающих распределением, но и фактически уходит с меньшей суммой денег, чем тот, кто играет, применяя стратегию «подставь другую щеку». Эти результаты также предполагают, что наложенный штраф пропорционален несправедливости: по мере того как возрастает несправедливость, увеличивается наказание. Неясным в этой игре остается одно: почему лицо, ведающее распределением, не дает больше реципиенту, зная, что наблюдатель может наказать. Тот факт, что много лиц, ведающих распределением, не предоставляют ничего или суммы существенно меньше, чем пятьдесят символов, предполагает, что, в отличие от реципиентов, они не думают о наказании наблюдателей. Однако когда эти игры повторяются, лица, ведающие распределением, обеспечивают все более и более увеличивающиеся суммы, поскольку они начинают понимать, что за предложением ниже обычного уровня может последовать наказание.
В играх с заключением сделок люди следят за наказанием и используют психологические рычаги (которые наказание может задействовать), чтобы изменить свою стратегию. Результаты теоретического анализа и построения моделей эволюции кооперирующихся сообществ людей согласуются с данными, полученными при анализе игр с заключением сделок, и позволяют сформулировать дополнительные выводы. Как только размер группы превысит типичный для группы охотников/собирателей — приблизительно 150 человек, — наказания становятся необходимы в той или другой форме, чтобы сохранить устойчивую кооперацию[107].
До какой степени экспериментальные и теоретические результаты представляют динамику кооперации в сообществах, которые в настоящее время живут без официально принятых законов принуждения? Бесчисленные этнографические исследования со всей очевидностью показывают, что наказание через позор, остракизм, роль козла отпущения и прямое насилие существенно для того, чтобы поддержать эгалитаризм и приверженность социальным нормам в обществах мелкого масштаба. Например, приписывание роли козла отпущения среди индейцев Навахо приобретает форму триггера, запускающего страх и стыд у того, кого считают нарушителем нормы, тогда как среди эскимосов ощущение себя козлом отпущения создает вину и опасение, что вмешается обладатель сверхъестественной власти, например ведьма[108]. При этом, однако, имеется только небольшое число исследований того, как часто эти стратегии применяются и насколько они эффективны.
Около двухсот бесед были проведены антропологом Полли Висснер с бушменами Ботсваны из племени Джу Хоанси, чтобы исследовать, являются ли способы наказания у них столь же эффективными и стратегическими, как предсказывает тезис сильной взаимности. Эти разговоры позволили лучше понять специфику наказания у бушменов, поскольку они не используют колдовство или социально допускаемые поединки и редко участвуют в насилии. В таких обществах охотников/собирателей, как у бушменов, когда обвинения слишком серьезны и очевидны, наказание влечет за собой неизбежные затраты, включая потерю потенциального союзника, собирателя или опекуна для детей, разъединение связей, подстрекательство к насилию и ущерб для личной репутации. В беседах индивидуумы приблизительно в восемь раз чаще высказывали в адрес других критические замечания, чем замечания хвалебные. В эгалитарном обществе типа общества бушменов восхваление другого немедленно создает неравенство. Открытое признание того, что кто-то был достаточно добр, привлекало внимание к этому человеку, служило доказательством его приверженности общему делу. Признание комплимента эквивалентно хвастовству, действию, которое может вызвать новое наказание.
Бушмены-мужчины, главным образом, критиковали других мужчин, прежде всего по поводу политики, использования земли и антиобщественного поведения. Женщины, напротив, критиковали и мужчин, и женщин, открыто упоминая ревность как мотивирующую силу, обижались на мелочную скаредность в отношении некоторого имущества (цепочки, одежда), а также на отказ делиться, поддержать родственные обязательства и осуждали сексуально несоответствующее поведение. И мужчины, и женщины поддерживали обязательства в пределах пар посредством индивидуального принуждения, только изредка выводя конфликты на уровень группового решения; этот способ решения проблем эффективно уменьшает цену наказания и шансы на неудачу. Такой образец совместим с экспериментальными данными по экономике, подразумевающими, что те индивидуумы, которые непосредственно страдают от нарушения нормы, также больше всего стремятся нести ответственность за наказание. Оба пола выделяли именно мужчин как наиболее вероятный адресат наказания. Это можно объяснить тем, что мужчины гораздо чаще, чем женщины, хвастаются своими способностями к охоте. Обладая доминирующей ролью в совместном использовании продовольствия, мужчины чаще бывают несправедливы, за что и подвергаются критике. Хотя бушмены, подобно другим сообществам охотников/собирателей, являются высоко эгалитарной группой, существуют тонкие различия в воспринимаемом статусе, которые отражаются в субъективных оценках индивидуумов. Некоторые мужчины и женщины воспринимаются как сильные, другие как слабые. Сильных наказывают, прибегая к насмешке, пантомимическому передразниванию или критике. Кроме того, обычно они сами обнаруживают готовность посмеяться над собой, что только укрепляет их репутацию и поддерживает эгалитарный характер общества. Независимо от вида нарушений особенностью наказания у бушменов Джу Хоанси является то, что насилие используется очень редко. Из полной выборки нарушений нормы только 2% привели к насилию.
Исследование сообщества бушменов, проведенное Висснер, согласуется с более описательными характеристиками других сообществ охотников/собирателей. В целом индивидуумы кооперируются на основе предписанных обязательств. Наказание — важная сила, предназначенная возместить неустойчивость, которая может возникнуть, когда кто-то хвастается, сплетничает, препирается или изменяет своему слову. Но когда механизмы, лежащие в основе наказания, тщательно исследуются, достаточных доказательств, что бушмены должны заплатить, чтобы наказать, не появляется. Как заключает Висснер, «с несколькими известными исключениями цель [наказания] у бушменов состоит в том, чтобы вернуть правонарушителей в строй, используя искусное наказание, не теряя знакомых и ценных членов группы. Хотя наказание является частым и потенциально дорогостоящим, есть небольшие основания считать, что эти затраты были рождены альтруистическим поведением. Предпочтительнее сказать, что бушмены разработали систему культурных механизмов, которые позволяют обеспечить соответствие нормам... по невысокой цене».
Прибавим к работе Висснер о бушменах исследование охотников/собирателей Хадза из Танзании[109], проведенное Марлоу.
Когда эти люди играли в игру Фера с третьим участником, лица, ведающие распределением, выдавали немного средств, а наблюдатели вели себя пассивно, сохраняя свои ресурсы и редко платя за наказание даже самых эгоистичных лиц, отвечающих за распределение. Наказание было важным фактором в прошлом человека — охотника/собирателя, но оно не имело альтруистического оттенка.
Неясно, как охотники/собиратели в небольших социальных группах решали проблему индивидуумов, стремящихся поживиться за групповой счет, помогала ли им сильная взаимность, или это более позднее приобретение, связанное с развитием познания. Независимо от этого, экспериментальные игры показывают, что люди, живущие в индустриальных обществах, имеют принципиальные интуитивные представления о том, что является наказуемым, и используют различные формы наказания, чтобы поддержать социальные нормы. Что случается тогда, когда официальная юридическая система сталкивается лицом к лицу с существующими социальными нормами?
Столкновение
Весной 2003 года Джо Хамлетт, мэр города Маунт-Стерлинг (Mount Sterling), штат Айова, с населением сорок человек, издал новое постановление: любой уличенный во лжи будет наказан штрафом. История приобрела известность. Почему? Как утверждалось, едва ли это требование отличается новизной и оригинальностью. В конце концов, преступник, обвиненный в убийстве или ограблении банка, клянется под присягой говорить правду, и только правду. Сокрытие истины в суде — преступление, и оно наказуемо. Но мэр Хамлетт не имел в виду тех людей, которые могли лгать о преступлениях против человеческой жизни или собственности. Скорее он хотел положить конец всем фантастическим россказням. О чем идет речь? Охотник завалил двенадцать оленей с помощью лука и стрел; мальчик видел, как пуля просвистела у него над головой, и затем проследил, откуда она вылетела: увидел человека, который прицеливался; мужчина заманил в ловушку крысу с трехфунтовым хвостом. Многие из горожан сомневались в истинных намерениях мэра: надеялся ли он положить конец привычке лгать или хотел собрать некоторые дополнительные наличные деньги, чтобы проложить дороги? Последнее голосование оставило муниципалитет расколотым пополам. Большинство жителей города, однако, думали, что постановление было смехотворно, или, как заметил один из горожан: «Это походит на распоряжение не заниматься сексом в публичном доме».
Случай в городе Маунт-Стерлинг вряд ли когда-либо будет рассмотрен в Верховном суде. Его скоро забудут. Но он приоткрывает маленькое «окно» в большую проблему: столкновение между присущими людям интуитивными идеями по поводу наказания и принятыми официально, юридическими положениями о том, как управлять обществом, как обращаться с теми, кто не в состоянии сотрудничать и, таким образом, угрожает человеческому благополучию. Наказание не может быть верным решением в каждой ситуации, но, по мере того как наша способность наказывать развивалась, она обеспечивала новую систему контроля над искушением обмануть. Когда мы создали условия для открытого наказания, или в виде устного заявления на городских собраниях, или в виде письменного регламента, мы изменили социальный пейзаж.
Вообразите общество, в котором, в соответствии с решением муниципалитета, все признанные альтруисты имеют зеленую букву А, вытатуированную на лбу. По Ричарду Доукинзу, это было бы культурным эквивалентом зеленой бороды[110]. Символический сигнал, цель которого — снизить затраты на поиск нужного человека. Те, у кого нет зеленой буквы, могут быть, а могут и не быть склонны к сотрудничеству, но те, у кого она есть, имели бы наиболее высокий рейтинг одобрения, возможно даже с гарантией денежного обеспечения. Продумывая это, мы быстро приходим к заключению, что появились бы подпольные ателье татуировки, обеспечивая мошенников возможностью заплатить за подделку буквы А. Скоро система стала бы разваливаться, если только не использовать другой механизм маркировки или ввести систему опознания подделок.
Теперь вообразите альтернативный сценарий. Вместо того чтобы кичиться альтруизмом, пометим мошенничество алой буквой М. Любой человек, пойманный на нарушении обещания, неспособный к взаимным соглашениям, украшается буквой М. Функционировало бы это как средство устрашения? Стабилизировало бы сотрудничество и сохраняло бы правосудие? Проставление буквы М вызывало бы чувство стыда у большинства людей, возможно, ощущение вины за свои преступления. Некоторые могли бы даже просить прощения, раскаиваться, умолять, чтобы им позволили заплатить за совершенные грехи и стереть татуировку. Такая система наказания отражена в литературном шедевре Натаниела Готорна. Он дал страстное, хотя и вымышленное описание наказания через позор. Эта форма возмездия была восстановлена в прошлом десятилетии, напомнив многим юристам образ общественных телесных наказаний, сжигания на костре и обезглавливания[111].
«Наказания алой буквой», как их теперь называют, потенциально решают две проблемы. Они обеспечивают безопасность для сообщества, ослабляя преступников, и сдерживают будущие правонарушения, прививая чувства стыда, вины или страха. Недавно эти наказания приобрели разнообразные формы, включая наклейки на бампер машины у лиц, осужденных за вождение автомобиля в пьяном виде, плакаты, на которых в полный рост изображены пойманные на воровстве в магазинах, списки тех, кто был замечен в сексуальном домогательстве, в отделе общественной безопасности. Существуют, по крайней мере, три причины, почему эта форма наказания распространяется, прежде всего в Соединенных Штатах: скептицизм относительно того, что тюремное заключение и штрафы действуют как средство сдерживания, переполнение тюрем требует поиска более экономных средств наказания и, наконец, интуитивное убеждение: клеймение позором — справедливая форма для публичного чувства морального поругания, позор — это форма мести. Некоторые критики «наказаний алой буквой» утверждают, что они являются варварскими, осуществляемыми по формуле «зло сталкивается со злом». Другие утверждают, что их эффективность как средство устрашения связана с размером сообщества и близостью его членов. Принимая во внимание, что наказание позором было эффективно в колониальной Америке Готорна, оно вряд ли будет эффективным сегодня, так как немного людей проживают свою жизнь в одном и том же сообществе от рождения до смерти, и общины, где имеет место взаимное содействие, встречаются редко. Исторически «наказания алой буквой» исчезли именно по этой причине, стремительно заменяясь тюремным заключением и денежными штрафами. Эти циклы подтверждают: чтобы понять механизмы, лежащие в основе наших суждений о наказании, мы должны рассматривать социально развитые интуитивные представления в совокупности с существующим в данный момент давлением среды. Или, цитируя нобелевского лауреата по экономике Герберта Саймона, наши рациональные суждения «сформированы ножницами, два лезвия которых — структура задачи, задаваемой средой, и вычислительные способности действующего лица»[112].
Наконец, некоторые утверждают, что «наказания алой буквой» нарушают право на личную жизнь. Является ли этот факт верным — вопрос спорный, учитывая, что права и законный порядок — привилегия для законопослушных граждан. Как утверждает юрист Джеймс Уитмен, жесткость правосудия и правила обращения с преступниками, установленные юридической системой Соединенных Штатов, конечно, не могут служить показательными и представляют разительный контраст с системой правосудия континентальной Европы, где к преступникам относятся более гуманно[113].
«Наказания алой буквой», подобно большинству других юридически принятых подходов к преступным деяниям, опираются на принципы справедливости и понятие о мере возмездия (les talionis), а также на библейские заповеди:
А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб.Позиция Библии относительно насилия восходит к самому раннему своду законов — Кодексу Хаммурапи[114]. Этот юридический документ укоренил систему возмездия и мести, побуждая некоторых ученых утверждать, что первоначальная функция закона была призвана иметь дело с несоответствующим или неприемлемым поведением, принимая, в свою очередь, ответные меры. В отличие от библейского уравнения пропорциональности, Кодекс Хаммурапи кажется чрезвычайным и непропорциональным: кража животных наказывается десятикратным штрафом, если речь идет об обычном человеке, и тридцатикратным штрафом, если речь идет о священнике или члене суда, и смерти, если вор не имел никакого дохода, чтобы заплатить штраф. Если судья, слушая дело, допустил ошибку, он заплатит двенадцатикратный штраф по отношению к первоначально установленной сумме и лишится своей работы. Любой, забирающий чужого раба, будет казнен; любой, делающий дыру в доме, чтобы украсть, будет убит и захоронен перед этим отверстием.
Истинная пропорциональность, или схема уравнивания, кажется варварской и архаичной, чем-то таким, что цивилизованное общество никогда не станет ее рассматривать. Тем более удивительно, может быть, что такое обсуждение имеет место сегодня в сложной юридической системе Соединенных Штатов. В Мемфисе, штат Теннесси, судья постановил, что жертва грабежа может тайно проникнуть в дом грабителя и взять нечто, сопоставимое по ценности с украденным. Во Флориде судья постановил, чтобы подросток носил глазную повязку, потому что он бросил кирпич и ранил человека: тот лишился глаза. В Балтиморе поймали мужчину, который продавал фальшивые страховые полисы тренерам лошадей, ему присудили чистить кабины станции конной полиции. Я должен сказать, цитируя фразу Дейва Барри: «Я ничего не приукрашиваю». Все так и есть.
Сам факт появления таких случаев после «периода молчания» свидетельствует: некоторые аспекты нашей интуитивной психологии наказания постоянно всплывают на поверхность и сталкиваются с существующими юридическими системами, поднимая важный вопрос о том, насколько внутренне устойчивы юридические системы наказания? Когда юридическая система выносит наказание за преступление, его эффективность часто зависит от того, насколько общество верит в закон и его аналитическую трактовку преступления. Когда публика испытывает недостаток в вере, основные принципы могут уйти в песок. Философ Элвин Голдман указывает: «Если наказание, как минимум, не вызывает у жертв преступления и у тех в обществе, кто демонстрирует моральное негодование по поводу этого преступления, чувства удовлетворения, эти отдельные лица возьмут на себя осуществление наказания вместо или в дополнение к тому, что было наложено официально. Это, вероятно, приведет к увеличению личных вендетт, заменяющих закон, господству локального террора, нарушению относительного спокойствия»[115]. И конечно, история преступлений и наказаний изобилует такими эпизодами.
Есть ли возможность избежать неустойчивости? Я сомневаюсь в этом. Но придание значимости человеческой интуиции, вместо того чтобы игнорировать ее, является хорошим началом. Мы должны осознать волнующую силу самой возможности увидеть наказание в свете принципов справедливости, чтобы проектировать систему законов, которые учитывали бы эти интуитивные переживания, случай за случаем[116].
Юридические системы, в свою очередь, не должны идти против стремления людей наказать виновных. В противном случае они могут стать источником новых проблем, поскольку отдельные лица ищут мести и берут закон в свои руки. Очевидно, закон не безупречен. Он будет иногда наказывать невиновных и не в состоянии наказать всех виноватых. Он также не может действовать как арбитр во всех случаях аморального поведения. Как отмечал Кларенс Дарроу, известный поверенный защиты на «обезьяньем» процессе Скоупса[117] «...закон не претендует на то, чтобы наказывать все, что является нечестным. Такое вмешательство серьезно осложнило бы ведение дел».
Многие аспекты реализации закона базируются на перспективе возмездия: когда кто-то что-то делает не так, он должен быть наказан. Некоторые сторонники пропорциональности наказания считают наказание обязательным, другие — только допустимым. Побуждения, которые лежат в основе наказания, очевидно, не рассматривают его как средство устрашения. Скорее они руководствуются убеждением, что наказание — это ответ, соответствующий проступку. Как только необходимость наказания установлена, следующий вопрос: какова его мера? Ответ сторонника соразмерности наказания состоит в том, что величина наказания должна соответствовать серьезности преступления. Как утверждают эволюционные психологи Мартин Дэли и Марго Уилсон, признание пропорциональности едва ли не сердцевина человеческой натуры: «Всеобщее понятие справедливости, видимо, влечет за собой штраф, измеренный относительно серьезности нарушения»[118].
Эти представления выстраиваются в одну линию с материалами экспериментальной экономики. Но в качестве общего принципа наказания они терпят неудачу. Что можно было бы считать пропорциональным наказанием похитителю ребенка, насильнику, хулигану или серийному убийце? Нет единого критерия, который был бы всем понятен и всеми принят. Как предполагают
Кэплоу и Шейвелл, «понятие, что наказание должно быть пропорционально серьезности нарушения, действительно имеет некоторый смысл как исходный делегируемый принцип, если цель юридической системы в том, чтобы продвинуть благосостояние индивидуумов.
При сохранении тенденции к уравниванию больший вред гарантирует более жесткие санкции. Причина в том, что социальная ценность любого сдерживания [лишения гражданских прав или восстановления в правах], достигаемого через наказание, будет больше, когда сильнее нанесенный ущерб. Следовательно, когда нанесенный вред оказывается больше, обычно для общества имеет смысл накладывать наказания более строгие, чтобы предотвращать вред»[119].
Вспомним, однако, что сторонники соразмерности наказания не придают никакой ценности удерживанию от совершения действий через устрашение, так как оно не совместимо с идеей пропорциональности или с тем, что можно было бы считать справедливым наказанием. Даже Библия признала эту проблему, предоставляя альтернативу тезису «око за око»: «Если человек украдет вола или овцу и убьет его или продаст, то он должен будет воздать пять волов за одного вола, четыре овцы за одну овцу»[120]. Эта перспектива намного ближе к Кодексу Хаммурапи, она предполагает, что те, кто разрабатывал самые ранние законы, оценили потенциально сдерживающую функцию наказания.
Если наши интуитивные представления о наказании частично базируются на принципах и параметрах, которые отражают справедливость, то мы должны определить, имеет ли смысл в современном обществе следовать за этими интуитивными представлениями. Мы можем без риска принять идею, согласно которой эти интуитивные представления развились до или в течение периода жизни человека как охотника и собирателя (предположение, которое я исследую далее во II и III частях). В таких маленьких сообществах справедливость обладала, вероятно, наиболее эффективными полномочиями для оценки наказуемых действий. Однако то, что работало тогда, может не работать сегодня. Например, рассмотрим налоги, которые мы платим, чтобы поддержать реализацию законов. Все налогоплательщики, возможно, относятся к этому факту благосклонно, потому что более эффективная работа законов обеспечивает большую безопасность от преступников. Но делает ли цена, которую мы платим, чтобы укрепить закон, его справедливым? И уровень налога, который мы платим, является ли соответствующим, учитывая успешное действие такого закона в сдерживании тех, кто намерен нарушить закон?
Предполагая, что система правосудия — несовершенная система, мы должны признать три отрицательных последствия: некоторые преступники проскальзывают через систему без штрафа, некоторые невинные люди наказываются лишением свободы или штрафами. И мы платим за выполнение такого закона, который является несправедливым, если его рассматривать как закон, допускающий невозможность наказания некоторых преступников и возможность ошибочного наказания невиновных. Сторонники соразмерности наказания и преступления не берут в расчет эти отрицательные последствия и, таким образом, не охватывают эти аспекты справедливости.
Игнорировать потенциальную функцию сдерживания наказания в любой форме — означает игнорировать одну из ее самых существенных воспитательных функций. Если наказание достаточно строгое, оно сдержит. Только вообразите, что случилось бы, если бы штраф в миллион долларов был бы наложен на мелких воров или людей, которые не в состоянии оплатить метр парковки? Конечно, нормы снизились бы, поскольку здесь происходит столкновение между эффективностью наказания как механизмом контроля и чувством справедливости наказания. Штраф в миллион долларов не является справедливым при условии, что эти преступления не серьезны. И все же этот вид штрафов определенно удержал бы и, возможно, устранил бы такие преступления. Юрист Дэвид Долинко, ссылаясь на несовершенство применения закона, указывает: «Мы, как теоретики сдерживания, также извлекли бы выгоду, искренне признавая, что наказание преступников — грязный бизнес, но меньший из двух зол, и поэтому — грустная необходимость, а отнюдь не благородное и вдохновляющее предприятие, которое позволяет засвидетельствовать богатство и глубину нашей морали. Фактически, я думаю, можно было бы утверждать, что теоретики сдерживания с их утилитарным подходом — именно те, кто действительно «уважает» преступника, признавая, что причинение ему боли само по себе плохо и не должно быть выполнено, если только не будет оправдано желаемыми последствиями»[121].
Возможно, в этом и проявляется человеческая натура — судить ситуации, основываясь на понятиях справедливости. Факт, что мы, имея интуитивные представления, часто не можем обосновать их и обращаемся к тщательно сформулированным принципам, никоим образом не означает, что мы должны быть их рабами. Но и игнорирование принципов лишено смысла. Юридическая практика будет часто сталкиваться с интуитивными представлениями людей. Чтобы максимально повысить эффективность наказания, мы должны признать психологические ожидания, которых придерживается человек, часто подсознательно. Месть, справедливость, сдерживание и воспитание — вот составляющие уравнения, встроенного в процессе эволюции в нашу моральную способность.
Грамматика насилия
Месть — это разновидность нецивилизованного правосудия, и чем больше человеческая натура стремится к нему, тем сильнее право должно искоренять его.
Фрэнсис Бэкон[122]*
На рубеже двадцать первого века мы имели следующую статистику смертных случаев либо в результате намеренных действий, либо как косвенное следствие достижения каких-либо иных целей. Речь идет о том, что:
• количество жертв войны, развязанной США в Ираке, составило 2000 человек в течение года;
• во всем мире ежегодно регистрируется примерно один миллион самоубийств, или одна смерть каждые 40 секунд;
• количество убийств в результате применения огнестрельного оружия варьируется от минимума — примерно 50— 75 человек в год в таких странах, как Япония, Австралия и Великобритания, до максимума — 10 000—40 000 человек в год в Бразилии, Южной Африке, Колумбии и США;
• примерно 5000 смертей в год, преимущественно среди женщин, вследствие реальной или предполагаемой супружеской неверности — так называемые убийства на почве защиты чести, — чаще всего происходят в таких арабских странах, как Пакистан, Иордания, а также в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.
На долю несмертельных актов насилия, включая такие, как изнасилование, насилие в семье и агрессивные действия в отношении детей, приходится не меньшее количество случаев. Если существуют принципы, лежащие в основе недопустимости насилия, можно было бы спросить, придерживается ли их кто-нибудь? Учитывая, что способность к убийству или нанесению вреда вообще является универсальной, до какой степени отдельные культуры сдерживают или ослабляют эти ограничения? Например, у аборигенов племени семай, проживающих в джунглях Малайзии, зарегистрирован самый низкий уровень насилия в мире, при этом у них существуют нормы, запрещающие физическую и вербальную агрессию. Совершенно противоположная картина наблюдается в племени яномамо из Южной Африки, представителей которого часто называют «жестокие люди». Они не только разрешают конфликты с помощью насилия, но и ожидают от соплеменников демонстративного проявления крайней степени агрессии. В племени яномамо насилие считается доблестью, которая вознаграждается большим количеством сексуальных контактов и в результате улучшением генетического фонда племени.
В этой главе я буду настойчиво развивать лингвистическую аналогию, пытаясь выяснить, существуют ли универсальные принципы, лежащие в основе наших суждений о допустимом вреде, включая действия, приводящие к смерти. Хотя в большинстве культур, вероятно, есть некое общее правило, запрещающее убийство, во всех культурах существует и разрешение на исключения из этого правила. Есть ли конкретные параметры, которые устанавливаются каждым обществом и которые разрешают совершать специфические для данной культуры действия? Каким образом правовые и религиозные системы вмешиваются в модели насилия и как они входят в противоречие с интуитивными ощущениями людей относительно допустимого убийства и узаконенного наказания?
Допустимое убийство
Не убий. Как одна из десяти заповедей, это ясный закон, который признается иудеями, католиками и протестантами. Его следствием является моральное суждение о том, что убийство запрещено. Слово RATSACH обычно переводилось с иврита как «kill», но иногда его переводили более точно: «murder». Смещение в сторону второго значения было необходимо для того, чтобы иметь название для узаконенного убийства определенных животных, которых использовали в пищу. Даже с учетом этих различающихся толкований термина «убийство» в Ветхом Завете есть указания на многочисленные исключения из данной заповеди. Считалось возможным убить: помолвленную женщину, которую соблазнил другой мужчина; людей, поклоняющихся не Яхве, а другому Богу; посторонних, зашедших в храм; женщин, которые занимались колдовством. Исторически многие христианские группы понимали эту заповедь, учитывая разделение на «своих» и «чужих». Убийство последних считалось справедливым и законным. Начиная примерно с пятнадцатого века и в течение последующих столетий католики и протестанты травили и убивали тысячи еретиков и последователей сатаны, считая их опасными для Церкви и общества. Библия также разрешала определенные формы убийства внутри группы, в том числе такие, как аборты и детоубийство. В псалме 136:9 прямо сказано: «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень».
Когда отдельные люди или группы людей, облеченные властью, отрицают допустимость убийства, ненависть находит новый выход, соблазн избавиться от чужаков возрастает и насилие может превратиться в зависимость. Перед тем как исследовать причины, вызывающие и контролирующие насилие, мы должны понять психологию насилия и в особенности наши интуитивные ощущения относительно допустимости нанесения вреда другому человеку. Их характеристика поможет понять логику, лежащую в основе наших суждений о допустимых актах насилия, степень культурных различий и те проблемы, с которыми сталкиваются общества, пытаясь контролировать, возможно, более чем естественные последствия гнева, зависти, ревности и мести.
Рассмотрим классическую моральную дилемму, которая впервые была предложена философом Филиппой Фут[123] и уже кратко упомянута в главе 1: проблема трамвайного вагона. Цель Фут состояла в том, чтобы получить доказательство различий между убийством и разрешением умереть. Это различие лежит в основе многих биомедицинских и биоэтических решений, в особенности таких, как эвтаназия и аборт.
В более общем виде с помощью этой группы примеров нужно было оценить, как наши моральные суждения связаны с идеей всеобщего блага (этика добродетели), противопоставления хороших и плохих последствий (утилитаризм или консиквентализм), понятиями о правильных и неправильных действиях (этические принципы или нон-консиквентализм)[124] соотношением психологии действия и бездействия, а также противопоставлением предвидимых и преднамеренных последствий. Для того чтобы эти примеры были убедительными с учетом рассматриваемых проблем, необходимо предположить, что все, о чем идет речь, соответствует реальности и не сопровождается дополнительной информацией или допущениями.
1. Свидетель Дениз. Дениз — пассажир, находится в трамвайном вагоне, потерявшем управление. Водитель без сознания, и вагон движется по направлению к группе из пяти человек, идущих по рельсам; насыпь по обеим сторонам такая крутая, что люди не смогут вовремя сойти с путей. Главная ветка имеет ответвление вправо, и Дениз может направить вагон туда. Однако там находится один человек. Дениз может свернуть на боковой путь, и погибнет один человек; или она может не переводить стрелку, и тогда погибнут пять человек.
Является ли морально допустимым, чтобы Дениз повернула рукоятку, направив трамвай на боковой путь?
Мое первоначальное интуитивное ощущение, которое, возможно, появилось автоматически и без всякого размышления, состоит в том, что свернуть — допустимо. Такое же ощущение возникает и у большинства философов. Теперь давайте подробно проанализируем это ощущение и особенности конкретного сценария. Дениз контролирует трамвайные пути. Поскольку они разветвляются, у нее есть выбор между тем, чтобы не мешать трамваю ехать по своему маршруту, и тем, чтобы перевести стрелку и изменить направление его движения. Независимо от выбора Дениз, по крайней мере, один человек погибнет. Ее бездействие приведет к гибели пяти человек; если же она переведет стрелку, то погибнет один человек. Если Дениз не помешает трамваю двигаться по его маршруту, то она не использует возможность перевести стрелку, и в результате погибнут пять человек. Перевод стрелки рассматривается как преднамеренное действие, которое приведет к гибели одного человека. Хотя оно совершается обдуманно, Дениз не намеревается убивать одного человека. Наоборот, ее цель — спасти пятерых. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, представьте себе, что боковой путь свободен. В этом случае перевод стрелки приведет к спасению пяти человек, которое не будет совершено за счет гибели других людей, и тогда не будет никакой моральной дилеммы. Цель — спасти пятерых. Отказ от перевода стрелки оказывается запрещенным, а действия по спасению людей — обязательными, так как для их осуществления не требуются вынужденные жертвы. Так как Дениз не знает тех людей, которые идут по рельсам, и так как все они в равной степени несут ответственность за то, что находятся в таком месте, где подвергаются риску, вся проблема сводится к относительно простому расчету: убить пять человек — хуже, чем одного, при прочих равных условиях? С утилитарной точки зрения, там, где значительное увеличение блага предоставляет единственный релевантный критерий, очевидный ответ — «да». Но этот сценарий гораздо сложнее. Для того чтобы показать, насколько сложнее, а также для того, чтобы выявить недостатки утилитарного подхода, рассмотрим второй пример.
2. Свидетель Фрэнк. Фрэнк стоит на пешеходном мосту над трамвайными путями. Он разбирается в устройстве трамваев и видит, что тот трамвай, который приближается к мосту, неуправляем, так как его водитель потерял сознание. На рельсах под мостом находятся пять человек. Насыпь по обеим сторонам такая крутая, что они не смогут вовремя уйти. Фрэнк знает, что единственный способ остановить неуправляемый трамвайный вагон — это бросить на рельсы что-нибудь очень тяжелое. Но единственным доступным и действительно тяжелым «предметом» является высокий и толстый мужчина, который тоже наблюдает за вагоном с моста. Фрэнк может столкнуть этого человека на рельсы, по которым движется вагон, и тот погибнет, или Фрэнк может не делать этого, и тогда умрут пять человек.
Является ли морально допустимым, чтобы Фрэнк столкнул крупного мужчину на рельсы?
Мне и философам, которые обсуждают этот пример, кажется, что не допустимо, чтобы Фрэнк столкнул этого человека. Почему нет? Результат или последствия будут такими же, как и в первом примере. Поведение того, кто совершает действие, приводит к тому, что один человек умирает, а пятеро остаются в живых. С утилитарной точки зрения, столкнуть крупного человека для того, чтобы спасти пятерых, должно быть допустимо. Но по какой-то причине утилитарные расчеты в этом случае оказываются несостоятельными. Каковы некоторые из заметных различий между этими двумя примерами? В обоих случаях бездействие (неперевод стрелки, несталкивание человека с моста на рельсы) приводит к смерти пяти человек и, по-видимому, является допустимым. Трудно представить себе такой закон, который запрещал бы бездействие или наказывал бы за него, если только утилитарный расчет не является козырной картой, которая всегда выигрывает. Ни одна из известных мне стран или культур не пользуется этой утилитарной картой как козырем. В первом примере действия Дениз вызывают переадресацию угрозы: она берет ответственность на себя, и это приводит к тому, что вагон становится причиной смерти одинокого пешехода. Как отмечалось выше, у Дениз нет намерения убить этого человека, но это предвидимое последствие. Во втором примере действия Фрэнка приводят к нанесению непосредственного вреда невинному человеку. В обоих примерах нет ничего, что давало бы пяти пешеходам превосходство с точки зрения права на жизнь. Однако во втором примере крупный человек не участвует в том, что вот-вот произойдет. Он всего лишь невольный свидетель и должен иметь право оставаться непричастным к происходящему.
Различие между свидетелем и участником не является, однако, таким простым, как кажется. Мы можем соглашаться с тем, что неправильно толкать крупного мужчину на рельсы. Наряду с этим, мы допускаем возможность перевести стрелку, что приведет к смерти одного человека, так как он попадет под трамвай. Однако в чем различие между этими примерами? Крупный мужчина останется в живых, если Фрэнк не толкнет его на рельсы. Точно так же и одинокий пешеход не умрет, если Дениз не будет мешать вагону продолжать движение. Все пешеходы безответственны — им не следовало ходить по путям. Водитель несет ответственность за свой вагон, в то время как ни Дениз, ни Фрэнк, ни крупный мужчина не несут никакой ответственности. Мы могли бы предположить, что если бы боковой путь был свободен, то Дениз не только могла, но и должна была бы перевести стрелку. Это не привело бы к жертвам, и поэтому любой, кто оказался очевидцем происходящего, должен был бы так действовать и перевести стрелку. Наоборот, если Фрэнк один — рядом с ним нет крупного мужчины, то ему ничего не остается, как наблюдать за гибелью пяти человек в результате наезда вагона. Для некоторых ключевой вопрос состоит в императиве Канта, согласно которому недопустимо использовать человека только как средство для достижения цели. Фрэнк, а не Дениз сталкивается с возможностью использовать одного человека в качестве средства, которое помешает вагону наехать на пятерых. Это запрещено. Остальные считают, что главное различие между этими двумя примерами заключается в том, что Дениз наносит вред опосредованно, а Фрэнк делает это непосредственно. Дениз просто переводит стрелку, т. е. совершает действие, которое само по себе не является эмоционально напряженным. Фрэнк, напротив, должен физически столкнуть человека, т. е. совершить сильное по эмоциональному напряжению действие. Наконец, есть те, кто считает, что мы можем дифференцировать эти примеры, обращаясь к принципу двойного эффекта. Нанесение вреда другому человеку допустимо, если именно прогнозируемые последствия какого-либо действия приведут к большему благу; и наоборот, недопустимо наносить вред кому бы то ни было в качестве продуманного средства для достижения большего блага. Для Дениз убийство одного человека — это побочный эффект совершения действия, которое приводит к спасению пятерых человек. Последнее принесет больше пользы. Для Фрэнка вред, нанесенный крупному человеку, представляет собой обдуманное средство для спасения пятерых пешеходов. Принцип нарушается, потому что этот вред является не прогнозируемым последствием, а обдуманным средством.
Невозможно точно указать тот принцип, который лежит в основе наших разных суждений о Дениз и Фрэнке. Между этими двумя примерами слишком много различий: обезличенный вред противопоставляется персонифицированному вреду, переадресованная угроза — новой угрозе, преднамеренный вред — предвидимому вреду, одноколейный путь — двухколейному пути, невольный свидетель — легкомысленному пешеходу. Легко представить себе небольшие изменения, которые можно внести в данные примеры, для того чтобы показать, что, по крайней мере, некоторые отличия несущественны. Например, изменилось бы что-нибудь, если бы вместо того, чтобы толкнуть человека, вы бы дернули его за пуговицу (обезличенное действие, отсутствие контакта с человеком), в результате чего он упал бы на рельсы, умер, а вагон остановился и пять человек были бы спасены? Я сомневаюсь в этом. Нам нужны еще примеры, которые сократят имеющиеся различия. Нам следует придерживаться правил проведения настоящего научного эксперимента и уменьшить количество потенциальных факторов, приводящих к различиям между группами. Если группе А нравится кататься на американских горках, а группе Б — нет, невозможно точно установить причину этих различий, если группа А состоит из пожилых женщин, а группа Б — из молодых мужчин. В этом случае для того, чтобы возраст и пол могли объяснить различия между группами, нам необходимо сравнить группы пожилых женщин и пожилых мужчин с группами молодых женщин и молодых мужчин. А теперь рассмотрим два новых примера с трамвайным вагоном.
3. Свидетель Нед. Нед прогуливается рядом с трамвайными путями, как вдруг замечает, что приближающийся вагон неуправляем. Нед видит, что произошло: водитель без сознания, а вагон движется навстречу людям (их пять человек), идущим по рельсам; насыпь по обеим сторонам такая крутая, что они не смогут вовремя уйти. К счастью, Нед стоит рядом со стрелкой, которую он может перевести, что временно повернет вагон на боковой путь, где находится тяжелый предмет. Если вагон ударится об этот предмет, его движение замедлится, и у пяти пешеходов будет время для того, чтобы спастись. Однако тяжелым предметом является крупный мужчина, стоящий на боковом пути. Нед может перевести стрелку, что спасет пешеходов, но приведет к смерти крупного человека. Или он может не делать этого, и тогда погибнут пять человек.
Является ли морально допустимым, чтобы Нед перевел стрелку, направляя вагон на боковой путь?
4. Свидетель Оскар. Оскар прогуливается рядом с трамвайными путями, как вдруг замечает, что приближающийся вагон неуправляем. Оскар видит, что произошло: водитель без сознания, а вагон движется навстречу людям (их пять человек), идущим по рельсам; насыпь по обеим сторонам такая крутая, что они не смогут вовремя уйти. К счастью, Оскар стоит рядом со стрелкой, которую он может перевести, что временно повернет вагон на боковой путь, где находится тяжелый предмет. Если вагон ударится об этот предмет, его движение замедлится, и у пяти пешеходов будет время для того, чтобы спастись. Однако на боковом пути перед тяжелым предметом стоит крупный человек. Оскар может перевести стрелку, что спасет пешеходов, но приведет к гибели крупного мужчины, находящегося перед тяжелым предметом. Или он может не делать этого, и тогда погибнут пять человек.
Является ли морально допустимым, чтобы Оскар перевел стрелку, направляя вагон на боковой путь?
Мне кажется недопустимым, чтобы Нед перевел стрелку, а Оскару это можно сделать. Если Нед переведет стрелку, он нанесет преднамеренный вред. Единственный способ спасти пятерых пешеходов — это повернуть вагон на боковой путь и использовать крупного человека в качестве средства для остановки вагона. Если Оскар переведет стрелку, он причинит вред, но это предвидимый побочный эффект. Целью Оскара является использование тяжелого предмета для остановки вагона. То, что человек оказался перед этим предметом, — неудачное стечение обстоятельств, но у Оскара не было намерения его убивать. И, так же как для Неда, единственным способом спасения пятерых пешеходов, которым может воспользоваться Оскар, является перевод стрелки и перенаправление вагона на боковой путь. Если тяжелого предмета нет, то вагон наезжает на одного человека, стоящего на этом пути, и затем еще на пять человек. Как и в случае с Фрэнком и крупным человеком на мосту, не человек, а тяжелый предмет является средством достижения положительной цели — спасения пятерых пешеходов.
Некоторые могут подумать, что у меня больше нет никаких интуитивных ощущений в связи с этими примерами. В конце концов, пример с Недом выглядит примерно так же, как и пример с Дениз. Они оба переадресуют угрозу. Но это же касается и Оскара. И Нед, и Дениз совершают опосредованное действие — переводят стрелку. То же самое делает и Оскар. Как у Неда, так и у Дениз есть намерение спасти пятерых пешеходов. Оскар хочет того же. Остальные могут подумать, что действие, совершенное Недом, так же допустимо, как то, что сделали Дениз и Оскар. Но если вам так кажется, объясните тогда, почему Нед может перевести стрелку, а Фрэнк не может столкнуть крупного человека? И Фрэнк, и Нед используют его как средство для достижения цели. Если императив Канта все еще имеет силу, то ни Фрэнк, ни Нед не могут действовать. Различие между персональным/неперсональным не работает, а релевантным является принцип двойного эффекта.
Пример Действие Эмоциональная Преднамеренность/предвидение Отрицательные последствия действия Положительные последствия действия оценка отрицательных действия последствий 1. Дениз Перевести Нейтральное/ Предвидимое Погиб один человек Спасены 5 человек стрелку безличное 2. Фрэнк Столкнуть Отрицательное/личное Преднамеренное Погиб один человек Спасены 5 человек 3. Нед Перевести Нейтральное/ Преднамеренное Погиб один человек Спасены 5 человек стрелку безличное 4. Оскар Перевести Нейтральное/ Предвидимое Погиб один человек Спасены 5 человек стрелку безличноеЭто легко увидеть, если мы разделим данный принцип на несколько составляющих и затем сравним каждый пример, как это показано выше в таблице. Главное, что выясняется в результате сравнения этих примеров: недопустимо наносить преднамеренный вред, если его используют как средство достижения большего блага. И наоборот, вполне допустимо причинить вред, если он представляет собой лишь предвидимое последствие намерения достичь большего блага.
Это далеко не окончательный анализ. Философы, которые обсуждают эти примеры, пошли дальше, показывая, где принцип двойного эффекта распадается и какие варианты расширения параметров необходимы для объяснения наших суждений[125].
Главным здесь оказывается то, что даже небольшие коррективы, вносимые в моральную дилемму, могут существенно изменить наши интуитивные ощущения.
Все, что я сказал о Дениз, Фрэнке, Неде и Оскаре, — плод моих интуитивных ощущений и тех представлений, которые есть у многих, если не всех философов. Они являются результатом анализа принципов, которые, в свою очередь, сделаны на основе длительного и настойчивого изучения этих и подобных им примеров. Цель состоит в том, чтобы найти такие принципы, которыми можно было бы объяснить причины возникновения наших моральных суждений в противоположность разнообразию их практических последствий. Это традиция, которая соответствует характеристике создания Ролза. Однако если вас интересует природа человека, то вы сочтете такую оценку неудовлетворительной по двум причинам.
Во-первых, мои суждения и объяснения, наряду с суждениями и объяснениями специалистов по этике, могут возникнуть только после тщательного изучения таких дилемм. Кроме того, все те, кто пишет на эту тему, это хорошо образованные люди, получившие западное воспитание, которым немного за тридцать. Если мы действительно интересуемся природой моральных суждений человека, то мы должны иметь представление о том, что говорят другие люди, когда они сталкиваются с подобными дилеммами. Эти «другие люди» должны представлять все разнообразие мира, включая молодых и старых, образованных и необразованных, мужчин и женщин, глубоко верующих и убежденных атеистов, а также тех, кто является членом больших или малых групп, живет в мегаполисах, сельской местности, тропических джунглях или обширных саваннах.
Во-вторых, хотя приведенный выше анализ начинает раскрывать некоторые из релевантных принципов и параметров, лежащих в основе наших суждений, неясно, осознанно ли размышляет об этой проблеме всякий, кто впервые читает об этих примерах и затем выносит суждение на основе доказательств, связанных с этими принципами. Возможно, что наши суждения отражают интуицию под воздействием бессознательных и недоступных принципов действия.
Также возможно, как интуитивно чувствовал Ролз, что наши практические описания этих принципов ошибочны, и требуются гораздо более абстрактные понятия для того, чтобы постигнуть то, что скрыто за внешней стороной нашего восприятия.
Судный день
Когда специалисты по этике приступают к исследованию природы моральных суждений, то выбирают одно из двух направлений. Либо они пытаются с помощью аргументов и логики делать умозаключения относительно того, как людям следует поступать, опираясь на имеющиеся в их распоряжении факты. Либо они дают волю интуиции, за которой следует анализ природы интуиции и того, что она значит для выработки нормативных принципов. В любом случае научные данные не играют никакой роли. Когда такие специалисты по этике, как Джудит Томпсон и Франциска Камм, утверждают, что для Дениз допустимо перевести стрелку, а для Фрэнка недопустимо столкнуть грузного человека, они поступают так, опираясь на интуицию и трезвое, объективное и лишенное эмоций размышление. Они также утверждают, что такая ясность мышления является результатом обучения этике и что даже весьма сообразительные, но неподготовленные студенты некоторых наших самых престижных университетов выразят ошибочные интуитивные ощущения и дадут непоследовательные объяснения. Дело не в том, чтобы быть сообразительным, а в том, чтобы научиться рассуждать и добиваться отчетливых интуитивных представлений. Для многих, если не для большинства специалистов по этике не имеет значения, есть ли у миллионов людей интуитивные представления, которые отличаются от их собственных ощущений. Они будут придерживаться своих ощущений, потому что уверены: другие требуют более детального анализа. Но это и есть то место, где связь философии и других наук прекращается и возникают серьезные вопросы о природе интуиции. Есть ли различие между интуицией философа, который долго и напряженно размышляет о различных моральных дилеммах, и интуицией какого-нибудь среднестатистического Джо или Джейн? Когда обсуждаются вопросы, имеющие прикладной характер, например такие, как эвтаназия, аборты, самоубийства и другие ситуации, в которых нанесение вреда считается допустимым, точка зрения философа является важной, но не менее важным представляется мнение людей, которые голосуют — либо с помощью электронного бюллетеня, либо советуясь с более опытными родственниками. Когда философы рассуждают об интуитивных ощущениях, касающихся убийства и разрешения умереть, они должны поинтересоваться тем, что думают об этом другие, даже если их мысли отличаются простотой и наивностью. И если философы хотят использовать эти мысли, то они вовлекают в их изучение ученых, специализирующихся в этой сфере. Эти специалисты могут объяснить, как люди оценивают разные моральные дилеммы, что является причиной межкультурных различий или универсалий, какие точки зрения доминируют и, возможно, даже усложняют работу интеллекта и как тот определяет, является ли какое-либо действие допустимым или запрещенным. Пришло время выйти из аудитории на улицы.
Психолог Льюис Петринович был первым, кто исследовал, как люди, не обученные философии, оценивают этическую дилемму, связанную с принципом спасайся, кто может, и классические примеры с трамвайным вагоном, в которых одна человеческая жизнь приносится в жертву для спасения пяти других жизней[126].
Каждый испытуемый читал сценарий и затем в соответствии со шкалой указывал степень своего согласия или несогласия с конкретным действием. Если, как утверждает Петринович, эволюционная психология подкрепляет наши моральные суждения, то картина реакций должна быть устойчивой в разных культурах и чувствительной к таким релевантным в эволюционном плане параметрам, которые оказывают влияние на выживание и воспроизводство, как родственные связи, этническая группа и вид. Иными словами, при наличии выбора нам следует спасать родственников, а не чужих людей, отдавать предпочтение людям, а не животным, отдельным представителям своей этнической группы, а не тем, кто относится к другим этносам.
Чтобы сделать выбор в пользу совершения одного действия в противовес другому, для американских (из южной Калифорнии) и тайваньских студентов колледжа решающим явился фактор количества, если нет других отличительных признаков. Поэтому перевод стрелки является допустимым для того, чтобы убить одного человека, если цель — спасти пятерых и если испытуемый не знаком ни с кем из шестерых. Когда была раскрыта информация о том, кто есть кто в сценариях Петриновича, оказалось, что испытуемые спасали родственников, а не чужих людей, друзей, а не посторонних людей или животных. Испытуемые отдавали предпочтение также политически неопасным или вообще аполитичным людям, в отличие от политиков, имеющих скверную репутацию. В обеих культурах испытуемые считали, что допустимо спасти незнакомого человека, а не оказавшуюся в опасности гориллу, а также пожертвовать несколькими людьми с политически неприемлемыми убеждениями (например, нацистами) для спасения одного человека с политически и эмоционально нейтральными убеждениями. Эти результаты наблюдались в обеих группах, несмотря на то что тайваньские студенты были склонны следовать восточным религиозным установкам, согласно которым лучше бездействовать, чем совершать действия. Так же как и американцы, тайваньские студенты полагали, что допустимо, чтобы такой свидетель, как Дениз, перевела стрелку и убила одного человека для спасения пятерых, но недопустимо столкнуть грузного человека, который оказался перед трамвайным вагоном, для того, чтобы убить его, но спасти пятерых. Петринович делает вывод о том, что индивидуальные моральные суждения отражают сложившиеся в эволюции универсальные процессы принятия решения, которые повышают генетически детерминированную приспособленность[127].
Работа Петриновича показывает, что науки могут внести интересный вклад в наше понимание моральных суждений. С учетом объяснения особенностей создания Ролза, однако, мы не продвинулись достаточно далеко. Если иметь в виду, что испытуемые выбирали из разных вариантов по каждому сценарию, определяя степень своего согласия или несогласия с разными решениями конкретной дилеммы, неясно, представляют ли их реакции интуитивные ощущения на основе бессознательного анализа действия, эмоциональных вспышек или осознанного рассуждения. Кроме того, поскольку Петринович не спрашивал испытуемых об их объяснениях, мы не знаем, были ли их решения основаны на интуиции или на осознанном рассуждении, опирающемся на явные моральные принципы; то, что родство, знакомство и политическая принадлежность влияют на моральные суждения, не позволяет сделать вывод о том, что люди используют эти параметры для сознательного рассуждения о моральных дилеммах.
Философ и юрист Джон Микайл разработал серию примеров с трамвайным вагоном, чтобы объяснить фрагмент моральной грамматики создания Ролза, особенно тех правил, которые регулируют суждения о допустимом вреде[128].
Исследование Микайла имело несколько отличий от исследования Петриновича: все участники были анонимными, что обеспечивало беспристрастность и вынуждало испытуемых оценивать каждый пример на основе иных параметров, в особенности таких, как связь между интенцией, действием и следствием; рассматривая каждый сценарий, испытуемые судили, являлось ли действие морально допустимым (шкала ранжирования отсутствует), и затем объясняли свой ответ; среди испытуемых были мужчины и женщины, группа 8—12-летних детей и несколько некоренных американцев, живущих в США, в частности иммигранты из Китая.
Микайлу, очевидно, было интересно изучать те принципы, которые появляются в общем праве, особенно то, как они влияют на суждения людей, и то, насколько они доступны для осознанного размышления. Вот какие определения он дал двум ключевым принципам, при этом второй принцип нам уже известен. [129]
Так же как и Петринович, Микайл не нашел подтверждений того, что пол, возраст и национальность влияют на характер суждений о допустимости. Он также не нашел доказательств того, что простые этические, утилитарные или условные правила объясняют различия между суждениями о допустимости в связи с моральными дилеммами. Например, если испытуемые думали, что убийство — это всегда плохо (этический подход), что действия, направленные на максимальное увеличение всеобщего блага, всегда предпочтительнее (утилитарный подход) или что такие нейтральные в моральном смысле действия, как перевод стрелки, всегда допустимы (условный подход — если действие относится к типу «X», то его надо выполнять), то испытуемым следовало оценить действия Дениз, Фрэнка, Неда и Оскара либо как абсолютно допустимые, либо как совершенно невозможные — во всех четырех случаях происходит убийство, а совершение действия максимально увеличивает всеобщее благо. Однако, отражая те интуитивные представления, которые я попытался объяснить выше, большинство испытуемых говорили, что Дениз может перевести стрелку (убийство одного человека и спасение пятерых), Фрэнк не может столкнуть грузного человека (убийство этого человека и спасение пятерых), Нед не может перевести стрелку (убийство одного человека как средство спасти пятерых), а Оскар может перевести стрелку (убийство одного человека как предвидимый побочный эффект спасения пятерых). Кроме того, поверхностное рассмотрение тех объяснений, которые давали испытуемые, привело Микайла к предположению о том, что люди чрезвычайно непоследовательны, когда нужно объяснять свои суждения. Например, некоторые испытуемые удивлялись тому, что они давали разные ответы по двум сценариям, а результат был одним и тем же — пять человек спасены, один умер. Другие испытуемые говорили, что они делали выбор в соответствии со своей интуитивной реакцией, инстинктом. Когда речь идет об определенных моральных дилеммах, то оказывается, что люди уверены в своих суждениях, но не могут их объяснить. Эта модель реакций начинает раскрывать сущность имеющегося у нас морального чувства и принципы его действия.
Для Микайла противопоставление Неда и Оскара стало решающим соображением, что исключает, таким образом, создание
Юма, потому что оба примера связаны с опосредованным действием, имеющим одинаковые последствия. Объяснением разных суждений служит принцип двойного эффекта, который действует, но не проявляется, когда людей просят объяснить их реакции. Как создание Ролза, мы оснащены умственным барометром, который проводит различие между убийством как средством и как непреднамеренным, но предвидимым побочным эффектом. Убийство — это плохо, если оно совершается преднамеренно, как средство для достижения цели. Убийство допустимо, если оно неумышленное, но представляет предвидимый побочный продукт большего блага.
На основе полученных результатов Микайл делает вывод о том, что «мы в состоянии объяснить, как люди могут составлять моральные суждения, которые они выводят с помощью рациональных принципов, в частности с помощью принципа запрета преднамеренного физического насилия и принципа двойного эффекта». Когда он говорит «с помощью», то не имеет в виду, что испытуемые осознанно думают об этих принципах. Скорее их действие осуществляется бессознательно, но непосредственно влияет на суждение. И когда Микайл говорит «рациональные принципы», он просто подразумевает, что есть какая-то логика, которая связывает намерения и действия, а также действия и последствия. Таким образом, интуитивное знание, лежащее в основе наших моральных суждений, напоминает интуитивное знание языка, физики, психологии, биологии и музыки, т. е. тех тем, к которым я вернусь во II и III частях. Мы знаем, что два твердых предмета не могут занимать одно и то же место одновременно и что твердый предмет упадет строго вниз, если его не поддерживать и не создавать ему помех во время падения. Но мы знаем это без курса физики, даже не подозревая об этом. Утверждение, сделанное Микайл ом, и та ключевая идея, которая движет моими доводами в пользу наличия морального чувства, состоят в том, что большая часть наших знаний о морали также интуитивна и основана на бессознательных, недоступных для сознания индивида, принципах, которыми руководствуются суждения о допустимости. Учитывая очевидную неспособность испытуемых объяснить свои моральные суждения, можно сделать вывод о том, что результаты, полученные Микайлом, противоречат структуре созданий Канта и критериям морального прогресса, предложенным Колбергом.
Эти результаты также противоречат представлениям Кэрол Гиллигэн, специалиста по возрастной психологии, которая критиковала Колберга за то, что он сосредоточил внимание на мальчиках как на контрольном примере и ограничил вопросы морали справедливостью в ущерб тем аспектам нашего морального поведения, которые связаны с воспитанием. По утверждению Гиллигэн, девочки морально взрослеют иначе, чем мальчики. Когда они сталкиваются с моральными дилеммами, их больше волнуют вопросы воспитания, а мальчики, наоборот, больше озабочены вопросами справедливости. Девочки хотят убедиться, что их отношения носят функциональный характер и отражают достаточный уровень воспитанности, а мальчикам важнее справедливость, даже если это может бросить тень на их отношения. Ни в выборке Микайла, ни в выборке Петриновича не было данных о гендерных различиях в образцах суждений. Когда речь идет об оценке моральной допустимости нанесения вреда и спасения, мальчики и девочки, а также мужчины и женщины соответственно ведут себя как клоны. Гендерные различия могут иметь значение при совершении действий и в тех объяснениях, которые дают представители разных полов. Но когда речь идет о нашей сформировавшейся в эволюции способности морального суждения — нашей моральной компетенции, — создается впечатление, что мы говорим одинаково, т. е. от лица своего вида.
Работа Микайла выходит за рамки первоначального исследования, проведенного Петриновичем. Но она также оставляет без ответов многие вопросы, касающиеся универсальности моральных суждений человека и нашей способности к познанию принципов, лежащих в ее основе. Микайл тестировал американских студентов и детей, взрослых (нестуденческого возраста) неамериканцев, воспитанных в западной культуре, и недавних иммигрантов из Китая. Эти испытуемые, однако, не гарантируют вывода о том, что «люди», предположительно представляющие Homo sapiens, делают сопоставимые суждения о моральной допустимости. Они не гарантируют вывода и о том, что наш вид наделен универсальной моральной грамматикой. В некоторых культурах одобряется детоубийство и убийство супруга в качестве наказания за промискуитет, что означает значительное культурно-нравственное отклонение от запрета преднамеренного оскорбления действием. Оно может отражать различия между тем, что люди реально делают, и тем, как они воспринимают эти действия, т. е. различия между действиями людей и их моральной компетенцией. Но эти различия могут также отражать изменения компетенции, тем самым подвергая сомнению идею универсальной моральной грамматики или, как минимум, форсируя «улучшение» сути лежащих в ее основе принципов.
Микайл цитирует несколько объяснений, которые означают психологический разрыв между тем, о чем люди говорят как о морально допустимом, и тем, что они предлагают в качестве оправдания или объяснения своего суждения. Когда речь идет о моральных дилеммах, решение принимается разумом, но он не раскрывает принципов своей работы, и поэтому люди формулируют такие принципы, которые создают слабую или непоследовательную поддержку их суждению. В связи с результатами, полученными Микайлом, возникает несколько вопросов. Меняются ли наши моральные суждения, если нам известны глубинные принципы нашей моральной способности к суждению? Если мне говорят, что принцип двойного эффекта служит подходящим оправданием для того, чтобы оценить действие, совершенное Оскаром, как допустимое, а действие, совершенное Недом, как недопустимое, то запомню ли я это и буду ли всегда остерегаться в тех случаях, когда этот принцип нарушается кем-либо? Прав ли я, полагая, что тот, кто использует другого человека как средство для достижения большего блага, всегда виновен в нарушении морального закона? Если какая-то мать задушит своего плачущего младенца, чтобы спасти сотню беженцев от враждебной группы партизан, которая может их обнаружить, то она нарушит принцип двойного эффекта, но будем ли мы оценивать ее поступок как запрещенный? Если вы отвечаете отрицательно, то только ли из-за соотношения одного к ста, когда большее благо явно превосходит отрицательные последствия ее поступка? Почему считается очевидным, что количество в этом случае важнее всего? Разве жизнь одного ребенка не представляет такой же
ценности, как жизнь любого человека из этой сотни? Не потому ли, что у матери есть выбор, когда речь идет о жизни ее ребенка?
Для того чтобы найти ответы на нерешенные вопросы, поднятые в работах Петриновича и Микайла, мои студенты Файэри Кушман, Лиана Янг и я составили «Тест морального чувства» (moral.wjh.harvard.edu). Имея только его англоязычную версию, мы получили данные от 60 000 испытуемых из 120 стран в течение первого года работы сайта. На вопросы теста отвечали и семилетние дети, и семидесятилетние старики; женщины и мужчины; люди без образования, с начальным или средним образованием, студенты, кандидаты и доктора разных наук; атеисты, католики, протестанты, иудеи, буддисты, индуисты, мусульмане и сикхи; представители 120 этносов. Так же как Петринович и Микайл, мы использовали примеры с трамвайным вагоном и примеры других моральных дилемм, в которых рассматривались проблемы нанесения вреда, спасения и распространения полезных ресурсов, например медикаментов. Мы также меняли интенции, поступки и последствия в каждом сценарии, оставляя неизменными количество участников и их анонимность и исключая всякую форму пристрастности. Мы использовали более широкий набор дилемм, имеющих разное содержание (не только пример с трамвайным вагоном, но и со слонами, спасающимися бегством, горящими домами, спасательными шлюпками, раздачей дефицитных лекарств), формулировку действия (убить, спасти, задавить), разное время для ответа (столько времени, сколько необходимо, или сокращенное количество времени, или требование сразу отвечать на вопрос), учитывающих личность участников теста и его цели (анонимный свидетель, сам испытуемый как действующее лицо или как цель/ жертва). По каждой дилемме мы спрашивали, является ли совершение действия допустимым, обязательным или запрещенным. Также мы просили испытуемых дать объяснение своим суждениям и затем анализировали, насколько последовательными и непоследовательными являются полученные ответы.
Рассмотрим еще раз примеры с Дениз, Фрэнком, Недом и Оскаром.
Около 90% из нескольких тысяч испытуемых, которые участвовали в тесте и описывали свои реакции на один из вышеуказанных примеров как на первую моральную дилемму, сказали, что вполне допустимо, чтобы Дениз перевела стрелку, в то время как только около 10% посчитали допустимым, чтобы Фрэнк толкнул грузного человека. Хотя все испытуемые были англоговорящими людьми, имеющими доступ в Интернет, суждения, которые они высказывали, были последовательными, независимо от различий в возрасте, этнической и религиозной принадлежности, уровня образования вообще и знания этики в частности. Тем не менее, объясняя, что действие, совершенное Дениз, допустимо, а то, что сделал Фрэнк, недопустимо, 70% испытуемых были такими же беспомощными, как дети на первом этапе модели Колберга. Неудовлетворительные ответы содержали обращения к Богу, эмоции, предчувствия, интуитивные чувства, этические правила (убивать — это плохо), утилитарные последствия (максимальное увеличение наибольшего блага) и высказывание, которое мне понравилось больше всего: «Черт его знает, что будет!» В тех ответах, которые можно считать удовлетворительными, примерно половина испытуемых отмечала какой-нибудь элемент принципа двойного эффекта (недопустимо использовать грузного человека намеренно для спасения жизни пяти других человек), в то время как для остальных испытуемых главным было различие между персонифицированным и обезличенным вредом. То, что большинство людей не знают, почему они дают разную оценку всем этим примерам, с одной стороны, подкрепляет вывод о том, что люди обычно высказывают моральные суждения, не зная о принципах, лежащих в их основе. С другой стороны, возможно, те, кто действительно дает настоящие объяснения, это более взрослые и мудрые люди, с хорошим общим образованием, имеющие специальную подготовку по этике и праву. Ничто не предполагало такой дифференциации, если говорить о наших испытуемых. Более старшие по возрасту, образованные, религиозные азиатские женщины давали такие же неудовлетворительные объяснения, как и молодые, необразованные, нерелигиозные европейские и американские мужчины. Многие чувствовали то же, что и Грачо Маркс’, заявляя: «Вот мои принцип. Если они вам не нравятся, у меня есть другие принципы».
Грачо Маркс — известный американский комик.
Отношение к примерам с Недом и Оскаром было несколько иным. Около 50% испытуемых полагали, что Нед может перевести стрелку, в то время как примерно 75% испытуемых считали, что Оскар тоже может это сделать. Хотя трудно дать точное определение тому, что понимается здесь под большинством, представляется, что мнения людей относительно Неда разделяются, а в случае с Оскаром они демонстрируют большую уверенность в том, что тот должен перевести стрелку. Если испытуемых будет больше и их состав будет разнообразнее, то это будет означать, что вывод Микайла в какой-то степени подтверждается: больше тех людей, которые считают, что допустимыми будут действия Оскара, а не Неда. Единственное различие между этими двумя примерами состоит в том, что отрицательное последствие действия Неда является средством для достижения положительного результата, а действие Оскара приводит к предвидимому негативному результату. Но понимают ли люди это различие, напоминающее принцип двойного эффекта? Хотя эти примеры являются фактическими клонами, предоставляя только одно морально релевантное различие, всего 10% испытуемых объяснили свой ответ, опираясь на это различие. Еще раз отметим, что в этих людях не было ничего особенного. По причинам, которые нам до сих пор неизвестны, небольшому меньшинству людей доступны релевантные принципы, но далеко не все из этих людей обучались этике.
Можем ли мы теперь сделать вывод о том, что объяснения, касающиеся определенных форм нанесения вреда, являются универсальными? Все еще нет. Хотя в нашем интернет-тесте принимало участие очень большое количество испытуемых и анализ культурных и демографических параметров отразил небольшие или совсем несущественные различия, есть одна очень заметная проблема: все они — пользователи Интернета, все работали в нем, например узнавали новости, покупали что-нибудь в интернет-магазине «Амазон», скачивали музыку. Более того, все, кто участвовал в тесте, могли читать по-английски, а большинство были носителями английского языка из США, Канады, Австралии и Англии. Чтобы исправить эту ситуацию и расширить межкультурный охват, мои студенты и я перевели наш веб-сайт еще на пять языков — иврит, арабский, индонезийский, китайский и испанский — и стали тестировать те же небольшие группы, которые антропологи тестируют с помощью игр, имитирующих ведение экономических переговоров. Несмотря на то что слишком рано говорить об этом с уверенностью, общая модель та же: допустимый вред зависит от параметрических изменений, а суждения не управляются принципами, которые доступны разуму.
Независимо от результатов межкультурного исследования лингвистическая аналогия приводит к четким прогнозам. Мы не рассчитываем на всеохватывающую универсальность, скорее мы надеемся на нечто, более похожее на лингвистические варианты, а именно — системные межкультурные различия на основе параметрических условий. Таким образом, наряду с межкультурными исследованиями игры «Ультиматум», мы рассчитываем установить межкультурные различия с учетом того, как они определяют параметры, связанные с принципами, касающимися нанесения вреда или оказания помощи другим людям. Например, как в случае с ведением переговоров и суждениями о несправедливости, учитываются ли в разных культурах такие параметры, как ответственность участника за совершаемое действие, утилитарный результат, и рассматриваются ли последствия какого-либо действия как преднамеренные или предвидимые? Я полагаю, что некоторые аспекты расчета являются универсальными, т. е. представляют собой часть нашего морального инстинкта. Я очень сомневаюсь, что люди будут отличаться по своей способности вычислять причины и последствия какого-либо действия. На бессознательном уровне все будут понимать различие между преднамеренными или предвидимыми последствиями, преднамеренными и случайными действиями, поступками и их отсутствием, появлением угрозы и ее переадресацией. Главное в размышлении о межкультурных различиях — это выяснить, как эти универсальные факторы приводят к возникновению различных обществ и в результате этого появляются различия в моральных суждениях.
Когда в течение небольшого периода времени мы читаем одно за другим описания нескольких из этих дилемм, у меня возникает отчетливое ощущение, что я больше не могу придумать им всем никакого объяснения. Оказывается, что то, как я реагирую на одну дилемму, влияет на то, как я реагирую на другие дилеммы — либо из-за изменений моего эмоционального состояни я, либо потому, что я пытаюсь сохранить некую видимость логической последовательности во всех дилеммах. Превосходной иллюстрацией сказанного является то, как реагировал на некоторые из этих дилемм мой отец, особенно если учесть, что он получил образование гиперрационального, логически мыслящего физика. Вначале я попросил его дать оценку примеру с Дениз. Он быстро отреагировал, сказав, что она может перевести стрелку для того, чтобы спасти пятерых, но убить одного. Потом я предложил ему оценить пример с Фрэнком. И здесь он тоже быстро ответил, что Фрэнк может столкнуть грузного человека на рельсы. Когда я спросил его, почему он объясняет оба примера одинаково, т. е. почему они морально равноценные, он ответил: «Это очевидно. Примеры одинаковые. Они сводятся к проблеме количества. Совершаемые в них действия являются допустимыми, потому что они приводят к спасению пятерых и гибели одного человека». После этого я предложил ему рассмотреть вариант примера с донорскими органами, упомянутый в главе 1. Вкратце речь идет о том, что врач может позволить умереть пятерым пациентам, каждому из которых нужен орган для пересадки, или он может лишить жизни одного безвинного человека, который просто зашел в больницу, вырезав у него здоровые органы для спасения этих людей. Мой отец оценил данную дилемму как недопустимую — то же сделали 98% участников нашего интернет-теста. Было интересно наблюдать за тем, что произошло дальше. Понимая, что предшествующие объяснения больше не имеют смысла, он дал волю своим логическим рассуждениям, что заставило его пересмотреть пример с Фрэнком. И тогда, когда мой отец почти отказался от своего объяснения примера с Дениз, он остановился и вернулся к своему прежнему объяснению. Я спросил его, почему допустимым является только то действие, которое совершает Дениз. Не имея ответа, он сказал, что эти примеры носят искусственный характер. Я рассказываю эту историю не для того, чтобы над моим отцом посмеялись. У него блестящий интеллект. Но, подобно всем остальным испытуемым, у него нет доступа к тем принципам, которые лежат в основе его рассуждений, даже тогда, когда отец думает, что он есть.
Для того чтобы лучше понять, как опыт размышления над моральными дилеммами влияет на моральные суждения, мы более тщательно рассмотрели примеры с Недом и Оскаром. Некоторые испытуемые оценивали только один из примеров, некоторые — оба примера в течение одного сеанса, а некоторые — один пример в пределах первого сеанса, а второй — во время следующего сеанса, который проводился через месяц. Повторяя вышеизложенную информацию, когда испытуемый оценивает только один из примеров, половина испытуемых оценила действия Неда как допустимые, а три четверти так же отнеслись к действиям Оскара. Однако если рассматривать оба примера — либо в течение одного сеанса, либо двух разных сеансов, — то вы попадаете в одну из двух групп: вы оцените оба действия либо как допустимые, либо как недопустимые. Это подтверждает три вывода: то, что мы знаем об этих дилеммах, влияет на наши суждения, влияние на суждение не превращается в наши объяснения и способность постигать принципы, лежащие в их основе, и оказывается, есть люди, которые, по неизвестным причинам, более склонны оценивать определенные ситуации как допустимые или недопустимые.
В этом разделе я рассматривал примеры с трамвайным вагоном для того, чтобы показать, как специалисты по этике могут воспользоваться лингвистической аналогией и устанавливать некоторые из принципов и параметров, лежащих в основе наших моральных суждений. Это набросок, дающий представление о том, какой может быть этическая грамматика. Это описание принципов, которые могут объяснить некоторые аспекты этического знания — нашей компетенции в оценке моральных дилемм.
Культуры мачо
Особенности нашего восприятия чужих действий обычно дают слабое представление о наших собственных действиях, о том, что бы мы сделали или могли бы сделать в тех ситуациях, когда есть выбор между насилием и его отсутствием. Нам нужно лучше представлять, что делают реальные люди в реальных ситуациях в реальных культурных контекстах.
Проводя параллель с изучением языка, отметим, что один из способов определить, являются ли универсальные принципы и параметры, которые допускают культурные различия, частью нашей способности морального суждения, заключается в том, чтобы тщательно изучить антропологическую литературу, в которой есть много описаний того, что делают люди во всем мире, когда сталкиваются с выбором между эгоизмом и милосердием. Хотя в истории нашего вида есть много универсальных характеристик насилия[130] (например, мужчины несут ответственность за непропорционально большое количество убийств в целях самообороны, и в основном это молодые мужчины в возрасте 15—30 лет), внутри отдельных культур и между культурами есть существенные различия, которым нужно найти объяснение. В действительности лучше всего уровень насилия можно предсказать по количеству холостых молодых мужчин! И если вы поймете логику этого довода, то вскоре поймете, что те общества, в которых культивируется полигамия, являются наиболее уязвимыми для такого насилия, потому что некоторые мужчины присваивают себе большую часть жен, не оставляя другим никаких шансов[131].
Сталкиваясь с межкультурными различиями, многие ученые в области гуманитарных и общественных наук не отчаиваются, предполагая, что рассматриваемые модели насилия просто подвержены влиянию местных особенностей страны и ее климата. Подобно бутылке, которая плывет по воле океанских течений и разных ветров, культуры насилия распространяются, останавливаясь на некоторое время, прежде чем вновь измениться непредсказуемым образом. И наоборот, некоторые психологи и антропологи утверждают, что они могут объяснить изменения, глубоко проникая в нашу сформировавшуюся в эволюции психологию. Культурные изменения происходят только при наличии специализированных психологических механизмов, которые обеспечивают определенные формы обучения. Вспомните еще раз, как структурные лингвисты характеризуют языковую способность: это универсальный набор средств для создания данной, а не какой-либо иной группы языков. Наша эволюционировавшая способность создавать язык позволяет нам порождать много разнообразных языков и одновременно ограничивает нас, при этом некоторые языки не поддаются изучению, а если и поддаются, то не всем. Мы можем точно так же представить себе эволюционный подход к насилию. Наши биологические особенности накладывают ограничения на модель насилия с поправкой на некоторые варианты в противоположность другим; то, какие варианты возможны и выбираются, зависит от того, что было раньше, и от того, что есть в настоящее время. Как полагают эволюционные психологи Марго Уилсон и Мартин Дэли, «опасное, связанное с конкуренцией насилие отражает активацию ментальности, склонной к риску, которая модулируется настоящими и прошлыми показателями чьего-либо социального и материального успеха, и какой-то современной ментальной моделью местной практики конкурентного успеха, как в общем, так и с учетом чьей-либо персональной ситуации. Таким образом, кроме пола, к источникам изменчивости, вероятно, относятся возраст, материальный и социальный статус, семейное положение, наличие или отсутствие детей; такие характеристики местного населения, как соотношение мужчин и женщин, широкое распространение полигамии и размеры групп населения; экологические факторы, которые влияют на стабильность притока ресурсов и ожидаемую продолжительность жизни»[132].
С точки зрения общей теории этики, мы хотим исключить возможные предубеждения, которые могут заставить нас считать более справедливыми те ситуации, в которых отдается предпочтение отношениям не вне, а внутри группы. Я пользуюсь здесь понятием «исключить» для обозначения пробела в практике, который надо восполнить, честно подтверждая, что мы унаследовали от наших прародителей-приматов (и может быть, еще раньше) в высшей степени предвзятую и пристрастную ментальность, которая изначально настроена на защиту своих (т. е. родственников). Именно это внутригрупповое пристрастие и надо преодолеть, если нам нужно выдвинуть беспристрастную моральную теорию[133].
Для того чтобы лучше понять, как наша способность выносить моральное суждение взаимодействует с другими аспектами психики и способностью жить в обществе, мы хотим выяснить, как развиваются, сохраняются и прекращают существование осознанные и бессознательные пристрастия.
Вот простой тест для определения степени агрессивности вашего темперамента. Если бы кто-нибудь толкнул вас и сказал уходя: «Козел!» — то это лишь слегка возмутило бы вас, или же вы разразились бы ответной бранью? Если вы американец и чувствуете себя оскорбленным, готовым поколотить обидчика, вполне возможно, что вы выросли на Юге. Если вы полагаете, что это утверждение отражает мою самонадеянность и предубеждение, то вы правы лишь отчасти. В глазах многих людей Юг всегда представляется неким противоречивым соединением карикатуры на мисс Мэннэрс и утрированной мужественности — мачизма — воинственного парня, рекламирующего сигареты «Мальборо». Но исследования, тщательно проведенные социальными психологами Ричардом Низбетом и Довом Коэном, показывают, что мачизм доминирует, вызывая появление культуры чести[134].
Вот как Низбет и Коэн объясняют культурные различия. У таких культур чести, как на американском Юге, в происхождении есть нечто общее. Они появляются тогда, когда отдельным людям приходится брать в свои руки все, что связано с правопорядком, потому что носителей официального права, которые могли бы защитить их от конкурентов, посягающих на ценные ресурсы, нет. Так возникает психология насилия. Вы можете украсть домашний скот (коров, коз, лошадей, овец), но вы не можете украсть урожай, т. е. вы, конечно, можете украсть несколько картошин или морковок, но это не то количество, которое нанесет серьезный ущерб владельцу. Культуры чести, следовательно, имеют тенденцию развиваться среди скотоводов, а не среди фермеров. Многие подобные культуры возникали на протяжении истории на разных континентах, включая такие скотоводческие племена, как индейцы зуни в Северной Америке, андалусцы в южной Испании, кабилы в Алжире, саракацаны в Греции и бедуины на Ближнем Востоке.
Колонизация Юга и Севера США выдвигает на первый план связи между ресурсами, насилием и социальными нормами. Шотландские и ирландские скотоводы осваивали Юг, а голландские и немецкие фермеры Север. Во время колонизации не было ни законов вообще, ни плохо работающих законов в частности. Поэтому скотоводы Юга придумали собственный способ защиты — закон возмездия, или lex talonis, — как средство защиты [135] своей собственности. То, что начиналось как ответ мачо на попытки завладеть его скотом, впоследствии распространилось на другие стороны жизни, в том числе и на случаи супружеской неверности. Если мужчина заставал кого-либо в кровати со своей женой — на месте преступления, — то в этой ситуации он не только мог, но и должен был защитить свою честь, убив обидчиков. Южане переняли эту культуру чести и перенесли ее на многие другие аспекты жизни.
Низбет и Коэн воспользовались этими историческими сведениями как исходным пунктом для своего исследования, в частности для экспериментов по изучению степени агрессивности, которые были описаны выше для знакомства с этой темой. Хотя различие между Севером и Югом возникло несколько столетий назад, многие думают, что Юг все еще придерживается культуры чести. Такое представление подкрепляется анализом названий городов[136].
В названиях городов на Юге в два раза чаще, чем на Севере, можно встретить такие слова, как «ружье», «убивать» и «война» (Gun Point во Флориде, War в Западной Вирджинии), а в городах на Севере в два раза чаще, чем на Юге, встречаются названия, включающие слова «радость» и «мир» (Mount Joy в Пенсильвании, Peace Dale в Род-Айленде). Хотя в названиях городов могут присутствовать следы прошлого, эти модели все еще продолжают использоваться, что подтверждается наличием большего количества компаний на Юге, которые носят такие названия, как Warrior Electronics, Gunsmoke Kennels и Shortguns BarBQ.
Если мачизм прошлого все еще присутствует в настоящем, то южане должны бы реагировать более агрессивно, чем северяне, в тех ситуациях, когда их потенциальная честь находится в опасности, даже если они оказываются далеко от родного дома. Низбет и Коэн проверили такую вероятность, проведя эксперименты по установлению степени агрессивности с участием студентов университета Мичигана; за исключением места происхождения — Юг или Север — у всех испытуемых были одинаковые социально-экономические и этнические (белые, неиспаноговорящие, неевреи) характеристики.
В одном случае член экспериментальной группы (которого в целях эксперимента назвали «провокатором») подходил к испытуемому в узком коридоре, толкал его и либо продолжал идти своей дорогой, либо выкрикивал «Козел!», прежде чем уйти. Когда «провокатор» толкал и оскорблял южан, они проявляли большее раздражение и большую реакцию на стресс, что выражалось в увеличении содержания гормона кортизола, а также повышении уровня тестостерона — индикатора агрессивного намерения. Северяне воспринимали толчок и словесное оскорбление как шутку, и у них не было отмечено выраженного изменения уровня кортизола или тестостерона.
В другом случае один «провокатор» толкал и оскорблял испытуемого и через некоторое время появлялся другой — молодой человек ростом шесть футов три дюйма и весом 250 фунтов. При этом южане, в отличие от северян, не только проявляли большее раздражение, но и не были склонны уйти при приближении этого громилы. После того как их однажды уже оскорбили, они не собирались терпеть оскорбление еще раз. Они боролись за то, чтобы победа осталась за ними.
Когда оскорбляют северян, они могут не обращать на это внимания, подавляя в себе желание нанести ответный удар в словесной («От козла слышу!») или физической форме. У южан другая физиологическая установка. Система контроля у южан слабее, чем у северян, по крайней мере в том, что касается рассматриваемого примера. Эти результаты показывают, что культура может контролировать наши агрессивные тенденции, в частности, порог включения позывов к борьбе. Все люди способны к агрессии, но у каждого человека своя критическая точка. В некоторых культурах у людей больше похожих критических точек, чем у населения других культур. На Юге, более вероятно, люди не только агрессивно ответят на оскорбление: они рассчитывают на ответную агрессивную реакцию на оскорбление. Если северянин видит, что кто-то не отвечает на оскорбление, то такое поведение считается правильным. Южанин отнесется к этому как к проявлению слабости и трусости.
В этих наблюдениях удивительно то, что ментальность культуры чести может так долго (с момента ее возникновения) эксплуатировать психологию. Более того, как отмечают Низбет и Коэн, эта психология может влиять на отношения, которые возникают в разных тесно связанных общественно-политических сферах.
Ряд законов, институтов и социально-политических курсов, которые требуют участия многих людей, в общей системе ценностей не противоречат характеристике Юга как культуры чести. К ним относятся неприятие контроля над оружием; предпочтение законов, которые допускают насилие как способ самообороны, защиты дома и собственности; предпочтение сильной национальной обороны; предпочтение институционального использования насилия для социализации детей; стремление использовать смертную казнь и другие формы государственного насилия для предотвращения преступности и поддержания общественного порядка. Кроме того, люди, выполняющие институциональные роли, с большим пониманием относятся к насилию, связанному с защитой чести, и больше склонны рассматривать такое насилие как адекватный ответ на провокационное поведение другого человека.
Ни одну из моделей культуры чести, существующую в США, нельзя объяснить различиями между Югом и Севером с точки зрения погодных условий, соотношения бедности и богатства или истории рабства. Например, хотя климат на Юге теплее, чем на Севере, самое большое количество убийств, совершенных на Юге, происходит в районах с более холодным климатом, а региональное различие наблюдается только среди белых, а не афроамериканцев. Также, хотя Юг в целом беднее, чем остальные районы США, коэффициент убийств выше на Юге, чем на Севере, если сравнивать жителей больших и небольших городов с сопоставимым уровнем доходов, а в крупных городах Юга с одинаковым уровнем доходов наблюдаются огромные диспропорции в коэффициенте убийств. Наконец, хотя труд рабов стали использовать на Юге раньше, чем на Севере, самый низкий уровень убийств на Юге приходится на те районы, где рабство имело большее распространение.
Исследования Низбета и Коэна показывают, как психологический фактор, лежащий в основе определенной социальной нормы, может мешать изменению даже тогда, когда первоначального импульса или катализатора давно нет. Южанам уже не надо защищать свои стада, но их психология не реагирует на изменения жизни. В случае с культурами чести возможность того, что у отступника будет искушение забрать ресурсы у соперника, породила рефлексивную реакцию на угрозу, которая принимает форму насилия. В каком-то смысле системы контроля приходят к компромиссу, по мере того как давление, направленное на защиту чести, доминирует. Культуры чести так же, как витрина, отражают экономическое понятие уступки, т. е. желание поддаться внезапному искушению убить соперника, который угрожает чьим-либо ресурсам, вместо того чтобы подождать и выбрать альтернативное решение, не связанное с насилием. Хотя импульсивность и нетерпение обычно рассматриваются как неадекватные адаптивные реакции, более вероятно, что люди прошли естественный отбор для того, чтобы реагировать на возможность получить что-нибудь сразу, в частности тогда, когда перспективы на будущее неясные или мрачные. Иногда лучше ударить соперника, чем ждать, пока старейшины вынесут свое обдуманное и мудрое решение. Позвольте мне остановиться на этой мысли подробнее.
Добывание еды часто вызывает какую-нибудь задержку. В первобытном обществе охотникам требовалось время для поиска и отстрела добычи. Охотник мог столкнуться со множеством потенциальных жертв во время охоты, но он должен был решить, стоит ли отказаться от одной в пользу другой, более подходящей жертвы. Часто охотник убивал какое-нибудь мелкое животное, а не ждал случая, когда можно будет убить крупное животное. В скотоводческих обществах выбор делался между тем, чтобы убить молодое, небольшое по размеру и еще не способное давать потомство животное, и тем, чтобы подождать, пока оно подрастет, достигнет репродуктивного возраста и, в некоторых случаях, будет давать молоко. Терпение имеет свои преимущества и также требует контроля вопреки искушению. Данные, которые я буду подробнее обсуждать в главе 5, показывают, что в нашей способности откладывать вознаграждение, есть врожденные различия, при этом индивидуальные различия не меняются на протяжении нашей жизни: импульсивные дети становятся такими же взрослыми, а терпеливые дети — терпеливыми взрослыми.
Дети, которые сразу получают меньшее вознаграждение вместо того, чтобы дождаться более крупной награды, с большей вероятностью станут малолетними преступниками, алкоголиками, игроками, неуспевающими учащимися, взрослыми с непрочными социальными и семейными отношениями. Они портят удовольствие от будущего, ими управляет искушение получить вознаграждение немедленно. Один отрицательный побочный продукт этой функции уступки состоит в том, что люди, возможно, рассматривают насилие как самое легкое, быстрое и эффективное краткосрочное решение проблемы несправедливого распределения ресурсов.
Насилие и небольшая степень риска могут выглядеть как неадекватные стратегии, но в той среде, где прогнозы на будущий успех плохие, они могут составлять большую часть адекватных стратегий[137].
Например, Дэли и Уилсон показали, что в Чикаго ожидаемая продолжительность жизни мужчин, которая варьируется от 55 до 77 лет в зависимости от социально-экономического статуса района проживания, является самым лучшим фактором, предсказывающим коэффициент убийств. Если вы живете там, где мужчины редко доживают до 60 лет, коэффициент убийств составляет 100 на 100 000, за исключением смерти в результате убийства; этот коэффициент падает примерно до 1 на 100 000 в тех районах, где мужчины живут дольше 70 лет. Кроме ожидаемой продолжительности жизни, различие в уровне семейного дохода, известное как индекс Гини, также вносит вклад в микрои макроскопические различия в уровне насилия. В США и Канаде в целом и в разных районах Чикаго в частности коэффициент насилия является наиболее высоким там, где наблюдается самый большой уровень неравноправия. Когда ненависть показывает свое уродливое лицо, системы контроля разрушаются, уступая место насилию.
Возможность немедленного получения ресурсов провоцирует действия, которые максимально повышают наш статус. На этом уровне мы все — универсальные конъюнктурщики. На другом уровне наша способность к моральному суждению продуцирует суждение о равенстве и справедливости в более общем виде, сдерживая власть эгоизма. Каждая культура, следовательно, накладывает свой собственный набор ограничений на то, когда отдельные люди могут использовать эти конъюнктурные и стратегические ментальные программы. Это отражает показатель параметрического изменения.
Авторитет, иерархия доминирования и послушание играют дополнительную роль в регулировании насилия. Безоговорочное подчинение (послушание) авторитету — функциональный элемент человеческой натуры, черта, которую мы наблюдаем с раннего детства: ребенок подчиняется правилам, установленным родителями. Это правила поведения дома. В начале 1960-х годов социальный психолог Стэнли Милгрэм[138] проводил одно из классических исследований роли авторитета, которое обнаружило, как системы, не входящие в нашу способность выносить моральное суждение, могут серьезно ограничивать нас в наших поступках. Они открывают весь ужас человеческой натуры, власти авторитета и слепого, рабски покорного послушания авторитету. Они также отсылают нас к прототипической проблеме морального конфликта: как делается выбор между двумя взаимоисключающими действиями, когда одно из них вступает в противоречие с нашей совестью и интуитивными ощущениями относительно того, что является правильным с моральной точки зрения, а другое — с вежливыми требованиями авторитетной личности. В конечном счете одно действие уступает другому.
В эксперименте Милгрэма было трое участников: двое испытуемых и экспериментатор. Один испытуемый был выбран из жителей Нью-Хейвена, штат Коннектикут, и ничего не знал о предмете и цели теста. Другой исполнял роль «провокатора» и был подготовленным актером, мужчиной средних лет. Хотя экспериментатор заранее знал, какая роль будет у каждого участника, он давал им по случайной выборке одну роль — «учителя» или «ученика», при этом неподготовленный испытуемый всегда выбирал роль «учителя», а актер — «ученика». Перед тестом экспериментатор приводил участников в комнату и рассказывал им об эксперименте, отмечая, что его основная цель — выяснить, как наказание влияет на способность человека к обучению. На первом этапе эксперимента «ученик» читал и запоминал список, составленный из пар слов, например «голубой — коробка», «хороший — день», «дикий — утка». На следующем этапе экспериментатор привязывал «ученика» к креслу и прикреплял электроды, якобы соединенные с прибором электрошока; на самом деле, конечно, никакого электрошока не было, но актер реагировал так, как будто он был. Затем экспериментатор говорил «учителю» и «ученику», что электрошок будет использоваться для оценки эффективности обучения. После этого он приводил «учителя» в соседнюю комнату и показывал ему прибор электрошока, панель которого представляла собой диск с делениями, обозначающими увеличение мощности. Деления были расположены по часовой стрелке, начиная с надписи «Легкий шок» и заканчивая несколькими делениями после надписи «Опасно: очень сильный шок» (на диске обозначение «30»). Экспериментатор давал указание «учителю» начать тестирование. По каждому вопросу «учитель» читал одно слово и затем четыре возможные пары слов. Если «ученик» отвечал правильно, выбирая нужную пару слов, «учитель» переходил к следующему вопросу. Если же ответ был неверным, то «учитель» использовал электрошок. Экспериментатор требовал от «учителя» увеличивать мощность электрошока при каждом неправильном ответе. Кроме того, очевидная цель эксперимента состояла в том, чтобы установить, улучшает ли наказание в форме электрошока обучение, как уже было показано на многочисленных экспериментах с крысами и голубями. Испытуемые не подозревали о том, что Милгрэм на самом деле тестировал степень послушания, т. е. желание человека подчиняться авторитету.
Учитывая результаты предварительной оценки того, что люди говорили относительно своих возможных действий при определенных обстоятельствах, Милгрэм рассчитывал на то, что испытуемые прекратят получать удары электрошоком при умеренном уровне боли, т. е. примерно на цифре «9», когда диск поворачивался в сторону «30». Но часто мы наблюдаем заметную разницу между тем, что люди говорят о своих будущих действиях, и тем, что они на самом деле делают. В экспериментах Милгрэма это несовпадение было поразительным. Испытуемые продолжали использовать электрошок при обучении «ученика» вплоть до максимальной интенсивности — примерно «20—25», что равняется очень большой мощности электрошока, при этом экспериментатор почти или совсем не побуждал их продолжать эксперимент (например, «Пожалуйста, продолжайте» или «По правилам эксперимента вы должны продолжать»). Получая голосовую обратную связь от «ученика», иными словами, слыша его крики, Милгрэм отмечал совсем незначительное изменение уровня электрошока, которому подвергался «ученик». И в то же время испытуемые добровольно и охотно наносили удар «ученику» при таких его криках, как «Выпустите меня отсюда... \агонизирующий вопль]\ ...У меня больное сердце. Вы не имеете права держать меня здесь». Приближение «ученика» к «учителю» привело к 25%-ному увеличению непослушания. Это означает, что, когда жертва находится в поле зрения, «учитель» быстрее испытывает эмпатию; когда такие эмоции «ближе к поверхности», то они с большей вероятностью оказывают влияние на действие, в частности на непослушание вопреки авторитету. Тем не менее даже когда «учитель» видел, что «ученик» корчится от боли, и слышал его вопли, большинство испытуемых продолжали увеличивать силу электрошока до «20» (на шокометре), т. е. до указателя, соответствующего «Интенсивный шок». А 30% испытуемых продолжали увеличивать силу до самого высокого уровня («30» на диске, 450 вольт), даже несмотря на то, что «ученик» уже не реагировал вербально, а список слов закончился.
Размышления Милгрэма об этих экспериментах отличаются проницательностью, раскрывая его представления и об авторитете как о мощном формирующем факторе, и о моральном развитии как о процессе познания принципов нанесения вреда: «Испытуемые узнали в детстве, что основным нарушением морального поведения является нанесение вреда другому человеку против его воли. Тем не менее почти половина испытуемых отказалась от этого принципа, когда они выполняли указания авторитета, который не имел особых полномочий для того, чтобы отдавать эти указания. Непослушание не влекло за собой ни материального ущерба, ни наказания. Высказывания и поведение многих участников эксперимента ясно показывают, что, наказывая жертву, они часто действовали не в соответствии со своей системой ценностей. Одни испытуемые часто выражали неодобрение по поводу использования электрошока в отношении человека, если тот был против, а другие испытуемые, наоборот, называли это глупым и бессмысленным. Несмотря на это, многие выполняли те команды, которые требовались от них в ходе эксперимента». Подобно трутням, эти нормальные люди — молодые и старые, мужчины и женщины, сварщики, ученые и социальные работники — подчинялись авторитету.
Эксперименты Милгрэма выявляют суть человеческой натуры. Разрыв отношений с авторитетом — это тяжелое дело. Нарушить законы, спущенные сверху, означает подавить типичную или привычную модель действия. Это проблема контроля, с которой даже нам, зрелым людям, обладающим свободной волей, богатыми теоретическими познаниями, долгие годы специально изучавшим область морального поведения, трудно справиться. В контексте экспериментов Милгрэма очевидно, что нормальные люди готовы причинить боль другим по причине, которая представляется бессмысленной. Если таково положение вещей в искусственно созданном эксперименте, то проблема контроля, безусловно, должна иметь гигантские размеры за пределами лаборатории психолога, где в жизненном соревновании причинение боли посредством насилия вознаграждается и где люди, обладающие авторитетом, имеют гораздо большую харизму. Если вам нужны подтверждения, вспомните любого из самых известных диктаторов в истории человечества.
Эксперименты Милгрэма показывают и другой аспект, связанный с темой данной главы: подчинение авторитету носит универсальный характер, но степень, до которой распространяется власть авторитета, различна в разных культурах. Сразу после того как Милгрэм провел свои эксперименты, лаборатории всего мира повторили их. Можно отметить эксперименты в Германии, Италии, Испании, Австрии, Австралии и Иордании. С точки зрения универсальности, испытуемые во всех этих странах охотно били своих неумелых «учеников» электрошоком большой мощности. Но между этими странами наблюдались значительные различия: 85% немецких испытуемых охотно подчинялись авторитету экспериментатора и использовали электрошок самой большой мощности, а в США и Австралии количество таких испытуемых уменьшилось до 65% и 40% соответственно. Культура может изменить то, что связано с властью авторитета или с повиновением носителей этой культуры, но способность править и подчиняться относится к развитым способностям интеллекта, и она есть у родственных нам приматов и у многих других видов.
То, что культуры могут манипулировать отвратительной стороной нашей натуры, а в некоторых случаях навсегда сохранять нормы насилия даже тогда, когда их применение ни к чему не приводит, отражает власть и сопротивление наших систем ценностей. В случае с культурами чести, в частности на американском Юге, реакция на оскорбление, типичная для мачо, подпитывается и сохраняется благодаря психологии гнева и мести.
Когда кто-нибудь посягает на ресурсы южанина, то ответное насилие — это единственная реакция, которая не заставляет его смущаться и не является для него позорной. В одном варианте экспериментов по определению уровня агрессивности экспериментатор говорил испытуемому, что за происходящим наблюдает свидетель. Южане (а не северяне) отмечали, что этот свидетель подумал бы о них хуже, если они не будут вести себя как мачо. Если южане считают, что их репутация подвергается опасности, то тогда совершенно рациональной реакцией на оскорбление для них является ответное насилие. Южане быстрее поддаются искушению дать отпор, в то время как системы контроля подавлены. Если люди считают, что любой человек в их культуре отвечает агрессией на оскорбление, независимо от того, делает ли он это в реальности, то норма насилия никогда не исчезнет. Такие отношения затем могут привести к перемещению с дескриптивного уровня того, что уже есть, на прескриптивный уровень того, что должно быть. Южане не только отвечают насилием на оскорбление. Они думают, что людям именно так и следует поступать[139].
Устойчивость культур чести поддерживается, следовательно, прочной связью дескриптивной и прескриптивной систем и, точнее, созданием самовоспроизводящейся обратной связи — Цикла насилия. Как полагают социальные психологи Ванделло и Коэн, «культурные паттерн^ превращаются в усвоенные модели поведения и привычки, которые редко определяются на уровне интеллекта — если же определяются, то они редко подвергаются сомнению; если все-таки подвергаются, то редко бывают энергично отвергнуты»[140].
Если эта характеристика точна, тогда единственный выход из этого замкнутого круга — разрушить неправильное понимание того, что другие верят в насилие как в реакцию на оскорбление. Это можно сделать несколькими способами. Могут развиваться субкультуры, которые будут выступать против насилия. Независимо от количества, откровенные и честные люди, которые порывают с конформизмом, могут уничтожить старые традиции. Доказательством служат многие социально-психологические эксперименты, а также быстрое исчезновение тысячелетней практики бинтования ног девочкам в Китае. Похожий результат можно получить с помощью законов, которые в открытой форме отражали бы взгляды большинства людей. Хотя оскорбление будет оставаться раздражающим фактором, оно перестанет смущать или позорить, потому что не будет воображаемой аудитории. Если нет аудитории, бездействие или действие без насилия не подлежит оценке. Если нет оценки, нет и социального пятна. Если нет социального пятна, цикл насилия может разрушиться.
Убей того, кого ты любишь
15 марта 44 года до н. э. Юлий Цезарь последний раз вошел в римский Сенат. Преданный друг Цезаря, Марк Юний Брут, прежде чем произнести свою речь, присоединился к остальным членам Сената, чтобы осуществить жестокое нападение на Цезаря. В течение нескольких минут они нанесли ему два десятка ножевых ударов. Перед смертью Цезарь посмотрел Бруту в глаза и произнес знаменитые слова: «И ты, Брут?» или «Ты тоже, Брут?» История свидетельствует: организаторы заговора привлекли на свою сторону Брута, убедив его в том, что Цезарь стал слишком жадным и могущественным и поэтому представляет угрозу для процветания Рима. Совершив убийство, заговорщики бежали по городу, покрытые пятнами крови, с криками о свободе. Брут защищал их дело в суде, объясняя, что Цезарь больше не был другом Рима, а был его врагом. Так как Брут и его сообщники по заговору собственно и представляли правосудие, не было такого суда, который бы расследовал их насильственное деяние в отношении Цезаря. Сегодня мы бы признали их виновными в совершении убийства и осудили бы на пожизненное заключение или,
в некоторых местах, на смерть посредством инъекции. Мы рассматриваем поступок Брута как убийство, потому что оно было обдумано заранее. Но что если Цезарь провоцировал Брута, или подавлял его, или оскорблял до такой степени, что убийство было неизбежным, спонтанным, ненамеренным, незапланированным? Отреагировало бы римское правосудие по-другому? Рассматривало бы оно акт мести как возмездие, которое, как говорится в итальянской пословице, представляет собой «блюдо, которое человек со вкусом предпочитает съесть холодным»?
В обществах, где действуют официальные законы, существует четкое различие между преднамеренным и непреднамеренным актом насилия. За преднамеренное насилие можно получить пожизненное заключение или смертную казнь, а за действия, приведшие к аналогичному результату, а именно к смерти человека, но вследствие таких причин, как самооборона, небрежность или неуправляемая страсть, как правило, назначают менее тяжелое наказание или вовсе не наказывают. Это различие позволяет понять, что считается допустимым актом насилия, который рассматривается в суде как форма защиты. Оно также выдвигает на первый план разницу между интуитивными ощущениями, которые возникают из нашей способности к моральному суждению, и гораздо более сложной сферой практического применения моральных принципов, которая, в конечном счете, обеспечивает наши судебные системы информацией.
Психология культуры чести для некоторых замужних женщин имеет ужасные последствия. В зависимости от конкретной культуры нарушениями считаются вроде бы невинные разговоры с другим мужчиной, флирт, отказ от уже подготовленной свадьбы или просьбы о разводе, изнасилование и добровольные сексуальные отношения. Несмотря на то что изнасилование рассматривается как очевидный случай принудительных сексуальных отношений, те, кто имеет власть, считают его действием, которое произошло по одной причине: женщина испытывала искушение. Для того чтобы вы прочувствовали, каково это — насилие и власть мужчин над женщинами в таких культурах, рассмотрим ужасный, но довольно типичный случай, который произошел в Иерусалиме в 2001 году.
В тот вечер в доме собрались около тридцати мужчин и женщин. После того как господин Асасах со всеми поздоровался, гости окружили его 32-летнюю дочь Нуру, которая стояла испуганная, с выпирающим из-под платья огромным животом. Она была на шестом месяце беременности и не замужем. Держа в одной руке веревку, а в другой топор, отец спросил ее, что она выберет. Нура указала на веревку. Асасах швырнул дочь на пол, прижав ее голову ногой, обмотал веревку вокруг ее шеи. Затем он начал душить свою дочь, которая не оказывала никакого сопротивления. Зрители — так сообщает иерусалимская газета — хлопали в ладоши, выкрикивая: «Сильнее, сильнее, ты герой, ты доказал, что не заслуживаешь презрения». Вслед за этим жутким ритуалом мать и сестра Нуры, которые были свидетелями этой сцены, подали кофе и сидели вместе с гостями[141].
Теперь рассмотрим некоторые международные данные об убийствах на почве защиты чести[142]. Комиссия по правам человека ООН сообщает о 5000 таких убийств в год, которые происходили в Бангладеш, Бразилии, Эквадоре, Египте, Индии, Израиле, Италии, Иордании, Пакистане, Марокко, Саудовской Аравии, Швеции, Турции, Уганде и Йемене. В арабском мире ежегодно более 2000 женщин умирают в результате этого вида насилия. На Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа, Израиле и Йемене почти все убийства палестинских женщин проходят по этому зверскому сценарию. Многие происходят в общественных местах, иногда на глазах возбужденной толпы. Они совершаются для того, чтобы пристыдить жертву и освободить убийцу и его семью от обвинения. Многие убийства совершаются родственником женщины, часто это ее отец или брат, особенно самый младший брат, потому что юридические последствия для несовершеннолетних гораздо менее тяжелые. Обращаясь к участникам Конгресса по защите прав человека, проходившего в 2000 году, генерал Мушарраф, президент Пакистана, провозгласил: «Мое правительство должно стремиться к созданию таких условий, при которых каждый житель Пакистана получит возможность вести свободную и достойную жизнь...
Правительство Пакистана сурово осуждает практику так называемых «убийств на почве защиты чести». Подобные действия не находят места в нашей религии или праве... [Убийство на почве защиты чести] — это убийство, и именно так к нему надо относиться»[143].
Это заявление стало доброй вестью, учитывая историю поразительно высокого уровня мужского насилия в отношении женщин в Пакистане, включая изнасилования, происходящие каждые два часа, и «убийства чести», доходящие до сотен в год. Печально, но в 2002 году в Пакистане был зарегистрирован 461 случай таких убийств, что на четверть превышает показатели предыдущего года. Хотя подобные преступления в Европе распространены меньше, чем на Ближнем Востоке, в Пакистане или Индии, их количество растет вследствие увеличения эмиграции и попыток создать семью, не отвечающую требованиям традиционной или более замкнутой культуры.
Убийства на почве защиты чести планируются. Они носят преднамеренный характер. Их чаще прощают, чем осуждают. Иногда преступление оправдывают исходя из того, что нарушение женщиной социальных и сексуальных норм провоцирует ярость, неконтролируемый гнев, который неминуемо приводит к насилию. Чаще всего их оправдывают тем, что женщина нарушила часть культурных традиций, социальные нормы, образ жизни. Большинство неевропейских судебных систем либо игнорируют такие преступления, либо отказывают в иске, заменяя их эфемерными наказаниями. Дополняя тему предыдущего раздела, следует отметить, что и мужчины и женщины в тех обществах, где практикуются «убийства чести», на самом деле их поддерживают, поощряя и даже провоцируя членов пострадавшей семьи к мести. Как многие признают, реакция на «убийство чести» становится семейной проблемой, обсуждение которой лежит за пределами права. В Коране, который почитается в исламских культурах, нет ничего, что предусматривало бы или поощряло эти убийства. Тем не менее в исламе традиционно укоренилось представление о женщине как о собственности. Владелец собственности может делать с ней все, что он пожелает. Собственностью можно торговать, ее можно купить, продать и убить.
Убийства на почве защиты чести создают два интересных, хотя и депрессивных в общественно-политическом отношении отклонения в моральной психологии убийства. С точки зрения мужчины, любой признак угрозы для чести семьи является достаточным, чтобы спровоцировать насилие. Местные культурные нормы не обеспечивают механизма контроля. На самом деле социальные нормы подавляют любую систему контроля, освобождая импульс к убийству. Для таких культур, если есть нарушение социальных или сексуальных норм, затрагивающее исключительные отношения супружеской пары, убийство не только допустимо, но и ожидаемо. С точки зрения женщины, возможность совершения убийства на почве защиты чести выступает как механизм контроля, заставляя ее скрывать неудовлетворенность браком в тайниках памяти. Женщина, которую обвинили в том, что она опозорила семью, не имеет права голоса, и на нее почти не распространяется правовая защита. Зная об этом, некоторые женщины прибегают к крайним способам защиты, чтобы избежать смерти. Например, в Иордании некоторые женщины сами идут в тюрьму. Другие до свадьбы делают подпольные операции по восстановлению девственной плевы. Во многих арабских культурах муж может аннулировать брак, если жена окажется не девственницей или если во время первого интимного сношения у нее не было крови. Это позорит семью, и единственным выходом из создавшегося положения является убийство жены. Даже в тех случаях, когда осмотр плевы приводит к очевидному диагнозу о половом воздержании, 75% обследованных палестинских женщин в Иордании убиты вследствие устойчивого недоверия. В Турции еще в 2003 году судопроизводство рассматривало возможность освобождения насильника от ответственности, если он соглашался жениться на своей жертве. Советник министра юстиции выступил против предложения изменить эту практику, аргументировав свой ответ тем, что тогда мужчины женились бы только на девственницах.
Перед нами ужасающая статистика и страшная идеология, по крайней мере с точки зрения некоторых культур и обществ. Эти данные показывают, как социальные нормы могут способствовать сохранению насилия, провоцируя мужчину защищать свою честь через контроль над сексуальными и романтическими интересами женщины, угрожая ей перспективой крайнего насилия или убийства. Культуры чести выполняют функцию психологических поясов верности, или, согласно арабскому выражению, честь мужчины «находится между ног женщины»[144].
Убийства на почве защиты чести и преступления на почве страсти проявляют параллельные психологические отличительные признаки[145]. И те и другие обычно поддерживаются местной культурой, социальной нормой, которая рассматривает насилие как ожидаемую реакцию на нарушение этой нормы. И те и другие связаны с укоренившимся неравноправием полов. Откровенно говоря, мужчина может убить свою внебрачную сожительницу и удалиться как герой, которого уважают, а женщину, совершившую аналогичный поступок, поносят как хладнокровную убийцу и назначают ей пожизненное заключение или приговаривают к смертной казни. И наконец, убийства на почве защиты чести и преступления на почве страсти обычно не влекут за собой никакого наказания или назначается весьма незначительное наказание. Основное различие между этими двумя типами насилия состоит в том, что преступления на почве страсти совершаются в результате явно неконтролируемой ярости, провоцируя непреднамеренный акт агрессии, часто в форме нападения со смертельным исходом; иногда убийца испытывает угрызения совести или, со временем успокоившись и подумав, раскаивается в содеянном. Как уже говорилось, убийства на почве защиты чести отличаются хладнокровием и расчетливостью и редко связаны с чувством вины. Преступления на почве страсти чаще всего провоцируются видом любовницы, которую застали на месте преступления, или ее рассказом о прелюбодеянии и сексуальных недостатках ее партнера. Прозаик Милан Кундера писал: «...поскольку у человека только одна жизнь, он не может ставить опыты, для того чтобы проверить, следовать ли ему за своими страстями или нет»[146]. Тем не менее иногда мы вынуждены следовать за своими страстями в том жизненном эксперименте, который происходит помимо нашей воли.
В то время как убийства на почве защиты чести тесно связаны с культурой, в которой женщины считаются «товаром», преступления на почве страсти обусловлены таким представлением о человеческой натуре, согласно которому эмоции невозможно контролировать, по крайней мере в определенных ситуациях. Именно здесь возникает понимание связи между нашей способностью к моральному суждению и системами искушения и контроля.
Теория эволюции Дарвина показывает, что естественный отбор содействует борьбе мужчин за обладание женщинами, а женщин делает разборчивыми при поиске, выборе и закреплении партнера. Как только мужчина и женщина договорились пожениться, это соглашение, имеющее обязательную юридическую силу, выступает в качестве механизма контроля над соблазном искать других партнеров — по крайней мере в тех культурах, где брак заключается между одним мужчиной и одной женщиной. Этот механизм позволяет надеяться на то, что обещание дано с учетом способности к моральному суждению. Его нарушение (вступление в романтические отношения с другими партнерами) рассматривается как недопустимый или запрещенный поступок. Такая надежда не зависит от того, оформлен брак юридически или носит неформальный характер. Оба партнера должны быть настороже, чтобы предупредить угрозы для своих отношений. Если вы видите любимого человека в постели с другой, это оставляет мало места для воображения. Рассказ вашего любимого человека о том, как он занимался любовью с другой партнершей, производит аналогичное действие, но по меньшей мере может заронить некоторые сомнения относительно правдивости сообщения. Ссылка на провокацию в виде словесных колкостей как оправдание насилия часто отвергается в судах общего права, включая судебное дело, когда мужчина нанес жене девятнадцать ножевых ранений, после того как она посмеялась над его сексуальными способностями и угрожала разводом; с другой стороны, до 1997 года в американском штате Джорджия считалось оправданным убить кого-либо для предотвращения прелюбодеяния.
Трудно представить что-либо более угрожающее, более раздражающее и — для некоторых — более заслуживающее убийства, чем визуальное подтверждение адюльтера. Эта картина провоцирует включение той части способности к моральному суждению, которая связана с оценкой запрещенного действия. Хотя могло бы показаться очевидным, что тот принцип, который руководит нашим суждением, в данном случае является всего лишь нарушением обещания. На самом деле все гораздо сложнее. Если муж обнаруживает свою жену в постели с другим мужчиной, всегда ли это запрещенный поступок? А что если данная супружеская пара живет в гражданском браке? А что если жена пытается забеременеть от другого мужчины, потому что ее муж бесплоден? А что если ее муж только что сообщил ей, что он импотент, и, следовательно, она может свободно заниматься сексом с другими мужчинами столько времени, сколько он вытерпит? Нет научных данных, с помощью которых, так или иначе, можно обсуждать эти возможности. Тем не менее они показывают, почему нам нужно разделить событие на цепочку действий, включая их причины и последствия. Это вклад в развитие нашей способности к моральному суждению. Это материал, который она «обдумает», прежде чем «выдаст» оценку в связи с допустимым, запрещенным или обязательным действием. Это то, из чего состоит создание Ролза.
Эмоции тоже должны включиться, выводя нас из сферы морального суждения в область аморального акта насилия. Хотя компонент Юма в нашей способности к моральному суждению быстро провоцируется проявлением суждения, этот вид угрозы автоматически не приводит тысячи людей во всем мире к убийству. А для тех, у кого это заканчивается убийством, во многих странах есть долгая история признания (как на житейском, так и на юридическом уровне) того, что власть эмоций способна подавить и нашу способность к моральному суждению, и рациональные выводы, которые за ней следуют. Эта разновидность превышения полномочий выполняет функцию защиты или оправдания акта насилия. Оправдывая определенные действия, однако, право неизбежно создало бы особое представление о человеческой натуре, такое представление, которое связано с системой ценностей, касающейся искушения и контроля. Почему вида чьего-либо обнаженного любовника, лежащего в постели с другим человеком, достаточно, чтобы преодолеть контроль и превратить убийство в простительный или допустимый акт? Даже если мозг мужчин и женщин устроен по-разному и у них разные способности к контролю, следует ли судам общего права учитывать разные уровни ответственности? Существует ли универсальная критическая точка, некий порог искушения, выше которого все системы контроля перестают действовать? Или эта точка является особенной в каждом конкретном контексте и для каждого человека — она своя? Что представляет собой та провокация, которая вызывает искушение и усыпляет контроль? Закон не дает четкого или последовательного представления об этих проблемах, но история показывает, как изменение представлений о человеческой натуре, особенно об ее сексуальности и представителях разных полов, стало частью правового дискурса. Ученый юрист Виктория Нурс обобщает положение вещей в Америке до 1997 года.
...Доктрина провокации находится на перепутье... Доктрина провокации находится в исключительном беспорядке... Хотя большинство судебных практик придерживаются одного, так называемого стандарта «разумного человека», он применяется совершенно по-разному, когда судебные практики заимствуют как из либеральной, так и из традиционной теории. В некоторых штатах требуется наличие «внезапно возникшей страсти», в других можно накапливать эмоции в течение какого-то времени; в некоторых штатах иски на основе «только слов» отвергают, а в других — принимают. Сегодня мы можем с уверенностью говорить только о том, что в законе, регулирующем рассмотрение судебных дел по убийствам на почве страсти, есть два полюса — один, который иллюстрируется реформами самого либерального Типового уголовного кодекса (МРС), а другой — самым традиционным категорическим представлением об общем праве. Между этими двумя полюсами большинство штатов свободно заимствуют из обеих традиций[147].
В центре юридических дискуссий о преступлениях на почве страсти находится различие между тяжким убийством и простым убийством. По крайней мере, еще в двенадцатом веке судебные дела решались на основе того, являлось ли совершенное действие намеренным, случайным или оборонительным.
Несчастные случаи, по определению, не влекут за собой уголовной ответственности, при этом тем, кто был небрежен или невнимателен при совершении своих действий, делается предупреждение о том, что они могут нести ответственность за несчастный случай. Некий человек, у которого дома есть заряженные ружья, будучи пьяным, дурачится, играя с ними, а потом стреляет и убивает ребенка, вероятно сделав это случайно, но он проявляет небрежность и безответственность, и маловероятно, что его оправдали бы в суде. В то же время человек, которому приписывают ответственность за несчастный случай, повлекший чью-то смерть, может быть оправдан, если будет доказано, что он не виноват в обстоятельствах гибели другого.
Кроме того, самооборона тоже оправдана. Если вор собирается выстрелить, когда вы не отдаете ему свои деньги, ваш ответный выстрел является не только уместным, но и морально оправданным, даже если это приведет к убийству вора. Эти свойства права отражают принципы и параметры, которые наша способность к моральному суждению реализует прежде, чем будет сделано неосознанное суждение. В самообороне можно выделить те компоненты, которые подпитывают нашу способность к моральному суждению. Выстрел, сделанный упомянутым выше человеком, приводит к негативным последствиям (убийству вора). Однако он не собирался его убивать, а защищался от того, кто хотел убить его. Описанное действие — выстрел из ружья — имеет предвидимое отрицательное последствие в виде убийства вора и обдуманное положительное последствие в виде спасения того, кого собирались обворовать. Убийство является средством для достижения цели, но в этом случае оно представляет собой допустимое средство, так как тому, кто убил вора, перед этим угрожали. В условиях самообороны, следовательно, наша способность к моральному суждению выносит суждение о том, что действие (выстрел из ружья), которое приводит к убийству, является не только допустимым, но и, возможно, обязательным, если нет других вариантов. Право в этом случае подкрепляет наши интуитивные ощущения. Доктрина провокации обеспечивает существование исключения из этического представления о том, что убийство запрещено.
В конце шестнадцатого века в праве произошел интересный поворот, отчасти из-за того, что защита судебных дел, связанных с самообороной, строилась на основе импульсивных эмоций, в частности на реакции страха. Когда возникает сильный страх вызванный угрозой смерти, самооборона — в любой форме оправдана. Если этот аргумент справедлив для самообороны, то он также должен быть справедлив для других импульсивных эмоций, в частности для гнева. Как пишет ученый юрист Джереми Хордер, «к концу шестнадцатого века сформировался определенный тип намеренного простого убийства как менее тяжкой формы убийства, что называлось и до сих пор называется уступкой человеческой слабохарактерности, уступкой сильному карательному импульсу гнева большой силы, вызванного провокацией»[148].
Так появилась доктрина провокации, призванная минимизировать количество судебных дел, которые не всегда переводились из разряда тяжкого убийства в разряд простого убийства, и признать четыре легитимных вида провокации, или того, что я считаю провокационными действиями: словесное оскорбление и угроза физическим насилием, присутствие при нападении на друга или родственника, присутствие при лишении сельского жителя свободы и присутствие при прелюбодеянии супруга.
На большом протяжении нашей истории преступления на почве страсти совершаются мужчинами, хотя здесь есть некоторые межкультурные различия: во Франции в девятнадцатом веке только около одной трети всех тяжких убийств было совершено мужчинами, но почти все тяжкие убийства, совершенные женщинами, — это преступления на почве страсти[149].
Когда мужчины совершают убийство в порыве страсти, их объектом является соперник-мужчина. Имплицитно или эксплицитно предполагается, что женщины не способны принимать обдуманные решения, и, следовательно, их нельзя обвинять в неспособности контролировать искушение. Хотя это сексуальное неравенство продолжается до сих пор, есть важные перемены, в частности, увеличение количества убийств жен мужьями и убийств или нанесения тяжелых увечий мужьям женами. Первая существенная перемена отражает изменение отношения к женщине не только как к «товару», по крайней мере в некоторых культурах. Сами по себе женщины абсолютно разумны и, вероятно, в большей степени, чем мужчины, способны противосто ять сексуальному искушению. Мужчины, следовательно, поменя ли свои объекты, переложив ответственность на женщин. Вторая существенная перемена отражает увеличение экономической и психологической независимости, которую проявляют женщины в некоторых культурах. В то время как преступления на почве страсти, совершаемые мужчинами, провоцируются возможной или реальной любовной связью, аналогичные преступления, совершаемые женщинами, часто спровоцированы длительным насилием в семье: любовная связь в этом случае становится последней каплей. Но есть более специфические истории, заканчивающиеся преступлением. Эти различия часто приводят к разным судебным решениям, когда мужчин обвиняют в простом убийстве, которое спровоцировано необходимостью защищаться (в порыве страсти), а женщин обвиняют в тяжком убийстве, так как оно носит характер заранее обдуманного действия.
Подтверждение упомянутых изменений в структуре и оценке насилия можно найти в ситуации, сложившейся в некоторых странах Азии, в частности в Китае. Возрастание независимости женщин в последние годы, наряду с ростом материального расслоения, привело к повышению числа полигамных связей и скрытых адюльтеров и, как сопутствующее обстоятельство, к увеличению числа холостых молодых мужчин. В результате коэффициент совершения тяжких убийств резко вырос, при этом убийства на почве страсти занимают центральное место, а бытовое насилие наблюдается примерно в 30% китайских семей. В Китае хотят, чтобы адюльтер рассматривался как уголовное преступление. В целом, однако, 82% населения (по опросам 2000 года) выступали против этого изменения в законодательстве, и только 25% считали, что проституция, внебрачное сожительство и принудительное исполнение супружеского долга (изнасилование в браке) являются неприемлемыми с точки зрения морали. Неудовлетворенные женщины, которые больше не хотят молча переносить семейные трудности и при этом могут быть экономически самостоятельными, позволяют своему гневу вырываться наружу и провоцировать насилие против мужей — и против многолетней традиции.
С юридической точки зрения, преступления на почве страсти — и защита ссылкой на провокацию в более общем смысле — поднимают интересные вопросы о человеческом интеллекте и его способности к контролю при виде искушения. Когда защита ссылкой на страсть эффективна в суде, она строится на идее немедленности совершения акта насилия. С точки зрения нашей способности к моральному суждению, мы могли бы спросить, какие суждения о допустимости убийства вероятнее: когда они рассматриваются сразу после осуществления провоцирующего действия, например такого, как адюльтер, или когда между подобным действием и рассмотрением дела в суде проходит некоторое время?
В судебном деле 1949 года в США судья делал следующие наставления присяжным, которым надо было оценить неоспоримый факт: обвиняемая убила мужа после того, как он долгое время особо жестоко обращался с ней:
...обстоятельства, которые вызывают желание отомстить, не соответствуют понятию провокации, так как сознательное формирование желания отомстить означает, что у человека было время подумать, поразмышлять, и это опровергает внезапную, временную утрату самоконтроля, которая является сутью провокации... следовательно, если провокация такова, какой я ее описал, есть два соображения при ее рассмотрении, которые очень важны для правосудия. Вот почему большинство актов провокации представляют собой внезапные ссоры, неожиданные удары, которые наносят не заранее заготовленным орудием, а тем, что оказалось под рукой, когда времени на размышление нет...[150]
Сказанное означает, что ситуация провоцирует автоматический и насильственный ответ, похожий на рефлекс. Любая задержка осложняет эту защиту так же, как если бы врач ударил молоточком по вашему колену, а вы бы не пошевелились, и тогда он решил, что одно из двух: или нормальный рефлекс трансформировался в патологический, или вы сознательно не реагируете на удар. Вывод, завершающий такой ход мысли, заключается в том, что право исключает из доктрины провокации любое дело, из числа, по-видимому, особенно распространенных, в котором избитая домохозяйка осуществляет возмездие, убивая своего мужа, который дурно с ней обращался. В этом случае убийство запрещено, так как в его основе лежит насилие как акт возмездия.
В феврале 2003 года Клару Харрис обвинили в тяжком убийстве мужа Дэвида Харриса. К моменту судебного разбирательства было установлено три факта: Клара наняла частного детектива для проверки подозрительного поведения мужа; Дэвид изменял Кларе, которая в день убийства обнаружила его с подружкой в отеле; Клара, по крайней мере, трижды совершила наезд на Дэвида в своем автомобиле. Присяжные и публика в суде испытывали большую симпатию к Кларе. Дело было построено главным образом на том, чтобы понять, было ли преступление совершено импульсивно или было предварительно обдумано, спланировано и имело злой умысел. Что касается импульса: присяжные видели, что преступление совершено вскоре после того, как Клара впервые увидела своего мужа с подружкой; до этого момента у нее были подозрения, но не было никаких конкретных подтверждений. Что касается намерения: присяжные отметили, что Клара никогда не видела, как эта парочка занимается сексом; она дождалась, когда муж появился на парковке, и направила свой автомобиль на него, сначала сбив мужа, а потом несколько раз дав задний ход, чтобы задавить его. Присяжные большинством голосов постановили, что это простое убийство, прибегнув к защите ссылкой на страсть. Однако когда речь зашла о том, как оценить степень жестокости совершенного преступления, присяжные назначили максимально допустимый срок заключения в тюрьме — двадцать лет, зная о том, что минимальным сроком является двухлетний срок. Хотя присяжные признали эмоции, которые владели Кларой, и то, что ей было сложно их контролировать в ситуации, когда она видела супруга с другой женщиной, но все остальные свидетельства, по мнению присяжных, подтверждали, что ее поступок был обдуманным. Однократный наезд на мужа повлек бы за собой менее тяжелое наказание. Но несколько попыток задавить супруга означали наличие у нее плана, конечной целью которого было убить мужа. Присяжные наказали Клару на основе психологии намеренного действия.
Как отметили многие ученые юристы и специалисты по феминизму, это судебное дело двадцать первого века помещает в центр внимания интересное гендерное предубеждение, которое остается преобладающим во многих судебных системах. С учетом трехсотлетней истории судебных дел по преступлениям на почве страсти, будь Клара Харрис жертвой, а Дэвид Харрис убийцей, он, несомненно, получил бы двухлетний срок и теперь наслаждался свободой и, вероятно, другой женой.
Преступления на почве страсти также поднимают вопросы о том, что представляет собой нормальная, средняя или модальная реакция на конкретную ситуацию. Как говорил Аристотель, мы должны оценить, как чувствовать и поступать «в отношении подходящего человека в нужной степени в подходящее время по подходящему поводу правильным образом». Сказать, что убийство другого человека можно оправдать, когда мужчина или женщина видит своего партнера в постели с другой/другим, означает сказать — в том смысле, в котором говорил Аристотель, — что это было правильное действие в подходящий момент. Это значит сказать, что большое число мужчин и женщин не в состоянии контролировать свой гнев в этом контексте. По Аристотелю, наши суждения основываются на доктрине «золотой середины», которая выступает в качестве некоего критерия оценки действия. Судебная защита, следовательно, могла бы опираться на то, что определенные эмоции или действия обязательно провоцируют другие виды эмоций или действий; например, когда кто-то видит своего любимого человека с другим, это провоцирует гнев, который обязательно приводит к насилию. В книге «Мудрые варианты выбора и подходящие чувства» Алан Гиббард развил эту идею, обосновав ее биологическим понятием нормы реакции: ряд фенотипов, которые имеют одинаковый генотип, различаются, поскольку развиваются в разных условиях (классическим примером служит вид зерновых культур, который изменяет свои внешние признаки в зависимости от места произрастания — высоты над уровнем моря). Интуитивные ощущения Гиббарда состоят в том, что есть еще и эмоциональные нормы — соответствующие чувства, — которые вызывают наиболее релевантные и подходящие действия — «мудрые варианты выбора». С точки зрения права, следовательно, было бы полезно иметь демографическую статистику относительно того, как люди внутри одной культуры и между культурами реагируют на адюльтер. Есть два релевантных источника таких данных. Во-первых, во многих странах преступления на почве страсти составляют существенный процент убийств; например, в 2002 году они составляли большую часть убийств на Кубе. Во-вторых, хотя тысячи людей во всем мире ежегодно сталкиваются с проблемой адюльтера, очень немногие превращают провокацию в насилие со смертельным исходом. Тем не менее суды продолжают считать адюльтер чрезвычайно мощной провокацией и нередко смягчают наказание преступнику. Подобно разговорам о том, что такое смертная казнь и как ее применение может предупреждать потенциальные преступления, мы должны также спросить, могли бы наши более снисходительные представления о преступлениях на почве страсти увеличить процент бытового насилия? Мне неизвестны статистические данные, в которых рассматривалась бы такая возможность.
Представление о том, что эмоции доминируют над нашими способностями рассуждать, очень важно для защиты преступления на почве страсти и для противопоставления создания Канта созданию Юма. Оно находится в центре представления Аристотеля и Гоббса о человеческой натуре, в котором гнев понимается как желание превзойти соперника, желание, которое должно быть осуществлено. Для Гоббса «свобода желания или нежелания у человека не больше, чем у любых других живых существ. Ибо где есть аппетит, его причины появились раньше; и, следовательно, аппетит нельзя выбирать, но нужно следовать за ним, т. е. он есть результат потребности»[151].
Это мнение сохранялось в восемнадцатом и девятнадцатом веках, где можно найти множество судебных дел, в которых обвиняемые описываются как охваченные «кратким взрывом» страсти и находящиеся «вне себя», «не в своей телесной оболочке» или «в состоянии душевного неравновесия». Все эти метафоры предполагают иерархическое представление о разуме, когда наша способность к рассуждению оказывается выше всех остальных способностей, особенно таких, как эмоции. Иногда их провоцируют так жестоко, что они заменяют наш механизм рассуждения, так как страсть разрушает нашу систему действий, наше восприятие того, что допустимо, и того, что мы действительно делаем, следуя этому суждению. Такое представление о человеческой психике отделяет прощение от оправдания в юридическом смысле слова.
Начиная с середины девятнадцатого века правовой анализ преступлений на почве страсти изменился. Основным стимулом этого изменения была критика доминировавшего тогда представления о самоконтроле. Так же, как Грачо Маркс, который замечал, что он подождет шесть лет, прежде чем прочтет «Лолиту», потому что тогда героиня достигнет совершеннолетия, мы можем не поддаваться искушению убить супруга или любовника, занимающегося прелюбодеянием, если мы рассудительны и благоразумны. Таким образом, в одном деле, рассматривавшем преступление на почве страсти, судья отметил, что, «хотя закон снисходителен к моральной неустойчивости человека, он не будет потворствовать человеческой жестокости. Он относится к человеку как к разумному существу и требует, чтобы тот осознанно управлял своими страстями»[152].
Поэтому современное мышление в американском праве основано на оценке неправильного поведения обвиняемого в сравнении с адекватностью его реакции. Воспринимал ли он соответствующую несправедливость: например, учитывая, что адюльтер — это плохо, имелось ли у него какое-либо подтверждение адюльтера, и если имелось, то была ли его реакция пропорциональна степени провокации и разумна, при условии, что он потерял контроль? Конечно, трудно оценить, насколько защита является «пропорциональной». Является ли убийство адекватной реакцией? На общем фоне ответ, конечно, утвердительный, учитывая судебные дела, которые обсуждались ранее. Является ли убийство адекватной реакцией, если речь идет о том, что некто был свидетелем адюльтера (поцелуи, половой акт) или узнал об этом из вторых рук? В праве нет ясности по этому вопросу, а судебные дела дают разные ответы.
Убийства на почве защиты чести и преступления на почве страсти отражают тот факт, что социальные нормы могут устанавливать принципы и параметры допустимого убийства и переводить их из дескриптивных принципов в прескриптивные. В некоторых культурах мужчинам не только разрешается удовлетворять их сексуальный аппетит, но и относиться к этому как к такому же обязательному делу, как еда и сон. Такая же степень влияния присуща нормам, которые регулируют свободу или ее отсутствие у женщин. В тех культурах, где мужчины отличаются сексуальной неразборчивостью, часто имея несколько жен, женщины испытывают сексуальное притеснение, находясь в полной зависимости от своего партнера из-за угрозы насилия. Потенциальная опасность состоит в том, что уменьшение сроков наказания или вынесение незначительного наказания за подобные преступления может на самом деле привести к более жестокому насилию, итогом которого будет супружеская неверность, становящаяся источником преступления со смертельным исходом. Эти системы также показывают, что убийство, которое часто рассматривают как индивидуальную патологию, лучше понимается как действие, спровоцированное мощными культурными установками. В зависимости от культурной атмосферы убийство является не только допустимым, но и оправданным, простительным и ожидаемым. Биологические особенности, которые лежат в основе человеческой натуры и объясняют, что происходит (провоцирующее действие —> допустимое противодействие —> гнев —> ярость —> допустимое убийство), проникли в некоторые из наших культурных и юридических предписаний как последовательности событий, которые должны случиться (провоцирующее действие —> допустимое противодействие —> гнев ярость —> обязательное убийство). Социальные нормы, следовательно, могут преобразовать описание того, что происходит, в нормативное представление о том, чему следует случиться.
Советы природы
Во многих программах «12 шагов» — от анонимных алкоголиков до анонимных сексоголиков — участники переходят на последние этапы, делая признания в том, что они совершили какой-нибудь проступок. В третьей серии сериала «Отчаянные домохозяйки» (сезон 2004 года) несколько главных героев оказались в ситуации, когда онй явно или косвенно признавались в совершенных ими ошибках: Сьюзан извинялась перед своим бывшим мужем за грубость в отношении его новой молодой жены, Бри был нужен психотерапевт после того, как она объявила на званом обеде о том, что ее муж кричит во время полового акта, а муж Линетт признался в том, как сложно общаться с детьми, после того как его уличили во лжи: он был на вечеринке, а не в серьезной деловой поездке. Многие люди, видя реакцию других на свои действия, по-видимому, знают, что они сделали что-то плохое, но не признаются в совершенном проступке или не берут ответственности на себя. Некоторые из этих людей отличаются чрезмерным самолюбием, что, несомненно, болезненное проявление, которое может подорвать даже президентскую власть, как это было с президентом Биллом Клинтоном (ему не удалось признаться в любовной связи с Моникой Левински), и с президентом Джорджем У. Бушем (ему тоже не удалось признаться общественности в том, что он начал войну в Ираке не ради поиска оружия массового поражения, а совсем по другим причинам).
Признание в совершении проступка влечет за собой подтверждение недопустимости действия, нарушение некоего морального признака или социальной нормы. В некоторых из вышеописанных случаях, однако, не совсем ясно, как эти правонарушители понимают природу своих социальных преступлений. Они могут видеть негативные последствия своих действий, опираясь на то, как реагируют на них другие люди, начиная с житейских разговоров в духе сериала «Отчаянные домохозяйки» и кончая протестами внутри и за пределами страны, как это было с президентами Клинтоном и Бушем. К чему принуждает нас лингвистическая аналогия, так это к переоценке сущности этого знания и той степени доступа к основополагающим принципам, организующим это знание, которую мы, будучи зрелыми людьми, достигли. Когда мы судим действия других или оцениваем свои собственные действия, что мы знаем о природе наших суждений? Достаточно ли наших объяснений для полного описания тех принципов, которые управляют тем, что мы говорим, и тем, что мы делаем, в моральной сфере?
Если лингвистические аргументы справедливы в отношении морали, мы должны игнорировать то, что, с точки зрения описания поведения, оказывается очевидным при поверхностном рассмотрении, и обратиться к более глубинному уровню, на котором находятся коды способности к моральному суждению. То, что мы видим, с позиции морального поведения и оправдания, вероятнее всего, является слабой реализацией способности к мо ральному суждению. Причина проста: в промежутке между расчетом, который интуитивные суждения производят о морально допустимых действиях и наших реальных действиях и оправда ниях, находится много различных этапов, которые соответствуют множеству различных психологических процессов, в том чис ле таких, которые затрагивают эмоции, память, внимание, восприятие и убеждение.
Когда люди пытаются объяснить свои моральные суждения они часто ошеломлены, обращаясь к интуитивным ощущения или противоречивым мнениям. Некоторые, например Хайдт утверждают, что такая растерянность возникает потому, что мы рассуждаем не об этих моральных дилеммах, а скорее высказы ваем интуитивные озарения на основе неосознанных эмоций что присуще созданию Юма. Для Хайдта создание Юма — н; первом месте, а создание Канта выполняет функцию моральной очищения, давая рациональное объяснение сделанному суждению.
Я не сомневаюсь, что наши эмоции и способность к рассужде нию, основанному на принципах, играют некоторую роль в на ших моральных суждениях. Но то, что минимально требуете; для этих обоих процессов, прежде чем они смогут вынести мо ральный вердикт, это оценка причин и последствий действия Обе системы нуждаются в том, чтобы создание Ролза вышло н; первый план и провело структурный анализ. Я также предлагая что-нибудь гораздо более убедительное, чем это минимально» дополнение. Создание Ролза, возможно, является важнейшее системой для вынесения морального вердикта, а создания Юм; и Канта следуют за ним под его воздействием. Так или иначе я еще не привел достаточного количества данных, чтобы выно сить решение о более сильной версии. Эти данные будут пред ставлены в двух разделах: первый — обсуждение развития чело века и второй — обсуждение его эволюции.
Для того чтобы заранее обосновать эти данные, рассмотрим еще раз проблему трамвайного вагона. Используя те факты которые мы наблюдаем, анализируя внешнюю сторону примера с вагоном, мы обнаруживаем и устанавливаем важные психологические факторы, которые являются частью глубинной структуры психики и, в конечном счете, отвечают за то, почему мы оцениваем некоторые действия как допустимые, а некоторые — как запрещенные[153]. Мы также можем увидеть некоторую интересную динамику понятий обязательных, допустимых и запрещенных суждений.
А.Если действие допустимо, то оно потенциально обязательно, но не запрещено.
Б. Если действие обязательно, то оно допустимо и не запрещено.
В.Если действие запрещено, то оно не является ни допустимым, ни обязательным.
Допустимо, чтобы Дениз перевела стрелку, но я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь сказал, что это надо сделать обязательно. Перевести стрелку было бы для нее обязательно, если бы на боковой ветке никого не было, что превратило бы эту ситуацию в возможность спасения, которое никому ничего не будет стоить. Когда есть возможность помочь тому, кто оказался в опасности, и при этом никто лично не пострадает, тогда мы воспринимаем действия по спасению людей как обязательные. Если бы мы описывали вариант примера с Дениз, когда на боковом пути никого нет, и сказали бы, что она может сделать так, чтобы вагон наехал на пятерых пешеходов, то большинство, по-видимому все, оценили бы ее поступок как запрещенный и, вероятнее всего, подлежащий наказанию. Что касается первоначального примера с Дениз, то мое интуитивное ощущение состоит в том, что те люди, которые говорили, что недопустимо, чтобы Дениз перевела стрелку, воспринимают ответственность как ключевую проблему. Ответственность за судьбу вагона не лежит на Дениз. Ей не надо выбирать, кто умрет, даже если речь идет о разном количестве людей. Каждая жизнь имеет свою ценность, а человек на боковой ветке находится в безопасности, учитывая траекторию движения вагона. Те, кто оценивает данный пример с этих позиций, по-видимому, сказали бы, что запрещено ничего не делать и наблюдать, есть ли кто-нибудь на боковой ветке. И если их решением движет ответственность, то они должны использовать ее как руководящий фактор для рассмотрения других моральных дилемм. Если бы речь шла о гораздо большем количестве людей, например таком, что изменение траектории движения вагона привело бы к смерти одного человека на боковой ветке, но спасло бы целый город, было бы все еще недопустимо, чтобы Дениз перевела стрелку, потому что это не ее дело? В какой-то момент параметр ответственности становится неубедительным, и именно здесь можно попытаться рассмотреть другие параметры.
Хорошим продолжением этого общего подхода является работа социального психолога Филиппа Тетлока. Хотя его эксперименты появились под влиянием направления мышления, которое отличается от лингвистической аналогии, представленной здесь, они очень хорошо вписываются в тему универсальных принципов и параметров, сформированных под влиянием культуры. В развитых странах Запада любой человек, имеющий детей, и даже тот, кто их не имеет, был бы возмущен, если бы некий торговец предложил ему продать своих детей — по тысяче долларов за каждого ребенка. А что если торговец увеличит предложение до миллиона долларов? Миллиарда долларов? А как насчет любой цены, которая будет назначена? Вероятно, даже в этом случае подавляющее большинство будут продолжать возмущаться и испытывать отвращение. Но некоторые могут задуматься, если будет предложена крупная сумма. Те, кто так делает, часто чувствуют крайнюю степень вины и пытаются сделать все, чтобы восстановить моральное равновесие. Мы оскорблены и иногда чувствуем отвращение, если можно что-то изменить, не потому, что мы думаем, что это несправедливо, а потому, что это табу, то, о чем нельзя думать. Интересно, что во всех культурах есть такие табу. Когда от людей требуют объяснений, они ошеломлены и не могут объяснить, почему нельзя обменивать некоторые вещи. Каждая культура, однако, обладает свободой решать, что может быть элементом правовых отношений, а что находится за их пределами, т. е. является табу. Следуя лингвистической аналогии, я бы сказал, что в каждой культуре есть принцип справедливости, связанный с обменом, при этом есть параметр, который касается того, что подлежит обмену, и который устанавливается локальной культурой.
Общим соображением здесь является то, что есть скрытые параметры, лежащие в основе интуитивных ощущений людей относительно рассмотренных примеров. Когда мы просим испытуемых, чтобы они привели какие-то оправдывающие обстоятельства, они испытывают отчаяние. Если у людей действительно нет доступа к принципам, лежащим в основе их суждений, это имеет большое значение для понимания нашей способности к моральному суждению. Во-первых, лингвистическая аналогия выглядит от этого еще более убедительной. Она усиливает нашу характеристику создания Ролза своими недосягаемыми, но работающими принципами. С другой стороны, возможно, что, даже не имея никакого доступа к основополагающим принципам или имея ограниченный доступ, природа наших моральных суждений изменяется, как только эти принципы становятся нам известны. Повторим еще раз, что лингвистическая аналогия является релевантной. То, что лингвист, подобно Хомскому, имеет доступ к некоторым из основополагающих принципов, управляющих его знанием о языке, не влияет на то, как он применяет языковые законы на практике. Когда Хомский общается с другими людьми, его компетенция и манера выражаться не хуже и не лучше, чем у кого бы то ни было. Если они отличаются, то это не потому, что он знает что-то такое о лингвистической способности, что неизвестно остальным. Наоборот, очень может быть, что, как только мы будем понимать некоторые из рабочих принципов нашего морального знания и передавать их заинтересованным людям, они будут влиять на их практическое применение. Если помнить о различии между преднамеренными и предвидимыми последствиями, то это может повлиять на наши суждения о других людях и на наши собственные действия. Если помнить о том, что убийство иногда допустимо, то это может повлиять на то, как мы думаем о вреде. Главное заключается в том, что способность к моральному суждению может скрывать свои принципы, но как только мы получаем доступ к ним, мы можем пользоваться ими как руководством для сознательного рассуждения о морально допустимых действиях. Если к этому добавить связь между «рабочими» моральными принципами и нашими моральными поступками, тогда мы установим важное различие между моральной и лингвистической областями знания.
Часть II. Естественное чувство
Орган морали
Существует немало подлинно добродетельных людей, которые не могут объяснить,, что такое добродетель... Но власть предержащие с достаточным постоянством и согласованностью на деле пытаются воздействовать на людей, обладающих добродетелью, независимо от их мнения по этому поводу...
Ф. Хатчесон[154]*
С чего начинается личность человека, имеем ли мы при рождении какие-либо задатки, которые в дальнейшем сделают нас плохими или хорошими? Математик и философ шестнадцатого столетия Готфрид Лейбниц утверждал, что наше знание морали, как и арифметики, является врожденным. Он писал, что «не вызывает большого удивления, если люди не всегда осознают все то, что таится в их душе, и не способны быстро уловить признаки естественного закона, который, согласно святому Павлу, Бог вложил в нашу психику. Однако, поскольку нравственность важнее, чем арифметика, Бог дал человеку инстинкты, которые без рассуждений ведут его в нужном направлении, отделяя его от требований разума»[155].
В книге «Числа» Моисей утверждал, что интуитивные представления о морально допустимом поведении были ниспосланы ему Богом. Господь повелел ему «препоясать чресла... убить своего ближнего... насиловать его женщин... обречь на голод его детей и присвоить его землю». И Дарвин, также изучив мудрые наставления Бога, утверждал следующее: «Человек, который не верит и не имел когда-либо оснований увериться в существовании своего личного Бога или будущей жизни, несущей возмездие или вознаграждение, в качестве правила жизни, насколько я могу судить, может только следовать своим импульсам и инстинктам, тем из них, которые оказываются самыми сильными или представляются ему наилучшими»[156]. Другими словами, без Бога, ведущего к свету, нет нравственного руководства.
Аналогия между языком и этикой обеспечивает другой и, по моему мнению, более информативный способ взглянуть на эту старую проблему. В главе 1 я упоминал, что первый шаг в понимании устройства морали, с психологической точки зрения, состоит в том, чтобы описать неосознаваемые и недоступные оценке принципы, лежащие в основе суждений зрелого человека относительно добра и зла. Здесь я использую современное знание, чтобы исследовать, как приобретаются принципы, руководящие нашими интуитивными суждениями, и как они обеспечиваются работой мозга. Я охарактеризую моральный орган, основываясь на некоторых увлекательных материалах, полученных при изучении младенцев, здоровых взрослых людей и лиц с психическими нарушениями. Такие данные интерпретируются как результат действия факторов природы и воспитания. Позже я покажу, как данная система — орган морали — порождает интуитивные представления в ситуации взаимодействия этих конкурирующих факторов.
Сначала несколько мыслей о том, что вызывает сомнение и что можно рассматривать как свидетельство «за» или «против» объяснения, которое я считаю наиболее приемлемым. Общепринятая стратегия психологических исследований в этом направлении состоит в том, чтобы документально подтвердить универсальность изучаемой черты и затем констатировать, что эта черта — творение матери-природы. Универсальность — один из признаков участия матери-природы, но есть потенциальные опасности, которые мы должны устранить прежде, чем довериться этой логике. Возьмите, например, тот факт, что ночь следует за днем. Природа не является источником этого представления. Оно возникает на основе того, что мы все подвергаемся действию этого правила с ранних этапов развития и, таким образом, регистрируем это явление в памяти. Информация приобретается и усваивается, независимо от того, кем вы являетесь или где вы живете. Однако приобретение знания в результате обучения не обязательно подразумевает, что все знание извлечено из опыта. Это предупреждение, которое заставляет нас при переходе от наблюдения универсальных явлений к выводам иметь в виду, что некоторые знания могут быть врожденными, поскольку являются частью «аппаратного обеспечения» мозгового «компьютера».
Второй из признаков действия матери-природы — раннее появление какой-то черты в развитии. Когда та или иная форма поведения появляется в раннем развитии, возникает соблазн заключить, что она имеет природную основу. Причина проста: если признак формируется быстро, то времени, за которое опыт, основанный на воспитании, определяет все детали, может оказаться недостаточно. Рассмотрим факт: новорожденные младенцы, не старше одного часа жизни, могут подражать выражению лица взрослого, высовывать язык или складывать губы в о-образную конфигурацию. Имитация — часть подарка природы. Это не то, что можно было изучить в течение первого часа после рождения, тем более что большая часть времени проведена у материнской груди. Воспитание, при котором ребенок, общаясь с глупцом, высовывающим язык, подражает ему, сомнительно. Без этого опыта, однако, ребенок не высовывал бы собственный язык. Мы действительно обладаем способностью, наблюдая чьи-то действия, затем воспроизводить их по памяти, используя воспоминание как руководящий принцип для создания точной копии. Но в некоторых случаях младенец на самых первых порах своей жизни способен выполнять некоторые действия, которые можно объяснить воспитанием. Такое случается, например, когда младенцы усваивают новые факты или названия для объектов, основываясь на однократной экспозиции.
Посмотрите на ребенка, который знает слова «утка» и «тележка» и использует их соответствующим образом, чтобы маркировать уток и тележки. Положите игрушечную утку и игрушечную тележку на стол рядом с новым предметом. Теперь попросите у ребенка этот предмет, допустим ключ от блискет-детектора. Он принесет вам новый предмет. Исключая уже знакомые игрушки и сопоставляя звучание слова со значением предмета, он может выучить название нового предмета и сохранить эту информацию в памяти. Таким образом, раннее появление поведения, связанного со словесным обозначением предметов, не нуждается в объяснении, которое включает природные факторы. Вероятно, все нормально развивающиеся дети от рождения способны сопоставлять звучание слова и его значение. Их родная [157] среда обеспечивает лексические компоненты для построения массивного словаря. Кроме того, черты, которые появляются в развитии поздно, не обязательно результат специального воспитания. Так, рост волос на лице у мужчин и грудных желез у женщин — вторичные половые признаки, которые появляются в результате созревания и достижения половой зрелости.
Если существуют моральные универсалии, т. е. присущие всем людям особенности, то должны быть соответствующие способности, которыми наделены все нормально развивающиеся люди. Снова используя параллели с языком, укажем, что имеются, по крайней мере, три варианта их возможного появления. На одном полюсе расположены нативисты, которые вкладывают конкретные моральные правила, или нормы, в психику новорожденного. Он рождается, зная, что убийство — это плохо, помощь — хорошо, нарушение обещаний — плохо, так же как и беспричинное нанесение вреда кому-либо. На противоположном конце спектра — представление, в соответствии с которым нашей моральной способности с рождения не хватает собственного содержания, но она начинает развиваться на основе некоего механизма, который обеспечивает приобретение моральных норм. Согласно этим представлениям, нет никаких врожденных правил и никакого специфического содержания, только общие процессы, которые создают условия для приобретения опыта, предоставляемого воспитанием. Между этими крайними позициями находится представление, по которому мы рождаемся с абстрактными правилами или принципами, а воспитание включается в ситуацию, чтобы установить параметры и привести нас к приобретению специфических моральных систем. Я разделяю именно это центральное представление. Оно оказывается наиболее близким к лингвистической аналогии. Оно делает очевидной точку зрения, согласно которой в мозге человека имеется нечто, позволяющее нам приобретать систему моральных норм. И это же представление с той же очевидностью объясняет, почему собаки и кошки, которые живут рядом с людьми, никогда не усваивают наших моральных норм, несмотря на то что они в той или иной мере испытывают их действие. Проблема заключается в том, чтобы охарактеризовать это исходное состояние, а также установить, что вносит каждая культура и какие ограничения существуют для диапазона возможных или невозможных моральных систем.
Представление о моральных инстинктах, которое я пропагандирую, не отрицает кросскультурной вариативности. Но подтверждение наблюдаемых различий не дает оснований для отрицания ограничений. Мы должны внимательно всмотреться в различия между культурами и задаться вопросом, является ли это разнообразие безграничным или оно ограничено какими-либо необычными способами? Общепринято, особенно в социальных и гуманитарных науках, обсуждать спорные вопросы о природных основах поведения человека, привлекая примеры из жизни небольших народов, живущих в регионах, не имеющих вообще или имеющих небольшой контакт с Западом. Так, философ Джесси Принз приводит примеры из работ антропологов, оспаривающих идею о том, что в этих сообществах существуют общие для всех них врожденные специфические нормы поведения, направленные против нанесения вреда и кровосмешения[158].
Например, обсуждая проблему вреда, Принз цитирует антрополога Колина Тернбулла, изучавшего образ жизни народности Ик из Уганды. Он отмечает, что молодые люди из этого племени искренне веселятся, когда изо рта старика вытаскивают еду или когда с радостным ожиданием наблюдают, как маленький ребенок тянется к тлеющим уголькам костра, не сознавая опасности. Принз также констатирует, что кровосмешение — явление намного более обычное, чем мы хотели бы признавать, доказывая это очевидностью половых сношений брата и сестры, встречающихся со времен древнего Египта. Эти случаи кажутся нам варварскими, странными и отвратительными. Однако мы должны помнить, что такие сценарии поведения не являются доминирующими для нашего биологического вида. С тем же успехом мы могли бы утверждать, что мать Тереза и Махатма Ганди являются символами человеческой природы, нашего решительного желания помогать другим. Тем не менее люди нередко причиняют вред другим и вступают в сексуальные контакты с родственниками. Но в пределах наших культур существуют ограничения на то, кому мы можем нанести вред и что считать запрещенным сексуальным взаимодействием. Именно эти детали представляют наибольший интерес, когда мы пытаемся понять природу нашей моральной способности.
Большие ожидания
Мы ожидаем, что родители будут заботиться о своих детях, друзья будут благосклонны и лояльны, члены команды или организации готовы сотрудничать, владельцы магазинов будут торговать по справедливым ценам, мошенники будут наказаны, а некоторые люди будут защищать свою собственность в борьбе с другими. В некоторых классовых обществах, включая английское общество девятнадцатого столетия времен Чарлза Диккенса, ожидалось, что представители низшего класса, такие как Пип, женятся на членах того же самого класса, даже если, подобно Пипу, они искренне полюбили девушку из высшего света, такую как Эстелла. В глазах многих заключать брак с представителем не своего класса неправильно, а если речь идет о низшем классе, то такой брак может привести к «загрязнению» или «инфицированию» представителей высшего класса, как будто все члены низшего класса заражены болезнетворными микробами. Когда отдельные лица нарушают эти образцы поведения или взаимодействия, мы нередко ожидаем, что другие ответят попытками восстановить общепринятые образцы, в некоторых случаях наказывая нарушителей. Когда одни лица действуют не в соответствии с ожиданиями, мы обычно считаем их действия неправильными. Когда другие лица действуют в направлении, которое совместимо с ожиданиями, мы считаем, что их действия правильны, даже если открыто не выражаем такой оценки. Конечно, отношения между ожиданиями и понятиями «правильно» и «неправильно» намного сложнее, чем сказано выше.
С точки зрения нормативных требований к поведению, ожидаемые действия тем не менее могут быть оценены как нравственно неправильные. Точно так же действия, которые являются неожиданными, могут быть оценены как нравственно правильные. Как и само понятие ожидания, понятия правильного и неправильного всегда формируются относительно некоторого стандарта, независимо от того, предложен ли он Богом, Дарвином или нашими юридическими системами. В колониальной Америке богатые люди, как ожидалось, должны были иметь рабов, а бедные безработные из Африки и с Карибских островов, как ожидалось, должны были быть рабами. Когда Авраам Линкольн и другие провидцы выступили против понятия рабства, они нарушили ожидания в продвижении нормативно-учредительной доктрины, устанавливающей, как следует обращаться с разными представителями нашего биологического вида. И, как я упоминал в главе 3, если бы белый, не являющийся рабовладельцем, после нескольких попыток убил бы белого рабовладельца, преследуя цель покончить с рабством, мы могли бы расценить этот акт как ожидаемый и нравственно допустимый.
Идея, которую я хочу здесь предложить, состоит в том, что нам следует размышлять о происхождении нашего чувства правильного и неправильного, начиная с процесса порождения ожиданий[159].
Прежде чем дети начнут бегать, карабкаться вверх, пользоваться вилкой, обсуждать свои впечатления и понимать юмор, они могут начать формировать ожидания тех или иных образцов поведения в окружающем мире. Проще говоря, ожидание — это представление о некотором будущем состоянии дел. Ожидания возникают, когда индивидуум использует свое знание предшествующих событий, чтобы предсказать возможность возникновения того же самого или подобных событий в будущем. В одних случаях человек будет осознавать свое ожидание. В других — ожидание неосознанно, но тем не менее оказывает влияние на поведение. Это чувство предвкушения близко связано с вероятностями событий, как в ситуации оценки шансов при виде выкатывающихся «глаз змеи»[160]или возгласа «блэк Джек», когда карта оказывается сверху туза.
Предвосхищение другого рода возникает в сфере нравственности, когда мы анализируем собственные ожидания по поводу действий других людей или своих собственных. Это нормативные ожидания, и они относятся к обязательствам, соблюдению требований и обещаний. Если ожидание не подтверждается, следует реакция. Когда действие или его последствия соответствуют ожиданиям, ответ часто положительный. Положительные эмоции полезны как вознаграждение и подкрепление реакций. Если действие нарушает ожидание, как правило, возникает отрицательная эмоция. Отрицательные эмоции — это, например, переживание отвращения. Я предполагаю, что одно из ответвлений корня наших моральных суждений может быть найдено в характере ожидания относительно действия. Это исследование требует понимания того, как мы строим ожидания, проводя различие между случайными вмешательствами и намеренными причинами, как отвечаем на нарушения ожиданий и устанавливаем отношения между ожидаемыми действиями и эмоциями[161].
Для того чтобы оценить потенциальную силу этой идеи, давайте начнем с простого примера, оставив в стороне лишние сложности, в том числе нашу психологию морали.
Физические законы описывают регулярно повторяющиеся явления природы. Ничто не может быть более однозначным и ожидаемым, чем тот факт, что два твердых тела одновременно не могут занимать одно и то же место и что неподдерживаемый предмет будет падать вниз, пока не столкнется с другой физической структурой. Первый принцип верен для всех объектов, в то время как второй — для всех предметов неживой природы и большинства живых существ за исключением летающих. Учитывая, что эти физические закономерности существуют с тех пор, как первые многоклеточные организмы появились на Земле, с эволюционной точки зрения, было бы целесообразно «встроить» эту информацию в механизмы мозга человека и разных животных. Если дело обстоит так, то их поведение должно обнаруживать психические проявления этих физических принципов. Эти организмы должны иметь ожидания, касающиеся физического мира, которые в совокупности составляют своего рода наивную теорию, или обыденные житейские знания. Эти обыденные знания большую часть времени хорошо служат, позволяя порождать надежные ожидания об объектах и действиях. Но в случае, когда что-то изменяется в окружающей среде, они оказываются несостоятельными. Индивидуумы допускают ошибки в поведении. Ошибки, если они искренние, информативны, поскольку также обеспечивают доказательство существования ожиданий. Повторные ошибки служат сигнальными признаками теории, которая является невосприимчивой к контраргументам; следствием такой теории выступает только один вариант ожиданий — и никаких альтернативных решений. Для того чтобы порвать с традицией, требуются попытки нового действия, которое будет противоречить ожиданию. Это требует разрыва с ортодоксальным следованием догме.
Новорожденные младенцы ограничены в способности к самостоятельному передвижению, могут только смотреть на мир и вступать с ним с контакт, крича и всхлипывая, наконец, они испытывают недостаток чувства юмора. Но под этой некомпетентностью скрыта изящная система восприятия, связанного с формообразующей базой данных, содержащих знания о мире. Эта система порождает ожидания о мире — как физические, так и психологические. Эти знания доступны им даже прежде, чем они смогут воздействовать на окружающий мир, научившись доставать предметы, манипулировать ими и говорить о своих переживаниях. Почему я могу быть настолько уверен в существовании такого знания, если не могу спросить о нем у этих неподвижных «шариков»? Позвольте мне убедить вас посредством волшебной уловки.
Цель фокусника состоит в том, чтобы нарушить физическую действительность, не обнаруживая сути трюка. Когда он тянет кролика из очевидно пустой шляпы, это чудо, потому что нечто не может возникнуть из ничего и потому что кролики слишком велики по размеру, чтобы скрыться внутри цилиндра. Когда фокусник скрывает добровольца из зрительного зала плащом и заставляет его исчезнуть, он нарушает принцип постоянства объекта: исчезновение из поля зрения не обязательно означает прекращение существования. Пиаже заметил, что для маленьких детей в возрасте до одного года предмет, исчезающий из поля зрения, перестает существовать. Если фокусник покажет младенцу своего волшебного кролика, тот постарается дотянуться до него. Если фокусник опять поместит кролика в цилиндр, младенец остановится. Никаких попыток достать его больше не будет: нет ожиданий объекта. Кролик вне поля зрения означает, что он исчез из сознания. Ребенок в этом возрасте не стал бы играть в прятки и не пытался бы искать вора, который только что скрылся за кустами. Отказ ребенка получить желаемый предмет говорит вам о его ожиданиях: скрытый предмет исчез.
Вскоре после первого дня рождения, когда у детей развивается способность искать скрытый предмет, вы можете играть с ними в различные игры. Покажите ребенку два непрозрачных экрана, А и В, и спрячьте игрушку за экраном А. Как только он успешно и неоднократно извлечет игрушку из-за экрана А, спрячьте игрушку за экраном В. Хотя характер игры остается тем же и ребенок знает, что игрушка, находящаяся вне поля зрения, продолжает существовать, сохраняясь в его сознании, он ищет ее позади экрана А, но не В. Эта ошибка поиска воспроизводится многократно. Экран А притягивает как магнит, привязывая ребенка к источнику прежнего успеха. Эта ошибка возникает у всех младенцев, независимо от социально-экономического фона или культуры. Это — ошибка, которая демонстрирует признаки развивающейся психики[162].
В процессе изучения описанной выше задачи, которая получила название «А — это не В», Пиаже сделал интригующее наблюдение, о котором впоследствии неоднократно сообщали и другие психологи, изучавшие развитие. В некоторых случаях сам ребенок, как обычно, тянется к экрану А, а глаза его обращены на экран В. Это выглядит так, как будто глаза ребенка демонстрируют включение одной системы знания, в то время как его действие свидетельствует о включении другой системы. Эти наблюдения привели некоторых исследователей к заключению, что структура, предложенная Пиаже для понимания познавательного развития ребенка, имеет недостаток. Пиаже считал, что, измеряя развитие системы действия, он получает представление о том, что дети знают. Однако он был не в состоянии учесть того, что знание ребенка значительно шире, с действием или без него. Есть много вещей, которые мы знаем, но не можем использовать в действии. В тех случаях, когда мы пытаемся использовать эти знания в действии, мы делаем это так некомпетентно, особенно по контрасту с глубиной нашего неосознаваемого и часто недоступного знания. Если это утверждение кажется знакомым, это не случайно: тот же самый аргумент я приводил в главе 1, когда упоминал исследования программ морального развития и Пиаже, и Колберта. Оба использовали устное описание и обсуждение, чтобы оценить, на какой стадии морального развития находится ребенок. Оба были не в состоянии учесть такую возможность: то, что дети говорят, не обязательно совпадает с тем, что они знают. И при этом они не рассматривали возможности, что знание детей, направляющее их суждения относительно нравственно соответствующих действий, является неосознанным, и, таким образом, любое моральное оправдание должно быть неполным и, вероятно, несвязным.
Психологи, изучавшие развитие, исследовали это новое теоретическое положение, используя магическую готовность ребенка рассматривать. Специалист в области психологии развития сне Байаржон показывала младенцам в возрасте от четырех до шести месяцев, т. е. тем, кто, согласно стандартам Пиаже, через месяц должен усвоить принцип постоянства объекта, твердый шар, расположенный рядом с твердой панелью (см. рисунок).
Затем с помощью экрана она закрывала нижнюю часть панели, весь шар и демонстрировала младенцам два разных действия: дном (результат см. на рисунке слева) она наклоняла панель таким образом, что та, достигнув шара, лежала на нем. В другом (см. на рисунке справа) она наклоняла панель так, что, казалось, та проходит сквозь шар. Младенцы дольше рассматривали экран при втором условии. Хотя шар был вне поля зрения, младенцы, должно быть, продолжали думать о пространственном местоположении шара. Чтобы обнаружить нарушение, чудесные дети должны были помнить, что шар лежит на пути наклоняющейся панели, поэтому он препятствует ее дальнейшему продвижению. Когда кажется, что панель проходит через шар, возникает ощущение нарушения, так как твердость — один из основных принципов существования объектов. Факт, что младенцы обладают таким знанием уже в начале жизни, предполагает, что это не выученный урок. Это знание возникает в развитии как компонент нашего стандартного видоспецифического обеспечения. Возвращаясь к Пиаже, подчеркнем: младенцы знают, что объекты продолжают существовать вне поля зрения задолго до того, как они могут оперировать таким знанием[163].
Это заключение подтверждает вероятность того, что знание, направляющее взгляд ребенка в раннем возрасте, отличается от знания, позднее управляющего достижением цели.
Если мы хотим охарактеризовать знания и ожидания младенцев, то не должны полагаться на образцы их действия или наблюдаемого поведения как на единственный источник сведений. Скорее мы должны обратиться к их способам рассматривания предметов как к другому и, возможно, более полному источнику информации о том, что они знают и ожидают. Этот момент уже был зафиксирован в двух предыдущих главах при обсуждении нашей моральной способности. Даже имея дело со взрослыми, мы стремимся проводить различие между тем, что индивидуум делает, и тем, как он или она судит о той же самой ситуации. То, что взрослые говорят, оценивая то или иное действие как нравственно правильное или неправильное, может отличаться от того, что они фактически сделали бы в такой ситуации. При этом и по поводу своих суждений, и по поводу своих действий они могут иметь лишь небольшое понимание основных принципов. Тот же способ, с помощью которого мы пытались провести различие между компетентностью взрослого и его действиями в сфере морали, противопоставляя оперативные принципы демонстрируемым, ту же логику изучения применим к нашему исследованию младенцев и детей.
АВС действия
Биология дала нам знание, благодаря которому мы можем выделить в окружающей нас среде объекты, которые могут двигаться самостоятельно, и объекты, которые не обладают такими возможностями. Это знание питает нашу моральную способность, поскольку оно устанавливает различия между объектами, которые могут нанести нам вред или помочь нам, с одной стороны, и объектами, которые этого не могут, — с другой. Используя продолжительность рассматривания как показатель познавательной деятельности, специалист по психологии развития Алан Лесли предъявлял младенцам несколько сюжетов с периодически возникавшим взаимодействием двух кубов — красного и зеленого. В каждой сцене младенцы наблюдали, как красный кубик перемещался и приближался к неподвижному зеленому кубику. Младенцы выказывали небольшой интерес, когда красный кубик сталкивался с зеленым, и затем зеленый начинал двигаться. Напротив, когда красный кубик резко останавливался перед зеленым, а затем зеленый кубик начинал двигаться, младенцы долгое время рассматривали его, их глаза сигнализировали о невозможном событии. В этой второй сцене красный кубик, казалось, обладал властью дистанционного управления, способного перемещать объекты, такие как зеленый кубик, без прямого контакта. Взгляд младенцев также заставляет думать, что они рассматривали зеленый кубик как неживой, неодушевленный объект, неспособный к самостоятельному движению, которое является характерным для живых существ[164].
В другой серии экспериментов девятимесячные младенцы сначала наблюдали, как зеленый куб начинал двигаться, как только красный куб останавливался; затем — во второй ситуации — зеленый куб начинал двигаться в то время, как красный продолжал приближаться к нему. Как только младенцы выражали скуку, наблюдая эти ситуации, экспериментатор показывал им ту же самую мультипликацию, только кубики менялись ролями. Взрослые испытуемые воспринимали вторую ситуацию в социальном контексте, интерпретируя красный куб как агрессора или преследователя, а зеленый куб как пассивного обывателя, убегавшего от своего врага. Первая ситуация или вообще не имеет социального содержания, или неоднозначна относительно распределения социальных ролей. Если младенцы также приписывают подобные роли этим объектам во второй ситуации и не приписывают в первой, то при перемене ролей кубиков во второй ситуации, когда зеленый куб преследует безответный красный, они должны это проявить. Младенцы смотрели дольше на перемену поведения кубиков во второй ситуации, как будто социальные роли имели для них значение. Существенно, что эта чувствительность к социальным ролям совпадает с тем, что психологи, изучающие развитие, называют девятимесячной революцией или чудом в социальной искушенности. В этом возрасте дети уже понимают, как осуществляется тройственное взаимодействие и что люди действуют согласно своим намерениям. Эти эксперименты и подобные им устанавливают то, что я называю первым принципом действия.
ПРИНЦИП 1: Если объект перемещается самостоятельно, это животное или часть его тела.Прежде чем технология создала роботы и другие подобные им самодвижущиеся устройства, Земля была населена двумя видами объектов: животными, способными к самостоятельному передвижению, и всеми остальными. Живые организмы против неживой природы. Неодушевленные объекты могут двигаться, но только когда что-то или кто-то способствует этому. Действие без контакта невозможно. Большинство из вас, вероятно, никогда не думали об этом принципе, и все же вы подсознательно постоянно применяете его. Когда вы идете в универсам, то не боитесь, что арбуз спрыгнет с полки и ударит вас по голове. Но вас реально обеспокоит человек из соседнего прохода, который, решив сократить путь, быстро двинется в вашем направлении: он может случайно врезаться в вас. Иногда объект к моменту, когда мы фиксируем его, уже находится в движении, а иногда объект неподвижен. Даже не обращаясь к оценке самостоятельности движения, взрослые с легкостью способны установить, какие объекты являются животными, а какие нет. Но как? Что отличает животных от камней, плодов и искусственных устройств? Второй принцип действия основывается на первом, добавляя фактор направления движения.
ПРИНЦИП 2: Если объект перемещается в определенном направлении к другому объекту или месту, то эти мишени — объект или место в пространстве — представляют собой цель движущегося объекта.В документальном фильме «Микрокосмос», который представляет мир глазами навозного жука, есть замечательная сцена, в которой жук неоднократно пытается передвинуть комочек экскрементов вверх по склону. Подобно Сизифу, он никак не может взобраться на него. Тем не менее мы немедленно определяем его цель: втащить комочек экскрементов на холм.
Теперь рассмотрите иллюстрацию, приведенную ниже. На рисунке слева шарик перемещается случайным образом, не обнаруживая своей траекторией движения никакой цели. На рисунке справа мы видим целенаправленную траекторию движения такого же шарика. Уверенность в правильности нашего вывода возрастает, если объект превращается в субъекта, активно продвигающегося к цели. Мы способны определить цель субъекта, даже если он никогда не достигает ее[165].
Возрастной психолог Аманда Вудворд проводила эксперименты с младенцами, чтобы установить, достаточно ли им видеть движение, направляемое целью, чтобы вызвать ожидания о целях движущегося объекта. Младенцы наблюдали, как рука экспериментатора появлялась на сцене из-за занавеса и затем дотягивалась до игрушки А, игнорируя игрушку В. После того как младенец наблюдал эту ситуацию много раз, экспериментатор менял местами эти две игрушки. Если экспериментатор стремился к той же самой позиции, но для игрушки В, младенцы рассматривали ситуацию дольше, чем если бы экспериментатор доставал игрушку на противоположной стороне. Этот образец рассматривания дает основания полагать, что, в то время как младенцы наблюдали повторявшиеся действия первого варианта, у них сформировалось ожидание: цель руки — достать игрушку А. Стремление достать игрушку В нарушило их ожидание. Когда Вудворд изменила этот эксперимент: палочкой или рукой просто похлопывала по объекту, не хватая его, различия в длительности рассматривания исчезали. Очевидно, пальцы рук, складывающиеся для схватывания, имеют определенную цель, а раскрытая ладонь и палочка такой цели не имеют. Субъект с определенными намерениями имеет руки, готовые достать и схватить.
Третий принцип действия, который основывается на первом и втором, утверждает следующее[166].
ПРИНЦИП 3: Если объект гибко изменяет направление движения, реагируя на другие объекты окружающей среды или на события, то это показатель рационального поведения.Только объекты, управляющие собственным движением, могут самостоятельно изменять свое положение в пространстве с учетом продолжающихся или ожидаемых событий. Гибкость движения объекта — признак рационального поведения. Оно рационально в том смысле, что принимает во внимание существенные ограничения, имеющиеся в окружающей среде. Если лев преследует газель, то для газели и рационально, и разумно уклониться от льва. Газель, останавливающаяся, чтобы подкормиться, в тот момент, когда лев настигает ее, демонстрирует иррациональную негибкость — глупость, которую естественный отбор должен устранить. Если бегущая газель видит впереди валун и прыгает на него, чтобы уклониться от нападения льва, это действие также является рациональным. Если же газель подскакивает в отсутствие валуна, прыжок не имеет смысла. Приближаясь к концу своего первого года жизни, а возможно и задолго до этого, младенцы показывают, что третий принцип управляет их ожиданиями.
Специалисты в области психологии развития Гергель и Ксибра провели ключевые эксперименты, чтобы показать, что младенцы уже с рождения руководствуются третьим принципом, управляющим их ожиданиями. Как показано на иллюстрации, младенцы наблюдали компьютерную мультипликацию: два шара и барьер между ними. Маленький шарик, двигаясь, поднимался вверх, преодолевал барьер (гибкое изменение направления движения), достигал большого шара и останавливался. Младенцы наблюдали несколько повторных показов этой мультипликации. Затем экспериментатор предъявлял каждому младенцу два новых сюжета, включавших те же самые два шара, но уже без барьера. В одной мультипликации маленький шар следовал тем же самым маршрутом, немного катился вперед, затем поднимался вверх и, описывая дугу, опускался, присоединяясь к большому шару. Во второй мультипликации маленький шар катился прямо к большому шару. Если новизна сюжета, в котором маленький шар избирает новый маршрут, более интересна, то младенцы должны дольше смотреть эту мультипликацию. Напротив, если младенцы чувствуют необычность поведения маленького шарика, взбирающегося и скатывающегося по ничему, — энергетически затратное и негибкое движение, тогда (даже при том, что маршрут знаком) это причудливый выбор. Если младенцы в своих ожиданиях руководствуются третьим принципом, то маленький шарик избирает рациональную траекторию в первом сюжете и иррациональную — во втором. Отсутствие логики в поведении должно вызвать более пристальное рассматривание, чем рациональное поведение.
Младенцы дольше рассматривают ситуацию, когда маленький шар выбирает старый, знакомый маршрут. Основываясь на первом сюжете, они извлекают первый, второй и третий принципы: маленький шар перемещается самостоятельно, гибко и к цели. В отсутствие барьера не имеет смысла выбирать траекторию дуги. Рациональный объект должен был бы катиться прямо вперед. Ожидается именно этот вариант движения шарика. Траектория дуги неожиданна, т. е. нарушается третий принцип действия. Младенцы пристально рассматривают иррациональное действие, даже когда его выполняет безликий диск на экране.
Четвертый принцип добавляет фактор вероятности при быстром обмене действиями и ответными реакциями. В одной версии экспериментов Гергеля и Ксибры мультипликационный сюжет начинается с появления на экране маленьких и больших шаров. Эти шары время от времени раскачиваются, как будто они ведут непринужденный разговор. Если два шара находятся в разных точках пространства, мы — взрослые по крайней мере — не воспринимаем раскачивание большого шара как причину, побуждающую качаться маленький шар. Нам необходимо кое-что более интерактивное или социальное, даже при том, что объекты вообще не выглядят подобно живым существам[167].
ПРИНЦИП 4: Если действие одного объекта во времени сближено с действием второго объекта, действие второго объекта воспринимается как социально обусловленный ответ.Эксперименты Сьюзан Джонсон указывают, что двенадцатимесячные младенцы учитывают условия для организации своего поведения при взаимодействии с людьми и неодушевленными объектами[168].
Младенцы наблюдали, как экспериментатор скрытно перемещал нечеткий коричневый объект, на поверхности которого выделялись один большой круг размером с надувной мяч и спереди меньший кружок размером с бейсбольный мяч. Если перемещение объекта было обусловлено действиями младенца, т. е. по времени совпадало с моментами, когда младенец начинал лепетать, или, если младенец двигался, объект освещался, тогда поведение младенца сообразовывалось с движениями объекта так, как будто младенец следил за направлением «взгляда» этого объекта, имитируемого расположением кружков на поверхности объекта.
Однако если объект двигался беспорядочно и нескоординированно с его движениями, младенец не показывал никаких признаков слежения за объектом. Для младенцев подобного поведения, зависящего от условий, достаточно, чтобы обусловить социально важное объединение поведения и внимания. Глядя туда, куда смотрит кто-то еще, младенец приобретает то же знание. Подобное поведение вызывает ощущение социального, чувство, что за объектом стоит разум, который намеревается вступить в общение.
Пятый принцип действия существенно приближает нас к области изучения морали, связывая действие с эмоцией.
ПРИНЦИП 5: Если объект целенаправленно продвигается и гибко реагирует на ограничения, имеющиеся в среде, то объект имеет потенциал, чтобы причинить вред или принести пользу другим объектам такого же типа.Этот принцип появился в результате эксперимента Давида Примака и Энн Примак[169]. Его цель — понять, связывают ли младенцы эмоцию и действие, извлекают ли ее из особенностей действия даже с такими бесстрастными объектами, как геометрические формы на экране монитора.
Исследователи показывали младенцам различные мультипликационные сюжеты, которые взрослые воспринимали как разные варианты взаимодействия: с положительным акцентом (забота, помощь) или с отрицательным (удар, препятствие). В сюжете, изображающем заботливое поведение, темный кружок двигался по направлению к белому кругу, вступал с ним в контакт и вращался вокруг него. В сюжете о помощи темный круг перемещался через промежуток между двумя линиями, приближался к белому, занимал положение под ним, а затем начинал подталкивать белый круг, продвигая его через проход между линиями. В сюжете об ударе темный круг приближался к белому, коснувшись, изменял форму белого круга, преобразовывая его в эллипс. В сюжете о препятствии темный круг приближался к проходу между линиями и блокировал продвижение белого круга, двигавшегося к этому проходу.
Младенцы сначала наблюдали повторные показы одного из этих сюжетов, пока им не надоедало. Тогда им показывали другой сюжет. Если второй сюжет был эмоционально подобен первому (например, сначала забота, потом помощь), младенцы теряли интерес; если второй сюжет отличался по эмоциональному содержанию (например, сначала забота, потом нанесение удара), интерес младенцев восстанавливался, и они наблюдали за происходящим. Подобно взрослым, младенцы воспринимали эти формы как активно действующих участников и приписывали их взаимодействиям определенную эмоциональную окраску. Эти примитивные принципы действия (придание эмоциональной окраски и предпочтение одного, а не другого) способствуют развитию у ребенка нормальных социальных отношений. Созданиям Юма и Ролза они обеспечивают рано появляющуюся способность связывать эмоции и действия.
Тот факт, что младенцы смотрят дольше, когда эмоциональность сюжета меняется, еще не доказывает, что они воспринимают, классифицируют или переживают эти действия, опираясь на эмоциональную оценку происходящего.
Возможно, младенцы судят об этих показах просто на основе структурных принципов. Просматривая сюжеты, мы называем их «помощь» и «забота» и определяем их как допустимые, потому что они содержат одни и те же причины и следствия в виде двух кругов, соединяющихся и остающихся вместе. Запрещенные действия, напротив, включают агентов, которые встречаются и затем расходятся. Это описание того, как воспринимал бы ситуацию ролзианский младенец, и недавние эксперименты поддерживают эту идею[170].
Я привел пять принципов действия, принципов, управляющих детским пониманием мира, которые обеспечивают некоторые из стандартных блоков нашей моральной способности. Они активно действуют уже в конце первого года жизни. Их раннее появление — одно из свойств врожденной системы.
Целостность события
Смерть Джона Леннона была событием, которое многие люди оплакивали. Как событие, оно было похоже на смерть принцессы Дианы, но в то же время и отличалось от него. Однако оба эти события отличаются от событий типа ежегодного рождественского праздника, супербоула[171]или «Тайной вечери». Действия и события — сущности, которые мы опознаем и отличаем от других сущностей. Как сущности, они имеют свойственную только им определенность (т. е. идентичность)[172].
В отличие от идентичности объектов, идентичность событий связана со специфическим местоположением в пространстве и изменением с течением времени. Подобно объектам, действия и события имеют границы. Объекты имеют физические границы. Действия и события имеют пространственные и временные границы, которые мы обычно воспринимаем как начало и конец. Иногда эти границы нечеткие.
Подумайте на мгновение о таком событии, как убийство, и о действии, которое ведет к смерти человека. Вспомните, в частности, о примерах с трамвайным вагончиком из главы 3. Когда свидетель Дениз щелкает выключателем, ее действие заставляет вагон повернуть на боковой путь и травмировать человека, идущего по этому пути. Допустим, что этого пешехода срочно доставили в больницу, где через двадцать четыре часа после хирургической операции он умирает. Какие моменты времени можно считать началом убийства и его завершением? Можем ли мы сказать, что переключение тумблера убило пешехода? Вряд ли. Мы не можем утверждать, что переключение тумблера равно убийству, потому что фактически пешеход умер в другом месте. Имеется временная задержка. Свидетельствуя, мы могли бы сказать, что акт переключения начинается, когда рука Дениз прикоснулась к тумблеру, и заканчивается, когда тумблер переключен в другую позицию. Для некоторых начало может быть более ранним, уже в тот момент, когда Дениз только подумала положить свою руку на переключатель. Убийство в этом плане более неоднозначно. Мы воспринимаем действие Дениз как причину смерти пешехода, даже при том, что можем признать: это не было ее целью. Ее цель состояла в том, чтобы спасти жизни других пятерых людей.
Между действием — переключение тумблера — и смертью пешехода не происходит ничего, имеющего к ней отношение. Хирургическая операция доктора состоит из действий, которые составляют событие, но ни действия, ни событие в целом не играют никакой роли в заключительном результате. Доктор не убивал пешехода. Действия доктора имеют другую цель: спасти пешехода. Если бы доктор спас жизнь пешехода, мы все равно применяли бы то же самое определение к действию Дениз: переключение тумблера явилось причиной того, что вагон сбил пешехода. Мы не придаем большого значения времени, которое прошло между переключением тумблера и смертью пешехода. Мы чувствуем связь между актом и следствием. Большинство из нас судят о действии как о допустимом даже при том, что последствие действия — смерть.
Подобно предложениям, события состоят из множества компонентов и их зависимосвязей: действия, причины, последствия и их организация во времени. Когда мы слышим предложение, мы извлекаем значение целого. Мы сознательно не расчленяем предложения на слова, слова на слоги, слоги на фонемы. Если бы мы хотели, то могли бы сегментировать предложение на эти части. То же самое справедливо и для событий. Установить эти различия необходимо, потому что суждения о допустимых, обязательных и запрещенных действиях основываются, частично, на отдельных составляющих события. Особенно это важно, когда речь идет о понимании того, какая причина, к каким именно последствиям приведет и в каком порядке.
Следующий пример, который мы берем у философа Элвина Голдмана[173], который иллюстрирует один из способов произвести и обдумать аргументацию событий: "Джон сгибает палец, таким образом нажимает на курок, таким образом стреляет, таким образом убивает Пьера, таким образом лишает Пьера возможности обнародовать тайны партии, таким образом спасает партию от беды. Убивая Пьера, он толкает возлюбленную Пьера на самоубийство». Мы можем представить эту сложную историю с множеством субкомпонентов и большим числом действий как схему, на которой изображены и компоненты, и связи между ними.
Согнутый палец можно сравнить с фонемой. Просто согнуть палец — это действие, которое не имеет никакого реального значения. Согнуть палец, чтобы надавить на курок ружья, уже имеет значение — это намеренное действие. Надавливание на курок, как действие, имеет одно значение, если ружье заряжено, и другое, если в нем нет патронов. Оно имеет еще одно значение, если ружье заряжено и нацелено на что-то. Если это что-то — человек, цель действия отличается от того, если бы это что-то являлось набором мишеней в виде концентрических окружностей, приклеенных на стену. Мало того что цели отличны, но и последствия — также. Вилка в схеме является критической. Она показывает, что убийство Пьера Джоном имеет два следствия. Убийство удерживает Пьера от разглашения тайны и ведет к смерти возлюбленной Пьера.
Компоненты последовательности действий, или события, различны. Они могут иметь специфическое местоположение в пространстве, при этом компоненты появляются в определенной временной последовательности, а не внезапно. Футбольный матч состоит из периодов, которые мы воспринимаем как части целостной игры. В пределах этих определенных частей с ясно установленными началом и концом есть другие составляющие. Это комбинации бессмысленных действий, которые естественным образом смешиваются со значимыми действиями и событиями. Защитник бросает мяч принимающему игроку (защитник сжимает руки с мячом, поворачивает голову, чтобы найти принимающего игрока, затем вытягивает руки и посылает мяч, освобождая его из своего захвата), принимающий игрок ловит мяч (он бежит, поворачивает голову, чтобы видеть мяч, раскрывает руки, затем обхватывает ими мяч) уже в конечной зоне, и налицо тачдаун[174]
Игрок «закрепляет» мяч (поднимает руки с мячом вверх, затем быстро опускает вниз и наполовину освобождает от захвата), в то время как звучат приветствия болельщиков (они хлопают, вопят, свистят). Все эти составляющие разворачиваются в течение какого-то времени. Событие в целом кажется существенным, даже если мы никогда осознанно не воспринимаем и не понимаем отдельные его части. И то, каким образом мы расчленяем событие на составляющие, зависит от степени нашей осведомленности о нем[175].
Имеется ли у младенцев механизм, который позволяет им воспринимать действия с учетом их иерархии? Обладает ли этот механизм бесконечным потенциалом для бессознательного комбинирования и рекомбинирования бессмысленных действий е значащие действия и события? Небольшой шаг в направлении ответа на этот вопрос сделали возрастные психологи Дэр Болдуин и Джоди Бэрд. Они представили младенцам видеосюжет, в котором женщина идет на кухню: она готовится вымыть посуду, моет ее и вытирает[176].
Как часть этой последовательности они видели, что женщина уронила и затем подняла полотенце. После неоднократного просмотра этого видеосюжета младенцы смотрели на один из двух кадров, извлеченных из последовательности: законченное действие женщины, подхватывающей полотенце с пола, или неполное действие женщины, старающейся поднять полотенце, но останавливающейся на полпути, в наклоне. Младенцы дольше рассматривали ситуацию, когда женщина, казалось, застывала, согнувшись. Предполагается, что они расчленяли непрерывный поток действий на меньшие единицы, которые представляют промежуточные цели в пределах больших целей. Подобно пониманию речи, когда мы «скользим» по меньшим фонематическим единицам, чтобы достигнуть более высокого уровня восприятия слов и фраз, организовано восприятие события у младенцев.
Младенцы обладают способностью расчленять непрерывные события на отдельные составляющие — действия — и интерпретировать действия объекта в соответствии с пятью основными принципами. Хотя ни одна из этих способностей не является специфической для моральной способности, они «обеспечивают» младенцев другой существенной способностью — порождать ожидания об объектах. Младенцы классифицируют их как агентов, т. е. активных деятелей, приписывают намерения и цели таким агентам и предсказывают паттерны объединения действий, связанных с положительными или отрицательными эмоциями. В отсутствие этих способностей младенцы развивались бы в существа, которые сосредоточиваются только на последствиях. Они были бы не в состоянии отличить преднамеренный вред от предсказанного или случайно вызванного вреда. Они судили бы о всех действиях, ведущих к отрицательным последствиям для одного или более индивидуумов, как о запрещенных. Такие существа никогда не преуспели бы на поприще морали. Но, наряду с этими «мощностями», в развитии необходимы и другие. Классифицировать объекты как активно действующие фигуры — это одно дело. Классифицировать себя и других как субъектов в сфере морали с обязанностями, с пониманием собственности, с беспристрастностью и способностью сочувствовать — другое дело.
Отражение себя
Мы живем в культуре, одержимой красотой. Нас заваливают изображениями красивых мужчин, женщин и детей. Этот культ красоты соблазняет каждого из нас походить на нечто такое, чем мы на самом деле не являемся. Скрывая что-то в одних местах тела и «перекраивая» в других, вы можете соответствовать стандартам Голливуда или думать, что соответствуете им. В одних только Соединенных Штатах в 2002 году было проведено 7,3 миллиона косметических операций. В очень выразительном документальном фильме американской кабельной телевизионной сети (MTV) камера оператора прослеживает жизни трех женщин и одного мужчины, каждый из которых собирается делать операцию пластической хирургии. Двум женщинам чуть старше тридцати уже уменьшили животы, изменили форму бедер и увеличили груди. Теперь одна озабочена идеей усовершенствования носа, другая хочет уменьшить объем бедер. Мужчина с вялыми мышцами, недовольный формой икр на ногах, решился на операцию по установке имплантантов, увеличивающих их размеры и форму. Четвертый участник, тучная женщина, страдает из-за избыточного веса и неспособности реально его снизить. Она решилась на операцию пришивания желудка к брюшной стенке — радикальное вмешательство, которое приводит к выключению функций большой части желудка.
Скоро эти люди будут отлично выглядеть. Некоторые немного уменьшат размеры и форму беспокоившей их части тела, другие немного увеличат. Их тела и органы будут преобразованы. Каждый из этих людей решился на пластическую операцию, потому что он (или она) был уверен, что изменение улучшит его самочувствие, укрепит желание быть в форме.
Пластическая хирургия изменила не только внешний вид этих людей, но также и их самоощущение. Пластическая хирургия дала каждому обновленное чувство собственного достоинства, уверенности в себе и особое чувство самоконтроля. Самоконтроль и более общее представление о себе — существенные системы, имеющие отношение к моральной способности, хотя и не единственные. Многие моральные суждения связаны с проблемами ответственности человека. Активно действующим лицам, имеющим большие цели, наделенным умом и способностями их добиваться, как правило, свойственна ответственность за себя и за других. Однако не мало и таких индивидуумов, которые испытывают чувство вины за некоторые свои действия. Они страшатся достижений других и в то же время гордятся, если помогли кому-то в нужде или достигли некоторой большой цели. Они завистливы, когда видят, что другие имеют нечто такое, что им хотелось бы получить самим. Какова анатомия индивидуальной идентичности человека? Два человека никогда не могут абсолютно совпадать по своим личностным особенностям. Клонирование человека, если бы оно было возможно, никогда не дало бы точных копий. Различия между идентичными близнецами [177] которые отмечаются в случаях, когда они воспитываются отдельно друг от друга, подтверждают это положение[178].
По некоторым психологическим показателям, влияние окружающей среды на идентичных близнецов оказывается близким к нулю. Например, показатели интеллекта идентичных близнецов, воспитанных раздельно, и близнецов, выросших вместе, фактически одинаковы. Нельзя исключить того, что некоторые из выросших порознь близнецов после разделения пары были помещены в сходные условия среды, однако это вряд ли объяснит степень их внутрипарного сходства. Сотни близнецов из разделенных пар выросли в сильно различающихся условиях среды. Эти близнецы обнаруживают различное предпочтение некоторых пищевых продуктов, выбирают разные виды деятельности, разных друзей и возлюбленных. Суть заключается в том, что гены ограничивают диапазон этих различий. Возражая этому утверждению, подчеркнем, что применительно к личности человека гены представляют только один из нескольких компонентов, которые участвуют в формировании уникальных особенностей каждого индивидуума. Каковы другие необходимые компоненты? Что отличает, например, меня от вас?
Одним из таких компонентов служит непрерывность и преемственность личного опыта человека. Мой опыт может частично совпадать с опытом других, например когда речь идет о наблюдении, дегустации и обонянии одной и той же пищи, но это мои ощущения. Что позволяет мне оставаться тем же самым человеком на протяжении времени, хотя мои взгляды могут меняться? Это мой жизненный опыт, но именно этот опыт изменяет мои взгляды. Этот опыт принадлежит мне, даже если он навязан кем-то другим и даже если я не осознаю его в полном объеме. Эта характеристика самосознания присуща всем людям, она универсальна и устойчива, хотя другие аспекты личности обнаруживают межкультурные различия[179].
Проблема идентичности личности важна для нашего понимания самоконтроля в той же мере, как и проблема ответственности и ее связей с нашей моральной способностью.
Знание себя играет в некотором роде «профилактическую» роль[180]. Это своего рода «защитная оболочка», которая помогает избежать искушений, или, говоря житейским языком, она удерживает нас от опасности говорить и делать неправильные вещи в неправильное время. Знание себя позволяет нам выходить далеко за границы нашего собственного личного интереса. Оно заставляет нас признавать, что альтруистическое действие приносит пользу другим и что мы должны взять на себя ответственность за благосостояние некоторой части сообщества. Такое знание позволяет нам представить себя на месте другого человека, почувствовать его горе или радость. Оно позволяет нам создавать свой автобиографический «очерк», сохраняя воспоминания и используя их в управлении будущим поведением.
Судя по некоторым данным, самые первые проявления самосознания можно обнаружить у младенцев в возрасте приблизительно двух месяцев[181]. Однако это еще ни в коем случае не само рефлексивное чувство. Это его исток, который возникает по мере формирования способности младенца контролировать свои действия. Существа, едва обладающие сознанием, не способные еще управлять собственным телом, перемещая его с одного места на другое, благодаря чудодейственному вмешательству экспериментатора могут научиться причмокивать и бить ножками, чтобы зажечь свет и — как следствие — заставить двигаться игрушечных животных. Таким образом, они узнают, что их собственные действия могут влиять на поведение других вещей в их мире.
Дальнейшие доказательства существования самосознания появляются в результате исследований, использующих дилемму Нарцисса. Когда младенец смотрит на отражающую поверхность, что он видит: себя или другого? Испытание зеркалом было разработано, чтобы оценить, когда дети начинают делать различия между своим отражением и чьим-либо другим. Эта способность появляется в возрасте восемнадцати — двадцати четырех месяцев. Многие родители с удивлением воспринимают ее появление у детей. Однажды близкие друзья сказали мне, что их десятимесячная дочь узнала свое изображение в зеркале. Я, как правило, не обсуждаю научные проблемы со своими друзьями, далекими от науки. Однако в этом случае пришлось сделать исключение: «Ваша дочь пока еще не может узнавать себя в зеркале». Мои друзья засомневались в моей правоте. Тогда я сказал: «Давайте посмотрим, устроим проверку. Пусть Дебора пойдет и накрасит красной помадой губы, возвратившись, она поцелует Айону в щечку. Затем мы поставим перед девочкой зеркало и будем наблюдать за ее поведением». Когда мы посадили Айону перед зеркалом, она посмотрела на нас, улыбнулась, затем продолжила наблюдение за нами, начала смеяться. При этом не было никаких признаков того, что она узнала себя в зеркале. Если бы мы ждали восемь — четырнадцать месяцев, то дождались бы момента, когда, увидев себя в зеркале, она стала бы вытирать помаду со своей щеки и, наиболее вероятно, начала бы играть с ним. Дети в этом возрасте нередко используют зеркало, чтобы увидеть те части своего тела, которые обычно скрыты от них. Важно подчеркнуть, что и в случае с Айоной, и во всех других аналогичных опытах с младенцами наблюдается один и тот же факт. Дети, возраст которых меньше восемнадцати — двадцати четырех месяцев, узнают в зеркале знакомых людей и знакомые вещи. Увидев в зеркале, Айона узнала меня, мою жену, своего папу, свою маму. Но при ее возрастных возможностях тот ребенок в зеркале, с помадой на щеке, был чужим.
Тест с зеркалом ничего не может сказать нам о том, как ребенок двух лет воспринимает себя. Неизвестно, что думает ребенок, когда видит следы помады на своей щеке. Мы не знаем, как он расценивает эти красные метки, задается ли вопросом, откуда они там появились, кто в этом виноват и всегда ли они там есть? Некоторые ученые подчеркивают, что способность узнавать себя в зеркале возникает в развитии приблизительно в то же самое время, когда наблюдаются и другие проявления самосознания — выражение смущения, ранние формы сочувствия, игры с притворством. По этой причине тест с зеркалом действительно открывает больше чем простое зрительно-телесное ощущение или способность узнавать поведенческие реакции, обусловленные собственными действиями (когда я двигаюсь, также делает похожее на меня изображение в зеркале)[182].
Перечисленные выше особенности поведения детей, которые появляются приблизительно в одно и то же время, важны для понимания сущности представленного в главе 1 создания Юма. Такое существо — это ребенок, который смущается и переживает свою неловкость, находясь в центре внимания посторонних людей. Это ребенок, который способен сочувствовать. Он не только может узнать чужую боль или радость, но обладает способностью сопереживать чувствам других и затем действовать соответственно обстановке.
Убежденный сторонник взаимосвязи между знанием о себе и самосознанием, специалист в области сравнительной психологии Гордон Гэллап считает, что способность к идентификации своего изображения в зеркале требует осознания и понимания себя. Более того, успешность опознания себя в зеркале не только согласуется со способностью ребенка приписывать другим чувства и желания — способностью, в которой психологи находят истоки важного психического явления, называемого «моделью психического»[183](см. главу 5). Она также согласуется с клиническими данными. Способность узнавать себя в зеркале нарушается у детей с задержкой умственного развития, аутизмом и у некоторых пациентов с повреждением лобных долей мозга. Идея Гэллапа интересна, и если она верна, то позволила бы использовать процедуру с зеркалом как полноценный тест для оценки уровня самосознания ребенка.
Для того чтобы надежно обосновать такой тест, мы должны установить, насколько тесно связаны между собой центры мозга, отвечающие за самопознание и самосознание. Испытание идеи можно провести, наблюдая за больными, которые не могут узнать себя в зеркале. Однако такие больные, как правило, не испытывают никаких трудностей, когда необходимо признать, что другие люди имеют представления и желания, которые могут в той или иной мере отличаться от их собственных. Им не удается пройти испытание зеркалом, но они адекватно выполняют задания, связанные с представлениями о своих и чужих психических особенностях, с так называемыми «моделями психического»[184].
Эти индивидуумы страдают от расстройства, известного как прозопагнозия (prosopagnosia). Такие больные не только не в состоянии узнать свое лицо в зеркале, но они не в состоянии узнавать лица знакомых людей. Наряду с этим, они обнаруживают полноценную способность узнавать тех же людей по особенностям их телосложения, внешнего вида и по голосам. Характер собственного расстройства пугает их, в первую очередь из-за утраты чувства «себя» и осознания последствий этой утраты, понимания того, что это означает, и того, как абсолютно изменился мир вокруг них. Анализ особенностей психики таких больных показывает, что самопознание и самосознание не связаны неразрывно. Их можно отделить друг от друга. Индивидуум, который не в состоянии узнать свое зеркальное изображение, вполне может иметь довольно содержательное представление о себе. Поэтому испытание зеркалом не может служить критической проверкой сохранности самосознания.
При этом не очень существенно, что именно у таких больных происходит со знанием лиц знакомых: оно исчезает из хранилища долговременной памяти или остается недоступным? Возможно, информация была уничтожена, как если бы некто вошел в библиотеку и удалил все книги по биологии или серьезно повредил связь между знанием и системой, к которой посетитель получает доступ. Проще говоря, книги по биологии все еще находятся на полке, но карточки привилегированного доступа для этого отдела библиотеки отменены. Различие между этими двумя возможностями имеет значение для того, чтобы охарактеризовать фактический статус самопознания и степени, до которой оно влияет на восприятие и действие. Результаты нескольких последних исследований показывают: больные прозопагнозией имеют проблемы с доступом к информации, хранящейся в памяти[185].
Когда больные видят знакомое лицо, такой физиологический показатель, как потливость их ладоней, сильно возрастает по сравнению с ситуациями, когда им предъявляют незнакомое лицо. Это значит, что при виде знакомого лица по физиологическим показателям возбуждения они дают намного более сильный ответ. Когда такой больной встречает «шутника», который накануне держал в руке игрушечный вибрирующий звонок, чтобы при рукопожатии слегка «ударить» пациента, он не узнает этого человека, но откажется от рукопожатия с ним. Есть некоторое сходство между младенцами и больными прозопагнозией. Кажется, младенцы знают, что предмет продолжает существовать позади экрана, но они не стараются дотянуться до него, как только тот исчезает за экраном. Больные прозопагнозией подсознательно знают, что некоторые лица знакомы, а другие — нет, но они не могут сообщить об этой информации. Они не знают, что они знают. Это неосознаваемое чувство имеет другой смысл, отличный от того неосознаваемого ощущения, которое мы обсуждали до сих пор, говоря о принципах, лежащих в основе моральной способности. У здоровых взрослых знание собственного лица и лиц других доступно сознательному отражению. Поражение определенных отделов мозга не уничтожает это знани< только закрывает доступ к получению информации.
Иллюзия Капграса выдвигает на первый план различие межд узнаванием и эмоцией — двумя ключевыми особенностями создания Ролза и создания Юма[186].
Эти пациенты не испытывают никаких трудностей с узнаванием знакомых лиц, в том числе и своего лица. Но как тольк они узнают знакомое лицо, включая свое собственное отражени в зеркале, у них возникает ощущение ошибки. Когда человек, страдающий расстройством Капграса, видит знакомое лицо, на пример лицо матери, он узнает ее и называет «мама». Однако ту же начинает утверждать, что эта женщина, должно быть, самозванка. То же самое случается, когда такие больные видят собственное отражение. Это нарушение часто ведет их к тому, чтоб] удалить из дома все зеркала. Способность узнавания лиц кажется сохранной, но состояние больных напоминает нам чувства здорового человека, когда тот видит, что исчезает кто-то знакомые Это психическое расстройство показывает, что знание часто сс провождается чувствами. Уверенность в себе обусловлена н только тем, что каждый знает, но и тем, что он чувствует. Будуч. уверены в себе, мы в состоянии контролировать ситуацию. Когд мы контролируем ход дела, то, как правило, чувствуем себя хс рошо и позитивно оцениваем свои действия. У больных, страдающих расстройством Капграса, нарушены связи в системе обеспечивающей чувства. Без включения соответствующи чувств разум создает другую, альтернативную версию происходящего, чтобы объяснить то, что воспринято.
Отделы мозга, обеспечивающие «объяснение» воспринимаемого опыта, находятся под контролем человека. С их помощы он пробует найти смысл в том, что было им замечено без участи любых уместных эмоций. Взятые вместе, эти психические нарушения показывают, что самопознание и самосознание имею различные основания в работе мозга. У здоровых людей эти сис темы, как правило, работают согласованно, «рука об руку». Когд я вижу знакомых людей, я узнаю их. Как правило, я сознаю сво. наблюдения и те ощущения, которые они мне приносят. Я часто размышляю над тем, что я знаю об этих людях и что они заставляют меня чувствовать. Это знание и чувства, которые МОГУТ Появиться в результате него, играют центральную роль в наших действиях.
Именно самосознание — чувство «самости» — в конечном счете имеет решающее значение в контексте каждого конкретного политического режима, одобряющего индивидуальную свободу и автономию или уничтожающего их. В демократическом обществе индивидуумы должны иметь доступ к основным свободам. В своей теории, рассматривающей справедливость как честность, Ролз придает особое значение самосознанию человека, его представлению о себе. Это понятие приобретает статус политической концепции, наделенной двумя моральными полномочиями, которые утверждают приоритеты чувства справедливости и способности воспринимать добро. Властным структурам, определяющим политику государства, нужно обеспечить людям доступ к основным ценностям, которые делают жизнь человека достойной. Согласно Ролзу, свобода для каждого гражданина возникает на основе возможности выражать свои интересы и в той мере, в какой возможно, получать пользу от реализации поведения, соответствующего этим интересам. Предметом беспокойства органов власти должно быть угнетение индивидуального самовыражения. Однако рабство в Соединенных Штатах было отменено не потому, что отдельные рабы были способны получить пользу от требований индивидуальной свободы. Скорее это состоялось потому, что общество как политическое и юридическое «лицо» решило, что рабство было несправедливостью по отношению к индивидууму, к его самосознанию, ощущению его «самости»[187].
Справедливое общество признает, когда оно подавляет личность, лишая политического значения ее концепцию «самости».
Сердечные боли и кишечные колики
11 сентября 2001 года самолет, выполнявший рейс № 93 на Сан-Франциско, поднялся в воздух. Пассажиры не знали, что их самолет, ведомый террористами-смертниками, на самом деле направлялся к столице. Только одна особенность отличала этот самолет от двух других, которые врезались в Центр мировой торговли незадолго до этого. Некоторые из пассажиров, получив информацию о состоявшихся нападениях, были готовы действовать. Они решили, что преодолеют свои эгоистичные интересы и опасения и нападут на террористов, в чьих руках оказался самолет. Их план сработал. Хотя лайнер разбился и все его пассажиры погибли, они спасли жизни еще большего числа людей. Как и в случае описанных ранее проблем с трамвайным вагоном, эти пассажиры, возможно, решали, насколько нравственно допустимо рисковать жизнью всех пассажиров самолета, потому что гибель пассажиров — предсказуемое следствие попытки спасти потенциально намного большее число равно невинных людей. В глазах многих эти пассажиры стали героями, обычные смертные, действовавшие весьма необычным образом. Что заставило этих пассажиров так поступить? Это был, конечно, не беспечный импульс. Как следует из телефонных разговоров, которые вели некоторые из них со своими семьями на земле, был план. Но их эмоции, должно быть, были на пределе возможного: волнение с массой разнообразных оттенков, тревожное ожидание неизвестного, опасения, гнев. Возможно, во время полета было и рациональное обдумывание, и хладнокровное размышление. Но что именно подтолкнуло этих пассажиров осуществить свой план? Возможно, это были эмоции — чувства обязательства и лояльности друг к другу, волнения в надежде вернуть контроль над управлением самолета и, наиболее вероятно, волна ведомого тестостероном гнева, который двигал их к цели. У отдельных пассажиров в самолете, возможно, преобладал страх, препятствуя действию. Но у тех пассажиров, кто включился в выполнение плана, да и у подавляющего большинства нормальных людей эмоции вдохновляют действие. Эмоции действуют подобно хорошо спроектированным двигателям, продвигая нас в разных направлениях в зависимости от конкретной задачи. Иногда лучше двигаться, например в тех ситуациях, когда гнев мотивирует нападение. В других условиях предпочтительнее остановиться, например когда страх овладевает душой. Эмоции, таким образом, выступают в роли модулирующих факторов, которые действуют вместе с нашим восприятием запланированного или воспринимаемого действия. Они могут также работать против нас.
Пассажиры на борту этого самолета должны были доверять друг другу, надеясь, что никто не проявит слабость, что каждый согласится с планом. До фактического нападения на террористов, некоторые, если не все эти пассажиры, должно быть, думали об обязательстве, которое они только что приняли, о вине или позоре, который на них ляжет, если бы они в последний момент отступили. Некоторые, возможно, даже чувствовали презрение к тем пассажирам, которые застыли в страхе. Страх и гнев — основные эмоции, которые большинство ученых считает универсальными. В отличие от этого, не существует никакого согласия относительно универсальности таких эмоций, как презрение, вина и стыд, — эмоций, которые глубоко внедрены в наше ощущение себя и других. Например, в большинстве, если не во всех западных культурах индивидуумы переживают стыд, когда они нарушают норму и кто-нибудь узнает об этом. Напротив, в некоторых других культурах (например, в культуре Индонезии) индивидуумы испытывают стыд, если они находятся в присутствии более доминантного члена их группы. Стыд в этом, не западном, смысле не связан с каким-либо проступком и, в отличие от западного толкования, не связан с какими-либо унизительными чувствами[188].
Вспомните, в главе 1 я писал, что создания Юма решают моральные дилеммы, обращаясь к своим эмоциям. Эмоции лежат в основе суждений о добре и зле. Симпатия приводит к суждению о том, что помощь является допустимой, возможно обязательной. Ненависть вызывает суждение о том, что допустимым является нанесение вреда. Но, как Дэвид Юм полагал интуитивно, а невролог Антонио Дамасио подчеркнул позже, рациональная мысль нередко возникает на основе тесного взаимодействия с эмоциями. Для некоторых, в частности для философа-моралиста и прагматика Иеремии Бентама, наши эмоции играют центральную роль и в описательном, и в предписывающем анализе морального поведения: «Природа поместила человечество под управление двух верховных сил — боли и удовольствия. Они одни указывают нам, что мы должны делать, так же как определяют то, что мы будем делать в дальнейшем... Они управляют нами во всем, что мы делаем, во всем, что мы говорим, во всем, что мы думаем». Для других философов, таких как Сократ, привлечение эмоций в качестве источника, формирующего наше моральное чувство, неудачно выбранный путь: «Система этики, которая базируется на относительных эмоциональных ценностях, простая иллюзия, полностью вульгарная концепция, которая не имеет ничего содержательного и ничего истинного»[189].
Существенным, как я полагаю, однако, является не столько вопрос, играют ли эмоции некоторую роль в наших моральных суждениях, сколько вопрос, когда и какую роль они играют? Что такое эмоция, которая может влиять на наши моральные оценки? И что нам может дать попытка проанализировать результаты эмоционального переживания с точки зрения принципов описания (так, как есть) и предписания (то, что должно быть) ? Может показаться странным: зачем задаваться вопросом об определении эмоции? Очевидно, что эмоции являются переживаниями, которые мы испытываем, когда, например, наступаем на гвоздь, достигаем оргазма, смотрим фильм ужасов, легко общаемся на изящном званом обеде или пристально всматриваемся в глаза новорожденного ребенка. Но что это за переживания? Какова их сущность? Некоторые из этих переживаний связаны с событиями, происходящими внутри нас (нашего тела) и снаружи (на поверхности тел). Мы чувствуем удовлетворение после оргазма, отдергиваем ногу, когда в нее проникает гвоздь, и краснеем, когда метеоризм поражает нас в несоответствующий момент. Некоторые из этих переживаний являются универсальными и непроизвольными. Другие переживания вообще отсутствуют или приглушены в некоторых культурах и находятся под произвольным, сознательным контролем. Иногда что-то в нашем теле изменяется, побуждая нас действовать специфическим способом, несмотря на то что в тот момент мы не осознаем эти изменения (например, учащение сердцебиений, потливость ладоней, расширение зрачков). Внезапно мы понимаем — это страх. Иногда мы опознаем эмоцию у другого человека, которая в некоторых случаях может вызвать ответную реакцию с нашей стороны. Это может быть сочувствие или просто симпатия, ревность, ненависть, зависть или вожделение. Иногда вообще ничего не случается с нашими телами или в нашем непосредственном чувственном восприятии окружающего мира, но у нас может возникнуть мысль, Мы можем вспомнить какие-то моменты или задуматься о будущем важном событии. Эти мысли обладают способностью вызвать чувство горя, вины или волнения. Все в этом описании кажется хорошо знакомым.
Возможен ли жизненный опыт без эмоций? Можно ли представить себе жизненный опыт, ограниченный только эмоциональными переживаниями, без всяких размышлений? Если мы решаем, что выполняемое действие ошибочно, когда возникает эмоция — до момента появления суждения, в процессе порождения или по его завершении? Может быть, эмоция сопровождает все этапы принятия решения — или не возникает совсем? А плод в материнском чреве — имеет ли он эмоции, и если «да», то какие?
Если плод испытывает недостаток в эмоциях или ему не хватает некоторых эмоций из палитры взрослого, какие их варианты развиваются раньше других, обеспечивая гнев и страх? Нам приходится учить признаки эмоционального выражения или эта способность встроена в наши мозговые системы от рождения? Каким образом возрастающие способности детей понимать факты, взгляды и неопределенности жизненных обстоятельств совмещаются с их эмоциональными переживаниями, изменяя детские ценности и предпочтения? Многие из этих вопросов подпадают под то, что философ Джесси Принз называет «проблемой частей»[190].
Если кратко сформулировать содержание этой проблемы, то речь идет о противопоставлении эмоций и познания. Разделение, которое является столь же неудачным, как и противопоставление природы и воспитания или гуманитарных наук и биологии. Проблема частей, в изложении Принза, сводится либо к вычитанию, либо к сложению, в зависимости от того, откуда вы начинаете действие.
Рассмотрите последовательность мультипликационных изображений на рисунке, приведенном на с. 275. Начните с первого изображения слева. При виде этого изображения вы не испытываете никаких эмоций. Оно оставляет вас безразличным. Геометрические формы — не те вещи, которые вызывают чувства, если только они не имеют особого отклика в вашем прошлом. Например, это может быть ассоциация, связанная с вашим опытом изучения геометрии, который теперь заставляет вас любить окружности и ненавидеть треугольники. Первый рисунок мобилизует только восприятие и мышление в чистом виде. Теперь двигайтесь слева направо, последовательно рассматривая рисунки. По мере того как появляются в изображении новые части, образ преобразуется и наше восприятие меняется. У некоторых из нас, по крайней мере, возникают эмоции. Мы улыбаемся, как только понимаем, что перед нами мистер Картофельная голова. Это преобразование изменяет то, что мы видим, думаем и чувствуем. Описанная процедура объясняет проблему частей как операцию сложения. Предположим, что вы радостно улыбаетесь, когда видите мистера Картофельную голову. Что нужно было бы исключить из этого изображения, чтобы вы утратили эмоцию? В этом вопросе дана версия вычитания, представляющая ту же самую проблему частей. Проблема частей устанавливает тот факт, что некоторые вещи вызывают эмоции, а некоторые нет, и ставит вопрос, что именно в нашем опыте является источником эмоций?
Проблема частей также возвращает нас назад, к трем главным героям нашей пьесы о морали — созданиям Канта, Юма и Ролза. Кантианское создание принимает решения, не обращаясь к эмоциям. Или, если эмоции появляются, оно старается выбросить их за борт, чистоту логики ставя выше низменности чувства. Если бы мы спросили создание Канта, является ли нравственно допустимым уничтожить Картофельную голову, оно стало бы решать эту проблему, руководствуясь своим методом пятью шагов, сознательно рассуждая на каждом шаге, думая о релевантных принципах. Наконец, оно, возможно, ответило бы, что это является допустимым с точки зрения универсальной морали, потому что неодушевленные объекты не попадают в пределы морального круга, использовав, таким образом, подходящую фразу философа Питера Сингера.
Кантианское создание может идти далее, исследуя условия, при которых допустимо уничтожать неодушевленные объекты. Оно будет обсуждать юридические и религиозные вопросы, касающиеся собственности, редких произведений искусства и священных реликвий. В этом обсуждении не будет места для вмешательства эмоций.
Создания Юма, обсуждая ситуации, всегда пропускают их через сердце. Разрушение Картофельной головы нравственно допустимо, потому что оно не вызывает чувства проступка. Никто не должен чувствовать себя виновным в его разрушении, потому что неодушевленные объекты не наделены чувствами. Эта оценка может возникнуть без явного понимания того, что происходит. Картофельная голова не вызывает каких-либо особых эмоций, а если даже и вызывает, это не те эмоции, которые связаны с моральной сферой. Мы можем огорчиться по поводу его разрушения, но маловероятно появление у нас чувства, что наш акт был нравственно плох или запрещен. Обратите внимание, однако, чтобы заняться самоанализом и призвать эмоции вынести приговор действию, юманианское создание должно чувствовать или воображать это действие и либо сознательно, либо бессознательно опознавать особенности ситуации, включенных объектов и событий. Должна быть некоторая оценка, даже если это столь же просто, как опознание того, что целью действий является неодушевленный объект. Это опознание может случиться быстро и бессознательно, и таковой же может оказаться его связь с конкретной эмоцией.
Создания Ролза — оцениватели, но их оценки являются бессознательными и эмоционально сдержанными. Связь оценок с эмоциями двойственная: оценка может или вызвать чувство, или нет. Если оценка вызывает эмоцию, то это происходит прежде, чем возникает суждение. В противоположном варианте оценка вызывает суждение, которое, в свою очередь, уже вызывает эмоцию. Для ролзианского создания разрушение Картофельной головы — это преднамеренный акт, преследующий целью добиться физического изменения объекта. Целевой объект выпадает из сферы нравственно релевантных объектов, устанавливаемых путем обращения к пяти принципам действия. Хотя действие намеренное, оно никому не причиняет вреда и не имеет отрицательных последствий, потому что цель — не субъект, имеющий планы, убеждения и желания. Чтобы лучше понять значение этого пункта, представьте, что случится, если мы спрашиваем, допустимо ли разбить Картофельную голову с точки зрения морали, когда это подарок, только что полученный маленьким мальчиком в день его рождения? В этом случае мы немедленно определим это действие как нравственно недопустимое, без причины наносящее ущерб благополучию ребенка и не имеющее положительных последствий. Разумеется, и все наши герои — создания, представляющие разные взгляды на происхождение моральных суждений, одинаково осудили бы этот акт как неправильный. Изменение оценок определяется целями действия. Гибель Картофельной головы, оказывается, слишком близко затрагивает хрупкую психику маленького мальчика. В этой ситуации необходимо другое моральное исчисление. Для ролзианца последовательность действий, причины и последствия сводятся вместе, чтобы создать моральное суждение. Остается неясным, вмешивается ли что-нибудь, что мы хотели бы назвать эмоциональным влиянием, на пути к порождению суждения? Или все-таки в противоположность этому эмоция появляется как реакция на суждение? Возможно, мы подсознательно судим, что разбить Картофельную голову нравственно допустимо, а затем у нас возникает положительное чувство, которое подталкивает нас к этому действию? Или мы оцениваем действия и генерируем эмоции перед принятием решения, оправдывающего наше намерение разбить эту голову? Ответы на эти вопросы мы получаем в результате изучения развития ребенка, а также из исследований мозговых функций с помощью компьютерной визуализации активности мозга здоровых индивидуумов и группы больных с повреждением областей мозга, вовлеченных в обеспечение действия и эмоции[191].
В течение третьего триместра беременности, когда плод уже может слышать, он обнаруживает разную частоту сердцебиений в зависимости от того, похож ли голос говорящего на голос его матери или на голос другой женщины. Слушая голос матери, плод успокаивается, об этом свидетельствует замедление частоты его сердечных сокращений. С точки зрения некоторых ученых, это изменение уже представляет эмоцию, даже если мы не можем узнать, что это за переживание. Рождение разрушает этот научный тупик, по крайней мере частично. Новорожденные в течение первых нескольких часов своей жизни главным образом плачут в ответ на голод и боль. Вскоре после этого, по истечении нескольких недель, младенцы уже способны издавать разные звуки и гримасничать, изменяя выражение своего лица. Взрослые нередко интерпретируют эти гримасы как счастье, гнев, опасение, печаль и даже отвращение. Для многих это — основные эмоции, которые обнаруживаются во всех культурах и, очевидно, очень рано, вскоре после прощания с материнским Эдемом.
Раннее появление этих эмоций — свидетельство дополнительных доказательств врожденности системы, участвующей в их обеспечении. Возможно, наиболее социально релевантным является то, как младенцы уже в течение первых нескольких недель жизни переживают эмоции, которые, по-видимому, обеспечивают «стандартные блоки» для того, чтобы сформировать социальные отношения. Через несколько дней после рождения младенцы способны реагировать на поддразнивание. Они будут плакать в ответ на неоднократные действия экспериментатора, когда тот сначала дает, а потом сразу отбирает соску. Новорожденные, плача, могут фиксировать дискомфорт, сделав своеобразную «запись» этой информации в память, и уходить от неудобства, отворачиваясь от «шутника», когда тот пробует повторить все снова. В течение первых нескольких часов жизни новорожденные начинают плакать, услышав крик других младенцев. Возрастной психолог Нэнси Эйзенберг интерпретирует такое поведение новорожденного как свидетельство того, что мы рождены с готовностью к «элементарной форме сочувствия»[192].
Какова природа этих переживаний? Эмпатия начинает свое развитие, когда у индивидуума возникает способность опознавать специфические состояния другого человека. Какие состояния? По определению, это эмоциональные состояния, часто печаль или боль, но также и гнев. Так происходит, когда мы видим другого индивидуума, несправедливо обиженного, и затем чувствуем гнев по отношению к насильнику, который заставил жертву страдать. Оба варианта сопереживания — и печаль, и гнев — увеличивают шансы жертвы получить помощь. Цель этой помощи — уменьшить страдание жертвы или освободить ее, напав на правонарушителя. В каждом из этих вариантов первый шаг в оценке сопряжен с особенностями действий, их причин и последствий. Когда люди испытывают какие-либо чувства и стремятся их выразить, они делают это посредством действий, обнаруживая сопутствующие изменения лица, тела и голоса. Эти изменения во внешнем виде приблизительно отражают то, что происходит во внутреннем состоянии человека, как в сфере сознания, так и/или на бессознательном уровне. На ранних этапах развития, как считает Эйзенберг и другие исследователи, наблюдение за действиями другого может вызвать у младенца реакцию копирования того же самого действия. Эмпатия, таким образом, это совпадение эмоций того, кто их выражает, и того, кто их наблюдает. Эмпатия отличается от симпатии, при которой наблюдатель замечает действие или переживание кого-то другого, но при этом не испытывает тех же самых чувств и не повторяет того же действия. Эмпатия также отличается от особого состояния, когда человек переживает чужую беду как свою собственную. Это состояние, которое может возникать при виде чужого горя, его правильнее охарактеризовать как ощущения бедствия, но не как согласованный эмоциональный ответ. Различить эти три варианта сострадания — эмпатию, симпатию и переживание чужого горя как своего — можно по тому, как наблюдатель отвечает на переживания страдающего человека.
Говоря об особенностях эмпатии младенцев, мы должны отметить: чтобы эта форма сочувствия возникала в нужный момент, новорожденный должен иметь специфический механизм, который будет непроизвольно включаться при виде действия другого. Повторяя действие, новорожденный фактически повторяет эмоцию. Это утверждение требует, конечно, признать, что существует врожденная или быстро устанавливаемая в результате опыта связь между некоторыми действиями и некоторыми эмоциями. Например, когда младенец слышит крик другого ребенка, включаются пусковые механизмы копирования мышечных сокращений, которые обычно воспроизводят такой же звук, т. е. крик. Крик, в свою очередь, активирует эмоцию, связанную с жестом и звуком. Во внутреннем мире младенца-наблюдателя восприятие и действие сливаются воедино, настраивая «канал» для совместно переживаемых эмоций.
Если бы, повзрослев, мы сохраняли инфантильный тип эмпатии, то напоминали бы марионеток, послушно копирующих переживания всего своего окружения. Мы начинали бы плакать при виде любого плачущего человека. Мы шарахались бы от одной эмоции к другой, полностью управляемые переживаниями других людей и тем, что мы чувствуем за них. Такая перспектива помогает лучше понять недостаток идеи, соединяющей восприятие и действие. По-видимому, у взрослых есть механизм, который блокирует такую форму эмпатии или, при условии ее возникновения, тормозит ее поведенческое выражение. Этот гипотетический механизм должен включиться, чтобы приостановить действие. Возможно, должен измениться масштаб оценки происходящего, обесценивая значимость текущего состояния других и их потребности. Этот механизм должен отключить импульс, побуждающий к помощи.
Часть решения этой проблемы связана с размышлениями об эмпатии в свете нашего обсуждения моральных дилемм и конфликтов. Дилеммы, как я писал ранее, всегда представляют поле сражения между различными требованиями или обязательствами и, в классическом варианте, между обязательством по отношению к себе и к другим. Частично рефлексивный вызов эмпатии регулируется нашим самоощущением и личными интересами. Чтобы помогать, чувствуя сострадание к тем, кто нуждается, мы должны быть готовы к задержке вознаграждения. Мы должны отложить наши собственные экстренные потребности ради нужд другого.
По мере того как младенец развивается, самая ранняя форма сочувствия преобразуется в более сложное переживание. Параллельно с развивающимися представлениями о себе и о других у ребенка приблизительно двух лет появляется способность моделировать картину мира, в том числе воображая, что испытывают другие люди. Некоторые ученые описывают это изменение как переход от «чистого» сочувствия на основе восприятия к сочувствию на основе познания. Эмпатия ребенка больше не включается автоматически при виде кого-то, кто грустен или болен, потому что ребенок взял под контроль собственные действия и мысли. Ребенок постарше может вообразить ситуации, которые являются грустными, представить, каково это — быть человеком, испытывающим печаль, и затем обсуждать аргументы «за» и «против» помощи ему. Как писали Хоффман и Колберг, эта форма эмоционально окрашенной довольно хаотичной активности обеспечивает основание для развития в перспективе способности встать на позицию другого. Она нужна для того, чтобы научиться думать о том, на что это похоже — чувствовать то, что чувствует кто-то другой. Эта активность играет важную роль в развитии альтруистического поведения. Однако тем испытуемым, кто набирает высокий балл при тестировании эмпатии, эта активность может показаться скучной, они с большей вероятностью просто помогут тому, кто в этом нуждается[193].
Не означает ли все сказанное выше, что существо Юма — модель нравственного человека, созданная согласно теории Юма, благополучно здравствует и может быть основой развития нравственности? Нет, не означает.
Вспомните, что аналогичная модель Ролза не отрицает значения эмоций в моральном действии. Скорее ролзианские существа бросают вызов, допуская, что эмоции могут возникать дважды. Во-первых, эмоции могут возникать в начале создания морального решения, и, во-вторых, они могут следовать по пятам бессознательного суждения и определяться им. Вся работа над раскрытием сущности эмпатии, включая изучение ее неврологической основы, обнаруживает только то, что эмпатия влияет на альтруизм. Для обсуждения нашей проблемы существенно, однако, что есть различие между эмоциями, играющими роль в наших моральных суждениях, и эмоциями, влияющими на наше моральное поведение и наши фактические действия. Изучение эмпатии однозначно показывает, что наша способность учитывать чужую позицию влияет на наше поведение. Тем не менее возможно и другое направление анализа. Независимо от размышлений по поводу альтруистического акта наш моральный инстинкт определяет, что рассматриваемая дилемма требует, и может быть обязательно, альтруистического акта. Тогда наши эмоции исчезают, либо увеличивая вероятность того, что мы обязательно поможем, либо уменьшая ее. Еще не наступило время, чтобы окончательно решить этот спор. Я поднял здесь этот вопрос опять, чтобы удержать его в центре внимания, как и полемику между созданиями Юма и Ролза.
Гадость!
Если эмпатия — эмоция, которая с наибольшей вероятностью побуждает нас приближаться к другим, то отвращение — это эмоция, которая с такой же вероятностью заставляет нас бежать прочь. В отличие от всех других эмоций, отвращение имеет мощные пусковые механизмы, а также особые способности для обнаружения соответствующего объекта и мимической экспрессии. Отвращение рассматривается как самая мощная эмоция против греха, особенно по отношению к еде и сексу. Чтобы уловить основную идею, вообразите следующие сюжеты.
1. Использование умершего любимого домашнего животного в качестве пищи.
2. Сексуальное взаимодействие с родным младшим братом (или сестрой).
3. Потребление чьей-либо рвоты.
4. Сбор испражнений собаки голыми руками.
Я предполагаю, что эти четыре ситуации отвратительны для большинства, если не для всех читателей. Когда мы определяем нечто как отвратительное, отрицательная эмоция полностью управляет нашим поведением, пресекая любую, даже минимально возможную тенденцию действовать иначе. Это ограничение очень адаптивно. В отсутствие реакции отвращения мы могли бы легко убедиться, что удобно иметь секс с младшим братом или есть рвоту, а между тем эти действия имеют вредные последствия для нашего репродуктивного успеха и выживания соответственно. Люди без патологии могут испытывать отвращение в ответ на пищу, сексуальное поведение, уродство тела, сталкиваясь с болезнью и смертью. У нормальных людей, как правило, отвращение вызывают продукты жизнедеятельности организма, такие как испражнения, рвота и моча. Люди с некоторыми патологиями типа болезни Хантингтона испытывают недостаток типичной реакции отвращения. Им трудно опознать эту эмоцию у других, и, как правило, они с трудом классифицируют объекты, если стоит задача выделить среди них отвратительные как таковые[194].
Хотя существуют кросскультурные и возрастные различия в условиях, выявляющих отвращение, выражение лица при этой эмоции — типично. Оно включает сморщивание носа, широкое открывание рта и сокращение верхней губы. Такое выражение яйца легко распознается и свойственно только человеку. В совокупности эти наблюдения указывают, что отвращение имеет мощную природную основу. В результате эта эмоция может оказаться уникальной для человека как биологического вида, с одной стороны, и уникальной среди эмоций, которые испытывает человек, — с другой. Дарвин определил отвращение как «протест в первую очередь против вкуса, как фактически воспринимаемого, так и ярко воображаемого; и во вторую — против всего того, что вызывает подобное чувство через обоняние, осязание и даже зрение»[195].
Более чем сто лет спустя психолог Пол Розин[196] уточнил интуитивное определение Дарвина, предположив, что есть различные виды отвращения. Он выделил основное отвращение, которое сосредоточено на приеме пищи и опасности ее загрязнения: «Отвращение как перспектива попадания в рот отвергаемого объекта. Отвергаемые объекты — загрязнители, т. е. если они даже ненадолго входят в контакт с потребляемой пищей, они имеют тенденцию делать эту пищу неприемлемой». Особенно интересным взгляд Розина делает тот факт, что многое из того, что вызывает отвращение, не только отрицательно влияет на состояние нашей пищеварительной системы, но и нравственно отвратительно. Таким образом, как только мы оставляем проблему основного отвращения, мы вступаем в сферу действия концепции эмоций, которая оперирует их символическим значением. Эта концепция применима к объектам, людям или поведению, которые являются аморальными. С этих позиций рассмотрим особенности поведения отдельных людей. Люди, потребляющие некоторые «вещи» или нарушающие специфические социальные нормы, в определенном смысле отвратительны.
Вегетарианцы, которые не едят мясо по моральным основаниям, включая негуманные условия содержания животных на фермах, часто находят мясо отвратительным. Они смотрят свысока на тех, кто его ест, рассматривая их как безнравственных плотоядных варваров. Вегетарианцы, которые не едят мясо по причинам, связанным со здоровьем, не обнаруживают таких эмоциональных реакций и не навешивают моральных ярлыков на тех, кто наслаждается бифштексами на кости или цыплячьими грудками. Хотя, очевидно, что отвращение и нравственность тесно взаимосвязаны, неясно, что играет роль первоисточника. По сути, это еще один вариант известной проблемы «яйца и курицы», в отношении которых невозможно установить, что было раньше. И в нашем случае то же самое. Склонные к морализации вегетарианцы сначала испытывают отвращение при виде мяса и затем развивают морализирующую позицию по поводу мертвой красной плоти, лежащей на их тарелке? Или они сначала формируют моральное обоснование против потребления пищевого мяса и затем развивают чувство отвращения, воображая, сколько страданий имеет место на скотобойне? Отвращение — это причина или следствие? Отвращение первично или вторично?
Антрополог Дэниел Фесслер предложил простой способ ответить на этот вопрос. Проанализируйте наблюдение, суть которого в следующем: разные люди испытывают разное (слабое или сильное) чувство отвращения к разным объектам и особенностям поведения. Однако замечено, если человек бурно реагирует на одну категорию объектов, он так же бурно будет реагировать и на другие. Если вы думаете, что рвота чрезвычайно отвратительна, велика вероятность, что вы будете так же характеризовать фекалии и испытывать те же чувства отвращения при виде человека, который грызет ногти, или при виде открытой раны на лице. Если одна вещь с высокой вероятностью вызывает у человека интенсивное чувство отвращения, то и другие вещи могут также провоцировать отвращение.
Если отвращение — причина, тогда морализирующие вегетарианцы должны быть более чувствительными по отношению и к другим отвратительным вещам, если их сравнивать с вегетарианцами по здоровью или невегетарианцами. Напротив, если отвращение — следствие, то морализирующие вегетарианцы будут столь же чувствительны или, напротив, нечувствительны как вегетарианцы по здоровью и невегетарианцы. Фесслер не нашел никакой связи между чувствительностью к отвращению и причинами, по которым люди употребляют мясо в пищу или воздерживаются от этого. По-видимому, морализирующие вегетарианцы сначала занимают позицию неприятия мяса, а затем развивают у себя глубокое чувство отвращения к мясу и к употребляющим мясо. Отвращение в этом конкретном случае, по крайней мере, является вторичным, представляя следствие определенной моральной позиции[197].
Итак, рассуждение предшествует возникновению эмоции. Это значит, что создание Ролза управляет ответом юманианца. Отвращение имеет две другие особенности, которые делают его чрезвычайно эффективной социальной эмоцией. Оно обладает некоторой устойчивостью по отношению к осознанному восприятию, и оно заразительно, подобно зевоте и смеху, захватывая умонастроения других людей с поразительной скоростью. Чтобы увидеть, как это действует, ответьте на следующие вопросы.
Стали бы вы пить яблочный сок из совершенно новой больничной утки? ДА □ НЕТ □ Стали бы вы есть шоколадную конфету, которая напоминает фекалии собаки? ДА □ НЕТ □ Если бы вы, открыв коробку конфет, увидели, что кто-то уже надкусил каждую конфету, согласились бы вы съесть хотя бы одну? ДА □ НЕТ □ Если бы мама украсила вашу любимую пищу стерилизованными мертвыми тараканами, согласились бы вы съесть это блюдо? ДА □ НЕТ □Большинство людей отвечает «нет» на эти вопросы. Если некоторые и отвечают «да», то делают это после заметной паузы. Если подумать, в этих ответах есть нечто странное. Нет ничего антисанитарного в яблочном соке, налитом в совершенно новую стерильную утку. И форма шоколадной конфеты не играет никакой роли в ее вкусовых качествах. Но наши сенсорные системы не знают этого. Изгиб утки для мочеиспускания и форма, похожая на фекалии, встречаются довольно часто. Наша психика тонко настроена, чтобы обнаруживать в окружающей среде признаки, которые причинно и последовательно связаны с болезнью.
Обнаруженный, сигнал поступает к системам мозга, которые отвечают за возникновение чувства отвращения. Если неприятный стимул был хотя бы однажды зафиксирован, система действия усваивает его, в дальнейшем организуя уклончивый ответ. Каскад процессов является настолько быстрым, автоматическим и мощным, что наш сознательный, хладнокровный, рациональный разум оказывается неспособным отвергать происходящее. Подобно зрительным иллюзиям, когда наши сенсорные системы обнаруживают нечто отвратительное, мы избегаем этого, даже если осознаем, что это иррационально и абсурдно. Отвращение организует последовательность действий, которая ведет к тактическому уклонению от неприятного объекта.
Вторая особенность отвращения — его способность распространяться подобно вирусу, «загрязняя» все, что встречается на его пути. Что бы вы почувствовали, если бы вам предложили поносить свитер Гитлера? Большинство студентов Розина в университете штата Пенсильвания оценили это предложение как отвратительную идею. Люди, которые так отвечают, думают, что Гитлер был аморальной личностью и что ношение его свитера могло бы передать некоторые из самых ужасающих его качеств.
Отвращение «берет приз» как самая безответственная эмоция — чувство, которое ведет к чрезвычайным внутрии межгрупповым разногласиям. Уловка отвращения проста: объявите тех, кого вы не любите, паразитами или вредителями. После этого легко думать о них как об отвратительных личностях, заслуживающих презрения и уничтожения. Все ужасающие случаи человеческого злоупотребления влекут за собой этот вид преступлений: от Аушвица до Абу-Грейба[198].
Хотя основное отвращение связано с отторжением пищи, его контекстное применение видоизменилось. Это понятие широко используется при анализе других проблем, в частности сексуального поведения. Вплоть до начала 1970-х годов в библии клинициста — Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам (DSM)-III — гомосексуализм описывался как аномальное поведение. Наряду с этой классификацией, существовало убеждение, поддерживаемое многими культурами, что гомосексуалисты отвратительны. Разговоры о педофилии и инцесте вызывают почти такие же неприятные, до колик в животе, эмоции, сопровождаемые моральным негодованием. Сохранение инцеста представляет особый интерес, учитывая наличие универсального запрета на него — табу[199].
Антрополог Эдвард Вестермарк[200] утверждал, что «есть врожденное отвращение к половым сношениям между людьми, живущими рядом друг с другом с ранней юности, и что, поскольку такие люди в большинстве случаев связаны родственными узами, эти чувства обнаруживаются в основном как ужас перед половым общением близких родственников». Интуицию Вестермарка поддерживают многочисленные исследования израильских детей, воспитываемых в кибуцах, особенности заранее планируемых тайваньских браков и даже убеждения студентов американских колледжей[201].
Среди детей, воспитанных в кибуце, браки и половые сношения между братьями и сестрами чрезвычайно редки. Более того, существует лишь незначительный сексуальный интерес среди не связанных родственными узами детей, воспитываемых вместе, несмотря на то что сексуальные отношения явно не запрещены. В Тайване, когда девочка ребенком попадает в дом своего будущего супруга и дети воспитываются вместе, их браки впоследствии часто терпят неудачу, в основном из-за внебрачных связей. Среди американских студентов колледжа чувства отвращения к кровосмесительным отношениям более сильны среди студентов, имеющих братьев и сестер противоположного пола, которые проводили большую часть детства в своем домашнем кругу, чем у тех студентов, которые проводили много времени вне семьи. Таким образом, взаимное отталкивание, порождаемое слишком близкими отношениями, казалось бы, предполагает, что открытые, ясно сформулированные в культурах запреты, или табу, являются ненужными. Предотвращение кровосмешения вытекает из нашей биологии и биологии других животных. Механизм избегания межродственного скрещивания служит предотвращению вредных последствий такого скрещивания. Антрополог Джеймс Фрэзер[202], который работал приблизительно в то же самое время, что и Вестермарк, сформулировал точно: «...закон запрещает мужчинам делать только то, к чему склоняют их инстинкты; было бы лишнее для закона запрещать и наказывать за то, что сама природа запрещает и за что наказывает». Именно такую роль выполняет закон применительно к бракам между двоюродными братом и сестрой, т. е. в ситуации, в которой реакция отталкивания относительно слаба.
С глаз моих долой
Сюжет фильма Стивена Спилберга «Особое мнение» базируется на следующей предпосылке: можно не допустить тяжкого преступления, если установить намерения преступника до его проступка, буквально всматриваясь в будущее. В фильме прорицатели будущего — трое мутантов, которые могут ощущать зарождающиеся акты насилия прежде, чем у преступника появляется осознанное намерение. Когда они обнаруживают такие намерения, их тела физически реагируют на них. На экране появляются образы, и небольшой красный шар с именем преступника приводит в готовность подразделение предотвращения планируемого преступления. Используя базу данных образов, которую создали мутанты, это подразделение определяет местонахождение индивидуума и арестовывает его за агрессивное намерение.
Как и вся научная фантастика, сюжет фильма «Особое мнение» не является только вымыслом, и, подобно любой хорошей научной фантастике, фильм поднимает интересные этические вопросы. С определенной точки зрения, мы с вами похожи на этих мутантов. Хотя мы не можем видеть будущее, но часто делаем заключения о намерениях других прежде, чем те начнут действовать. Наши догадки о других — чему они верят и чего желают — часто являются правильными. Мы — «читатели» чужих мыслей, способные сформировать представления о мыслях человека, даже если мы с ним никогда не разговаривали и не наблюдали за тем, как он общается с другими. Мы видим кого-то в армейском френче, стрижка «ежиком» — и немедленно формируем некоторые представления об интересах этого человека, его целях и амбициях. Эти представления отличаются от представлений, возникающих у нас при виде людей, которых по особенностям их одежды и прически мы называем «хиппи» или «яппи».
Мы имеем внушительные неосознаваемые теории по поводу того, что думают другие люди. Хотя это не сформулированные теории, изложенные в личных записках или в периодических научных изданиях, но они, эти неформальные теории, часто включающие неосознаваемые верования и убеждения, позволяют нам эффективно прокладывать свой путь в социуме, получая выигрыш от одних желаний и сопротивляясь другим, потому что те могут причинить вред. Из сокровенных глубин нашей собственной психики мы моделируем мир других, вторгаясь в их интимные тайны.
Мы всегда будем сталкиваться с этической проблемой, которую представляет рассказанная выше история. Человек, замышляющий убийство другого человека, может рассказать об этом своим друзьям, может спланировать каждый свой шаг, выбрать оружие, даже представить мертвое тело и прибытие полиции, а затем вдруг остановиться — или его остановят — перед заключительным актом. Юрист Кларенс Дарроу однажды указал, что «нет такого преступления, как преступление мысли; есть только преступления действия». Мы обладаем доброй волей, способностью понимать, что хотим мы и чего хотят другие, и затем с учетом всего этого выбирать, как надлежит действовать[203].
В это заявление верят, по крайней мере, некоторые из нас. Те, кто не верит, вовсе не упрямые, тупые или необразованные. Эти индивидуумы — маленькие дети и взрослые с некоторыми формами повреждения мозга, которые испытывают трудности в понимании мотивов поведения других людей. Такие больные не в состоянии представить себе, что есть скрытые мысли и желания окружающих, которые определяют их открытые действия. Чтобы лучше понять, как наша способность отражать мысли и желания Других людей по мере своего развития взаимодействует с другой развивающейся способностью — выносить моральные вердикты по поводу того, что правильно, а что нет, давайте обратимся к сцене: герои пьесы — марионетки Панч и Джуди[204]
В шутливом, но глубоком эссе философ Дэниел Деннет просит, чтобы читатель вообразил классическое представление этих исторических марионеток. В очередной раз обругав Панча, Джуди хочет уйти, но случайно спотыкается и падает в коробку. Панч, видя возможность прекратить их оскорбительные отношения, собирается убрать Джуди со сцены, что неизбежно приведет не только к концу ее карьеры, но и лишит жизни. Замышляя свое убийственное действие, он уходит, чтобы найти какую-нибудь веревку. В тот момент, когда он поворачивается спиной, Джуди выбирается из коробки и неслышно, крадучись, уходит. Панч возвращается, завязывает коробку, выпихивает ее со сцены и радуется совершенному убийству.
В зависимости от вашей способности читать мысли или моделировать то, что происходит в головах Панча и Джуди, возможны две интерпретации этих событий. Панч верит, что Джуди в коробке. Когда он выталкивает коробку со сцены, он убежден, что убил ее, но он заблуждается. Если дети обращают внимание только на последствия, а такая позиция, с точки зрения Пиаже и Колберга, характерна для детей приблизительно до девяти лет, тогда они скажут: Панч не сделал ничего плохого, ведь Джуди в прекрасном состоянии. Если дети обращают внимание на планы и намерения, тогда они отметят, что Панч действительно сделал что-то не так. Его план потерпел неудачу, но это — не то, на что он рассчитывал, не то, во что он верил. Если включить детей различных возрастов в состав жюри, решающего эту проблему, как бы они стали голосовать? Чтобы ответить на этот вопрос, позвольте мне кратко описать возрастные изменения психического развития ребенка[205].
В конце первого года жизни младенцы способны судить о результатах действия, основываясь на исходном разделении одушевленных и неодушевленных объектов, и делать выводы об особенностях активности и ее целях, различая причинно обусловленное и случайное поведение движущихся объектов. В возрасте четырнадцати месяцев дети способны демонстрировать почти «хореографический» рисунок движений глаз, который отличается особой согласованностью с поведением других людей. Когда ребенок видит, что кто-то смотрит в определенном направлении, он смотрит туда же, кооперируясь с этим другим в акте объединенного внимания. Совмещение взглядов младенца и взрослого не только общий для них двоих момент восприятия, но также и узнавания, и чувствования, и, наконец, слияния мыслей. Эта способность позволяет детям оценивать знания других относительно их собственного знания и одновременно обеспечивать «платформу» для понимания соответствующих жестов, в частности указывания пальцем и произнесения слов. Например, когда дети этого возраста при виде нового объекта или незнакомца чувствуют себя неуверенно, они попеременно переводят взгляд с опекающего их взрослого на новый объект или незнакомого человека.
Всматриваясь в глаза опекуна и оценивая их выражение, ребенок получает необходимую информацию о мыслях взрослого. Эта информация обеспечивает мысленную связь между тем, что взрослый мог бы предпринять в ответ на то, что собирается сделать малыш. Объединенное внимание, однако, не является условием, необходимым для развития способности догадываться о том, что знают другие люди, и понимать значения слов. Слепые дети способны сформировать обе эти способности[206].
Потеря зрения или слуха почти невообразима для большинства из нас, но ее можно рассматривать как трагический естественный эксперимент. Данные, полученные с участием детей, лишенных зрения, позволяют установить, почему не следует считать, что конкретная сенсорная система существенна для того, чтобы понимать мысли, чувства и настроения других людей.
Через несколько месяцев после того, как у здоровых детей развивается способность объединять свое внимание с вниманием взрослого, в их поведении появляется другое новшество — игра, которая строится на удивительных особенностях воображения ребенка[207].
Игра, опирающаяся на воображение, обеспечивает уникальную возможность исследовать способность ребенка к выдумыванию альтернативной реальности. Когда ребенок начинает фантазировать, он делает первые шаги по пути психического моделирования, построения альтернативных миров. Его активность в этом направлении немного напоминает научную фантастику. Воображение обеспечивает существенный вклад в развитие моральной способности, несмотря на то что не является специфическим компонентом сферы морали. Чтобы участвовать в решении любой моральной дилеммы, необходимо уметь представлять себе две ситуации. В первой ситуации было предпринято действие, и надо представить, какие последствия оно имеет. Во второй ситуации, где никакого действия не было, надо оценить, какие последствия имеет бездействие. В результате перемены мест, которая позволяет ощутить контраст, дети могут сделать выводы, что является предпочтительным, а что допустимым, обязательным или запрещенным.
Играя, дети активно включают воображение. Они с готовностью будут болтать по игрушечному телефону с кем-нибудь из членов семьи, будут использовать ложку, чтобы кормить куклу, придумывать воображаемых друзей, причем без странных последствий, как у Джимми Стюарта и его друга кролика Харви [208]. Наконец, самое важное, что дети способны узнавать, когда кто-то притворяется или объединяется с ними для участия в игре. Комбинация произвольного внимания и воображения создает основу для следующего критического шага. Этот шаг связан с появлением способности делать надлежащие выводы о желаниях, мыслях и намерениях другого человека. У ребенка от двух до пяти лет эти способности значительно возрастают. Дети понимают, что мысли и убеждения могут вызывать эмоции (она верит, что пауки страшны, и именно поэтому их боится). Дети уже понимают, что можно видеть вещи такими, какими они действительно являются, или такими, какими они кажутся (молоко в действительности белое, но кажется красным, когда смотришь на него через кусочек красного стекла). Они знают, что действия могут быть преднамеренными или случайными (ребенок нарочно бросил кусок пирога кому-то в лицо или, напротив, на бегу подпрыгивая, случайно ударил кого-то куском пирога по лицу)[209].
Они понимают, что суть обмана в том, чтобы заставить кого-то верить в то, что ложно («У меня нет больше печенья в корзинке»). С началом пятого года жизни способности ребенка понимать мысли и чувства других переходят на еще более высокий уровень. Детям становятся доступны сложные цепочки взаимопонимания, которые включают нескольких участников. Например: «Гордон знает, что Дебора доверяет своим друзьям Марку и Лилан» и «Нэнси верит, что Джон считает, что хорошие документальные фильмы должны быть образовательными, даже если руководство телевизионной сети так не считает». Особый признак этого возраста состоит в том, что дети могут делать различие между своим знанием о реальном положении дел, в котором они уверены, и ошибочными представлениями других людей. Покажите ребенку пакетик леденцов и спросите у него, что внутри. Он ответит: «Леденцы». Откройте пакет и покажите, что конфеты заменили карандашами. Теперь спросите у ребенка, что скажет его мама, которая ждет на улице, о содержимом пакета. Пятилетние дети говорят: «Конфеты», показывая свое понимание факта существования заблуждения. Трехлетние дети, напротив, говорят: «Карандаши», будучи не в состоянии ухватить различие между их собственными текущими представлениями и более ранними представлениями, которые у них были перед тем, как экспериментатор показал им карандаши, и верой в то, что есть кто-то, кто не был посвящен в это изменение. Способность понимать мысли и чувства других людей развиваются еще некоторое время на пятом году жизни детей.
Очерченная выше траектория психического развития ребенка не так проста, как это может показаться. Столь же непростой и не до конца ясной остается ее связь с развитием способности к моральным суждениям. Позвольте мне ввести несколько усложняющих аспектов и объяснить, почему они имеют значение. Затем я постараюсь связать нашу способность проникать в мысли других с системой, которая выносит суждения о добре и зле[210].
Параллельно с формированием концептуальных систем, которые дети используют, чтобы судить о мыслях, желаниях и намерениях других людей, развиваются также и некоторые другие способности, имеющие решающее значение для объединения социальных понятий с моральным действием. Возможно, наиболее важным (благодаря роли в развитии нравственно релевантного поведения) является формирование способности ребенка затормаживать одни свои действия и давать свободу другим. Рассмотрим еще раз способность ребенка определять наличие заблуждения. Наряду с описанным выше экспериментом, использующим пакетик леденцов в качестве классического испытания особенностей умственного развития ребенка, возрастные психологи разработали задачу, которую назвали нежно и просто: задача «Салли — Энн». Она названа так по имени двух кукол, которые появились в исходных экспериментах[211].
Хотя существуют многочисленные варианты этой задачи, цель каждого из них — установить, почему дети преуспевают или терпят неудачу в конкретной ситуации. Основной сюжет выглядит следующим образом. Ребенок наблюдает, как Салли и Энн играют с мячом. Затем Салли кладет мяч в корзину и выходит из комнаты. В отсутствие Салли Энн достает мяч из корзины и кладет его в коробку. Затем Салли возвращается в комнату. Экспериментатор спрашивает ребенка: «Где Салли будет искать мяч?» Классический результат, сходный с результатами теста с леденцами, состоит в том, что трехлетние дети указывают на коробку и называют ее. А дети от четырех до пяти лет показывают и называют корзину. Старшие дети понимают, что Салли заблуждается. Она должна думать, что ее мяч находится в корзине, потому что это то место, где она его оставила, и она не видела, что Энн переложила мяч в коробку. Так как она не видела, что Энн переложила мяч, она не может знать или думать, что он находится в коробке. Не имея определяющего визуального опыта — наблюдения за тем, как Энн перекладывает мяч, — Салли испытывает недостаток в соответствующем умственном настрое: знании или предположении.
Психика детей в возрасте от трех до пяти лет переживает концептуальную революцию, которая похожа на революцию в науке, когда одна теоретическая парадигма сменяется другой[212].
Сталкиваясь с тем фактом, что Салли ищет мяч в корзине, а не в коробке, трехлетние дети получают доказательство, противоречащее их версии. Они предсказывают, что Салли будет смотреть в коробке. Их предсказание оказывается неправильным. В течение одного года концептуальная система детей существенно перестраивается, поскольку они усваивают одно из определяющих свойств человеческого разума. Иногда мы верим тому, чему не верят другие. Иногда другие доверяют тому, что, по нашему убеждению, является ложным.
В начале этой главы я упоминал, что, возможно, существует расхождение между тем, что ребенок знает, если судить по показателям его визуальной активности (перемещении и остановках взгляда), и тем, что ребенок обнаруживает в своей двигательной активности, когда старается дотянуться до объекта. В эпизоде «Салли — Энн» экспериментатор просит, чтобы ребенок указал или сказал, где Салли будет искать мяч. Он просит ребенка выполнить открытые действия, которые требуют очевидного знания. Возникает, однако, вопрос, куда ребенок направит свой взгляд прежде, чем выразит свое мнение в словах или в действиях? Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи познавательного развития Венди Клементс и Джозеф Пернер провели тест «Салли — Энн» с трехи четырехлетними детьми. В дополнение к обычной процедуре, при которой ребенка просят указать и назвать место, где Салли будет искать мяч, они также отслеживали перемещение взгляда ребенка. Трехлетние дети обращали свой взгляд к корзине, затем указывали на коробку и называли коробку; четырехлетние дети, как и ожидалось, смотрели и указывали на корзину и называли корзину. Создается впечатление, что трехлетние дети обладают тем же знанием, что и другие — более старшие, но они не могут осознанно пользоваться этой информацией[213].
Что закрывает ребенку доступ к этому знанию? Ответ на данный вопрос очень важен, поскольку обеспечивает понимание связи между моральными нормами и представлениями о внутреннем мире другого человека. Подобно Одиссею, повстречавшемуся с сиренами, ребенок, как только понимает свою силу и слабость, может использовать это знание, чтобы преодолеть искушение или, по крайней мере, признать, когда он оказывается наиболее уязвимым.
Если мы используем указательные жесты или соответствующие им слова, то обычно для того, чтобы показать или назвать место, где что-то лежит. Однако, чтобы продемонстрировать понимание заблуждений Салли в кукольном представлении, ребенок должен указать на корзину, где нет мяча. Чтобы добиться успеха, он должен затормозить естественную, обычную установку указывать туда, где что-то имеется (в данном случае коробка). Вместо этого он вынужден указывать туда, где ничего нет. Однако, если экспериментатор, работая с трехлетними испытуемыми с помощью классического теста «Салли — Энн», просит, чтобы они просто наклеили полоску бумаги на соответствующий контейнер (коробку или корзину), дети преуспевают, помещая этикетку на коробку. В отличие от жеста, указывающего на предмет, наклеивание этикетки — непривычный для ребенка вариант действия. Мы можем наклеить этикетки везде, где хотим. Этот необыкновенно простой и умный эксперимент показывает, что маленькие дети могут понять факт заблуждения, но специфические особенности задачи не позволяют им проявить свои способности. Они также могут обнаруживать определенный уровень компетентности с опорой на неосознаваемые представления, даже если некоторые аспекты их деятельности или поведения скрывают эти представления.
На четвертом году жизни в способности ребенка понимать мысли и чувства других людей происходят изменения, которые можно рассматривать как достижения. Ограничивающие его способности тормозные влияния исчезают, и ребенок не только понимает, что представления могут быть верными или ложными, но может действовать с опорой на эти знания в широком диапазоне контекстов.
Теперь у нас есть все необходимое, чтобы вернуться к обсуждению проблем этики. Когда мы обвиняем человека за проступок или хвалим его за помощь, мы явно или неявно признаем, что человек действовал преднамеренно и с надлежащими побуждениями. Если я даю вам пощечину и вы плачете, ваше суждение об этом действии и его последствиях зависит от того, что вы думаете о причинах моего действия. Если я намеревался ударить вас и заставить плакать, то мое действие нравственно предосудительно. Если же я намеревался ударить вас, чтобы спасти от падения со скалы, то мой поступок нравствен и достоин похвалы, поскольку я спас вас от большей неприятности. Если же я намеревался дотронуться до стакана, но промахнулся и случайно ударил вас по лицу, я неуклюж, но мое действие не должно вызвать морального осуждения. Вы можете осудить меня за поступок, но что сделано, то сделано. Предположим, я намеревался взять стакан с полки, рядом с которой вы стояли, и случайно ударил вас по лицу. Я знал, что пол в этом месте скользкий, но мой удар был случаен, опрометчив или небрежен, смотря по обстоятельствам. В этом случае я должен был учесть вероятность того, что могу вас толкнуть, поэтому я мог заранее попросить вас подвинуться и только затем взять стакан. Мое действие должно получить моральную оценку. Вы должны признать меня ответственным за происшедшее и осудить мои действия.
Когда детям становятся доступны эти сложные психологические механизмы оценки намерений? Согласно Пиаже и Колберту, дети не имеют моральных суждений до тех пор, пока им не исполнится приблизительно девять или десять лет. Младшие дети просто смотрят на последствия поступка и оценивают происходящее с этой точки зрения. Если последствия поступка плохие (например, человек беспричинно ударил кого-то), то плох и человек. Если поступок хороший (например, человек помогает кому-то), то и человек хороший. Конечно, этот обусловленный возрастными особенностями диагноз ошибочен.
Исследования, начатые в 1980-х годах, показали, что четырехи пятилетние дети порождают разные моральные суждения, когда человек выполняет одни и те же действия, с одинаковыми последствиями, но с различными побуждениями. Причем имеются некоторые доказательства того, что дети склонны оценивать действие хуже, чем бездействие.
Дети проводят эти различия, даже если сами действия полностью нейтральны и не имеют никакой эмоциональной окраски или морального значения. Например, Билл включает поливальную машину, чтобы помочь матери полить цветы, в то время как Боб включает поливальную машину, чтобы размыть песчаный замок, сделанный его младшим братом. Или Джейн увеличивает температуру в духовке, чтобы помочь матери побыстрее испечь печенье, в то время как Джилл увеличивает температуру, чтобы печенье сестры подгорело. Или Джой во время дождя выносит на улицу единственное нарядное платье своей сестры, чтобы оно промокло, в то время как Джимми оставляет любимое платье своей сестры во дворе под дождем. Когда дети обсуждают эти события, они говорят, что Боб и Джилл плохие и должны быть наказаны. Они выносят эти оценки, несмотря на то что рассказчик никогда не объясняет, к какому результату привели действия участников ситуаций. Они также заключают, что Джой хуже, чем Джимми, показывая, что бездействие они оценивают более снисходительно, чем действие, даже когда последствия те же самые. Согласно нашей теории моральных инстинктов, они формулируют эти суждения на основе конкретных особенностей рассматриваемых событий (причины, действия, последствия) и делают так постоянно и независимо от конкретного содержания таких событий. Они достигают этого уровня компетентности, несмотря на то что их объяснения являются в значительной степени несвязными или, в лучшем случае, недостаточными, чтобы рассказать об отличиях своих оценок. Тот факт, что дети этого возраста делают подобные заключения в широком диапазоне ситуаций и применительно к действиям, которые сами по себе не имеют моральной ценности, предполагает, что они опираются на общие принципы в противовес правилам, существующим для определенных действий. Особый интерес представляет то обстоятельство, что появление этой компетентности почти совпадает с появлением хорошо развитой модели психического. По мере приближения к пятому дню рождения дети обретают способности оценивать не только мысли, желания и намерения других, но и то, что эти психические особенности играют роль в суждениях о том, хорош или плох тот или иной человек.
Это живое!
В чем заключаются различия между следующими событиями и их участниками: [214]
Не задумываясь слишком глубоко, можно ответить. Ситуации 1 и 2 не несут никакой моральной нагрузки, ситуация 4 такую нагрузку имеет, и ситуация 3 могла бы иметь. Почему? Ситуации 1 и 2 — несчастные случаи без психологических причин. Собака сдвинула камень, и это заставило его покатиться, но при данном описании собака, конечно, не имела цели убивать человека. Акт бросания камня шимпанзе осуществлялся намеренно, с определенной целью. Хотя шимпанзе весьма неловки при броске, посетители зоопарка, возможно, подвергались их нападениям, когда те бросали собственные фекалии на стеклянное окно, отделяющее обезьяну от человека. Шимпанзе и люди — субъекты, которые могут иметь намерения. Оба — и шимпанзе, и женщина — имели намерение бросить камень, но, возможно, у них не было намерения ни ударить, ни убить человека[215].
Бросок камня — действие, которое выполнялось преднамеренно и, возможно, для вступления в контакт с кем-то или чемто. Но из описания мы не знаем, намеревался ли шимпанзе или женщина наладить таким способом общение или его цель — убить человека. Все четыре случая имеют одинаково отрицательные последствия. Однако есть возможность провести различия между ними, опираясь на моральные основания. Это различия между намеренными и случайными действиями, мотивами, лежащими в основе намеренных действий, а также особенностями связи между предвидимыми и преднамеренными последствиями. Важную роль при этом играют характеристики действующего лица и его цели.
Ситуацию 4 характеризует относительно недвусмысленный моральный статус. Мы полагаем, что взрослые женщины, как и мужчины, несут ответственность перед другими людьми. Спорным при этом является вопрос о том, следует ли воспринимать детей как нравственно ответственных субъектов? Есть точка зрения, согласно которой дети квалифицируются как моральные «объекты воздействия», как «организмы», которые заслуживают нашей моральной заботы, даже если они не имеют никакого представления о добре и зле и не несут никакой ответственности перед другими. Как указывал философ Питер Сингер, обсуждая проблемы благополучия животных, и подтвердил специалист в области когнитивных наук Пол Блум, позже включившийся в дискуссию о проблемах детского развития, человек все более и более расширяет круг возможных объектов своей моральной озабоченности. Об этом свидетельствует переход от «себя самого» как единственного объекта такой заботы к широкому диапазону других биологических видов. Интересно, как и когда мы приобретаем способность находить различия среди множества объектов в окружающем мире? Когда и как развивается наша готовность к ответственности перед другими, наши пристрастия быть благосклонными к тем, кто внутри группы, и отчуждению от всех прочих? Когда и как формируется наша способность судить некоторые действия как нравственно релевантные, потому что они касаются тех, кто наделен правами?
И движение, и пантомимические реакции тела доступны зрительному восприятию ребенка, и он использует зрительные возможности, чтобы сформировать категории для классификации своих наблюдений. Ранние исследования детского развития и некоторые работы по философии предполагали, что представления о способностях младенца к классификации опыта практически сложились. Надо найти подходящие объекты и характеристики, разработать измерительные процедуры для оценки подобия и затем сгруппировать те объекты, которые обнаруживают наибольшее сходство. Например, ребенок видит малиновок, кардиналов, синих соек и пересмешников и, основываясь на этом списке, заключает, что все птицы имеют маленькие клювы, относительно короткие хвосты, перья, тонкие веретенообразные ноги и на них несколько, подобных пальцу на ноге, образований. Затем этот набор совпадающих признаков позволяет сформировать прототип, или представление о птице как таковой. Возникает, однако, проблема с выбором признаков для оценки подобия и уверенностью в правильности этого выбора. В зависимости от того, как рассматривается релевантный набор признаков, любые два объекта можно классифицировать как похожие. Синяя сойка имеет сходство с молотком, потому что оба подвергаются действию сил гравитации, весят меньше тонны, не способны к выполнению дифференциальных вычислений и не имеют никакого чувства юмора.
Как указывает возрастной психолог Франк Кейл, эти ранние представления о путях продвижения ребенка от визуальной к концептуальной классификации были заблуждением. Поскольку младенцы используют признаки, чтобы обеспечить некоторые аспекты классификации, предполагалось, что этим все и ограничивается. Иными словами, это все, что они используют. Но в процесс категоризации включено нечто большее, чем набор поверхностных признаков объекта и понятие прототипа.
В раннем возрасте дети уже знают, что микробы и платяные вши могут легко распространяться, несмотря на то что их нельзя увидеть. Оценка этих невидимых объектов формирует основание для того, чтобы понять: в окружающем мире существуют разные объекты, и некоторые из них неприятны. Эти интуитивно воспринимаемые невидимые признаки можно использовать как критерий категоризации и разделения индивидуумов на приятных и неприятных. В конечном счете, можно распространить этот критерий и на более сложные понятия, такие как добродетельный и порочный.
Психологи часто именуют некоторые из этих невидимых объектов как «сущности». Чтобы оценить их роль в размышлениях ребенка о категориях, познакомьтесь с замечательным экспериментом Кейла. Его цель — выявить, как различные виды преобразований могут изменить таксономию, используемую ребенком.
Кейл рассказал маленьким детям о скунсе, которого сбил автомобиль. Зверька доставили в больницу. В результате осмотра доктора обнаружили, что меховая шкурка пострадавшего скунса сильно повреждена. Так как в запасе у них не было шкуры скунса, они решили удалить весь поврежденный мех и заменить его мехом енота. Операция прошла успешно, и пациент был отпущен назад, в лес. Когда Кейл спросил детей, какое животное было выпущено в лес, большинство детей сказали: «Скунс». Таким образом, признаки, использованные при классификации, определяются внутренними особенностями, а не поверхностными, наружными характеристиками, которые напоминают другой биологический вид.
Из этих исследований вытекает, что дети, в том числе и самые маленькие, обладают врожденным неосознаваемым знанием биологического мира, которое позволяет им делать выводы, опираясь на недоступные прямому наблюдению свойства объектов.
Родная среда ребенка формирует ранние интуитивные представления о биологии, и они будут различаться в зависимости от особенностей этой среды. Они могут быть связаны с относительно небольшим набором организмов, если дети рождены в городе, или со сложной сетью флоры и фауны, если дети рождены в джунглях Амазонки. Эта начальная система представлений имеет только скелетную структуру с относительно общими, не уточненными понятиями жизни и смерти, болезни, роста и родства. Она базируется больше на фактах, чем на теориях, которые могут дать более широкие обобщения и прогнозы: кто и как умирает, заболевает и воспроизводится. Например, в фильме Дианы Китон «Небеса» героиня обсуждает с ребенком вопрос о том, возможно ли соитие мужчины и женщины в загробной жизни. Ребенок задумывается, направляет свой взгляд ввысь и затем спрашивает: «Если есть любовь на небесах, рождаются ли там мертвые младенцы?» Точно так же, когда я и моя беременная жена (по происхождению она с Кавказа) были в Уганде, местный мальчик спросил меня, будет ли наш ребенок, учитывая мое длительное пребывание в его стране, рожден черным? Я уверен, что он не ставил под сомнение верность моей жены. Эти вопросы являются признаками теоретически слабой системы представлений.
Позиции исследователей по поводу того, когда именно окончательно складывается теоретически более сложная система представлений и что конкретно способствует ее развитию, довольно противоречивы. Нормально развивающиеся дети приобретают такую систему приблизительно с десяти лет. Дети с синдромом Вильямса, психическое развитие которых нарушено, овладевают только примитивной системой биологических представлений[216]. Они способны произвольно комбинировать факты, что позволяет им классифицировать животных и делать некоторые элементарные предсказания или обобщения о поведении этих животных. Однако в основе и их суждений есть своя небольшая теория. Когда их спрашивают об умирающих животных и о смерти, они, наиболее вероятно, скажут, что мертвое животное не двигается и выглядит так, как будто оно спит. Они не обращаются к более содержательным теоретическим понятиям, которые будут называть нормальные дети, включая прекращение дыхания, отсутствие биологических потребностей и социальных отношений. Развитие этой, более богатой, системы представлений — существенная часть «группы поддержки» для нашей моральной способности. Это утверждение справедливо при условии, что наши суждения о многих моральных дилеммах: эвтаназии, аборте, детоубийстве (ограничимся этими, чтобы не увеличивать перечень) — опираются на такие факторы, как значение смерти и важность некоторых потребностей выживания.
Параллельно с накоплением примитивных биологических знаний ребенок также приобретает систему, которая обеспечивает ему возможность для бесчисленных дискриминаций большого числа социальных параметров. Эта система играет решающую роль в формировании восприятия признаков внутригрупповой принадлежности. В течение первых нескольких дней жизни новорожденные узнают лицо, голос и запах своей матери, отличая ее от других женщин. Затем ребенок встречает других людей, включая близких и дальних родственников, мужчин и женщин, друзей и недругов, молодых и старых, имеющих высокий и низкий статус, принадлежащих к одной или к разным расам.
Для некоторых из этих категорий психологи и антропологи провели такие же исследования, какие описаны для животных, и получили сходные выводы. Например, раса — понятие специфически человеческое, в отличие от классификации, которая «действует» в биологии. Многие вопросы, касающиеся расовых различий, составляют часть нашей эволюционной психологии. Раса — это система, объединяющая ключевые признаки, которые позволяют идентифицировать людей как принадлежащих к одной совокупности. Изучая особенности восприятия детьми расовых различий, антрополог Лоренс Хиршфелд получил интересные результаты[217].
Если вы покажете маленькому ребенку фотографии двух вероятных отцов, негра и белого, и затем дадите фотографию темнокожего ребенка, одетого в такую же одежду, как белый мужчина на фотографии, спросив при этом, кто отец этого мальчика, дети укажут на негра. Дети понимают, что цвет кожи — надежный прогностический признак. Точно так же они осознают, что белый ребенок, воспитываемый темнокожими родителями, останется белым. Эти эксперименты, однако, не дают оснований считать, что детское представление о расе столь же насыщено, а во многих случаях и нравственно отягощено, как это имеет место у взрослых. Эксперименты показывают, что дети достаточно рано проявляют чувствительность к характеристикам расы и понимают, что некоторые из этих, не всегда доступных прямому наблюдению, признаков нельзя изменить.
Одна из особенностей мышления, связанного с распознаванием сущности явлений и некоторых более широких аспектов классификации, заключается в том, что мы с готовностью развиваем стереотипы и предубеждения[218].
Стереотипы представляют одну форму категоризации. Применение стереотипов приводит к распределению людей на социальные группы и служит основой для нравственно неприемлемого поведения. Предубеждения представляют собой установки, которые мы формируем по отношению к этим группам, независимо от того, будут ли эти установки действовать на сознательном или на подсознательном уровне. Используемые нами способы формирования стереотипов и предубеждений непосредственно влияют на то, как наша моральная способность взаимодействует с другими аспектами психики, придавая соответствующую специфику и нашим суждениям, и нашему поведению. Когда какие-то народы или социальные группы пытались доминировать над другими народами или социальными группами, они использовали стандартный подход. Суть его заключалась в том, что народ или социальная группа объявляется изгоем и его лишают возможности даже приблизиться к прототипу человеческого существа. Для нацистов евреи были паразитами, иными, чуждыми человеку. Подобные атрибуты со времен античности богатые приписывали бедным. В «Эмиле», одном из наиболее длинных эссе о природе человека и его развитии, Жан Жак Руссо риторически вопрошает: «Почему короли безжалостны к своим подданным? Потому что они никогда не считали их людьми». Хотя ни класс, ни раса не являются биологическими категориями, наша психика, условно говоря, снабжена, как ЭВМ, «аппаратными средствами и программным обеспечением», чтобы выбирать ключевые признаки, позволяющие идентифицировать «иных», или Vautre, как писал европейский философ Эммануель Левинас.
Хотя мы можем обсудить альтернативные способы классификации людей и мира в целом, но мы не в состоянии стереть ограничения, которые наша психика налагает на восприятие, а они включают разделение человечества на доминирующих и подчиняющихся, черных и белых.
В I части я обсуждал проблему классификации в контексте преступлений страсти и, в частности, вопрос о том, как поступает средний или типичный человек, оказавшись в подобных ситуациях. Ключевая юридическая проблема в этом случае состоит в том, чтобы определить, какой вариант защиты может быть использован, когда правонарушитель (любовник) пойман на месте преступления, т. е. во время интимного свидания.
Жюри присяжных вместе с судьей должны охарактеризовать такой вариант поведения юридически. С этой целью необходимо выяснить, насколько оно типично и как будут поступать другие люди, оказавшись в подобной ситуации. Таким образом, возникает необходимость определить понятие прототипа личности человека с некоторым набором типичных эмоциональных ответов. Подобные проблемы появились в юридических делах, рассматривавших вопросы непристойного поведения. При рассмотрении этих дел судебные органы исходили из представлений о среднем человеке и эмоциональных переживаниях, которые он или она могли бы испытывать при возникновении непристойных ситуаций. В Соединенных Штатах эта проблема берет начало от постановления судьи Уоррена Бергера, который утверждал, что непристойность должна быть определена на основании того, вызывают ли рассматриваемые предметы отвращение в «среднем человеке, с учетом современных общественных стандартов»[219].
Использование понятия «прототипичность» (prototypicality) сопряжено с определенной проблемой, смысл которой состоит в том, что, подобно любому другому обобщению, это понятие может уменьшить нашу способность воспринимать огромное разнообразие людей, подсознательно заставляя формулировать предвзятые суждения. Фактически, как указывал в ряде работ социальный психолог Мазарин Банаджи, нередко мы судим о моральных качествах человека без понимания глубины собственных предубеждений[220].
Миллионы людей утверждают, что они не расисты, не сексисты и не эйджисты[221]. Однако, если добровольным испытуемым в быстром темпе предъявлять одну за другой фотографии разных лиц и при этом просить их определить, хороший это человек или плохой, испытуемые обнаруживают сильные предубеждения против всех маргинальных личностей и групп. Те, кто подбирает кандидатов на высокие должности, также часто обнаруживают предубеждения против этих групп, даже если их представители имеют прекрасные характеристики, которые далеко превосходят таковые их конкурентов. Многие из этих неосознаваемых или скрытых установок возникают по ассоциации в результате многократного повторения и накопления опыта; другие имеют чисто вербальный характер, и им не хватает эмпирической поддержки. Трудно представить себе более элементарное действие: однозначно связать частоту встречаемости набора личностных черт с определенной группой людей и построить карикатурное изображение или стереотип этой группы. Наши умы развращены возможностью формировать категории, превратив противоречивое разнообразие мира в организованное множество классов и утратив чувствительность к ветру перемен. Будучи сформированы, эти категории оказываются тесно связанными с нашими эмоциями. Положительные чувства адресуются лицам своей группы, а негативные — всем посторонним. И поскольку эти предубеждения спрятаны в глубинах неосознаваемого психического, их весьма трудно преодолеть. Каким образом можно вмешаться в предубеждения, которые вообще не осознаются?
Хотя мы формируем неосознаваемые установки по отношению ко всем «чужим» и такое предубеждение ведет к карикатурному искажению их образа, этот процесс не является специфическим для моральной способности или ключевым в сфере морали. Более спорный вопрос состоит в том, имеют ли эти предубеждения последствия для наших моральных суждений или компетенции? Хотя скрытые установки действуют на бессознательном уровне, основополагающие принципы вполне доступны для наблюдения. Их может уловить любой человек, внимательно изучив образцы собственных суждений. И как только мы узнаем о таких предубеждениях, становится возможным их преодоление. Вспомним идею Ролза и ролзианское создание. Если его характеристика верна, то, в отличие от вышесказанного, мы не имеем доступа к принципам, которые лежат в основе наших моральных суждений.
Награда за терпение
В «Словаре дьявола» Амброуза Бирса терпение определено как «не очень сильное отчаяние, завуалированное под добродетель». Рекламодатели ориентируются на эту слабость человеческой натуры, забивая наши головы утверждением: «Не жди — действуй!» Конкурентоспособный менталитет трудоголика подталкивает нас любой ценой стремиться к результату и в случае необходимости даже идти на обман.
Мы зарегистрировались в многочисленных программах, чтобы с помощью кредитной карточки купить то, что мы хотим и когда хотим. Понимая удобство кредитной карточки, некоторые из нас все же отклоняют пластмассу и используют наличные деньги. Мы оплачиваем быстрое питание всякий раз, когда нам требуется перекусить. Однако некоторые из нас из принципа отказываются от большой порции жареного мяса и двойного чизбургера в коробке из Макдоналдса, предпочитая неспешно приготовить дома карри, поставить стакан вина и свечи. Моральные системы, в конечном счете, рассчитаны на предусмотрительных индивидуумов, которые могут отклонить, для себя и для других, искушение немедленного следования эгоистическим интересам.
Эссеист восемнадцатого столетия Уильям Хэзлитт был совершенно прав, утверждая следующее: «...воображение, посредством которого один я могу предвидеть будущие объекты или интересоваться ими, должно перенести меня из меня самого во внутренний мир других (людей), будучи тем же процессом, благодаря которому я заглядываю вперед, как будто это и мое будущее, и я им интересуюсь»[222].
Способность ждать, проявлять терпение и противостоять искушению — основная часть «команды поддержки», связанной с нашей моральной способностью. В течение почти сорока лет социальный психолог Уолтер Мишель проводил эксперименты с участием детей и взрослых, чтобы охарактеризовать психологические механизмы нашего терпения, особенно способность переносить задержку вознаграждения[223].
Его цель состояла в том, чтобы понять, как и почему способность ребенка ожидать отсроченное вознаграждение изменяется во времени и является ли способность ждать врожденной чертой индивидуальности, характеристикой темперамента, которая позволяет предсказывать интеллектуальную компетентность в дальнейшей жизни, так же как и уровень контроля в различных видах активности, включая азартные игры, еду, смену сексуальных партнеров и потребление алкоголя.
В работе Мишеля людей сравнивали с персонажами басни Эзопа. В ней выяснялось: кто из нас обесценивает будущее и является стрекозой, а кто, являясь муравьем, напротив, ценит свое будущее и спасает себя от вероятных трудностей за счет накопленных пищевых запасов. В классическом варианте изучения задержки вознаграждения экспериментатор усаживает ребенка за стол и объясняет, что тот может получить награду сейчас, немедленно, но эта награда будет маленькой. Или ребенок может получить значительно большую награду, но позже. Виды наград изменяются в зависимости от возраста ребенка: пастила или печенье для маленьких детей и деньги для подростков. Суть эксперимента в том, что экспериментатор кладет на стол награду и говорит: «Ты можешь взять эту награду прямо сейчас. Однако, если ты дождешься моего возвращения, получишь гораздо больше». Экспериментатор также предупреждает: если в течение некоторого времени ожидания ребенок захочет взять меньшую награду, он может позвонить, чтобы вернуть экспериментатора. Однако, так как экспериментатор никогда не говорит, когда он возвратится, испытуемые не знают, как долго они должны ждать большей награды.
В этих экспериментах методом последовательных срезов обнаружено, что, независимо от уровня культуры и принадлежности к разным социо-экономическим классам, дети моложе четырех лет практически не имеют терпения. Они, как правило, после ухода экспериментатора достаточно быстро берут меньшую награду и ждут большей награды. Постепенно, с возрастом дети приобретают способность блокировать свои импульсы, держа искушение в узде, пока ждут большей награды. Но эта оценка развития ребенка более сложна и более интересна. Критическим показателем здесь является не тот факт, берут ли дети меньшую награду или не берут, но как долго они ждут, чтобы получить больше. Показателем выдержки служит время ожидания. Несмотря на то что дети от двух до четырех лет в среднем не способны задерживать свои реакции, тем не менее между ними обнаруживаются значительные индивидуальные различия. Некоторые из этих различий представляют признаки врожденных черт индивидуальности, которые возникают прежде, чем культура получит возможность оказать существенное влияние. Ожидание некоторых детей двух лет может длиться дольше на секунды или даже на минуты в сравнении с ожиданиями других детей того же возраста.
Геном ребенка в целом задает стиль общения с миром, что находит свое выражение в выборе приоритетов. Дети проявляют склонность либо к интернализации действий (усвоению), либо к их экстернализации (проявлению). Дети, имеющие признаки интерналиста, берут большую личную ответственность за то, что случилось. Если кто-то угощает такого ребенка мороженым, он думает: «Я хорошо себя вел. Я заслуживаю мороженого». Если друг прекращает играть с ним, он думает: «Должно быть, играть со мной не очень приятно». Поведение ребенка со склонностью к экстернализации выглядит противоположным образом. Если кто-то предлагает ему мороженое, то потому, что это — хороший человек. Если друг прекращает играть, то потому, что друг устал. Когда экспериментатор проверяет поведение этих двух типов индивидуальности на классической задаче задержки вознаграждения, выясняется, что интерналисты ждут дольше и с большим усердием стремятся получить желанную награду. Кроме того, интерналисты с меньшей вероятностью будут нарушать запреты матери («Не играй с тем мальчиком или девочкой») и хитрить, играя с экспериментатором в «Угадайку»[224].
Уровень развития самоконтроля ребенка позволяет предсказать его склонность нарушать неустановленные правила. Способность сдерживать желание сразу получить награду самым тесным образом связана с нравственным поведением.
Количество секунд отсрочки, которое выдерживает двухлетний ребенок, аналогично хрустальному шару, который предсказывает его будущее моральное поведение и, если хотите, даже этический стиль поведения. Посмотрите, как долго ребенок ждет вознаграждения, это позволит вам провести экстраполяцию и предсказать, каким он будет в подростковом возрасте и даже в возрасте тридцати лет. Мальчики из шестого класса, проявившие нетерпение в задаче отсрочки вознаграждения, с большей вероятностью, будут обманывать других в играх, в отличие от тех мальчиков, которые оказались более терпеливыми. Среди детей, сразу выбирающих награду, вероятно, будет больше таких, которые в дальнейшем обнаружат склонность к противоправному поведению, чем среди детей, которые выбирают отсроченную награду. При длительном наблюдении за жизненными достижениями испытуемых, которые проходили этот тест в возрасте двух-трех лет, было установлено следующее. Те испытуемые, которые в раннем детстве проявляли максимальную выдержку, став взрослыми, более эффективно справлялись с негативными ситуациями, имели более обеспеченную работу, получали более высокие оценки при выполнении академических тестов, поддерживали устойчивые, спокойные романтические отношения. Все перечисленное было в равной степени характерно как для мужчин, так и для женщин. Наряду с этим, мужчины и женщины, которые, будучи детьми, немедленно хватали меньшую награду, с большей вероятностью демонстрировали чрезвычайную раздражительность, гнев, агрессивность по отношению к своим партнерам по сравнению с теми, кто был способен дождаться большей награды[225].
Эти эксперименты доказывают, что нетерпение, или импульсивность, в задаче отсрочки вознаграждения может надежно предсказать, кто, вероятнее всего, станет нарушителем культурных норм.
Способность переносить задержку вознаграждения приобретает дополнительное значение при анализе другой моральной проблемы, связанной с понятием взаимности. В обществе, управляемом в соответствии с Золотым правилом, если я дарю кому-то подарок, я должен ждать в ответ аналогичный подарок. Альтруизм часто вынуждает избавляться от эгоистичных желаний. Отношения, основанные на взаимности, дают надежду на получение аналогичного подарка.
Чтобы проверить соотношения между возрастом, расчетливостью и альтруизмом, возрастной психолог Крис Мур разработал ряд экспериментов с участием детей от трех до пяти лет[226].
Основной идеей этих экспериментов было предположение о том, что, размышляя о своем будущем психическом состоянии, человек «включает» как расчетливость, так и альтруизм. Эгоисты воображают, как со временем они изменятся и на что их состояние будет похоже, если только они смогут дождаться этого. Альтруисты воображают, каким будет состояние внутреннего мира другого, если они сделают для него что-то хорошее.
Эксперимент Мура заключался в том, что каждый ребенок играл четыре игры с ассистентом. В каждой игре ребенок сам выбирал один из двух вариантов.
ИГРА 1. Распределение без затраты. Инструкция: возьми одну этикетку для себя или одну для себя и одну для ассистента. ИГРА 2. Распределение с затратой. Инструкция: возьми две этикетки для себя или одну для себя и одну для ассистента. ИГРА 3. Отсроченное вознаграждение. Инструкция: возьми одну этикетку для себя сейчас или две для себя позже. ИГРА 4. Распределение и отсроченное вознаграждение. Инструкция: возьми одну этикетку для себя сейчас или одну этикетку для каждого из вас, но позже.Было получено четыре результата. Первый: маленькие дети выбирали немедленную награду более часто, чем это делали старшие дети в обоих условиях задержки вознаграждения. Второй: дети всех возрастов делились равновероятно, независимо от наличия или отсутствия задержки. Третий: среди самых маленьких детей были индивидуумы, которые выбирали для себя большую, но отсроченную награду, и они же с большей вероятностью выбирали распределяемую отсроченную награду. Эти результаты показывают, что способность ребенка терпеливо дожидаться чего-то хорошего связана с установлением границ, в пределах которых он способен быть хорошим по отношению к другим. Четвертый результат возвращает нас к более раннему обсуждению.
Дети, которые преуспели при выполнении задач в контексте модели психического (theory of mind), включая версии ложных представлений, с большей вероятностью будут выбирать распределение, даже если им придется ждать своей этикетки. Взаимосвязь между готовностью к распределению и пониманием чьихто возможных мыслей и желаний интересна, но сама по себе не позволяет установить причинно-следственные отношения. Изменения в мотивации ребенка, побуждающие его делиться, могут стимулировать понимание им мыслей и чувств других людей. Возможен и противоположный вариант: понимание ребенком того, что другие имеют желания, которые могут совпадать с его собственными или отличаться от них, может стимулировать его готовность делиться.
В последующей работе Мур показал, что способность ребенка заботиться о других и делиться чем-либо с ними является очень изменчивой. Двигателем этой способности служит не столько осознание ребенком надежд и желаний других, сколько сложное устройство его социальной среды, включая такой показатель, как число братьев и сестер. Эти исследования обнаруживают, что успешность деятельности зависит не только от способности детей к пониманию психических состояний других, но и от их способности оказать им помощь. Однако они не дают возможности ответить на вопрос, насколько способны дети в этом возрасте (или моложе) выносить моральные суждения, наблюдая за тем, как другой ребенок играет в одну из этих игр? Хотя трехлетний ребенок, вероятнее всего, одобрил бы немедленную награду, с выбором распределения или без него, тем не менее он мог бы осудить другого ребенка, заявив, например, как будет плохо, если тот предпочтет немедленное вознаграждение. Значительно больше возможностей для понимания природы изучаемых процессов представляет такой эксперимент, в котором дети одновременно играют в игру и наблюдают, как играют другие. В этом случае возникает вопрос: совпадают ли их правила поведения для других с их собственным поведением?
Способность терпеть отсрочку вознаграждения характеризует глубины индивидуальности человека. Терпение не только добродетель, но и маркер успеха в жизни. В этике Аристотеля добродетели, определяемые как hexeis и hexis, рассматриваются как устойчивые и сопротивляющиеся изменениям наклонности. Работа Уолтера Мишеля, посвященная отсроченному вознаграждению, представляет один из самых здравых примеров взаимосвязи концепции Аристотеля с психологией этики, которая позже стала известной как этика добродетели[227].
Однако проведенное Мишелем исследование эффектов отсроченного вознаграждения ставит новые вопросы. Учитывая тот факт, что те, у кого больше терпения (кто ждет дольше в задаче отсрочки вознаграждения), с большей вероятностью будут иметь хорошую работу, более устойчивые романтичные отношения и низкий уровень тревоги, возникает вопрос: почему естественный отбор постепенно не устранил импульсивные типы людей? Почему женщины не стремятся выходить замуж за терпеливых мужчин? Я думаю, что есть относительно простой ответ: терпение — не всегда достоинство. Это особенность человеческого характера, которая может быть приспособлена к различным условиям, часто изменяющимся в пределах одной культуры и между разными культурами. Импульсивные личности встречаются во многих слоях общества. Это могут быть спортсмены, солдаты, участники дебатов и часто индивидуумы, которые в опасных ситуациях действуют героически. Например, они спасают ребенка из горящего здания, прыгают в воду, чтобы помочь тонущему товарищу по команде, и так далее. Импульсивность может также проявиться в более обыденных, но эволюционно релевантных ситуациях. Импульсивные индивидуумы нередко оказываются в выигрыше, когда ресурсы незначительны, но здесь и сейчас возникает возможность принимать пищу, заниматься сексом или играть на деньги[228].
При наличии таких преимуществ, попробуйте подумать об импульсивности как о кнопке на панели старомодного радиоприемника, которую можно повернуть, для того чтобы усилить звучание или в нашем случае — перейти от крайне сдержанного и контролируемого поведения к предельно импульсивному. Индивидуумы с высоким уровнем самоконтроля, образно говоря, прочно обосновались «на кушетке жизни». Импульсивные типы спрыгивают с этой кушетки при каждой возможности, никогда ничего не планируя, никогда не размышляя о последствиях своих действий. Но поскольку оба типа индивидуальности реально существуют, то нет никакого раз и навсегда зафиксированного преимущества для действия тем или иным способом.
В человеческом сообществе всегда будут встречаться и хладнокровные личности с высоким уровнем самоконтроля и «горячие головы» — импульсивные индивидуумы. С рождения мы обладаем стандартным паттерном импульсивности, который ограничивает нашу способность контроля и самоуправления и нашу способность делать то, что является правильным. Однако у одних людей его параметры установлены на более высоком уровне, у других — на более низком. Эти вариации не влияют на наши моральные суждения, но оказывают реальное влияние на наше моральное поведение. Мы всегда будем соблазняться грехом. Однако, как писал Оскар Уайльд[229], «то, что называют грехом, существенный элемент прогресса. Без этого мир застаивался бы, или старел, или становился бы бесцветным. Благодаря любопытству, грех увеличивает опыт человечества. Через усиленное утверждение индивидуализма он спасает нас от монотонности. В его отрицании текущих понятий об этике коренится другая, еще более высокая этика».
Заводной апельсин
Энтони Берджесс объяснял название своего романа «Заводной апельсин» следующим образом: «Я ставил своей целью применить механистическую этику к живому организму, пропитанному соком и сладостью». Благодаря серии открытий, теперь мы можем идентифицировать части нашего морального «часового механизма», которые заставляют его идти, и узнать, что случается, когда пружинка или винтик ослабевает. Наконец, мы непосредственно переходим к обсуждению вопроса: имеет ли моральная способность, подобно речи, орган, который был бы специально предназначен, чтобы решать проблемы добра и зла? И, как при анализе мозговых механизмов речи, задача здесь заключаются не в том, чтобы обнаружить конкретные центры головного мозга, которые отличаются такой же обособленностью, как сердце или печень. Скорее задача состоит в том, чтобы обнаружить мозговую систему, которая специализируется, во-первых, на опознании конкретных проблем как морально релевантных и, во-вторых, на порождении соответствующих им решений. Если есть моральный орган, то признаки его существования должны быть столь же очевидны, как признаки работы сердца, снабжающего кровью все уголки нашего тела. И если этот орган существует, то его патологии могут быть столь же актуальными, как и патологии других систем организма. Если нарушения в работе сердца могут привести человека к гибели, дисфункция морального органа может привести к действиям, которые запрещаются местными культурными нормами, как, впрочем, и бездействие в ситуациях, где мораль требует действия.
В дальнейшем изложении я преследую две цели. Во-первых, я хочу точно определить области мозга, которые, как мне кажется, непосредственно вовлечены в процесс порождения моральных суждений, основаны ли они на кантианском рассуждении, на юманианском эмоциональном переживании, на ролзианской грамматике действия или на некоторой комбинации вышеупомянутых функций. Во-вторых, я хочу оценить, насколько специфичны компоненты этой системы. Другими словами, если какие-то составляющие этой системы вовлечены в работу с моральными суждениями, ограничиваются ли этим все их функции? Например, если есть грамматика действия, то должен быть специальный компонент, отвечающий за анализ событий и выявление нравственно релевантных причин, действий и последствий.
Однако, возможно, что эта мозговая система не столь специфична и ее функции не ограничиваются сферой морали. Другими словами, та же самая система, которая позволяет многим из нас квалифицировать американские военные злодеяния в Абу-Грейбе как нравственно запрещенные, может использоваться в тех случаях, когда мы наслаждаемся прекрасными арабесками в балете или эффектными ударами в боксерском матче. Каким-то образом мозг, конечно, оценивает моральную релевантность военных действий, но не рассматривает в этом контексте балет или бокс, несмотря на то что бокс может повлечь за собой увечья.
Позвольте начать с исследования, использующего методику визуализации мозговой активности. Хотя это отнюдь не первое исследование такого рода, оно позволяет обсуждать взаимосвязь Между мозговой активацией и некоторыми из моральных дилемм, обсуждавшихся в предыдущих разделах книги. Специалист в области философии и когнитивных наук Джошуа Грин анализировал активность мозга испытуемых в процессе чтения дилемм. Набор дилемм включал различные варианты с трамвайным вагоном, описание эпизода из фильма о выборе Софи и сюжет, в котором предлагалось удалить органы у здорового человека, чтобы спасти пятерых пациентов[230].
Грин исходил из предположения о том, что в основе наших моральных суждений лежит нечто большее, чем произвольное размышление. Подобно Хайдту и другим, склоняющимся к признанию моральной интуиции, Грин планировал эксперименты, позволявшие исследовать относительные вклады эмоций и размышлений в наши моральные суждения. В сущности, Грин надеялся увидеть создания Канта и Юма «в действии», возможно, с различными вкладами, в зависимости от сценария[231]. И, как я полагаю, ему, несомненно, надо было также активизировать существо Ролза, поскольку никакое моральное суждение невозможно без определенной оценки причин и последствий действия.
Нейровизуализация представляет наилучший и наиболее полезный метод исследования, когда в эксперименте сравниваются конкурирующие психологические теории, например, одна — предлагающая унитарный механизм, другая — предлагающая множественные механизмы. Если вы — создание Канта, то думаете, что ключевой процесс, лежащий в основе морального суждения, преднамеренное неторопливое рассуждение, основанное на ясно и четко сформулированных принципах. Следовательно, области головного мозга, вовлеченные в такое рассуждение, относятся они к этике или нет, должны не только включиться, но иметь большую активность по сравнению с другими областями головного мозга. Если вы — создание Юма, то думаете, что только эмоции играют роль в моральных суждениях, и, таким образом, должна включиться система, лежащая в основе порождения и восприятия эмоций. Есть, конечно, много других возможностей, в том числе та, которую предпочитает Грин. Создания Канта и Юма относительно равноправны, но при этом иногда они гармонично сосуществуют, а иногда конфликтуют. Когда они противостоят друг другу, некий процесс должен разрешить этот конфликт, обеспечивая психологическую разрядку.
В поведении испытуемых удалось выявить отличительные психологические признаки, характерные для каждой категории дилемм. При чтении моральной дилеммы — сюжета, в котором Фрэнк сталкивает крупного мужчину на рельсы перед вагоном, — испытуемые размышляли относительно долго в том случае, если они расценивали это действие как допустимое. Если же они оценивали это действие как запрещенное, то, за редкими исключениями, отвечали быстро. Вспомните, что большинство людей думает, что это действие неоправдано для Фрэнка. Нельзя сталкивать мужчину на рельсы перед вагоном, даже чтобы спасти пятерых, оказавшихся на пути этого вагона. Таким образом, оценка времени реакции дает основание считать следующее. Если вы идете против общего мнения и судите его действие как допустимое, вам требуется время. Оно нужно, чтобы обосновать свое убеждение в пользу решения Фрэнка, готового сбросить человека под колеса вагона. Это ваше завершенное личное переживание. Подтверждением позиции существа Юма служат результаты анализа продолжительности временного интервала, который требовался испытуемым для подготовки ответа. Если проанализировать все случаи, в которых испытуемые предлагали «допустимые» суждения, то оказывается, что они тратили почти семь секунд, продумывая ответ на морально релевантные сюжеты. Значительно меньше времени — четыре-пять секунд — они тратили, чтобы сформулировать ответы на сюжеты нейтральные и лишенные морального аспекта. Этот факт дает основание предполагать, что без вмешательства юманианских влияний испытуемые отвечали бы на морально значимые и нейтральные сюжеты с равной скоростью. Как считает Грин, увеличение времени на обдумывание сюжетов, имеющих моральные аспекты, происходит в результате возникновения напряженности между юманианским и кантианским «голосами».
Что происходит в мозге каждого испытуемого, когда он оценивает ситуации? При чтении морально релевантных сюжетов сканирование мозга обнаруживает существенную активацию в областях, кардинально вовлеченных в эмоциональную оценку.
Процесс, который начинается в лобных областях мозга, быстро распространяется в направлении лимбической системы. (Он охватывает среднюю лобную извилину, заднюю цингулярную и угловую извилины.) Интересные результаты были получены, когда испытуемые анализировали морально релевантные сюжеты, в которых последствия имели прагматический характер (максимальное увеличение пользы; спасение пятерых лучше, чем спасение одного). При чтении такого сюжета испытуемые оказывались в прямом конфликте с требованиями морали, которые предположительно несут эмоциональную нагрузку (не вредите другим! не толкайте человека на рельсы!), и этот конфликт, или напряжение, непосредственно отражался на активности передней цингулярной извилины.
В целом ряде экспериментов показано, что эта область головного мозга активизируется, когда испытуемые переживают конфликт выбора, связанный с наличием разных вариантов действий. Классическим примером служат задачи Струпа, в которых испытуемые должны читать слова, называющие какой-либо цвет, но слова эти напечатаны разным цветом, и это расхождение создает для испытуемых определенные трудности. Например, если слово «красный» напечатано зеленым цветом, то прочитать его труднее, чем в том случае, когда это слово напечатано красным цветом. Предполагается, что эти затруднения возникают в результате несоответствия между физическим свойством — цветом и лексическим значением слова. В дилемме про Фрэнка, стоящего на пешеходном мосту, активация в передней цингулярной извилине — признак того, что испытуемый переживает конфликт. Однако, помимо этого, уровень активации этой области напрямую связан со временем, которое требуется, чтобы дать правильный ответ. Те испытуемые, кто больше обдумывал конфликтные случаи, отличались более высоким уровнем активации в передней цингулярной извилине.
Наконец, Грин установил еще один факт. Когда некоторые испытуемые стали возражать против общего мнения, заявляя, что готовность Фрэнка столкнуть человека на рельсы вполне допустима, у них значительно увеличивалась активация дорсолатеральной префронтальной области коры. Эта область головного мозга включена в обеспечение процессов планирования и рассуждения.
Позволяют ли результаты этой работы и некоторых других, выполненных тем же методом визуализации, охарактеризовать мозговое обеспечение моральных суждений — наш «заводной апельсин»?[232]
Безусловно, когда люди сталкиваются с некоторыми вариантами моральных дилемм, у них активируется обширная сеть мозговых центров, и в первую очередь тех, которые отвечают за проявление эмоций, принятие решений, оценку социальных отношений, конфликтов и память. Конечно, эти области также участвуют и в решении дилемм, не имеющих моральных аспектов. Основная проблема заключается здесь в том, чтобы установить, насколько активация этих или других областей специфична и уникальна для решения именно моральных дилемм, исключая все другие варианты дилемм. В настоящее время ни один из этих экспериментов не позволяет точно определить мозговые области, отвечающие исключительно за работу морального органа, т. е. обнаружить системы, которые избирательно включаются при конфликте моральных обязательств и не связаны с другими задачами. Однако, как в любом эмпирическом исследовании, недостаток доказательств существования системы, которая избирательно обрабатывает морально релевантное содержание, нельзя рассматривать как доказательство отсутствия такой избирательности. Скорее современные исследования не позволяют нам выявить различия между мозговой сетью, которая обеспечивает исключительно моральные суждения, и теми сетями, которые отвечают за этику и другие социально релевантные вопросы. Невозможность установить эти различия — наша основная проблема.
Тем не менее исследования с использованием визуализации мозговых процессов дают существенный результат. Они действительно показывают, что, когда мы переживаем конфликт конкурирующих обязательств, одним из источников конфликта служат противоборствующие голоса существ Канта и Юма. Если при решении дилеммы «Фрэнк на пешеходном мосту» испытуемые Грина не обнаруживали необходимых признаков активации мозга, это означало победу прагматического подхода. В таком случае моральное суждение «питалось» целенаправленным размышлением, а эмоции были подавлены или, по крайней мере, не включались в анализ случая. Для абсолютного прагматика «Фрэнк на пешеходном мосту» — вообще не моральная дилемма. Нет никакого конфликта (передняя цингулярная извилина не включается в процесс), нет никаких конкурирующих обязательств (лимбическая система не подает «голоса»). Есть один, и только один выбор: столкните тяжелого мужчину на рельсы и спасите других людей. Решение дилеммы Фрэнка походит на решение вопроса: верно ли неравенство 1 < 5? Это тривиальная проблема, если вы знаете порядковые значения на числовой оси.
Эти результаты обеспечивают убедительную аргументацию в философских дебатах о природе моральных дилемм. Если при решении дилеммы не возникает эмоция, то не возникает и нравственного колебания. Эмоциональный конфликт есть контрольный признак моральной дилеммы. То, что мы интерпретируем как конфликт обязательств на психологическом уровне анализа, физиологически представляет собой результат усиления притока крови к эмоциогенным областям мозга. Предостережение: следует, однако, заметить, что это заключение носит предварительный характер. Изучение динамики мозгового кровоснабжения не намного лучше, чем гадание на картах, когда требуется сделать правильный выбор. Но все же распределение кровотока по областям мозга, запечатленное в каждый момент времени на снимках, дает представление о том, что случается, когда человек обнаруживает моральный конфликт. Визуализация активационных процессов в мозге обеспечивает информацию о том, видит ли индивидуум в дилемме конфликт, его источники и способ решения. Все исследования, выполненные этим методом, недвусмысленно показывают, что области, отвечающие за эмоциональную обработку, включаются в процесс формулирования моральных суждений, особенно в тех случаях, когда присутствует личная заинтересованность.
Эти исследования и их интерпретации, однако, не лишены проблем. Давайте вернемся к трем нашим персонажам. По Грину, решение морально релевантной дилеммы вызывает прямой конфликт между созданиями Канта и Юма. В зависимости от индивидуальных особенностей испытуемого может доминировать система рассуждения. В этом случае решение достигается способом отстраненного и взвешенного рассуждения. При этом принимаются во внимание лишь результаты, но не способы их достижения, и все действия в классических дилеммах с трамвайным вагоном считаются допустимыми и правильными. Проявление внимания к средствам достижения цели, однако, поднимает уровень конфликта, по крайней мере для некоторых случаев. Недопустимо получать больший положительный результат (спасение жизни пятерых), сталкивая человека с пешеходного моста, потому что этот акт влечет за собой вред. Недопустимо использование вреда как средства для достижения «большего хорошего». Грин считает, что в этих случаях эмоции устанавливают своеобразный «контрольно-пропускной» пункт. Но вспомните, что создание Ролза никогда не отрицало роли эмоций в некоторых аспектах нашего морального поведения. Для ролзианца ключевым и дискуссионным является вопрос о том, когда появляются такие эмоции? Однако решение этого вопроса должно подождать того момента, когда технология визуализации будет способна не только обнаруживать релевантные области активации, но и устанавливать точные временные границы начала и завершения активации.
Когда мы оцениваем, насколько целесообразно действие и не ведет ли бездействие к оправданному ущербу, мы нередко мысленно представляем себе, каково это — оказаться на месте другого человека. Свой собственный опыт восприятия мира мы переносим на опыт другого лица, полагая, что наши мысли и чувства функционально эквивалентны тому, что чувствует или думает другой человек. Когда мы решаем, справедливо ли нечто, то воображаем не только то, что мы могли бы приписать другому человеку, но и то, что он мог бы приписать нам. Мы решаем, допустимо ли вредить кому-то, представляя себе, каково это — оказаться на месте пострадавшего или наблюдать за тем, кто осуществляет вредоносное действие.
За прошедшие десять лет группа итальянских нейропсихологов во главе с Джакомо Ризолатти дала описание нейрофизиологических механизмов мозга, которые, как своеобразные «аппаратные средства», обеспечивают ментальное моделирование действий других индивидов[233].
Я полагаю, что эти механизмы, известные как система зеркальных нейронов, играют существенную роль в порождении наших моральных суждений и могут представлять главный отличительный признак существа Ролза. Интересно, что система зеркальных нейронов существует не только у человека, но и у животных. Кроме того, нельзя считать функции этой системы только морально релевантными и узкоспецифичными в этом отношении. Тем не менее она может обеспечить необходимый первый шаг в пробуждении моральных эмоций и, таким образом, предлагает «канал» связи между созданиями Ролза и Юма.
Зеркальные нейроны впервые были обнаружены у обезьян в передних отделах мозга, в премоторной области коры. Факты, полученные при регистрации активности нейронов, впоследствии подтвердились в исследованиях человека, проведенных с помощью уже упоминавшегося метода визуализации. Кроме того, были получены предварительные данные о нарушении функций этой системы у больных аутизмом. Основной результат интерпретируется однозначно и ошеломляет в прямом смысле слова.
Нейроны в премоторной коре обезьяны обнаруживают одинаковый уровень активности в тех случаях, когда животное достает предмет и когда оно просто наблюдает, как кто-то другой достает этот предмет. То же самое происходит, когда животное только слышит звук, связанный с действием, или само выполняет это действие. Например, если макака разламывает орех арахиса, нейроны, которые являются активными в течение этого действия, столь же активны и в том случае, когда животное только слышит звук, сопровождающий разламывание ореха. В зависимости от особенностей действий, которые выполняются или служат предметом наблюдения, активируются разные нейроны. Например, некоторые нейроны активны, когда нужно схватить что-то большим и указательным пальцами, а другие активируются, когда нужно поднять что-то всей рукой.
Аналогичные результаты получены и у людей, хотя местоположение системы зеркальных нейронов у них не такое, как у обезьян. Человека от обезьяны также отличает способность этой системы охватить больший диапазон действий. Например, если система обезьяны активируется только тогда, когда цель или объект присутствуют, то система человека начинает работать, когда он только воображает действие с предметами или подражает другому, выполняющему действие с воображаемым объектом. Дальнейшие исследования в этом направлении свидетельствуют, что часть этой системы включается, когда мы непосредственно испытываем чувство отвращения при восприятии какого-то события или наблюдаем за тем, кто также испытывает отвращение. Сходные результаты были получены при изучении переживания боли и сострадания к другим, испытывающим боль. Система зеркальных нейронов является, следовательно, важным инструментом для воспроизведения эмоций и мыслей другого человека. Эта система обеспечивает нам возможность, образно говоря, влезть в «шкуру другого», чтобы почувствовать, на что это похоже — быть другим человеком.
Из вышесказанного следует, что функции системы зеркальных нейронов не имеют исключительного отношения к нашей моральной способности. Однако операции, которые выполняет система зеркальных нейронов, существенны для обеспечения нашей моральной способности, но только в качестве участника «команды поддержки». В отсутствие этой системы возможности ролзианца были бы заметно ослаблены. То же самое можно сказать и о состоянии создания Юма, учитывая его роль в понимании эмоций. Если мы принимаем универсальность принципов Канта, оценки наших действий как морально допустимых, обязательных или запрещенных должны точно отражать эквивалентные суждения других. Если для меня допустимо нарушить обещание, это должно быть допустимо и для других. Если я полагаю, что запрещено причинять вред человеку, чтобы спасти многих других от большей беды, то и другим запрещено выполнять это действие. Если я считаю, что взаимный обмен обязателен в данных условиях, то и другие также должны думать, что он обязателен. Возникает вопрос, сможем ли мы управлять этими операциями без системы зеркальных нейронов и их детерминирующих возможностей? Для ответа надо найти пациентов с повреждением этой мозговой системы или использовать преимущество новой технологии транскраниальной магнитной стимуляции — устройства, с помощью которого можно стимулировать активность отдельных областей головного мозга.
Прагматики с поврежденным мозгом
Если ребенок много раз повторяет одну и ту же ошибку, мы приписываем эту ошибку его возрасту, недостатку знания, неумению применять правила и, наконец, неспособности оценить, что является нравственно правильным. Нередко ошибки ребенка — это только наша ответственность, поскольку задача взрослых — помочь детям в таких возрастных трудностях, объясняя, что пошло не так, как надо, и, если возможно, почему. Если мы хорошие учителя, а ребенок способен развиваться, он будет получать удовольствие от концептуальных изменений. Его ошибки уйдут в прошлое, поскольку он будет способен справляться со своими задачами. Ребенок поймет, что если он проявит волю, то сможет добиться желаемого.
Когда взрослый снова и снова повторяет одну и ту же ошибку, мы ищем различные объяснения. Хотя мы больше не можем объяснить проблему ссылками на возраст, нельзя исключить, что и дети, и взрослые могут иметь повышенную склонность к повторению ошибок, потому что и у тех, и у других имеется сбой в работе релевантных психологических механизмов. Рассмотрим три примера.
• Всякий раз, когда г. X выходит из комнаты, он проходит через дверь, оборачивается и возвращается назад, в комнату. Он повторяет этот цикл тринадцать раз — не больше, не меньше. • Всякий раз, когда г. Y говорит с кем-то, он употребляет ругательства, вычитанные им в книгах, как прикрытие для собственных ненормативных замечаний. • Всякий раз, когда г. Z принимает решение, он не учитывает будущих последствий, недальновидно ограничиваясь немедленным выигрышем.Все три человека, кажется, имеют общую проблему, по крайней мере на первый взгляд. Они испытывают недостаток в надлежащем тормозном контроле. Г. X не может запретить себе повторение входа-выхода. Г. Y не может запретить себе социально нежелательные комментарии, а г. Z не может отказать себе в искушении получить немедленную награду. Все три случая реальные, а не гипотетические и представляют поведенческий результат повреждения лобных долей мозга. Некоторые читатели могут даже узнать г. Y, поскольку это литературный псевдоним известного Финиса Гейджа, железнодорожного рабочего, который в 1848 году получил уникальную травму. Железный прут почти четырех футов длиной и весом около тринадцати фунтов прошел насквозь через лобные доли его мозга. Почти сразу после полученной травмы Гейдж поднялся. Он был несколько возбужден, тем не менее начал вполне разумный разговор с членами своей бригады, а также с присутствовавшим доктором. Вскоре после травмы, однако, начались изменения. Одно из главных заключалось в том, что Гейдж в значительной степени утратил моральную чувствительность. Ее снижение выражалось в оскорблениях и непочтительности в адрес близких ему людей. Испытывая недостаток самообладания, Гейдж оставил свой город, в разных местах перебивался случайной работой. В конечном счете в 1860 году он умер от эпилептических приступов и ухудшения здоровья в целом. Не является ли история Финиса Гейджа доказательством того, что создание Юма занимает ведущую позицию?[234]
Как уже говорилось, маленьким детям трудно справиться с проблемой отсроченного вознаграждения, поскольку они предпочитают взять меньшую награду немедленно, а не дожидаться большей награды. Уолтер Мишель предположил, что дети постепенно учатся преодолевать начальную склонность к меньшему непосредственному вознаграждению. Это становится возможным, когда дети оказываются в состоянии объединить отстраненное, рациональное принятие решения и горячие, страстные эмоции и побуждения. Пациенты с повреждением лобных долей[235]напоминают детей до момента интеграции «горячей» и «холодной» систем. Мало того что они не в состоянии объединить свои эмоции и рациональное обсуждение, они, кажется, действуют, вообще не регулируя свои аффекты. Финис Гейдж — всего лишь один из наиболее иллюстративных случаев[236].
Анализ других случаев, охватывающих больных, которые получили повреждение как в раннем детстве, так и позднее, позволяет прийти к такому же заключению. Необходимость придерживаться социальных норм требует контроля над эмоциями, а такой контроль возможен только при сохранении связи между лобными долями (особенно вентромедиальной и орбитофронтальной областями) и лимбической системой, в первую очередь миндалиной, которая играет главную роль в выражении эмоций. Вопрос, к которому мы должны обратиться, состоит в следующем: как влияет такое повреждение мозга на нашу моральную способность? Носит ли его действие выборочный характер, при котором страдают отдельные стороны моральной способности, или его мишенью становится вся моральная способность? И соответственно, кто из наших трех персонажей — создание Канта, Юма или Ролза — переносит повреждение хуже всего?
Невролог Антонио Дамасио и его коллеги разработали простую задачу, позволяющую выявить нарушения в принятии решения и, что важно, отличить его признаки от признаков других нарушений в работе мозга[237].
Экспериментатор предоставляет каждому испытуемому начальную сумму денег и четыре доски с картами, причем все карты лежат рубашкой вверх. Переворачивая карты лицом к себе, испытуемые могут или потерять, или получить деньги. Игра на первых двух досках обеспечивает чистую прибыль, но для этого требуется длительное время. А игра на двух других досках всегда ведет к проигрышу. С целью усилить конфликт две выигрышные доски предполагают меньшие награды и наказания, таким образом, создается сильное искушение перейти на две другие доски и попытаться получить большую награду. В то время как испытуемые выбирают карты, экспериментатор регистрирует их эмоциональное напряжение, используя показатели потоотделения кожи. После выбора приблизительно пятидесяти карт появляются различия в предпочтениях здоровых взрослых и пациентов с повреждением в вентромедиальной части префронтальной области. Здоровые испытуемые выбирают карты с двух выигрышных досок и фактически игнорируют непродуктивные доски. Пациенты же упорно выбирают именно эти, непродуктивные, доски. Их привлекает высокое вознаграждение, обещанное за игру на них. И они продолжают выбирать карты на этих досках, не чувствуя неадекватности своей стратегии, не думая о том, что в будущем она неизбежно приведет их к потерям. Между здоровыми и больными испытуемыми есть также отчетливые различия по показателям реакций их кожи в ответ на каждый выбор карты. В то время как здоровые испытуемые в течение игры демонстрируют высоковариативную динамику потоотделения, с пиками, соответствующими выборам с проигрышных досок, аналогичные реакции пациентов оказываются очень вялыми. Возникает впечатление, как будто их «измеритель потоотделения» прекратил работать. Профили кожного сопротивления у них выглядят плоскими, не обнаруживая различий, связанных с выбором доски. По ходу игры у здоровых индивидуумов, перед тем как они сделают выбор карты с непродуктивной доски, наблюдается динамичное увеличение показателей их кожных реакций. Интересно, что это увеличение происходит до того, как испытуемые осознают, что выбор с этой доски ничего не даст.
Когда все работает должным образом, наши эмоции функционируют как «генератор» догадки, подстегивающий неосознаваемые ожидания, которые направляют долгосрочные решения. У пациентов с повреждением вентромедиального отдела префронтальной области не возникает никаких догадок, и, таким образом, их решения весьма близоруки. Эти пациенты подобны маленьким детям, которых манит немедленная награда. Если лобные доли не контролируют активность миндалины, то человек подпадает под влияние сиюминутного соблазна. Его поведение не соответствует будущим реалиям.
Основываясь на этих результатах, Дамасио сделал вывод: наше решение предпринять одно действие в противовес другому базируется на сложном взаимодействии процессов, протекающих в префронтальной коре, с одной стороны, и во внутренних системах организма, включая изменения в сердечном ритме, дыхании, температуре, тонусе мышц и особенно в наших чувствах, — с другой. Повторяющиеся время от времени столкновения с конкретными объектами и событиями вызывают изменения в соматосенсорных областях мозга, которые функционируют подобно «дорожным картам», организуя и направляя физическое Действие.
Представьте человека, который был несколько раз ужален осой. Укус вызывал болезненные ощущения. В мозге остаются «следы памяти», фиксирующие связь между видом осы или ее жужжанием и физиологическим изменением, возникшим после укуса. Впоследствии одного вида осы или ее жужжания будет достаточно, чтобы вызвать у человека ощущение, будто его опять укусила оса. Этих негативных ощущений вполне достаточно, чтобы человек постарался избежать нового укуса осы. Таким образом, телесные ощущения могут вызвать изменения действий, причем как явные (доступные для наблюдения), так и скрытые. Все это происходит в тот момент, когда человек осознанно стремится уйти от встречи с осой.
Один из наиболее интересных результатов Дамасио состоит в том, что пациенты с повреждением лобных долей не обнаруживают снижения способностей к решению проблем или общего снижения интеллекта. Проблема этих больных скорее в недостатке осмотрительности, как доказано их поразительной неспособностью принимать во внимание будущие последствия. Необходимость постоянно действовать в мире, будь то саванны нашего прошлого или современные города, требует от человека способности думать о последствиях своих действий, о том, как они влияют на него и на других людей. Принятие таких решений часто предусматривает ожидание: мы сейчас отклоняем выигрыш ради более выгодных возможностей, которые появятся потом, прояви мы терпение. Как подчеркивают специалисты в области политологии и экономики Джон Элстер и Джордж Эйнсли, бесчисленные проблемы искушения и контроля связаны с нашими «кривыми обесценивания», нашей склонностью воспринимать немедленное вознаграждение как более ценное, более соблазнительное[238].
Работа Дамасио поставила под сомнение теоретические основания этой сложной проблемы. По его представлениям, при нарушении функций лобных долей полушарий неадекватное решение, вероятно, будет следовать из-за общей неспособности предвидеть последствия. Судя по всему, таким больным не хватает «обратной связи», которой большинство из нас эффективно пользуются, когда мы совершаем разные поступки — выгодные или вредные для себя либо для других. По этой причине больные делают личностные и социальные ошибки и не в состоянии их исправить. Для них ни положительные, ни отрицательные действия не имеют никаких последствий, потому что такие больные не в состоянии вносить их результаты в соответствующие «ведомости учета» вычислительной системы разума. Причина этой несостоятельности вовсе не отсутствие информации. Пациенты знают, в чем различие между наградой и наказанием. Но, в отличие от здоровых людей, этих пациентов легко соблазнить видом, звуком или запахом скорой награды, и они действуют импульсивно. Делая выбор, они не учитывают его будущих последствий. Эмоциональный «дирижер», ведомый доминирующей у таких больных миндалиной, имеет полный контроль. Иррациональное, импульсивное действие становится единственным выбором. Эта патологическая особенность помогает объяснить, почему Финис Гейдж — образцовый гражданин превратился в Финиса Гейджа — морального отщепенца. В отсутствие надлежащей эмоциональной регуляции формирование адекватного морального поведения становится маловероятным. Однако, когда Дамасио и его коллеги проверили способность этих взрослых пациентов решать моральные дилеммы, разработанные Колбергом, те показали результаты, соответствующие норме. Иными словами, они различали нравственно допустимые и запрещенные действия и объясняли их, как и полагается нормальному взрослому человеку. В итоге Дамасио и другие утверждают, что эти пациенты, по-видимому, имеют сохранное моральное знание[239].
Что же нарушено? У этих пациентов нарушена система, которая позволяет эмоциям взаимодействовать с моральным знанием и сопровождать действие. Хотя Дамасио и не пишет об этом прямо, но создается впечатление, что эти пациенты имеют адекватную моральную компетентность, но действуют без учета моральных правил. У них не работают системы, которые в норме управляют тем, как мы используем наше моральное знание.
Все данные, описанные к настоящему моменту, были отмечены у пациентов, которые получили повреждение мозга будучи уже взрослыми. Хотя эти испытуемые, как правило, ведут себя иррационально, частично благодаря недостатку эмоциональной обратной связи, результаты этих исследований поднимают несколько крайне важных вопросов. Например, если повреждение мозга произошло в раннем детстве, будет ли результирующий дефект поведения таким же, как у пациентов, получивших травму мозга во взрослом возрасте, или другим? А может быть, нарушений поведения не будет вообще, благодаря пластичности незрелого мозга и его способности к реорганизации? Является ли очевидный моральный дефект признаком исключительно одной проблемы исполнения или здесь еще вмешивается проблема сопровождающей моральной компетентности? Говоря иначе, пациенты отличаются только нелепым поведением или, помимо этого, выдвигают странные суждения, потому что их моральное знание также искажено? Дамасио и его сотрудники к настоящему времени собрали новую группу испытуемых, у которых повреждение лобных долей имело место в раннем возрасте[240].
Во многих случаях, когда повреждение коры мозга возникает в раннем возрасте, мозг подвергается удивительному процессу реорганизации. Повреждение может быть очень большим, например когда удаляют целое полушарие в целях предотвращения припадков эпилепсии. Если удалено левое полушарие возникает паралич правой половины тела и потеря речи. Однако вскоре после этого многие маленькие пациенты восстанавливают контроль как над всем телом, так и над речью. Восстановлению способствует специальная реабилитация.
В отличие от вышесказанного, у маленьких пациентов Дамасио не было обнаружено никаких доказательств восстановления, что само по себе ставит серьезный вопрос: почему одни области коры восстанавливаются, а другие нет? В двух установленных самых ранних случаях, в конце первого года жизни, пациенты подверглись операции удаления части лобных долей головного мозга. Будучи взрослыми, оба неоднократно получали наказание за мелкие преступления. Повтор преступлений говорит или о неспособности извлекать опыт из ошибок, или о склонности к игнорированию социальных норм. Когда этим пациентам было предложено решить моральные дилеммы Колберга, их ответы оказались совершенно неправильными, а оценки не вышли за пределы диапазона оценок маленьких детей. [241]
Обсуждая подход Колберга к изучению психологии морали, я отмечал особенности его теоретической позиции. Он предполагал, что признак моральной зрелости — способность обосновать, опираясь на кантианские принципы, почему одни действия допустимы, а другие запрещены. Однако к настоящему времени накоплено немало фактов, которые указывают, что это только один аспект психологии морали. При этом без объяснения остается тот факт, что при обсуждении широкого диапазона моральных дилемм мы принимаем быстрые суждения без соответствующих оправданий. Если эмоции вовлечены в обеспечение этого аспекта нашей психологии морали и отвечают за причины наших моральных вердиктов, то в суждениях пациентов с повреждениями лобных долей должны проявиться искажения. Чтобы исследовать эту проблему, мы объединились с Дамасио и его коллегами.
Используя всю палитру моральных дилемм, мы проверили его хорошо изученных «лобных» пациентов: тех, у кого были повреждены лобные доли в младенчестве, а также тех, у кого аналогичное повреждение было получено во взрослой жизни. Нас особенно интересовали различия между уже известными персонажами — созданиями Юма и Ролза. Если при решении моральных проблем доминирует юманианское существо, а это значит, что человек формулирует свои интуитивные моральные суждения только в результате эмоциональных озарений, тогда пациенты с повреждением лобных долей должны давать ответы, отличные от ответов здоровых людей. Юманианское существо нуждается в эмоциях, чтобы принимать моральные решения. Для ролзианских существ эмоции не столь обязательны, поскольку они обращают внимание на причины и последствия конкретных Действий.
Пациенты с лобным синдромом , прочитав сюжеты дилемм, связанных с трамвайным вагоном, показали своеобразные результаты. Так, их оценки поведения Дениз практически не отличались от оценок здоровых людей. Однако их комментарии дилемм, описывающих ситуации Фрэнка, Неда и Оскара, не соответствовали норме. Почти все пациенты сочли допустимым возможное действие свидетеля Дениз. Для того чтобы спасти пятерых пешеходов, идущих по пути следования вагона, она должна переключить тумблер, направив вагон на другой путь, но при этом погибал один человек, оказавшийся на этом пути. В отличие от здоровых людей, большинство пациентов с лобным синдромом утверждали, что возможное действие Фрэнка морально допустимо. Для того чтобы остановить движение вагона и спасти пешеходов, Фрэнк должен столкнуть большого тяжелого мужчину на рельсы перед вагоном. Убивая его, он спасал жизни пятерых. Ситуации Неда и Оскара содержат две дилеммы, которые нормальные люди имеют тенденцию различать, основываясь на оценке вредоносных действий. Суть различий в том, являются ли они преднамеренными или только предвидимыми. Пациенты не чувствуют этих различий.
В то же время, когда они читают данное философом Питером Унгером описание случаев альтруизма, они реагируют как подавляющее большинство здоровых испытуемых. (Эти случаи: первый — с раненым ребенком на краю дороги — противопоставляется второму — отказу сделать благотворительный взнос в пользу ЮНИСЕФ — подробно разбираются в главе 1.) Больные утверждают, вы не можете уехать, оставив травмированного ребенка на дороге, но спокойно можете выбросить открытку ЮНИСЕФ с просьбой о денежном пожертвовании. Кроме того, больные, подобно здоровым испытуемым, обсуждали пример с председателем правления, описанный в главе 1. Они приписывают ответственность и вину председателю правления, который поддерживает широкомасштабную прибыльную деятельность, наносящую вред окружающей среде. Однако они не считают его ответственным, когда такая деятельность заканчивается развертыванием мероприятий, помогающих окружающей среде. И последнее, пациенты с лобным синдромом, более вероятно, чем здоровые испытуемые, выкажут симпатию и великодушие по отношению к бездомным. Например, они с большей вероятностью скажут, что человек, возвращающийся домой холодным вечером и оказавшийся в одном квартале от дома, должен отдать свое зимнее пальто бездомному, т. е. совершить действие, которое спасет бездомного человека от возможной гибели в результате замерзания.
Эти наблюдения свидетельствуют о существовании тонких нюансов в поведении пациентов с поражением лобных долей. В некоторых случаях эти пациенты рассуждают здраво, обращая внимание на релевантные причины и последствия действий субъекта. В других случаях они, кажется, сосредоточиваются больше на последствиях, независимо от средств. Если последствия хороши, действие допустимо. Хотя эти результаты подчеркивают важную роль создания Юма, предполагая, что в отсутствие существенного эмоционального вклада мы склоняемся в сторону прагматизма, тем не менее остается еще немало вопросов. Если информационный канал, связывающий миндалину с лобными долями, необходим для того, чтобы формировать моральные суждения о полном наборе ситуаций, то пациенты должны были бы во всех случаях давать суждения, искаженные по сравнению с общепринятыми. Они этого не делали. Отсюда можно заключить: повреждение этой области мозга ведет к неправильным ответам на дилеммы, связанные с особенно сильными деонтологическими различиями. С другой стороны, возможно, несправедливо считать эти ответы неправильными. Освобожденные от двусмысленностей, с которыми большинство из нас сталкивается, когда мы рассматриваем последствия чьего-то действия, пациенты видят моральные дилеммы с ясностью подлинного прагматика! Этим пациентам не хватает эмоциональной проверки и сбалансированности действий. Кроме того, они испытывают недостаток релевантной компетентности, когда возникает необходимость в простой оценке моральной допустимости акта.
Убийство без вины
Когда Энтони Берджесс послал рукопись «Заводного апельсина» в США, его нью-йоркский редактор сказал, что издаст книгу, но только если Берджесс снимет последнюю, двадцать первую главу. Берджесс нуждался в деньгах и поэтому согласился с предложением редактора. В других странах книга была издана полностью, включая двадцать первую главу. Затем известный кинорежиссер Стэнли Кубрик сделал экранизацию книги, и фильм был провозглашен кинематографическим шедевром. Однако Кубрик использовал усеченное, американское издание романа.
Узнав об изъятии последней главы «Заводного апельсина», я сразу предположил, что последняя глава должна быть невероятно жестокой, продолжающей разрушительный и бурный протест главного героя против моральных норм. Я оказался не прав. Берджесс так охарактеризовал свою позицию в предисловии к обновленному американскому изданию романа: «Кратко говоря, мой молодой агрессивный герой растет. Ему становится скучно от насилия, и он признает, что человеческая энергия должна быть направлена преимущественно на созидание, а не на разрушение. Бессмысленное насилие — прерогатива молодежи, у которой много энергии, но немного таланта к конструктивному творчеству». Такое преображение героя не является ни глупым, ни патетическим, скорее это надлежащее окончание большого романа. Как едко подметил Берджесс, «когда литературный труд не в состоянии показать изменение характера, это просто указывает, что человеческий характер представлен застывшим, не способным к преображению, тогда вы как автор оказываетесь вне сферы романа, а ваш труд — это басня или аллегория. Американский печатный вариант, как и фильм Кубрика, это аллегория; британский вариант, как и изданный в других странах, это роман».
Когда речь идет о насилии, на кого больше похожи действующие лица — на героев романа или аллегории? Этот вопрос связан с основной темой данной главы: строение морального органа, особенности его развития и последствия его разрушения. Я проанализирую, как специфический нейропатологический дефицит позволяет обнаружить мозговые центры, ответственные за агрессию и, следовательно, имеющие косвенное отношение к регуляции моральных аспектов поведения. Очевидно, что никто не учит детей сердиться или быть агрессивными. Эти состояния просто иногда возникают, в ряде ситуаций. Гнев и агрессия —мощные регуляторы поведения, имеющиеся у всех животных и полученные нами от наших предков[242].
Они являются частью нашего биологического «наследства», компонентом врожденного «репертуара» поведения. Они представляют один из инструментов адаптации, играя ключевую роль в соперничестве как внутри своей группы, так и между группами.
Все культуры в той или иной степени агрессивны. В пределах большинства культур мужчины более агрессивны, чем женщины. Половые различия проявляются довольно рано. Маленькие мальчики в среднем в процессе игры ведут себя более грубо, чем маленькие девочки, несмотря на то что девочки в одной культуре могут быть более агрессивными, чем мальчики в другой. В культурах, где популярны рекорды скорости, мужчины ответственны за значительно большее число смертных случаев из-за своего агрессивного вождения. Культура может снизить агрессию или увеличить ее, но половые различия остаются, указывая на биологическую обусловленность их оснований.
В жизни любого человека может возникнуть момент, когда он ощутит потребность причинить кому-то вред или даже убить кого-то. Появление таких мыслей пугает, отчасти потому что мы можем во всех красках вообразить этот безнравственный акт. Для мужчин отмечена тенденция иметь больше фантазий, связанных с убийством, чем возникает таких фантазий у женщин. К счастью, большинство из нас никогда не поддается подобным искушениям. Мы подавляем гнев, контролируя агрессию. Психопаты на это неспособны.
В популярном комиксе «Кэлвин и Хобс» Кэлвин кричит своим родителям: «Почему сейчас я должен ложиться спать? Мне никогда не позволяют делать то, что я хочу! Если из-за этого я вырасту каким-нибудь психопатом, вы будете сожалеть!» «Никто еще не стал психопатом от того, что должен был лечь спать в положенное время», — отвечает ему отец. «Да, — парирует Кэлвин. — Но вы также не разрешаете мне жевать табак! Никогда не знаешь, что подтолкнет тебя к краю!» Кэлвин, скорее всего, не психопат. Хотя он может проявлять вспышки ярости типа описанной, но он не имеет диагноза психопатии. Для клиницистов, которые работают с психопатами, принципиально важно поставить правильный диагноз. Их диагноз попадает в судебную документацию, в файлы адвокатов, которые должны решить, совершено насильственное действие человеком в здравом уме или безумным преступником. На первый взгляд психопаты производят впечатление нормальных людей. В этом состоит их успокаивающая сила[243].
Поиск слова «агрессия» в Руководстве DSM-IV открывает описание нескольких вариантов психических расстройств. Наряду с психопатией, существует целое семейство диагнозов, известных как антисоциальные личностные нарушения. Психопаты и индивидуумы с диагнозом антисоциальных личностных нарушений часто обнаруживают признаки немотивированной агрессии и преступного поведения. Однако, если у преступников, как правило, наблюдаются признаки этого расстройства, для многих психопатов оно не характерно. Большинство преступников не психопаты. Отличительная особенность психопата — незамутненное мышление, часто с здравым, холодным и рациональным оправданием своего поведения. Из оправданий становится понятной их главная черта — это беспрецедентный эгоцентризм, поддерживаемый недостатком сочувствия, который большинство из нас находит странным и пугающим. Психопату чуждо понятие вины. Без этого чувства разрушается эмоциональная привязанность. Присутствие потенциальной жертвы столь же соблазняет психопата, как спиртосодержащий напиток — алкоголика, игровой автомат — человека, страдающего от игромании, или кусочек шоколада — маленького ребенка.
Только в одной Северной Америке приблизительно два миллиона психопатов, и большинство из них — мужчины. Джон Гэки и Тэд Банди всего лишь двое из многих, кто привлек наше внимание благодаря средствам массовой информации. В определенном смысле они оба представляют экстраординарное явление. Оба, казалось, были обычными гражданами и обаятельными личностями. Гэки, например, занимался вопросами торговых поставок, Молодежной торговой палатой был признан «Человеком года», кроме того, он часто выступал перед детьми в роли клоуна. Гэки убил тридцать двух мужчин и похоронил их под своим домом. Банди, мужчина с таким же впечатляющим резюме, убил несколько дюжин женщин; он утверждал, что порнография вынудила его к этому: нечто, подобное раку, разъедает его мозг.
Не все серийные убийцы — психопаты. Эдвард Гейн не только убивал и калечил свои жертвы, он иногда готовил еду и делал домашнюю утварь из частей их тел. Ему поставили диагноз хронической шизофрении и поместили в больницу для психически ненормальных преступников. Серийных убийц с диагнозом «психопатия» труднее всего защищать в суде, потому что они кажутся нормальными людьми. В отличие от тех, кто обнаруживает сильную умственную отсталость и кому не хватает понимания либо причин, либо следствий своих действий, психопаты полностью отдают отчет в собственных действиях. Психолог Роберт Хэйр в «Списке психопатических черт» определяет набор эмоциональных и социальных симптомов этого расстройства. В этот список включены следующие определения: бойкий, поверхностный, эгоцентричный, претенциозный, импульсивный, безответственный, лживый, склонный к манипуляциям, бессовестный[244].
В основе всех этих симптомов лежит более фундаментальный дефицит — нарушение способности, которая большинству нормальных людей обеспечивает соразмерное восприятие другого человека. Как считают многие клиницисты, у психопатов нет этого соразмерного ощущения, потому что они испытывают недостаток способности к эмпатии. Большинство из нас намеренно не раздавят муравья или бабочку, не станут пинать кота и не ударят ребенка. Причина в том, что мы имеем определенное чувство, которое позволяет нам понять, на что это похоже — быть другим живым существом. Мы можем представить себе, каково это — оказаться на его месте. Эмпатия, или сочувствие, — фундаментальное связующее звено в нашем этическом поведении. Это звено отсутствует в сознании психопата. Доказательство того, что оно отсутствовало всегда, поступает из исследований, выполненных продольным (лонгитюдным) методом. В этих исследованиях прослеживались этапы развития отдельных психопатов, начиная с их раннего детства. По данным клиницистов, психопаты на протяжении всего прослеживаемого периода отличались повышенной агрессивностью. Будучи детьми, они нередко набрасывались на своих или на соседских домашних животных. Описания возрастных особенностей психопатов дают основание предполагать, что, по крайней мере, некоторые индивидуумы имеют врожденную склонность к этому расстройству. Однако, как указывает герой комикса Кэлвин, некоторые жизненные ситуации могут обеспечить больше провоцирующих стимулов, подталкивая индивидуумов или с одной, или с другой стороны к психопатическому срыву.
Несколько исследований также подтверждают, что психопаты не в состоянии различить моральные и социальные нарушения. Моральные нарушения возникают, когда действия индивидуума непосредственно ущемляют права и благосостояние других людей. Кража денег из шляпы, куда собирает милостыню слепец, нарушает его право сохранить то, что он заработал. Ударить плачущего ребенка — значит совершить насилие над ребенком, нарушающее его благополучие. Социальные нарушения, напротив, возникают, когда действия индивидуума не соответствуют типичным или нормативным вариантам поведения, которые диктуются социальными правилами. Это может быть, например, отказ ходить на работу в галстуке или разговор на уроке в классе. Психопаты не в состоянии принять во внимание благополучие жертвы и имеют тенденцию рассматривать моральные и социальные нарушения как одно и то же. В результате они часто заявляют, что допустимо нарушать права и благополучие жертвы, пока лица, наделенные властными полномочиями, не реагируют. Они утверждают, например, что допустимо для одного ребенка оттолкнуть другого, чтобы забраться на качели — при условии, если учитель говорит, что все в порядке. Вспомните, что даже маленькие дети понимают эти различия.
Когнитивный невролог Джеймс Блэр предлагает более определенный диагноз. Он считает, что все дефекты психопата можно свести в одну проблему, а именно: неспособность опознавать признаки подчинения. Следовательно, им не хватает достаточного контроля над агрессией[245].
Здоровые взрослые люди имеют механизм, который контролирует агрессию. Этот механизм действует на основе опознания признаков, связанных с переживанием бедствия; таких, например, как печальное выражение лица или звуки, свидетельствующие об испуге, страхе, насилии. Как только такие признаки опознаны, включается мозговая система, которая оценивает состояние другого существа. Выводы этой системы используются для того, чтобы в дальнейшем координировать действие с эмоциями (особенно сочувствием и симпатией), которые выполняют регулирующую и направляющую функцию. У психопатов эта контролирующая система повреждена. В результате недостаток регулирующего влияния эмоций приводит к стиранию границ между моральными и мелкими социальными нарушениями. В конечном счете это способствует возникновению у психопатов ощущения вседозволенности. У обычного человека признаки чужого бедствия, наряду с состраданием, нередко вызывают отчуждение и даже отвращение. Эти чувства могут служить дополнительным основанием, чтобы затормозить агрессивную установку.
Что дает изучение мозга для понимания механизмов этих эмоциональных влияний и их нарушений при психопатии? В одном из последних исследований, которое было проведено когнитивным неврологом Танией Сингер с использованием метода визуализации мозга, участвовали гетеросексуальные пары с подтвержденными взаимными романтическими чувствами. Цель исследования — установить области мозга, обеспечивающие сопереживание. Каждому испытуемому прикрепляли электроды, через которые затем наносили удар электрическим током двух интенсивностей — либо умеренный, либо достаточно сильный. Для изучения мозговой активности женщину помещали в сканирующий аппарат. Сканирование ее мозга проводили в двух условиях: когда она сама подвергалась ударам электрическим током и когда мужчина подвергался такому же воздействию, причем женщина могла видеть только руку мужчины и лампочки индикатора, указывающие, какого рода он получал удар — умеренный или относительно сильный. При этом экспериментатор регистрировал изображения мозговой активности женщины. Когда женщина сама получала удары электрического тока, показания сканера позволили выделить три критические области мозговой активации: область, отвечающую за физическое переживание боли в руке, получившей воздействие (соматосенсорная кора); область, вовлеченную в регулирование эмоции (передняя часть островка — insula), и область, вовлеченную в разрешение конфликта (передняя цингулярная кора). Последние две структуры — островок и передняя цингулярная кора — входят также в состав системы зеркальных нейронов, упоминавшейся ранее. Когда женщина наблюдала за тем, как наносились удары током ее мужу, у нее активировались те же зоны, но если (в порядке опыта) экспериментатор быстро убирал из поля зрения женщины руку ее мужа, соматосенсорные зоны коры переставали реагировать, в то время как передняя часть островка и передняя цингулярная кора были активны. Активация в этих двух областях была выражена наиболее сильно у женщин, которые отличались более высокой степенью сопереживания — зеркальным отражением эмоций.
Если мозг здорового человека обнаруживает отчетливые признаки активации при переживании сочувствия, что можно сказать в том же аспекте относительно мозга психопата?[246]
При условии, что предполагаемый дефект связан с нарушением эмоциональной обработки, можно было бы ожидать, что повреждена мозговая система, которая обеспечивает эмоции и пути, соединяющие эмоциональные центры мозга с центрами, ответственными за принятие решения и действие. Хотя между экспертами в этой области все еще существует немало разногласий относительно фактических психологических и анатомических дефектов, связанных с психопатией, по ряду вопросов имеются согласованные позиции.
В отличие от нормальных испытуемых, психопаты обнаруживают сниженную активацию областей мозга, вовлеченных в обеспечение внимания и эмоциональную обработку. При выполнении задач, отличающихся разнообразием, они часто показывают низкий результат, видимо потому, что с готовностью отвлекаются или им не хватает регуляторного участия эмоций. Адриан Рэйн, психолог, который долго изучал особенности функционирования мозга убийц, сообщает, что есть различия в размере гиппокампа между эффективными и неэффективными психопатами. Эффективный в данном контексте означает «совершивший фактическое убийство жертвы»; неэффективные психопаты были арестованы перед убийством жертвы. Исследования, выполненные с участием животных и людей, предоставляют достаточно доказательств того, что гиппокамп играет центральную роль в регулировании агрессии. В более ранних работах было показано, что индивидуумы с разными диагнозами, включавшими аномальное агрессивное поведение, имели асимметрию в размере гиппокампа: правый больше, чем левый. Исследования Рэйна показывают, что неэффективные психопаты отличались увеличенной правосторонней частью гиппокампа по сравнению с гиппокампом эффективных психопатов и контрольной группой нормальных испытуемых. Имея в виду наличие тесной связи между гиппокампом и префронтальной корой, можно утверждать, что эти анатомические асимметрии указывают на необходимость координации между механизмами, обеспечивающими тормозные процессы, с одной стороны, и принятие решения — с другой. Неэффективные психопаты, по-видимому, недооценивают ситуацию и, таким образом, с большей вероятностью рискуют быть пойманными. Единственное возражение здесь состоит в том, что асимметрия гиппокампа не является признаком, специфическим только для психопатии. Это означает, что отсутствует необходимая причинная связь между анатомическими особенностями и психическим расстройством.
Если вернуться к нашим трем персонажам — моральным созданиям Канта, Юма и Ролза, — можно задаться вопросом, чем обусловлен психический дефект, характеризующий психопатов: их неспособностью к сознательным рассуждениям, эмоциональными нарушениями, искажениями в грамматике действия или некоторой комбинацией перечисленных факторов? Как уже говорилось, согласно наиболее принятому представлению, психопаты страдают от эмоционального дефицита. По этой причине у них стираются различия между социальными правилами и требованиями морали, отсюда — большая вероятность их морально недостойного поведения. Но есть две альтернативные интерпретации, об одной из них немного говорилось выше. Хотя психопаты имеют явный эмоциональный дефицит, их неспособность различать моральные и социальные соглашения может быть следствием невозможности связать эмоции с общими представлениями о характере действий, насколько правильными они являются. Социальные соглашения, как правило, не затрагивают эмоциональную сферу. В отличие от них, моральные соглашения — и особенно их нарушения — несут мощную эмоциональную нагрузку. Мы, безусловно, должны понять, почему возникла эта неравнозначность эмоционального вклада и как она развивается? Однако наблюдения недвусмысленно показывают, что психопаты, как правило, не способны к типичным ответным реакциям на стимулы, вызывающие у здоровых людей отвращение, будучи не в состоянии объединить этот вид эмоциональной информации с пониманием того, почему некоторые действия нравственно неправильны и чем они отличаются от просто плохого поведения.
Например, когда ребенок падает, разбивает себе колено и плачет — это крик о помощи, вызванный несчастьем. Случай плохой, но его, конечно, нельзя считать неправильным или наказуемым.
Факт, что люди способны связать разные виды социальных нарушений с различными эмоциями, предполагает тесный контакт между интуитивными принципами, лежащими в основе морального суждения, и нашими эмоциональными ответами. Это утверждение возвращает нас к созданиям Ролза и Юма. Главное различие между социальными соглашениями и моральными правилами — степень серьезности нарушения. Когда кто-то нарушает моральное правило, это воспринимается как весьма серьезный проступок. Нарушения в области повседневных социальных норм в большинстве случаев вызывают относительно сдержанную или эмоционально нейтральную реакцию. Например, в некоторых культурах, если человек во время еды ставит локти на стол, это воспринимается как признак плохого воспитания, но, конечно, не как действие, побуждающее к страстному протесту[247].
Сказанное предполагает, что моральные правила состоят из двух компонентов: предписывающей теории, или совокупности знаний о том, что следует делать, и скрепляющего эти знания блока эмоций. Недавняя теоретическая и эмпирическая работа философа Шона Николза посвящена анализу этих представлений, охватывая современные исследования и давая новую жизнь сентиментальным идеям Юма. Первостепенное значение автор придает анализу клинического материала, полученного при изучении психопатии, который он использует для обсуждения различных теорий, посвященных механизмам функционирования психики.
Николз подчеркивает, что одним только эмоциональным дефектом невозможно объяснить ущербность психопата, так же как трудно понять различия между нормами повседневной жизни и моральными правилами. В нашей повседневной жизни мы переживаем множество событий, которые вызывают отвращение или являются показателями бедствия, но по тем или иным причинам им невозможно дать моральную оценку. Как упоминалось выше, когда ребенок падает и разбивает колено, хотя это и несчастье, он не сделал ничего плохого. Когда мы видим жертву автомобильной аварии, мы, как правило, испытываем огорчение и беспокойство, но не обвиняем водителя, если только он не пьян. Наше сознание определяет падение ребенка и аварию, повлекшую жертвы, как события плохие, но не неправильные. Когда экспериментаторы представляют эти сюжеты детям, те никогда не заявляют, что ребенок или жертва аварии должны быть наказаны. Из этого следует, что нечто плохое или болезненное не всегда неправильно с точки зрения морали. Следовательно, в данном контексте отсутствуют психологические компоненты, которые включены в наше восприятие и оценку того, что является неправильным и наказуемым. Повседневные нарушения могут быть неправильными с точки зрения житейских норм, но мы — и молодые, и старые в равной степени — не думаем о них как о наказуемых действиях.
Представления Николза о двух описанных выше компонентах нашей моральной психологии (которые я рассматриваю как союз между созданиями Ролза и Юма) ведут к двум предположениям. Первое: испытуемые по-разному отреагируют на эмоционально окрашенное моральное утверждение о вреде и на эмоционально нейтральное утверждение. Второе: в ситуациях, где есть нарушение некоторой нормы, которое, однако, никому не причинило вреда, вмешательство эмоции приведет к переходу от обычного проступка к моральному нарушению. Имеется достаточно доказательств в поддержку первого предсказания, а Николз провел простой эксперимент, чтобы проверить второе.
Рассмотрим следующий случай. Вы присутствуете на изысканном званом обеде; один из гостей, Боб, громко кашляет и сплевывает в свой стакан с водой. Хорошо ли поступает Боб (можно ли плевать в свой стакан с водой) ? Если это плохо, то насколько плохо? Почему плохо? Было бы лучше, если бы Боб сплюнул в свой стакан, после того как хозяин дома сделал то же самое первым?
Испытуемые отвечали на эти вопросы, как будто они решали моральную дилемму о физическом вреде. Их ответы содержали моральную оценку и не рассматривали поступок Боба как нарушение житейских правил. Сплевывание слюны в стакан воды на званом обеде — серьезное нарушение, которое запрещается, даже если властная фигура типа хозяина дома пытается отвергать эти никем не заявленные правила. Кроме того, когда Николз оценил степень отвращения испытуемых, используя соответствующую шкалу, оказалось, что те, кто считает подобные события действительно отвратительными, с большей вероятностью будут воспринимать их как очень серьезные моральные нарушения. Напротив, те испытуемые, кто в целом меньше был склонен морщить нос от отвращения, восприняли сплевывание как результат простого соглашения, действия, которое является допустимым, если это признает лицо, наделенное полномочиями.
Эксперименты Николза демонстрируют три вещи. Первое: нельзя считать, что психопатический дефект является единственным результатом низкой способности тормозить агрессивные установки в адрес тех, кто в беде. Действия, вызывающие отвращение, далеко не всегда воспринимаются как нарушения правил, ведущие к тяжелым последствиям. Тем не менее такие действия рассматриваются как моральные нарушения, в отличие от обычных житейских проступков. Наша способность затормаживать тенденцию к насилию, без сомнения, играет роль в наших моральных суждениях, но не помогает нам понять различие между обычными проступками и событиями, имеющими моральный аспект.
Второе: то обстоятельство, что люди судят истории об отвратительных событиях более серьезно и независимо от авторитетов, свидетельствует, что включение эмоций может изменить толкование события, переведя его из ранга обычного проступка в ранг морального нарушения. Это важно. Если возвратиться к трем моделям, которые я ввел в главе 1, мы должны отметить следующее. Эти результаты предполагают, что, по крайней мере, некоторые из наших моральных суждений, возможно только те, которые касаются норм, связанных с нанесением вреда и отвращением, могут появиться как продукт наших эмоций. Юманианское существо вносит свой существенный вклад в наши интуитивные суждения о моральных нарушениях.
Третье: эмоции не могут взять на себя всю тяжесть принятия решения, когда необходимо провести границу между обычными проступками и моральными событиями. В жизни происходит немало вредных и отвратительных событий, которые не запрещены. Анализ моральных дилемм с трамвайным вагоном показывает, что часто вредоносное действие мы определяем как допустимое, если оно не является преднамеренным и если оно ведет к «большему хорошему». Точно так же действия типа неумышленной рвоты или диареи противны, но, конечно, не запрещены. Ролзианское существо, обладающее органом морального знания и действующее с учетом причин и последствий происходящего, может объяснить эти случаи.
В итоге простые эксперименты Николза представляют удачную иллюстрацию объединения оценки действия и эмоций в управлении нашими интуитивными представлениями об обычных проступках и ситуациях, имеющих моральный аспект. В этих специфических областях оба существа — и Ролза, и Юма — также имеют свою позицию. Сегодня, однако, у нас нет полного понимания эффективности влияния эмоций на наши моральные суждения, потому что все исследования сосредоточивались исключительно на одной эмоции отвращения. Возможно, что эта эмоция занимает уникальное положение в управлении нашими интуитивными моральными представлениями. Однако независимо от роли эмоции отвращения исследование Николза открывает интересную перспективу. Возможно, что нормы приобретают особую устойчивость, когда они привязаны к сильным эмоциям. Поддержка таких норм заставляет людей чувствовать себя хорошо, в то время как их нарушения вызывают у них тяжелые чувства вины, стыда или смущения.
Изучение психопатов как чрезвычайного примера патологии показывает, что люди обладают системами, которые управляют агрессией, и иногда эти системы выходят из строя. Необходимо отметить относительно скромный успех клиницистов, которые занимались реабилитацией психопатов, выпущенных из заключения. Будучи на свободе, психопаты совершают в четыре раза больше повторных преступлений по сравнению с вышедшими из заключения лицами, страдающими другими антисоциальными личностными расстройствами. Этот факт напоминает, что проблему контроля психопатии следует решать в раннем развитии человека, когда привычка к агрессии только начинает формироваться. Такое возможно, конечно, при условии, что психопатия является излечимым заболеванием и что поведенческие или фармакологические методы лечения могут снять те проявления болезни, которые уже изучены. Если же в происхождении психопатии существенную роль играют генетические факторы, то лечение может оказаться более сложной задачей, чем предполагается многими клиницистами. Как ни странно, несмотря на возможную наследственную обусловленность психопатии, моральная компетентность психопата нередко остается сохранной. Это обстоятельство может обеспечить самый многообещающий путь к восстановлению, позволяя клиницисту работать с нравственными основами личности больного, которые не отличаются от общечеловеческих.
Разрешенные инстинкты
Стремление понять людскую натуру, несправедливую или эгоистичную, тревожит меня теперь не больше, чем мысли о противных обезьянах, диких волках или стервятнике, жаждущем добычи.
Мольер[248]*
Зачатие ребенка — замечательный, волшебный опыт для всех родителей. Девять месяцев спустя этот опыт трансформируется в другой — рождение ребенка. А вот о том, какие неприятности сопровождают весь период беременности, мало кто задумывается: в процессе развития эмбрион присваивает себе ресурсы, которые мать может ему дать, и даже больше. Да, человеческий зародыш жаден, он не «играет в справедливость». И матери отдают все. Библия представляет морализирующее объяснение этому факту: «Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей...»
Эволюционная теория дает иное объяснение, которое содержательно более весомое, но как предписание бесцветно и лишено назидательности. Мысль, что родители и потомство конфликтуют между собой, не нова. Каждый родитель знает: заденьте подростка, получите конфликт. Но многие родители не знают, почему этот конфликт возникает. Их неведению частично способствует огромный поток книг по воспитанию, в которых просто и ясно описываются проблемные семьи, а затем дается готовый рецепт, предписывающий, как справиться с конфликтом. Другими словами, как сразиться с тем, что, возникнув и развиваясь, к моменту обсуждения являет собой совершившийся факт. Известный биолог Триверс представил новый подход к этой проблеме. Более тридцати лет назад он «сделал реверанс» в адрес природных основ отношений родителей и детей. Он считал конфликт неизбежным, поскольку одна сторона стремится взять больше своей справедливой доли, а другую соблазняет возможность дать меньше.
Биологические родители генетически связаны со своими детьми ровно наполовину. Каждый ребенок — существо автономное. Следовательно, в то время как ребенок хочет получить максимум от родителей, те должны распределить свое «богатство» таким образом, чтобы оно досталось и возможному в будущем потомству. Это простое генетическое различие ведет к конфликту, который имеет место у всех биологических видов с половым воспроизводством, подобным нашему. Результатом такого конфликта является сложный образец взаимодействия по схеме «давать — брать». Потомство стремится получить все необходимое, чтобы со временем превратиться в здоровых, производительных индивидуумов. Родители дают то, что они могут, не ставя «крест» на своей возможности иметь других, таких же здоровых и производительных детей. Следовательно, эгоистичное потомство и эгоистичные родители должны учитывать потребности и возможности друг друга к взаимной выгоде. В конечном счете обе стороны стремятся — на некотором уровне — к одному и тому же: сохранению и воспроизводству видового генома, или генетическому «бессмертию» вида.
Я начинаю эту главу с анализа взаимодействия родителей и детей по трем причинам. Во-первых, это первые социальные отношения, в которые мы вступаем, появившись на свет. Во-вторых, это эволюционно наиболее древние отношения, в которых сталкиваются забота о себе и забота о другом (возможно, самый основной показатель морального решения). К настоящему моменту мы имеем глубокое понимание его адаптивной функции, так же как и механизмов, которые составляют его сущность. Эти механизмы включают в высшей степени сложную цепочку влияний: от генов — к нейронам и от них — к убеждениям. В-третьих, отношения родителей и детей в сегодняшнем мире насыщены моральными проблемами, включая допустимость аборта, детоубийства, искусственного вскармливания, использования кормилиц и генной инженерии.
Оставим на время ненасытных младенцев и контролирующих их родителей. Я хочу проанализировать, как складываются кооперативные связи среди генетически не связанных и часто незнакомых друг с другом индивидуумов, когда высок стимул к изменению и особое значение имеет развитие и применение регулирующего контроля. Определенно, эти новые отношения оказывают давление на моральную способность, которая позволяет человеку осознавать нечто иное, помимо рационально оптимального и корыстного действия. Люди приобретают разнообразные социальные навыки, которые, с одной стороны, облегчают обман, а с другой — помогают обнаружить мошенника. Нами овладевает жажда новизны и творчества, которая создает предпосылки для роста доминирования и эксплуатации в межличностных отношениях, что, в свою очередь, приводит к нарастанию напряжения в отношениях с контролирущими инстанциями. Этот конфликт оказывает влияние на наше суждение о правильности или ошибочности происходящего и заставляет задуматься о том, что нам следует предпринять.
Цель данного раздела — показать, как механизмы морали, которые были проанализированы в предыдущей главе, обеспечивают индивидуумам возможности для полноценной жизни и активных действий в социальном мире. Мы узнаем, почему наши интуитивные представления о допустимых действиях иногда не в состоянии противостоять нашим фактическим действиям. Мы рассмотрим конфликт между компетентностью (я могу это сделать) и выполнением (то, что я реально делаю), рассмотрим соперничество, напоминающее игру в «перетягивание каната», между рациональностью и этикой. Мы также увидим, как сложившиеся в эволюции интуитивные представления формируют новый взгляд на моральный конфликт человека, предвосхищая некоторые из аргументов, изложенных в III части.
Врожденные аттракторы[249] Биолог-эволюционист Дэвид Хэйг предложил интересное Дополнение к объяснению конфликта родителей и детей, сделанного Триверсом. Конфликт начинается прежде, чем ребенок способен с соблазнительной улыбкой смотреть на мать и таким способом управлять ею, чтобы продлить свое пребывание у ее груди. Хотя человеческий плод не может видеть или говорить, он знает, как действовать исподволь, превращая плаценту в «кафетерий», который поставляет питания больше стандартной нормы.
Идеи Хэйга родились в результате критического анализа материалов двух исследовательских проблем и двух малосопоставимых групп испытуемых: специально выведенных мышей с определенным генотипом и женщин с осложнениями беременности. Из курса биологии средней школы все мы знаем, что гены, которые делают нас такими, какие мы есть, действуют одним и тем же способом, независимо от того, получили ли мы наш ген (аллель) от матери или от отца. Согласно этим представлениям, эмбрион с генетическим материалом отца не должен отличаться от эмбриона с соответствующим генетическим материалом, полученным от матери. Однако, когда в лабораторных условиях на мышах провели подобный эксперимент, результаты превзошли все ожидания. Все плоды с отцовским генетическим материалом были намного больше и намного активнее, чем все плоды с материнским материалом. Кроме того, они отличались большими размерами тела, но меньшими головами. Все плоды с материнскими вариантами генов имели меньшие размеры тела, но большие размеры головы. Эти результаты были истолкованы как проявление родительской асимметрии генетического материла и, согласно Хэйгу, были восприняты как признак «биологической войны» между отцовскими и материнскими копиями гена. Вскоре биологи открыли новый класс генов, которые назвали «импринтированными генами».
В отличие от генов, о которых мы узнали в средней школе, они имеют необычное свойство — наличие родительского «ярлыка». Все люди являются носителями или материнского варианта гена, или отцовского варианта того же гена.
Понимание того, как действуют импринтированные гены, не только помогает объяснить особенности мышей, созданных с помощью генной инженерии, но открывает новый путь для решения вопроса о природе конфликтов между отцом и матерью, матерью и плодом, а также тех конфликтов, которые могут возникать в организме самого эмбриона. Импринтинг генов готовит почву и для размышлений о развитии нашей моральной способности от ее основания, т. е. от генетического до поведенческого конфликта. Все плоды с отцовскими копиями генов оказались больше по размеру, потому что эта линия мышей проектировалась на основе активных генов отца. Перспективы мыши мужского рода — производителя, который спарится с самкой и никогда, вероятно, ее больше не увидит (никаких цветов, конфет или обещаний построить большой дом), состоят в том, чтобы произвести самого крупного, самого здорового детеныша, потому что это увеличивает шанс на выживание и конкуренцию с другими особями. Однако для самки вынашивание большего плода — процесс, более затратный и трудный с точки зрения его обеспечения необходимыми питательными веществами и, в конечном счете, протекания родов. По выражению Дейва Барри, «роды как строго физическое явление можно сравнить с движением грузовика фирмы «Юнайтед Парсел» через туннель»[250].
Учитывая эти затраты, матери заинтересованы в контроле размеров плода путем выключения генов отца. Присутствие отцовских вариантов генов, как уже говорилось, будет способствовать увеличению размеров плода, делая его слишком большим. У биологических видов, где самки рождают большое потомство на протяжении всей жизни, например у мышей, распределение материнских ресурсов представляет функцию от числа потенциального потомства, которое осталось воспроизвести, и состояния ресурсов в текущем сезоне. Это холодная логика эволюции: если это первый приплод особи и времена плохи, возможно, не стоит вкладывать слишком большой «капитал», а подождать следующего раунда и лучшего сезона ресурсов. Если это ее последний приплод, стоит вложить все, что она имеет, потому что не остается никаких других возможностей оставить генетическое наследство. Сравнивая в нашем объяснении материнские и отцовские установки, мы получаем искру, которая зажигает конфликт. Отцы всегда хотят больших по размеру младенцев, матери — Меньших, но, конечно, до определенных пределов.
Частично конфликт между матерью и плодом появляется в результате конфликта между матерью и отцом. Когда отцовский Вариант гена активен, зародыш «спроектирован» так, чтобы получить больше ресурсов от своей матери. Но матери (иногда!) «включают» генетические механизмы, позволяющие сопротивляться, переадресовывая часть ресурсов, которых требует зародыш. Наконец, конфликт в организме плода возникает потому что каждый индивидуум представляет своеобразный «гибрид» соперничающих материнских и отцовских импринтированных генов. Разделенное «я» — отличительный признак природы человека.
Плод весьма эффективно использует гормональные уловки, чтобы блокировать непроизвольный выкидыш, увеличивать приток крови к плаценте и таким образом направлять больше ресурсов к себе вместо тканей материнского организма, от чего зависит ее собственное здоровье. Одна из лучших уловок плода, однако, связана с особенностями генетического материала отца. Мужчины имеют ген, который, оказавшись в генотипе зародыша, стимулирует секрецию гормона, блокирующего эффекты инсулина, вырабатываемого в организме матери. Результат — увеличение количества сахара в крови в течение третьего триместра беременности. Это повышение энергии является фантастическим с точки зрения перспективы зародыша и опасным для матери, так как она может получить гестационный диабет. Когда у матерей таких осложнений нет, им удается благополучно сосуществовать с потомством: при максимальном увеличении ресурсов, которые они должны предложить ребенку, риск повреждения их собственного организма минимален. Осложнения в состоянии здоровья матери нередко представляют важный признак «победы лукавого плода». Однако достижения плода в перераспределении ресурсов могут иметь и оборотную сторону.
Переход от положения плода к состоянию новорожденного меняет ситуацию. Антрополог Сара Блэффер Хрди подчеркивает:
...к моменту, когда ребенок в результате мышечного сокращения изгоняется из матки, он должен быть готов покинуть свой гестационный рай. Наделенный возможностями гормональной регуляции, прочно укрепившийся, полноправный обитатель материнского организма, он понижает свой статус, превращаясь в бедного, голого, двуногого (и даже не двуногого) нищего — новорожденного, который должен умолять, чтобы его взяли, обогрели и накормили[251].
Как новорожденный взывает о помощи? Выглядя симпатичным, уязвимым и нуждающимся. Природа снабдила младенца рядом специфических свойств, действие которых адресовано сенсорным предпочтениям его опекунов. Младенцы обладают хорошо развитой мимической и вокальной сигнализацией, которая позволяет им эксплуатировать своих матерей и отцов. Почему Микки-Маус такой симпатичный? Потому что его голова намного больше тела, а глаза крупные относительно мордочки. Эти ювенильные, или детские, характеристики делают Микки-Мауса похожим на «визуальный леденец», очаровательный и привлекательный для наших глаз.
Упитанность — объективный, т. е. честный, сигнал здоровья младенца, признак, что родительница все сделала правильно, обеспечила необходимые ресурсы и доносила ребенка до завершения полного срока. Новорожденный не может фальсифицировать жировой слой. Упитанность младенца — показатель, что ребенок получил то, в чем нуждался, по крайней мере в отношении питательных веществ. Эволюционные биологи иногда квалифицируют такой облик ребенка как один из уровней защиты против способности человека бросать или даже убивать хилых, болезненных младенцев.
Что можно сказать по поводу невинных улыбок, надувающихся губок, восхитительно наморщенного принюхивающегося носика, приятного воркования или ужасающих криков? Всегда ли они являются честными индикаторами потребности, и если нет, то как родителям понять разницу между ложью и истиной? Все младенцы кричат, часто после первого вдоха воздуха вне матки. Крики голода и боли звучат по-разному, и родители быстро учатся различать их. По мере развития дети берут под контроль свои эмоциональные выражения. Они кричат, когда есть соответствующая аудитория, но могут сдержать слезы, когда сочувствующий опекун отсутствует. Разнообразие криков младенца идеально удовлетворяет его потребность привлечь наше внимание, разбудить наши эмоции и заставить нас действовать — устранить причины его голода или боли. Громкие, резкие, шумные звуки вызывают раздражение. Мягкие, гармоничные звуки приятны. Когда люди слышат крик младенца, у них возникает желание его °становить.
Биолог-эволюционист Амос Захави утверждал, что сигналы являются честными, если (и только!) для их порождения требуется достаточно много усилий со стороны младенца. Иными словами, затраты должны быть пропорциональны текущему состоянию сигнализирующего (тот же самый сигнал обходится индивидууму дороже, если он находится не в хорошем, а в плохом состоянии). Второе условие состоит в том, что особенности сигнализации должны быть наследственно обусловлены, т. е. передаваться генетически от родителей к потомству[252].
Сигналы, соответствующие этим условиям, могут рассматриваться как своеобразные «препятствия» для младенцев. Их можно считать препятствиями, потому что те индивидуумы, которые в состоянии издавать такие сигналы и поддерживать это дорогостоящее действие, должны быть великолепно приспособлены с точки зрения отбора. Они защищены от деструктивного влияния естественного отбора.
Дарвин назвал проблему младенческого крика «головоломкой». Однако мы можем частично проникнуть в смысл этой загадки, обращаясь к логике беспомощности. Крик, особенно со слезами, можно квалифицировать как беспомощность, требующую вмешательства. Трудно произвести по команде этот дорогостоящий, с точки зрения расхода энергии и ухудшения видимости, процесс с единственным эффектом, оставляющим материальный след: он возникает вследствие эмоционального воздействия. С позиций младенца крик и слезы играют определяющую роль, поскольку они, несомненно, увеличивают шансы, что опекун отреагирует положительно, даже после того, как причина слез младенца исчезнет. Они формируют обязательства для взрослого. Можно легко вообразить сценарий, в котором крик со слезами — уникально человеческий признак — прошел долгий путь развития от крика без слез: под влиянием отбора, который шел в направлении увеличения неподдельного выражения бедствия.
Это краткое обсуждение кричащих и плачущих младенцев иллюстрирует одну простую идею. Естественный отбор обеспечил младенцев сигналами, которые родители могут видеть и слышать. Эти сигналы предназначены для того, чтобы управлять родителями, нередко заставляя их терять контроль и уступать желаниям младенца. Учитывая относительно близкие генетические интересы родителей и потомства, этот вид манипуляции, по-видимому, нельзя считать необычным или неудачным. Очевидно, что сенсорные установки родителей имеют адаптивную функцию: они гарантируют сохранность их генетического материала. Они гарантируют также возможность обеспечить нравственно соответствующий ответ на потребности ребенка, на сам факт его существования.
Однако как только младенец получает некоторый контроль над собственными действиями, включая самые ранние формы достижения целей и возможность перемещения, его поведение вынужденно противопоставляется интересам других индивидуумов, которые могут иметь, а могут и не иметь с ребенком общих генов. Из неподдельной заботы о своих нуждах у ребенка должна появиться, «вырасти» связанная с ней способность заботиться о других. На основе бесстрастной и простой логики, цель которой — оптимизировать процесс адаптации индивидуума, должна сформироваться система, способная генерировать больше теплоты и сострадания к другим. Разумеется, и здесь также присутствует скрытый расчет. Тот, кто заботится непосредственно о себе самом, по необходимости или, по крайней мере, временно может отложить это беспокойство ради другого человека, оптимально ему подходящего.
Сложные взаимоотношения между родителями и потомством поднимают другую взрывоопасную тему. В каком случае, если только этот случай действительно возможен, допустимо для родителей наносить вред своему потомству или убивать его? Хотя проблемы аборта и детоубийства для большинства людей в большинстве культур тем или иным способом улажены, есть другие вопросы, которые привязывают наши суждения об этих случаях к общим принципам нанесения вреда потомству. В частности, До какой степени логика, лежащая в основе наших суждений об аборте и детоубийстве, совместима с другими формами нанесения вреда? Когда мы рассматриваем возможность уничтожения плода или младенца, квалифицируя или не квалифицируя это как Участие в акте убийства, — какие факторы определяют наше суждение? Множество книг было написано на эту тему, и выводы из Этих дискуссий сложные и неоднозначные[253].
Здесь я хочу сосредоточиться на узкой теме и вернуться к причинам и последствиям вредоносных действий. К этой теме примыкает вопрос о мере участия моральной способности в процессе «вынесения приговора» на этапе, предшествующем включению эмоций. Позвольте мне в самом начале заявить, что взвешенный анализ, с которым я собираюсь обращаться к этой проблеме, ни в коем случае не уменьшает значения и не исключает страстных дискуссий, в которые вовлечены тысячи людей — противников абортов и детоубийства. Попытка объяснять принципы, которые могут лежать в основе наших осуждений аборта, не подрывает личного права каждого индивидуума по-своему относиться к этой проблеме, включая тех, кого ужасает причинение вреда невинному существу.
Для начала я хочу обойти все дискуссии по поводу того, с какого момента плод можно считать личностью, индивидуумом, наделенным частично или полностью правами человека. Попытка придерживаться этой линии рассуждений — бесплодна. Следуя ведущим в этой области философам-моралистам, особенно Томпсон и Камм[254], я предполагаю, что в некоторый момент времени после зачатия оплодотворенная яйцеклетка превращается в плод, он становится индивидуумом, имеющим некоторые права. Учитывая эту отправную точку, я невольно думаю, имеет ли этот индивидуум с самого начала не подвергаемый сомнению доступ к организму своей матери и такое же неотъемлемое право на его использование?
Каждый человек имеет право на жизнь. Следовательно, плод также имеет это право. В то же время и женщина имеет право решать, что делать со своим телом. Если право человека на жизнь превосходит право женщины на аборт, то эмбрион победил в дебатах: в этом случае вопрос об аборте закрыт. Но теперь вообразите следующий сценарий, который описала Томпсон.
Однажды утром вы узнаете, что по медицинским показаниям подходите для участия в лечении знаменитого скрипача, который страдает тяжелым заболеванием почек. Общество любителей музыки решило, что вы подходящая фигура, благодаря совместимости параметров крови. Если скрипачу при вашем участии не будут сделаны необходимые медицинские процедуры, он умрет. Если вы согласитесь участвовать в его лечении в течение девяти месяцев, он выздоровеет. Обязаны ли вы, с точки зрения морали, включиться в процесс лечения музыканта? Философыморалисты, обсуждая этот случай, соглашаются, что решение зависит от вашей доброй воли. Поступать так вы не обязаны. Добродетельный акт — не всегда обязательный акт. Когда мы поставили этот вопрос на нашем сайте в Интернете, откликнулся широкий круг лиц, как верующих, так и атеистов. Почти все согласились с решением философов: совершенно разумно отказаться от участия в лечении скрипача.
Каковы психологические аспекты суждений, касающихся описанного Томпсон случая со скрипачом, кстати вряд ли достоверного? Очевидно, что скрипач — человек с правом на жизнь. Теоретически его право на жизнь должно превзойти ваше право делать со своим телом то, что вы хотите. Если бы этим исчерпывались все проблемы данного случая, то наша моральная способность вынесла бы обязательный вердикт, вынуждая вас включиться в курс лечения скрипача. Но мы эту дилемму воспринимаем иначе. Возникает вопрос, почему наш приговор в случае с лечением скрипача отличается от оценки случаев аборта? Дело в том, что, в отличие от добровольной беременности, ваша связь со скрипачом и его зависимость от вас являются результатом случайного процесса. Изначально вы не соглашались на то, чтобы вас включали в процесс лечения. Вы не давали скрипачу никаких обязательств. Вы можете чувствовать к нему жалость и поэтому согласиться помочь, и это был бы добродетельный поступок, но в нем нет никаких обязательств.
Чтобы ближе подойти к проблеме аборта, позвольте изменить одну часть сценария. Вы соглашаетесь на участие в курсе лечения скрипача, но в некоторый момент решаете отказаться. Опрос нашей выборки испытуемых по Интернету показал, что в этом случае люди, как правило, считали недопустимым прерывать участие в лечении. Они, казалось, воспринимали этот случай так же, как и ситуацию с суррогатной матерью, которая решает прервать беременность после нескольких месяцев вынашивания плода. Допустимость вреда, таким образом, связана с проблемой обязательств, хотя это не единственный релевантный параметр.
Теперь давайте задавать более трудные вопросы: действительно ли аборт допустим, и даже обязателен, когда плод угрожает здоровью матери и понижает потенциал ее выживания? Например, рассмотрим случай, когда мать испытывает осложнения беременности, и, если беременность не будет прервана, женщина непременно погибнет. Такое может случиться, как обсуждалось выше, из-за несовместимости импринтированных генов и особенно при активных отцовских генах, которые заставляют зародыш искать больше ресурсов, чем мать может дать. Предположим, что в течение беременности отец бросает мать. Она остается без средств, необходимых для обеспечения ребенка, ей едва хватает прокормить себя. Предположим, что она хотела мальчика, но знает, что родится девочка. Она убеждена, что ей будет очень тяжело с дочерью, у нее начнется депрессия, — словом, она не способна заботиться о своем ребенке. Каждый сам решает, какое из этих зол более допустимо, если такой выбор вообще возможен.
Вспомним одного из наших главных героев — создание Ролза. Размышления о психологических компонентах, связанных с ролзианским существом, помогают разъяснить некоторые из этих случаев. Прерывание жизни зародыша — это действие — убийство. Продолжение беременности — бездействие с таким же следствием: кто-то умирает. Аборт убивает плод, продолжение беременности убивает мать. Мы вернулись к дилемме, которая противопоставляет вред плоду и вред матери. Кто виноват в сложившейся ситуации? Мать и ее партнер зачали ребенка с целью рождения и воспитания здорового ребенка, так что это не было причиной конфликта. Причина конфликта связана с плодом или с отцом, если хотите приписать причину импринтированным генам. Результат действия этих генов выглядит так, как будто виноват плод. Но мы можем легко изменить взгляд на проблему.
Действительно, если бы мать была в лучшем состоянии, она могла бы обеспечить завышенные по сравнению с нормой потребности плода. Какова цель матери? Ее непосредственная цель состоит в том, чтобы спастись самой. Предсказуемое последствие в этом случае — вынужденный вред другому существу: она должна убить эмбрион. В отличие от случая со скрипачом, здесь плод несет матери угрозу, немедленную и продолжающуюся. Удаляя плод, мать детерминирует его смерть, даже если эта
смерть — средство для решения других вопросов. В этом случае убийство плода — средство для выживания матери. Уходя от сильных эмоций, которые многие из нас испытывают при мыслях об аборте, и погружаясь в глубь вопроса, мы находим нашу моральную способность — систему Ролза, разработанную для определения причины и последствий в случаях причинения вреда.
Психологические факторы и осложнения, которые мы сейчас рассмотрели, только скользят по поверхности. По мере того как мы входим в эру постоянно совершенствующейся технологии продления жизни и устраняем традиционно сложные медицинские проблемы, мы сталкиваемся с новыми дилеммами, включая проблемы, которые наша психология пока не в состоянии решить. Например, если беременная мать попадает в опасную для жизни ситуацию, создаваемую плодом, должен ли закон предусмотреть для нее возможность кесарева сечения, поскольку органы охраны детства гарантируют ей в будущем бесплатную помощь, включая усыновление ребенка?
Думая об этих новых трудностях и моральных проблемах, которые они поднимают, мы должны иметь в виду, что наша моральная способность может судить эти случаи с общих позиций, трактующих принципы причинения вреда и зафиксированных в логике грамматики действия.
О повелителях и мухах
В книге «Теория справедливости» Ролз прозорливо уловил напряженность между эгоистичным трендом эволюционного процесса и успехами рациональной моральной системы, которая пытается уйти от этого основания, создав свое. Ролз в известной мере предвидел революцию в социобиологии прежде, чем появились Получившие широкую известность книги «Социобиология» Эдварда Уилсона и «Эгоистичный ген» Ричарда Доукинза. Он писал:
...критический вопрос здесь: что ближе к процессу развития — принцип справедливости или принцип полезности? На первый взгляд, казалось бы, если отбор всегда ведется среди индивидуумов и их генетических линий и если способность к различным формам морального поведения имеет некоторое генетическое основание, то альтруизм в строгом смысле должен ограничиваться семьей и минимальными по размеру группами. В этих случаях готовность к значительному самопожертвованию одобрили бы потомки и она имела бы тенденцию стать предметом отбора. Обращаясь к другой крайности, укажем, что общество, которое имело бы сильную склонность к избыточному взаимодействию с другими сообществами, подвергало бы опасности существование собственной культуры, отличающей его от других обществ, и его члены рисковали бы своим доминирующим положением. Поэтому легко догадаться, что способность действовать с позиций универсальной благожелательности, вероятно, будет устранена, тогда как способность следовать за принципами справедливости и обязательности в отношениях между группами и другими индивидуумами вне семьи будет одобрена[255].
Характеризуя напряженность, существующую между этими двумя мотивационными силами, Ролз сформулировал проблему, которая была описана в главе 2: проблема «покрова неведения». Напомним ее суть. Мы хотим понять, как построить нравственно справедливое общество. Представим, что в его основании изначально нет никаких принципов и законов, чтобы диктовать распределение ресурсов и прав. Предположим, что каждый максимально эгоистичен и одновременно готов руководствоваться формирующимися принципами устройства общества. Так как существует покров неведения, ни один из участников не может заранее знать, какое положение он займет. Следовательно, есть встроенное ограничение, которое должно воспрепятствовать вмешательству эгоистических интересов, если не устранить их полностью. Каждый должен сотрудничать, чтобы получить лучший результат для всех.
Важно понять, каким образом эгоистичное ядро может иногда (или часто) трансформироваться в позитивное отношение и глубокое уважение к другим. Вернемся ненадолго к родительскому геномному импринтингу. Открытие импринтированных генов вынудило нас рассматривать сущность человека, его «я» как результат соперничества между материнскими и отцовскими влияниями. Точно так же реализация сложившегося «я» в обществе вынуждает нас признавать его двойственность, которая отражает соревнование между эгоистичными инстинктами и инстинктами, ориентированными на группу.
Давайте проанализируем роль воинственного эгоизма в обслуживании и поддержании устойчивого кооперативного сообщества на примере героев книги Уильяма Голдинга «Повелитель мух». Эта захватывающая беллетристика включена в учебные программы большинства вводных курсов английской литературы, но должна быть обязательным чтением при изучении биологии, экономики, психологии и философии.
Голдинг знакомит нас с группой детей, оказавшихся на необитаемом острове, он описывает восхитительный и причудливый поворот в их жизни к изначальному состоянию по системе Ролза. В отличие от традиционного варианта, когда рационально мыслящие взрослые продумывают эти проблемы, сидя за столом, Голдинг предлагает представить, на что будет похожа жизнь диких, голых и голодных детей. Многие дети испуганы, но больше всего они хотят есть. Никто не знает, что делать дальше. Достаточно скоро, однако, из старших мальчиков выделяются лидеры. Умело скрывая свой испуг, они уверенно говорят о том, что необходимо сделать. Лидирующую позицию занимает обаятельный Ральф, которого поддерживает толстый и неуклюжий, но наделенный хорошим интеллектом мальчик по прозвищу Пигги. Они напоминают известных литературных героев Кристиана и Сирано де Бержерака, главу государства и его приближенного, кукольника и марионетку. Хотя правила, установленные Ральфом, некоторое время успешно действуют и способствуют сплочению группы, другой герой — обозленный Джек — немедленно использует его слабости. Джек выступает резко против Ральфа, утверждая, что тот боится леса, боится диких свиней и не хочет охотиться, т. е. добывать пищу. Джек бесстрашен, его обаяние действует как магнит, а предложение поохотиться и, наконец, наесться вдоволь захватывает мальчиков. Дети начинают разделяться, кто-то остается с Ральфом, кто-то идет за Джеком, но При этом каждый говорит о необходимости сохранять мир и уважение друг к другу.
Джек знает, что голод толкнет детей на охоту — добывать мясо свиньи. Он также рассчитывает на их ответную реакцию: поскольку он дал им еду, они вынуждены будут (у них нет другого выбора!) присоединиться к его племени. Самое сильное влияние он оказывает на младших мальчиков, которые всего боятся и нуждаются в защите.
Ральф делает встречный ход: он пытается воздействовать на другую часть человеческой души, а именно — на эмоции, которые обеспечивают лояльность. Как отмечал экономист Роберт Франк, вопреки стандартным моделям личного интереса, в экономике эмоции часто могут заглушать эгоистичные инстинкты, побуждая человека протянуть руку помощи другому человеку перед лицом опасности, будь то неминуемый позор или вина, связанная с нарушением обязательств.
Ральф ждет, что все останутся с ним, потому что он — главный и потому что они сами его выбрали. Он также пытается противопоставить мясу, предложенному Джеком, другую жизненную необходимость — поддерживать костер. Но Ральф не может найти слов и, главное, логики, для того чтобы убедить детей остаться, но он пытается это сделать: поддерживать огонь в костре один индивидуум не сможет, эта задача требует сотрудничества. При этом всегда будет соблазн обмануть, использовать в своих интересах тех, кто бережет огонь. Тем временем Джек предлагает кое-что намного более привлекательное и, очевидно, получаемое без особых затрат. Присоединяйтесь к его группе, и вы получите защиту и продовольствие, которые обеспечивают его охотники. Кроме того, присоединившись к Джеку, дети все равно будут видеть дым от костра, зажженного группой Ральфа, и будут использовать этот сигнал для своей выгоды. Поэтому лучше находиться в компании с Джеком, чем с Ральфом.
Чтобы присоединиться к группе Джека, большого ума не требуется. Но у некоторых детей душа не на месте. А как же чувство лояльности и обязательства по отношению к Ральфу? Ведь тот в самом начале взял на себя роль лидера, был добр, справедлив и внимателен ко всем членам группы. Джек наносит Ральфу заключительный удар — указывает на кость, которую держит Ральф, тем самым подчеркивая, что Ральф тоже голоден и должен благодарить его за свинью, которую тот выследил. Этим Джек хочет сказать, что Ральф должен подчиниться и присоединиться к его группе.
Далее Голдинг описывает, как возрастает власть Джека и его приближенных, как происходит крушение Ральфа и трагически гибнет интеллектуал Пигги. По мере того как снижается доверие и растет искушение переметнуться в лагерь противника, рушится сотрудничество. Поддержать Ральфа, возможно, и кажется правильным делом, но перед лицом внешних обстоятельств суждения, определяемые нашей моральной способностью, сталкиваются с нашим моральным поведением, которое питают альтернативные побуждения и искушения.
Развивая свои представления о взаимности, Триверс использовал простую схему. Я сделаю нечто для вас, если вы в некоторый момент сделаете нечто такое же или ему подобное для меня. В дальнейшем он объединил три научных подхода, используя в своей модели их ключевые понятия: экономический (понятия затраты и прибыли), эволюционно-биологический (понятие эгоистичного гена) и психологический (понятия справедливости и ее эмоционального сопровождения). Триверс утверждал: взаимность разовьется и станет устойчивой, когда будут удовлетворены следующие три условия:
1) небольшие затраты на то, чтобы что-то дать, и большая польза от того, что приобретено;
2) временная задержка между первичным и ответным актом дарения;
3) множество возможностей для взаимодействия при условии, что дарение пропорционально приобретению.
Хотя теория взаимности Триверса ставила своей целью выяснить, как решаются проблемы альтруизма среди индивидуумов, не связанных родственными отношениями, почти тридцать пять дет исследований не дали ничего, кроме нескольких наводящих на размышления примеров из жизни животного царства, которые будут детально изложены в главе 7. Я полагаю, что это заключение неудивительно, особенно для тех, кто начинает изучать психологические механизмы взаимности. Они включают, как наиболее важные, следующие способности: количественно определять затраты и выгоды от обмена, вычислять непредвиденные обстоятельства, тормозить искушение обманом и наказывать тех, кто не в состоянии действовать честно и справедливо. Хотя мы пребываем в полном неведении относительно времени, когда эти различные психологические компоненты сложились в эволюции и стали доступны представителям нашего вида, мы реально имеем некоторые предположения о том, как такие компоненты формируются в индивидуальном развитии человека.
В связи с этим возникает критический вопрос: как только эти компоненты оформились, позволяют ли они осуществить процесс видообразования и перейти от «человека экономического» (Homo economicus) к «человеку, действующему на началах взаимности» (Homo reciprocans) [256]. Скажем по-другому: хотя наш «жадный» плод напоминает крайний вариант существа, жаждущего получить все по максимуму (economicus), будет ли тот же самый плод наделен врожденным чувством справедливости? Это чувство, в конечном счете, стимулирует интерес к процессам, лежащим в основе результатов деятельности: хороши ли они для индивидуума или для некоторой ограниченной группы (reciprocans)
Очень важно, как мы ответим на этот вопрос, потому что он формирует основу для многих теоретических и практических проблем в различных областях экономики и права, дисциплин, которые гордятся четкостью своего понимания предписывающей стороны этики.
Один ответ состоит в том, что обе разновидности сосуществуют в некотором устойчивом состоянии, не испытывая взаимной симпатии, просто признавая присутствие друг друга. Наряду с таким способом существования, обе разновидности полагаются на формальную логику, которая развивается у всех людей, независимо от религии, пола, расы и образования. Чтобы лучше объяснить, как мы приобрели эту логику в эволюции и приобретаем в индивидуальном развитии, я вернусь к некоторым доказательствам, представленным в I части, где описывается состояние моральной компетентности взрослого человека и предпринимается попытка объяснить ее усвоение. Цель состоит в том, чтобы понять, как мы приобретаем способность участвовать в устойчивых раундах сотрудничества (развивающихся вне отношений родителей и детей), парировать искушение, обнаруживать мошенников и наказывать их. Короче говоря, я постараюсь объяснить, как арена сотрудничества обеспечивает психологическую основу для того, чтобы понять наше моральное чувство, его строение и функции. Распад кооперативных отношений можно расценивать двояко: минимально — как нарушение социальных норм и максимально — как безнравственный акт, который представляет нарушение юридически закрепленного соглашения. Остальная часть этой главы объясняет другие аспекты нашей моральной психологии, включая способности, которые могут быть специфическими только для нее или общими с другими способностями психики.
Как обсчитать справедливую игру
Рассмотрим первое условие Триверса, касающееся определения объема затрат и прибыли. В отсутствие количественных показателей было бы невозможно играть в большинство экономических игр. Действительно, можно ли судить игру и вообще любое дело с точки зрения справедливости, если вы не в состоянии оценить затраты и прибыли?
Если соотношение между системами определения количества и системами правосудия кажется несущественным, то прислушайтесь к мнению Вольтера, который насмешливо характеризует один из аспектов этих отношений: «Человек рожден без принципов, но со способностью усваивать их. Его естественное расположение склонит его или к жестокости, или к доброте. Его мышление вовремя сообщит ему, что квадрат числа двенадцать равняется ста сорока четырем и что он не должен делать другим того, чего не хотел бы, чтобы другие делали ему; но он не способен самостоятельно усваивать эти истины в раннем детстве. Он не будет понимать первого, и он не почувствует второго». В области математики Вольтер допустил ошибку. Как представители человеческого рода, мы рождены с двумя количественными системами — врожденными механизмами, которые позволяют младенцам маленькие числа вычислить точно, а большие числа — приблизительно[257].
Обе системы появляются задолго до того, как дети реально Начинают применять их, помогая другим или причиняя им вред. И обе обеспечивают исходные позиции для того, чтобы освоить более сложную математику и этику.
Чтобы продемонстрировать, как эти различные системы исчисления действуют, в психологии развития применяются те же методологические принципы, которые я описал в главе 4. В частности, чтобы раскрыть характер ожиданий и представлений ребенка, исследователи используют такие показатели, как длительность рассматривания младенцем объекта и потерю интереса к нему. Например, покажите пятимесячному ребенку пустую сцену, разместите одну куклу на сцене, затем скройте все экраном. В это время посадите на сцену вторую куклу и удалите экран, чтобы затем попеременно показать ему либо одну, либо две, либо три куклы. Если младенцы должным образом выполнили действие сложения и имеют в виду эти две куклы, сидящие позади экрана, то результат «два» для них скучен и ожидаем. Другое дело — такой результат, как одна кукла или три куклы. Он должен быть интригующе неожиданным. Если говорить более конкретно, младенцы должны дольше удерживать взгляд, дольше смотреть на сцену, когда там окажется одна или три куклы, а не две. И они делают именно так. С помощью этого метода показано, что младенцы способны безошибочно различать количество в пределах трех объектов. Напротив, когда применялось большее число кукол, точность различения падала. Вместо четкого определения младенцы полагались на приблизительные отношения и оценки. Можно сказать, однако, что младенцы отличали четыре куклы от восьми и восемь кукол от шестнадцати, но не четыре куклы от шести или восемь кукол от двенадцати.
Что позволяет нам двигаться за пределы этих двух систем и когда происходит концептуальная революция в развитии? Большинство исследователей считают, что в возрасте приблизительно трех лет дети приобретают более точную систему нумерации. Эта система включает ряд целых чисел и в конечном счете позволяет ребенку выполнять действия типа сложения и деления. Ключевое возрастное изменение, по-видимому, связано с усвоением слов — наименований цифр и пониманием их значения. Мы можем быть уверены в правильности этих идей, потому что дети моложе трех лет уже имеют большую лингвистическую компетентность: понимают значения многих слов и обладают способностью соединять их в осмысленные предложения. Однако они испытывают трудности в понимании слов, обозначающих числа. Например, ребенок двух с половиной лет может очень быстро повторять ряд целых чисел до десяти. Но он не имеет никакого представления о том, что каждое слово в этом ряду означает определенное число. Он может понять, что слова (цифры) один, два, три и четыре — часть списка, но будет ошибкой полагать, что слово один он связывает только с одним предметом. Он вообще не может себе представить, что слова два, три и четыре обозначают разное количество предметов. Дети, в родном языке которых употребляются отдельные слова — наименования цифр, входящие в ряд целых чисел, приобретают полное понимание их значений в возрасте трех с половиной — четырех лет. Более того, некоторые языки (обладающие, например, выразительной силой и грамматической сложностью английского, французского и китайского языков) не имеют слов для наименования чисел более двух или пяти. Применительно к большим величинам они указывают количество, используя слова, эквивалентные понятию «множество». В этих культурах различение чисел основано на двух системах: маленькой точной и большой приблизительной. Развитие большой точной системы чисел вообще не зависит от языка, но оно определенно зависит от использования слов — наименований конкретных чисел[258].
История усвоения системы чисел, хотя часто и рассматривается в изоляции от других систем психики, глубоко привязана к моральной сфере вообще и к сотрудничеству в частности. Изза ограниченной способности использовать числа маленькие дети не могут определять равенство, если оно связано с большими числами. За исключением случаев с относительно сильно выраженным неравенством они не могут судить, справедлива ли сделка. Однако это заключение основывается на специфической концепции детского чувства справедливости. Если понятие «справедливость» рассматривать как равноценный обмен, то необходима точная квалификационная система. Напротив, если ребенок считает честным просто обмен некоторым количеством или величиной, то приблизительная система прекрасно выполнит эту задачу. Поскольку концепция справедливости ребенка изменяется в ходе развития, предусматривая переход от относительного к равноценному обмену, то открывается «дверь» для возможности присвоить себе чужое, т. е. для эксплуатации. Старшие дети могут эксплуатировать младших детей, давая меньше, чем они должны, прикрываясь политикой равноценного обмена, вместо того чтобы действовать справедливо в рамках относительного обмена.
Чтобы исследовать, как маленькие дети решают проблему справедливого распределения, психолог Роберт Хантсман давал детям четыре задания[259]. В каждой задаче он просил четырехлетнего ребенка провести распределение ресурса (например, сладостей), наделив себя и другого. В некоторых задачах сладостей было больше, чем потенциальных получателей, а в некоторых — меньше. Например, ребенок должен был распределить три рожка мороженого среди четырех детей или тридцать леденцов среди пятерых детей, в других задачах ребенок должен был решить, заслуживают ли некоторые дети больше, чем другие, потому что они больше работали. Когда нет никаких ограничений в ресурсах и нет никаких различий между получателями в заслугах, дети от четырех до одиннадцати лет распределяют ресурсы поровну. Однако, как установил Хантсман, когда есть ограничения на распределение ресурсов, самые маленькие дети более эгоистичны. Они берут больше для себя, даже когда другим не достается вообще ничего.
При изучении детей от трех до пяти лет Хайдт с коллегами использовал следующий эксперимент. Два ребенка играли с кубиками, а затем в качестве награды за игру экспериментатор давал им картинки. В каждой паре один ребенок всегда получал меньше картинок, чем другой ребенок. Чтобы оставаться в пределах числовых способностей этого возрастного диапазона, Хайдт использовал в игре не больше четырех картинок. После распределения картинок экспериментатор сначала просил каждого ребенка сказать, сколько у него картинок, и затем спрашивал, все ли в игре было хорошо и справедливо, фиксируя словесные или мимические индикаторы суждения о несправедливости распределения. Результаты показали, что среди детей, получивших меньше картинок, даже самые маленькие немедленно заявляли, что распределение было несправедливо. Поскольку Хайдт никогда не анализировал степень несправедливости при распределении картинок, а их общее количество никогда не превышало четырех, невозможно оценить, лежит ли в основе детских ответов логика равноценного или относительного обмена, как это было в экспериментах Хантсмана. Дети, получившие больше картинок, давали другой образец ответов. Они, казалось, были совершенно удовлетворены ситуацией.
Значительный интерес, особенно с точки зрения компетентности, лежащей в основе детских представлений о справедливости, может вызвать следующий факт. Когда речь шла об успехах детей или когда их спрашивали о том, как бы они сами распределили картинки, дети редко давали связные объяснения или обоснования. Например, когда Хайдт спросил одного из мальчиков, который получил больше картинок, почему так случилось, тот ответил: «Я должен получить четыре картинки, потому что мои мама и папа похожи на эти картинки». Из этого следует, что дети обладают психологическими механизмами, которые позволяют им быстро и подсознательно оценивать результат распределения с точки зрения справедливости. Дети, однако, не имеют доступа к этим механизмам и, таким образом, придумывают разумное, с их точки зрения, объяснение полученного результата.
Маленькие дети часто думают, что справедливое распределение заключается в предоставлении каждому некоторых ресурсов в противоположность предоставлению каждому равных ресурсов. Если это — их концепция справедливости, то они действуют отнюдь не эгоистично. По мере развития дети придают все большее значение потребностям получателя и его заслугам. Например, дети дают больше ресурсов тем, кто работает больше и, таким образом, заслуживает поощрения на основе некоторого примитивного понятия справедливости как честности. В этих случаях, однако, остается неясным, как дети представляют себе заслугу, иными словами, какова их специфическая концепция по этому поводу. Ребенок мог бы подумать: «Мне нравятся те, кто работает так же много, как я. Я вкладываю средства в тех, кого я люблю». Но нет никакого очевидного ощущения «заслуги» в этом витке мысли. Скорее ребенок обнаруживает реакцию сопереживания, при которой чувство соответствует чувству, действие соответствует действию.
Независимо от того, как эта система работает или развивается, она играет существенную роль в сотрудничестве, поскольку индивидуумы, более вероятно, будут «играть» с теми, кто «играет» так же, как они. Такие чувства могли бы появиться как результат прямого опыта взаимодействия с другими (раунда взаимного обмена) или косвенного опыта (например, наблюдения за взаимностью в отношениях других людей). Как хорошо сформулировал в ранней дискуссии относительно биологических корней этики биолог-эволюционист Ричард Александер, «в косвенной взаимности ожидание возврата (услуги) связано не с самим получателем благодеяния, а с другим человеком. Этот возврат может поступить, в сущности, от любого индивидуума или от нескольких индивидуумов в группе. Косвенная взаимность учитывает репутацию и статус и касается каждого человека в социальной группе, непрерывно оцениваемого и переоцениваемого участниками взаимодействия (как прошлыми, так и потенциальными) на основе их взаимодействия с другими»[260].
Хантсман, наряду с большинством других исследователей, работающих в этой области, интерпретировал уменьшение эгоизма, наблюдаемое у ребенка по мере его развития, как следствие социализации. Он подчеркивал особую роль в этом культуры, образования, а также окружения ребенка, ровесников. Равенство походит на идеал республики Платона: это нечто такое, что дети хотят иметь для себя и для других. Однако возникает вопрос: они хотят равенства благодаря влиянию культуры или независимо от культуры? Может ли ощущение справедливости проявляться у всех детей, в разных культурных средах по тому же принципу, как независимо от условий жизни у них появляются вторичные половые признаки: у юношей — борода, а у девушек — грудь? Действительно ли справедливость — универсальное человеческое чувство, сердцевина нашей морали, принцип, действующий под контролем сознания, но открытый для параметрического переключения под влиянием местной культуры?
Большая часть исследований, посвященных проблеме справедливости, выполнена с участием детей, родившихся в индустриальных странах, как правило, в семьях среднего социально-экономического уровня. За исключением работы Хайдта, большинство исследований были сосредоточены на действиях ребенка и их объяснениях в противоположность восприятию или пониманию действий других. Но чтобы понимать, что и как развивается, мы должны отделить то, что ребенок определяет как справедливость, от того, как ребенок действует и оправдывает свои действия. Мы должны отличать представления ребенка о справедливости от факторов, определяемых особенностями игры, в процессе которой ребенок может поступать справедливо или несправедливо. Например, честная игра требует от ребенка не только собственной концепции справедливости, но также и способности отказываться от эгоистичных желаний.
Как я уже упоминал в предыдущей главе, системы мозга, связанные с тормозными контрольными функциями, развиваются медленно, процесс их созревания продолжается в течение всего периода полового созревания, и даже дольше. Мозговые системы, контролирующие поведение, определенно не являются компонентом нашей моральной способности, но они взаимодействуют с ней, выполняя функцию ограничения ее проявлений. То же самое касается систем, которые опосредуют наши эмоции, в том числе вовлеченные в регулирование альтруистического поведения, причем как положительные (сочувствие, симпатия), так и отрицательные (вина, стыд). Как ребенок применяет свое развивающееся чувство справедливости в совместных играх и особенно при взаимном обмене?[261]
В одном из немногих экспериментов, поставленных для исследования взаимности при оперировании с объектами, имеющими реальную потребительскую ценность, психолог Линда Кейл работала с детьми семи — двенадцати лет. Один из участников в режиме реального времени наблюдал на экране монитора, как остальные дети сортировали письма по почтовым индексам. Каждое отсортированное письмо стоило пять центов. Картинка на мониторе позволяла выявить детей, сортировавших письма очень быстро, и детей, работавших медленно. В конце работы экспериментатор собрал все отсортированные письма в стопки и попросил одного из участников распределить заработанную сумму. Оказалось, что младшие дети распределяли вознаграждение менее справедливо, чем старшие, были более мстительными, настаивая на несправедливом распределении, и не были склонны выплачивать деньги с учетом результатов предыдущего раунда.
Экономист Джеймс Харбоу и его коллеги протестировали школьников на материале классических игр с заключением сделок, обсуждавшихся в главе 2[262].
Вспомним, когда играют взрослые, в одном цикле игры «Диктатор» ведущий предоставляет игроку или половину общего стартового капитала, или вообще ничего не дает; в одном цикле игры «Ультиматум» наиболее типичным является предложение приблизительно 50% от стартового капитала и отклонение предложений, если они составляют меньше 20% от общей суммы. Когда в те же игры играют дети одного возраста, младшие дети делают меньшие предложения, чем старшие, и в игре «Диктатор», и в игре «Ультиматум», причем в последней они принимают и меньшие предложения. Даже самые младшие в игре «Диктатор» делают меньшие предложения, чем в игре «Ультиматум», показывая тем самым, что они уже стратегически думают о своих предложениях и о правилах игры. Далее, когда играют дети одной возрастной группы, дети маленького роста делают предложения намного большие, чем их высокие ровесники. Возраст, таким образом, влияет на величину предложений, которые ребенок делает в этих играх. С возрастом, по мере развития мозга, расширяются интеллектуальные возможности ребенка. Эти изменения обеспечивают способность вычисления процентов и решения математических заданий, они определяют особенности взаимодействия опосредующей эти действия системы с развивающейся моральной способностью. В то же время высокий рост может способствовать социальному доминированию его обладателя. Эта особенность восприятия была отмечена при наблюдении и сравнении поведения высоких и низкорослых людей. В целом результаты наблюдений дают основания считать, что у детей с возрастом меняется искушение обмануть в играх сотрудничества, с одной стороны, так же как меняется ощущение чувства справедливости — с другой.
В классическом варианте «Ультиматум» и «Диктатор» играются в полном смысле анонимно: ни один игрок не знает другого, и они не встретятся в будущем. Возможно, однако, дать каждому игроку немного информации о партнере, которая могла бы укрепить их взаимное доверие и, таким образом, повлиять на их поведение и выбор вариантов в игре. Доверие — важный компонент устойчивых кооперативных отношений, и необходимо понять, как эта черта развивается.
Харбоу и Краузе, основываясь на игре взаимного обмена для взрослых, разработали детский вариант, выдвинув на первый план роль доверия. Во взрослой версии игрок 1 имеет возможность разделить 50 $ пополам или передать контроль игроку 2. Если игрок 1 передал контроль игроку 2, то последний может или оставить 30 $ себе и передать 15 $ игроку 1, или разделить 50 $ пополам. Хотя эта игра ни для одного из игроков не предусматривает возможности «возмездия», однако, если игрок 1 передает контроль, он фактически доверяет игроку 2, рассчитывая сделать правильный ход и разделить 50 $. Игрок 2, в свою очередь, сталкивается с искушением подвести партнера, беря большую сумму без каких-либо затрат, поступая, по крайней мере, экономно. Взрослые в позиции игрока 2, как правило, выбирают совместный вариант ответа и 50 $ делят пополам. Частота этого кооперативного выбора увеличивается, если взрослые вдыхают распыленный гормон окситоцин, получивший известность как гормон «объятий», благодаря его особой роли в установлении тесных связей между младенцем и матерью.
Вариант игры, предполагающий особую роль доверия, для детей от восьми до семнадцати лет практически тот же самый, что и для взрослых, но с двумя исключениями. Игрок 1 с меньшей вероятностью передаст свою очередь игроку 2, и нет никакой связи между суммой, переданной игроком 1, и суммой, возвращенной игроком 2. Особенности поведения детей в этой игре выражает следующий девиз: «Я немного почешу вам спинку, если вы хорошенько почешете мою».
По результатам этих экспериментов я делаю два вывода. Вопервых, детское чувство справедливости проявляется в игре уже в четыре года, а вероятно, и ранее. Это чувство интуитивно, оно основано на внутренней логике, о которой дети только смутно Догадываются, но оно позволяет вычислять вознаграждение обмена, а затем генерировать суждение о его допустимости. Вовторых, маленькие дети более эгоистичны, чем старшие дети. Несмотря на это, они имеют некоторое представление о равном распределении при условии, что нет никаких ограничений на использование ресурсов.
Кроме того, начальная концепция справедливости, более вероятно, будет ориентирована на модель некоторого распределения ресурсов, в отличие от равного распределения. С точки зрения социального взаимодействия, это означает, что дети, как только начинают осознавать свои собственные представления и представления других людей, способны как соблюдать обязательство справедливого распределения, так и поддаваться искушению, пробуя схитрить или обмануть другого.
Эти результаты открывают перспективу многим интересным исследованиям связи между нашей биологически обеспеченной моральной способностью и локальными влияниями, которые могут определить нюансы в каждой культуре. Например, хотя все культуры имеют некоторое понятие справедливости, как показано в кросскультурном исследовании игр с заключением сделок (более подробно в главе 2), они различаются по способам и критериям установления различных параметров. Ничего не известно о развитии этих культурных особенностей. Сколько и какой именно опыт в своей культурной среде необходимо получить детям, перед тем как они начнут действовать подобно взрослым? Если ребенок усвоил ключевые признаки и релевантные параметры родной культуры, как происходит освоение второй культуры? Можно ли сказать, что освоение второй культуры, подобно изучению второго языка, не только требует значительного времени и усилий, но и вовлекает в процесс, который полностью отличается от приобретения характерологических особенностей первой культуры?
Многое еще надо установить для понимания этого аспекта нашей моральной способности. Однако я хочу сделать заключение: базисная компетентность, опосредующая наше чувство справедливости, одинакова у детей и у взрослых. Все, что различает детей и взрослых, находится вне основ моральной способности. Наряду с этим, многие процессы и функции развивающейся психики ребенка взаимодействуют с его моральными суждениями. В этот круг входят системы, опосредующие самоконтроль, эмоции, память и умение проводить числовые вычисления, которые обеспечивают более точные математические расчеты.
Ребенок лжет
Заполняя налоговую декларацию, вы солгали: изменили данные, увеличив тем самым свою прибыль. И другая ситуация: получив квитанцию из налогового отдела, вы заметили ошибку, которая привела к увеличению вашей прибыли. Оба случая влекут за собой увеличение личной выгоды и изменение в расчетных данных. Но в первом случае используется намеренная ложь, в то время как во втором лишь нежелание сообщить в налоговые органы об их ошибке. В первом случае ложь требует совершения поступка, во втором — ложь возникает как результат отсутствия поступка. Оба случая предосудительны, однако, несмотря на наличие общей асимметрии между действием и бездействием, первый случай хуже второго[263].
Оба случая отражают характерные особенности человеческой натуры, которые появляются уже в раннем развитии. В любой культуре ложь, обман, как правило, запрещаются. Но, как и для большинства, а возможно и для всех запретных действий, есть исключения. Небольшая безобидная ложь почти наверняка универсально допустима. В этих случаях мы искажаем правду, не ставя своей целью нанести вред[264].
Фактически цель безобидной лжи часто состоит в том, чтобы избежать причинения вреда кому-то другому. Как отмечается, такую ложь вообще нельзя считать ложью, потому что она соответствует общему правилу межличностных отношений — нести помощь и охранять от вреда — и предназначена определенному кругу слушателей. Каждый хоть изредка, но говорил надоедливому родственнику, что время для приезда он выбрал неудачное, что когда-нибудь потом обстоятельства сложатся более благоприятно и т. п. Все родители имеют опыт придумывания «историй», чтобы блокировать любопытство детей или их интерес к некоторой деятельности, им противопоказанной. И наконец, Практически каждый, отказывая потенциальному поклоннику в свидании, говорил, что он слишком занят, потому что объяснять Настоящую причину отказа от приглашения (поклонник — скучный болтун с запахом изо рта, отвратительным смехом и лоснящейся кожей), с точки зрения социальных норм, недопустимо. Чтобы признавать ложь или мошенничество, моральная способность должна использовать возможность оценить причины и намерения, которые лежат в основе действий и их последствий. Иногда результатом будет суждение, что лгать нельзя, в других случаях ложь будет признана допустимой, иногда даже обязательной.
Возрастной психолог Джеймс Расселл предполагает, что вводящее в заблуждение «поведение обычно требует двух разных когнитивных навыков, а именно умения определять возможность того, что ложные представления могут быть внедрены в сознание других, и подавления уверенности каждого в истинности своего знания при внедрении того, что является ложным... Первое умение сфокусировано на факте обмана, второе на реализации стратегии»[265]. Дети, в конечном счете, приобретают оба умения, но как?
Чтобы обманывать и при этом избегать неприятностей, мошенник должен четко опознавать ситуации, когда за ним наблюдают, даже если он не видит связи между зрительным перцептивным актом и ментальным актом формирования знания[266].
В главе 4 уже говорилось о том, что у ребенка появляется способность объединять свое внимание со вниманием взрослого. Это важная веха в его развитии, она возникает приблизительно в четырнадцать месяцев. Эта способность не является специализированной для эволюции морали, но как часть «команды поддержки» она вносит свой вклад в готовность каждого индивидуума предлагать нравственно значимые решения, включая требования помогать нуждающимся в помощи. Через несколько месяцев после появления способности к объединению внимания у нормально развивающихся детей возникает игра с воображением, позволяя им думать об альтернативных условиях существования. Совместно распределяемое внимание и воображение —ступеньки, позволяющие продвигаться к формированию способности понимать мысли, чувства, желания и намерения других людей.
Воображение и совместно распределяемое внимание — компоненты психологических механизмов, обеспечивающих обман, разумеется неспецифические. То же справедливо и для моральной способности. Несколько позже к ним добавляются другие развивающиеся способности, включая способность отличать видимость от действительности и создавать полноценную модель психического. Но вводящие в заблуждение маневры возникают у детей рано — перед появлением некоторых из этих дополнительных способностей, представляя контрольный признак развивающегося сознания, которое видит различия между собой и другими[267].
Ранние формы моральных нарушений превращаются в более серьезные, поднимая важные вопросы о том, когда дети осознают нарушение и его последствия для себя и для других. Это, в свою очередь, связывает изучение психологии морального развития ребенка с юридическим анализом, положением ребенка в роли свидетеля и пониманием того, что это означает — говорить правду. Мы возвратимся к этому вопросу, как только изложим в деталях некоторые психологические аспекты.
Возрастной психолог Майкл Чандлер и его коллеги провели эксперименты с участием детей от двух до четырех лет, чтобы установить различные факторы, которые включены в акт обмана, и оценить, когда они начинают развиваться и окрашивать и суждение, и поведение. Экспериментатор сообщал каждому ребенку, что марионетка по имени Тони поможет спрятать мешок золотых монет и драгоценностей в одном из четырех контейнеров. Однако Тони — неаккуратное существо и всегда оставляет следы. Цель состояла в следующем: так спрятать мешок, чтобы второй экспериментатор, которого в тот момент в комнате не было, не нашел мешка, когда возвратится. Интересно было выяснить, будут ли дети разного возраста спонтанно вводить в заблуждение (или обманывать) экспериментатора.
Дети всех возрастных групп обманывали. Проявления обмана: или стиснутые губы, или ложь в ответ на вопрос экспериментатора о местонахождении мешка, или ликвидация следов Тони и, что особенно мне понравилось, добавление новых следов, указывавших ложное местоположение мешка. Никто не давал этим детям уроков Макиавелли о том, как обманывать. Они спонтанно производили действия, необходимые для введения в заблуждение экспериментатора. Детское поведение указывает на сложный набор компетентностей. Например, они должны были на некотором уровне осознавать, что шаги Тони — прямой указатель скрываемого местоположения мешка. Однако это могла быть простая ассоциация, извлеченная из их собственного опыта наблюдения за тем, как Тони прячет мешок и поэтому знает, где впоследствии его можно найти. Они также должны были знать, что, когда нет никаких следов, нет и никаких признаков местоположения мешка, пока никто ничего не говорит об этом. Они также должны были понимать, что могут использовать собственное знание, чтобы ввести в заблуждение экспериментатора, предлагая ему смотреть в другом месте. И их память уже должна быть достаточно хорошей, чтобы помнить, где мешок был скрыт на самом деле, чтобы указать на другое место. Все перечисленное дает основание считать, что дети этого возраста могут одновременно различать две модели ситуации: истинную, связанную с фактическим расположением мешка, и ложную, обозначаемую мнимым местоположением мешка. Наконец, большинство испытуемых были не в состоянии обеспечить достаточные объяснения своих вводящих в заблуждение действий, что подтверждает различие между ранней интуитивной компетентностью и способностью к сознательным рассуждениям на материале того же концептуального ландшафта.
Насколько чувствительны маленькие дети к обстоятельствам, в которых ложь является допустимой? Когда дети начинают отличать ложь со злостными намерениями от лжи, позволяющей избежать нанесения вреда другому человеку? В возрасте четырех лет дети уже готовы понимать, что некоторые выражения лица в определенных социальных контекстах необходимо скрывать. Например, в экспериментах, где детям за хорошее поведение обещали желанную игрушку, но вместо нее вручали другую, непривлекательную, они проявляли признаки разочарования на своем лице только тогда, когда их оставляли наедине с этой игрушкой. В то же время дети подавляли эти признаки разочарования в выражении своего лица, если экспериментатор оставался в комнате. Эти эксперименты показывают раннюю чувствительность к правилам общения, которая частично управляется желанием избежать оскорбления чьих-либо чувств.
Чтобы исследовать проявления безобидной лжи, психологи Тальвар и Ли провели эксперименты с участием детей трех — семи лет. Они использовали задачу с помадой, которая воспроизводит логику экспериментов с зеркалом, применявшихся для изучения развития самосознания (эти эксперименты обсуждались в предшествующей главе). Работая с одной группой детей, женщина-экспериментатор с поляроидом входила в комнату, при этом на носу у нее было красное пятно от помады. Она спрашивала у детей, достаточно ли хорошо она выглядит, чтобы сфотографироваться. Затем каждый ребенок делал снимок женщины, и она уходила. После этого входил второй экспериментатор и спрашивал, достаточно ли хорошо выглядела женщина, чтобы сделать ее приличную фотографию. Затем он смотрел на полученную фотографию и обсуждал ее с детьми. В контрольной, второй группе детей выполнялась та же процедура, но на носу женщины-экспериментатора следов помады не было.
Дети из группы 1, независимо от возраста, обманывали чаще по сравнению с детьми из группы 2. Когда женщина-экспериментатор спрашивала о том, как она выглядит, дети из группы 1 солгали ей, не сказав о помаде. Однако позже второму экспериментатору они сказали, что она не хорошо выглядела, чтобы фотографироваться. Факт, что дети говорили правду второму экспериментатору, но лгали первому, показывает, что они не просто послушные «соглашатели» перед лицом авторитета.
Появление способности сказать безобидную ложь приятным образом совпадает с появлением лжи, которая прикрывает моральные нарушения типа подглядывания за ширму, скрывающую игрушку, когда экспериментатор явно запрещает это действие. Вместе с тем подобные эксперименты показывают, что наша моральная способность чувствительна к случайностям, если бы не правила (которые допускают исключения из моральных требований) по поводу того, что запрещено, а что нет. Эти компетентности появляются рано, возможно, у каждого ребенка и без помощи преподавателей, родителей и других наставников.
Факт, что маленькие дети могут иногда участвовать в обмане, не подразумевает, что их компетентность полностью оформилась, достигнув уровня сложности, которая является характерной для взрослых. Множество экспериментов и личный опыт любого родителя доказывают, что маленькие дети часто обнаруживают неумелость в осуществлении четко продуманной лжи. В описанных выше экспериментах с марионеткой Тони маленькие дети часто пристально вглядывались в то место, где был спрятан мешок. Дети разными способами пытались утаить свои уловки, когда их спрашивали, подсматривали ли они за ширму, брали ли печенье из коробки? В таких ситуациях они избегают прямо смотреть в глаза, отводят взгляд, отказываются отвечать, будучи не в состоянии признать, что их поведение (похоже, будто ребенок «проглотил язык») представляет бесспорное саморазоблачение. Часто, пытаясь обмануть, они не в состоянии понять последствий своих действий, а именно к чему, с точки зрения других людей, ведут «ложные следы». Эти ранние формы обмана отличаются от их зрелого выражения из-за двух отсутствующих компонентов. Ни один из компонентов не является специфическим для психологических механизмов обмана или моральной сферы в целом, и ни один не возникает на основе того, чему учат своих детей родители или что дети изучают в школе.
Первый компонент своим происхождением обязан теории психического модуля, обсуждавшейся в главе 4. Это базисный аспект психики человека, который связан с динамикой биологического созревания, относительно независим от культуры и образования, определяет смену отдельных этапов развития с первого года жизни вплоть до десяти лет.
Маленькие дети часто сами разоблачают свои попытки обмана, потому что не понимают, как их собственные действия изменяют представления других. Они не понимают, что ключ к бессовестному обману (в духе Макиавелли) в том, чтобы установить, когда другие заблуждаются. Эта способность появляется в начале пятого года жизни, и с данного момента обман становится все более сложным.
Второй компонент, также обсуждавшийся в главе 4, это исполнительная система психики — система, связанная с лобными долями мозга. Она отвечает за управление произвольными действиями, включая регулирование эмоций.
Значение объединения психологических механизмов обмана и полностью сложившейся системы, опосредующей представления ребенка об устройстве мира, состоит в том, что оно решающим образом связано с одним из наших главных героев — созданием Ролза. Когда ролзианское существо оценивает действие с точки зрения его допустимости, оно подсознательно и автоматически оценивает причинные и намеренные аспекты действия и его последствий. Решение вопроса о том, что считать моральным нарушением, зависит от основополагающей причины.
В главе 1 я обсуждал известную моральную дилемму, первоначально сформулированную философом-экзистенциалистом Жаном Полем Сартром. Индивидуум сталкивается с двумя вариантами, связанными с обещанием вернуть взятое на время ружье после сезона охоты. Первый вариант: он держит обещание и возвращает ружье, зная, что его владелец был клинически диагностирован как психопат. Второй вариант: он нарушает обещание, оставляет ружье у себя и спасает жизни многих людей, кому потенциально мог угрожать психопат. Интуиция большинства людей позволяет считать ложь в этой ситуации допустимой, поскольку она позволяет избежать большего вреда. Главным в этом интуитивном решении является суждение, согласно которому намерение солгать рассматривается как положительный результат (спасение многих людей), а не отрицательный (нарушение обещания). Однако люди, в том числе дети, оценивая эту ситуацию, возможно, согласились бы и с таким утверждением: если бы владелец не был психопатом, то нарушение обещания было бы неправильным поступком.
Все юридические системы базируются на способности некоторого управляющего органа проводить различие между ложью и истиной. Любой судья, занимающий нейтральную позицию, должен опросить обвиняемого и всех включенных в процесс свидетелей, чтобы получить доступ к истинному положению дел. В некоторых ситуациях единственными свидетелями в деле могут оказаться дети. Во многих странах число детей, выступающих свидетелями на судебных процессах, существенно выросло. По сообщениям, только в США, начиная с 1990 года, их число достигло приблизительно ста тысяч в год, а возраст детей-свидетелей снизился до трех лет. Каким образом суд должен решить, является ли их информация полезной, насколько объективно она отражает то, что произошло на самом деле?
В Соединенных Штатах и Канаде суд реализует двухэтапную процедуру, перед тем как допустить ребенка к трибуне свидетеля. Сначала судья задает ряд вопросов, чтобы оценить, понимает ли ребенок различие между ложью и правдой, осознает ли он последствия той и другой? Цель состоит в том, чтобы установить, готов ли ребенок к нравственному действию — правдивому изложению событий. Если судья удовлетворен ответами ребенка и убежден, что его память о случившемся достаточно надежна, наступает второй этап. Ребенок должен обещать говорить правду. Если оба этапа удачно пройдены, то ребенок появляется на трибуне свидетеля. В отсутствие правдивого свидетеля-ребенка сексуальные извращенцы вообще могли бы никогда не попасть за решетку.
Двухэтапная процедура суда базируется на некоторых предположениях об отношениях между компетентностью и выполнением. Действительно ли более вероятно, например, что дети, которые понимают различие между правдой и ложью, в суде скажут правду? Когда дети обещают говорить правду, понимают ли они, чем вызвана необходимость этого обещания? Насколько обещание говорить правду, данное ребенком, не позволяет ему солгать в суде? Для того чтобы ответить на эти вопросы, Тальвар и ее коллеги провели ряд экспериментов с участием детей трех — семи лет. Результаты показали, что дети всех возрастных групп признают ложь как моральное нарушение и часто заявляют, что лгун должен исправиться и сказать правду. Когда гипотетические сценарии включали их собственные действия, дети всех возрастов часто лгали, чтобы скрыть свои нарушения.
Есть два способа интерпретировать эти факты. С одной стороны, дети могут иметь рано развившуюся общую компетентность, позволяющую отличить ложь от истины, но когда эта необходимость возникает в их собственных действиях (непосредственном исполнении) или когда их просят сообщить, как бы они поступили, иногда они лгут. Намеченные позиции (от компетентности к признанию нарушения и от него к исполнению — необходимости сделать что-то по этому поводу) не всегда возможно объединить или выстроить параллельно. В этот процесс могут вмешаться другие способности, препятствуя обнаружению правды. Альтернативно, хотя и не всегда исключая первое, дети могут понимать общее правило: лгать нельзя. Однако они просто не желают следовать кантианскому категорическому императиву: если плохо, когда лгут другие, значит, лгать нехорошо и для меня тоже. С другой стороны, несогласованность в поведении ребенка обнаруживает недостатки в процедуре суда: факт, что ребенок признает различие между ложью и правдой и воспринимает правдивое сообщение как действие более высокого морального уровня, не подразумевает, что он реализует эту позицию, когда возникнет необходимость такого рода в его собственных действиях. Качество судебной процедуры при этом сомнительно. Первый этап в этой процедуре не обеспечивает никакой гарантии, что дети скажут правду.
Внимание СМИ к отвратительным случаям педофилии среди духовенства (большинство публикаций появилось на пороге нового тысячелетия) обнажило проблему сексуальных злоупотреблений и сделало ее доступной для всеобщего обсуждения. Эти дела также поднимают вопрос о надежности оценочных механизмов судопроизводства: до какой степени маленькие дети способны лгать, чтобы скрыть, насколько близки к нарушениям такие индивидуумы, как священники и родители? Осознают ли они не только факт своей собственной лжи, но и последствия искажения правды для себя и для других? Как указывают Тальвар с сотрудниками, при опросе этот вид лжи часто имеет форму сокрытия информации. Сокрытие информации может прикрываться извиняющимся неведением или предоставлением ложной информации, чтобы скрыть правду. Сокрытие информации вообще не несет никакого морального бремени. Когда некто сообщает мне нечто по секрету, мы совместно храним эту тайную информацию. Иногда будет неправильным сообщать кому-то другому эту информацию, даже если тебя об этом просят люди, наделенные полномочиями. Например, если друг сообщил мне об изобретении, рассчитывая получить на него патент и разбогатеть, с моей стороны было бы неправильно рассказать об этом другим, — при условии, что я поклялся хранить тайну. С другой стороны, если взрослый подвергает ребенка сексуальным домогательствам и затем настаивает, чтобы ребенок сохранил это в тайне, кажется нравственно допустимым, даже обязательным для ребенка сообщить о злоупотреблении властям. Еще раз подчеркнем, твердая Деонтологическая позиция здесь проблематична, потому что Иногда оказывается допустимым лгать, нарушая обещание сохранить тайну. С намерениями лгуна и нарушителя обещаний нельзя не считаться.
Рассмотрим эпизод с патентом и случаи сексуального злоупотребления. Нарушение обещания в определенном смысле имеет целью навредить тому человеку, которому оно было дано. В случае с патентом нарушитель обещания открывает сверхсекретную информацию, что сведет на «нет» мечты изобретателя разбогатеть. Трудно воспринимать такой поступок иначе, чем в самом злонамеренном смысле. Напротив, хотя нарушающий обещание ребенок также намеревается вредить человеку, которому было дано обещание, мы воспринимаем это в положительном смысле — как обеспечение должного возмездия за сексуальное домогательство. Исключение из правила «никакого нарушения обещания» возвращает нас к проблеме содержательности исходного обещания. Сексуальный насильник не имеет никакого права просить ребенка сохранить свои действия в тайне, поскольку его действия вредят ребенку. Нельзя просить, чтобы другой человек сдержал обещание, если предмет обещания представляет собой моральное нарушение. Даже этот деонтологический принцип будет иметь исключения, которые определяются возможностью изменения некоторых параметров.
Тальвар с сотрудниками воспроизводили последовательность событий, которые, как правило, происходят, когда дети оказываются свидетелями морального нарушения и вызываются в суд как свидетели. В этот круг входят: описание случая, расспросы социального работника о том, что случилось, беседа с членом суда относительно понимания моральных различий и ответы ребенка судье на его просьбу рассказать правду. В первом эксперименте участвовали дети от трех до одиннадцати лет. Каждый ребенок видел, как его отец после ухода экспериментатора ломал куклу-марионетку. Затем отец обнаруживал признаки огорчения и, показывая ребенку сломанную куклу, просил его никому не говорить об этом. Как только ребенок соглашался сохранить эту тайну, возвращался экспериментатор и задавал ребенку ряд вопросов о кукле. При этом в одном варианте вопросы задавались в присутствии родителя, во втором — в его отсутствие. Во втором эксперименте дети того же возраста входили в комнату, видели кого-то из родителей — маму или папу, сидевших рядом со сломанной куклой. Родитель объяснял им, что случилось, и просил держать это в тайне. Таким образом, второй эксперимент отличался от первого только одним пунктом: ребенок не видел, кто сломал куклу.
Первый эксперимент (в обоих вариантах) был организован таким образом, чтобы воспроизвести процедуры, проходящие в зале суда, куда маленького ребенка часто сопровождают его родители. Существует ли «эффект аудитории», какова вероятность того, что дети скроют нарушение в присутствии родителей? Цель второго эксперимента состояла в том, чтобы устранить возможность, при которой ответственность за сломанную куклу можно было бы приписать ребенку. Это отнюдь не редкая ситуация, когда дети думают, что официальные лица будут считать их, а не взрослых ответственными за нарушение, даже когда они невиновны. Далее, беседуя с ребенком, второй экспериментатор снова проверял, как он понимает разницу между ложью и правдой, и затем напоминал ему об обещании говорить только правду.
Во втором эксперименте было установлено, что дети всех возрастов с большей вероятностью будут лгать о кукле и первому, и второму экспериментатору. Когда дети четко знают, кто отвечает за моральное нарушение, и уверены, что их не будут обвинять в том, что случилось, они, более вероятно, будут лгать в обоих случаях: и социальному работнику, и сотруднику, имитирующему судебное интервью. В некотором смысле ложь — это эгоистичное средство, приберегаемое для ситуаций, где она выгодна, и отвергаемое, когда она может нанести ущерб личности. Когда дети лгут, скрывая неблаговидные действия родителей, их мотивы не могут быть альтруистическими!
Удивительно, но присутствие родителей не влияло на то, что дети говорили в интервью. Дети всех возрастов с одинаковой вероятностью будут лгать, находятся ли они под пристальным взглядом родителя, или родитель уходит в другую комнату. Из Других материалов, имевших отношение к судебной процедуре, Надо отметить тот факт, что во всех трех случаях (два варианта Первого эксперимента и второй эксперимент) дети с большей вероятностью говорили правду не в первом собеседовании, а во втором. Этот результат вызывает тревогу: из него следует, что социальные работники, привлеченные на первом этапе судебной процедуры, вероятно, будут чаще слышать ложь из уст травмированного ребенка, а правдивое детское сообщение услышат, скорее всего, члены судебного заседания. Главная причина этих различий может быть в том, что судебная экспертиза компетентности ребенка, цель которой — показать, что маленькие дети понимают, что такое ложь и моральные нарушения вообще, дает результат, который похож на последствия применения «сыворотки правды». Когда детей прямо и настойчиво вынуждают отделить правду от лжи, правда преобладает.
Тот факт, что дети, давшие слово сохранить в тайне правду о нарушении, более вероятно, будут лгать, не должен уводить от основного результата работы: большинство детей, независимо от условий эксперимента, говорили правду. Они сообщили о неблаговидном поступке своих родителей. Таким образом, даже перед авторитетными лицами, которые могли бы их смущать, они давали правдивые ответы.
Однако неясным остается, насколько результаты этого исследования можно распространить на другие эмоционально более существенные моральные дилеммы? В этих экспериментах родители никогда не говорили своим детям о том, к чему ведет нарушение обещания хранить тайну. Негативные последствия не были четко сформулированы. В случае сексуального злоупотребления насильник часто может угрожать жертве самыми жестокими последствиями, если жертва рискнет раскрыть секрет преступления. Например, это могут быть такие слова: «Если ты скажешь об этом, меня посадят в тюрьму и мы никогда больше не будем вместе». Далее, в отличие от экспериментов с куклами, при сексуальном злоупотреблении ребенок бывает лично вовлечен в тайное действие. Эти критические замечания вытекают из изучения развивающейся моральной компетентности ребенка. В совокупности эти данные дают основание считать, что во многих случаях наши суды привлекают в качестве свидетелей некомпетентных детей. В результате становится весьма ощутимым несоответствие между моральной компетентностью и качеством выполнения требований судебного процесса. Юристы, возьмите это себе на заметку!
Нос Пиноккио
Мэри Крофорд, героиня романа Джейн Остин «МэнсфильдПарк», говорит: «Эгоизм всегда следует прощать... потому что нет никакой надежды его излечить»[268]. Я начал главу 4 с подобного заявления, но оно было сформулировано на основе данных возрастной и эволюционной биологии. Согласно представлениям Хэйга, плод отнюдь не пассивная губка, готовая поглотить все то, что должна предложить мама. Наш небольшой плод — эгоистичный боец, «машина, всасывающая ресурсы».
Сотрудничество и взаимные обмены — всего лишь один из многих контекстов, в которых мы противостоим искушению обмануть. Но есть также часть нашего внутреннего мира, которая стремится к справедливости, она является искренне альтруистической и готова наказать тех, кто пробует уничтожить кооперацию взаимодействующих личностей. Эта особенность нашей психики вполне может быть специфически человеческой. Она развивалась и совершенствовалась в борьбе с разного рода мошенничествами и составляет основную часть нашей моральной способности.
Экономические игры сотрудничества, о которых я уже писал в этой главе, а также в главе 2, по своей природе социальны, даже когда в них играют только однажды и анонимно. В игре раскрываются особенности человеческой натуры. Например, участники игры умеют выявлять мошенников, которые пытаются использовать в своих интересах доброжелательность других. Люди способны ко многому. В частности, мы способны отслеживать и выявлять мошенников, что само по себе не свидетельствует в пользу того, что мы приобрели это умение в ходе эволюции как специализированную способность. Может быть, наша способность обнаруживать мошенников является частью более общей способности, предмет которой — контроль за соблюдением правил общежития.
Человек, наделенный такой способностью, лучше других может выяснить, как и когда было нарушено правило. Чтобы определить факт нарушения правила, мы анализируем ситуацию, формулируем выводы, проверяем предположения и в итоге оцениваем, что правильно, а что ошибочно. Решение проблем с позиций формальной логики объединяет разные варианты жизненных ситуаций, приводя их в исходную точку, с которой начинается процесс решения, реализуемый на основе наших способностей к рассуждению.
Логика — красивая форма математического познания, потому что она абстрагируется от случайных моментов, которые содержатся в ситуационном контексте, рассматривая отвлеченные переменные и их отношения. Например, соотнесите два утверждения, названные Р и Q соответственно. Если я заявляю, что Р — истинное утверждение и Р подразумевает Q, то из этого следует, что Q — также истинное утверждение. Точно так же, если я говорю вам, что одно из двух — или Р, или Q — является истинным утверждением, а затем заявляю, что Р верно, вы должны логически заключить, что Q ложно. Наполните содержанием, которое вам нравится, эти абстрактные значения Р и Q. Логика сохранит свою силу. Вот пример.
Утверждение «Джо спит» верно. Оно подразумевает другое утверждение: «Джо не знает, что его собака таскает еду из холодильника». Следовательно, утверждение «Джо не знает, что его собака таскает еду из холодильника» также верно.
Удивительно, но решение проблем с помощью логических выводов многим людям дается с трудом. Большинство студентов колледжа испытывают головную боль и муки при изучении курсов логики. Рассмотрим следующую проблему и ее решение.
ПРОБЛЕМА. Вы — детектив, расследующий убийство, о котором недавно сообщили. Полицейский на месте преступления передает вам следующую информацию. Задержаны трое подозреваемых: Фред, Билл и Джо. Если Фред невиновен, тогда виновен или Билл, или Джо. Рассматриваем только Билла и Джо, имеющиеся улики свидетельствуют: только один из этих двух невиновен. Либо Фред невиновен, либо Билл невиновен. Кто же является виновным?
РЕШЕНИЕ. Немногие сразу дают правильный ответ. Часто требуется несколько попыток, а также ручка и бумага, чтобы решить эту проблему с союзами: ЕСЛИ, ЛИБО, ИЛИ, ТОГДА. Ответ состоит в том, что Фред и Билл являются виновными. Согласно второму утверждению, или Билл невиновен, или
Джо невиновен. Следовательно, мы можем возвратиться к первому утверждению и заключить, что Фред должен быть виновен, потому что Билл и Джо не могут быть оба виновны. Если Фред виновен, то Билл также должен быть виновен. Для многих это звучит подобно словесной чехарде.
Между тем существует обширная научная литература, посвященная неполноценности наших способностей к рассуждению. Большая ее часть сосредоточена на изучении способов, которые мы используем для объединения и обобщения разных данных, в том числе статистических. Эти материалы свидетельствуют о том, что, в отличие от двигательной активности, зрительного и слухового восприятия, которые мы реализуем легко, без инструкции или многих лет обучения, рассуждения даются человеку гораздо труднее, требуют опыта и часто открытого вмешательства наставника. Таково представление об общих мыслительных способностях человека. Оно упускает из виду, однако, то, что в процессе эволюции наш разум развил более эффективные специальные способности к рассуждениям при решении конкретных проблем разного типа. Именно этот вид способностей обеспечивает наш первый серьезный шаг в мир аргументированных суждений без явного рассуждения, в мир, который составляет ядро нашей моральной способности.
Эволюционные психологи Леда Космидес и Джон Туби утверждают, что есть один контекст, в котором наши мыслительные возможности проявляют себя как тонко настроенные механизмы, создавая впечатление того, что мы унаследовали выдающиеся способности к логическому анализу. Это — именно тот контекст, в котором действовали и о котором более всего заботились наши предки, представители семейства гоминид. Речь идет о социальных договоренностях и системах обмена. Давайте вернемся к концепции взаимного альтруизма Триверса. Попробуем превратить логический вывод «если Р, тогда Q» в правило, определяющее суть социального договора. В этом случае обычные люди, в противоположность специалистам по формальной логике, находят такие проблемы тривиально легкими.
Суть оригинальной идеи Космидес и Туби — наш разум в процессе эволюции развил способность решать социально релевантные проблемы типа обнаружения мошенников, которые нарушают правила. Очевидно, что взаимность нуждается в справедливости, поэтому устойчивый взаимный обмен обязательно требует справедливого вклада партнеров. Он зависит от выявления тех, кто изменяет своему слову, нарушает обещания или обязательства. Их обнаруживают и обязательно, в конечном счете, наказывают. В связи с этим, вероятно, в процессе эволюции у человека сформировалась специальная способность действовать на основе анализа затрат и выгод от следования условиям социального контракта. Для того чтобы проверить свою догадку, ученые заимствовали задачу психолога Питера Уэйсона, известную как «задача выбора Уэйсона». Первоначально задача была предназначена для того, чтобы исследовать нашу способность делать логические выводы, в частности в рамках условных отношений формы «если Р, тогда Q». Чтобы проиллюстрировать проблему, рассмотрим два примера: один классический и один пример, преобразованный для выявления логики социальных контрактов.
КЛАССИЧЕСКИЙ ПРИМЕР. У вас есть колода необычных карт: на одной стороне каждой карты — буква, а на другой стороне — цифра. Экспериментатор берет четыре карты и раскладывает их перед вами так:
Следующее утверждение, касающееся этих карт, может быть правильным или ложным: «Если на одной стороне карты есть буква D, то с другой стороны карты должна быть цифра 3». Чтобы решить, правильное это утверждение или ошибочное, какую карту или карты надо открыть?
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ. Вас приняли на работу, вы должны следить за порядком в баре, выполняя следующее правило: «Пиво могут пить только посетители старше двадцати одного года». Карты представляют четырех человек в баре. На одной стороне карты — что пьет человек (пиво или кола), на другой стороне — возраст человека. Какие карты нужно перевернуть, чтобы гарантировать соблюдение правила?
Большинство людей считают, что первая проблема труднее, чем вторая. Ответ к первому заданию таков: нужно открыть карты D и 7, потому что любая другая цифра, кроме 3, на обороте карты с буквой D — это нарушение правила; далее, если карта с цифрой 7 имеет на обороте букву D, правило нарушено. Нет никакой нужды переворачивать карту с буквой F, потому что задание не предусматривает условий для карт, маркированных буквой F. Точно так же, хотя в условии сказано, что все карты с буквой D имеют на обороте цифру 3, это не означает, что все карты, маркированные цифрой 3, должны иметь на обороте букву D, и только D. Обычная ошибка при решении этого задания состоит в том, что испытуемые забывают выбирать карту с цифрой 7.
Ответ на вопрос социального контракта: карты с пометой «20 лет» и «пиво». Условие нарушается в двух случаях: когда пиво пьют индивидуумы моложе двадцати одного года и когда возраст индивидуумов, пьющих пиво, меньше двадцати одного года. В условиях задачи не говорится о разрешении употребления напитков для посетителей двадцати четырех лет, а также для посетителей старшего возраста, которые пьют колу. Второе условие кажется наивным, но проявите снисхождение. В этом суть. Проблема социального контракта, связанного с употреблением напитков и возрастом потребителей, решается легко, она кажется прозрачной. Решение классического примера с картами, маркированными разными цифрами и буквами, вызывает затруднения испытуемых, он не прозрачен. Почему?
Космидес и Туби собрали внушительное количество доказательств в поддержку своего утверждения, что проблемы, вовлекающие социальные контракты, выявляют специализацию, которая присутствует у всех людей. Способность такого рода превратила бы каждого в Пиноккио, неспособного скрыть свою ложь. Эта способность могла бы оказаться настолько тривиальной, что мошенников можно было бы опознать как Пиноккио по «длинным носам».
Причина, почему некоторые испытуемые добиваются большего успеха при решении измененной версии задачи выбора Уэйсона, состоит в том, что они воспринимают проблему как социальный контракт, вовлекающий обязательство. Обнаружение мошенника — простая задача, потому что мы придумали алгоритм, как искать того, кто присваивает выигрыш, не выполняя требование, связанное с начальным обязательством. В описанном выше примере мошенником является человек, который пьет пиво (выгода) при условии, что ему меньше двадцати одного года (не выполнил требование). Объединив эти информационные блоки, люди лучше решают модифицированную форму задачи выбора Уэйсона. Однако главная причина, почему им это удается лучше, чем решение классического примера, в том, что наш ум в процессе эволюции развил уникальную специализацию, позволяющую легко воспринимать социальные контракты и обнаруживать их нарушения. Социальные контракты, касаются ли они продажи пива или представляют письменные, составленные согласно юридическим требованиям договоры, являются обязательствами. Они предусматривают доверие. Их нарушение вызывает недоверие и каскад эмоций, направленных на увеличение бдительности и подготовку возмездия.
Космидес и Туби расширили свои аргументы. Дело не только в том, что мы обладаем универсальной способностью обнаруживать мошенничество. Данная способность лишь часть той «экипировки», которую нам предоставила эволюция для ведения переговоров по социальным контрактам. В целом эти функции обеспечивает специализированная система мышления, которая работает подсознательно и автоматически. Когда испытуемые читают версию социального контракта задачи Уэйсона, автоматически, подобно рефлексу, запускается поиск мошенника. Внешне решение проблемы социального контракта напоминает сцену из представления «Где Вальдо?», когда дана установка наити красно-белую полосатую рубашку, и, изображая поиск, внезапно выскакивает Вальдо[269].
Тем не менее тот факт, что мы воспринимаем эти ситуации автоматически, не подразумевает, что наши ощущения по их поводу не восприимчивы к последующим размышлениям. Мы можем получить быстрое и автоматическое, интуитивное представление о ситуации, сформировать суждение, а затем переоценить его. Наши оценки могут также изменяться в зависимости от изменений контекста. Но эти эффекты не отменяют того обстоятельства, что есть начальное и часто точное суждение о самом факте обмана.
Эволюционная релевантность может быть только одним фактором из совокупности причин, которые способны влиять на выполнение задачи Уэйсона[270].
Если другие факторы также помогают лучше выполнить задачу, то, может быть, наши успехи при решении проблем социального взаимодействия — просто один из примеров действия общего механизма обработки релевантной контексту информации? Антрополог Дэниел Спербер и психолог Витторио Гиротто утверждают, что эффективность выполнения существенно возрастает, когда есть некоторое вознаграждение за обнаруженное нарушение и когда релевантность контекста зависит от понимания намерений организатора: что он или она желает передать. В таких случаях коммуникативное сообщение прозрачно, его легко понять и испытуемые, кажется, делают логические выводы без усилий.
Давайте вернемся к общему логическому утверждению «если Р, тогда Q». Оно до некоторой степени неоднозначно, потому что есть много других способов, с помощью которых оно может быть представлено. Например, из утверждения «если Р, тогда Q» логически следует другое: есть нечто «не Р или Q». В логических экспериментах, однако, немного людей обнаруживают этот альтернативный способ представить то же самое условие. Чтобы Показать, как простое изменение в формулировке делает один случай легким, а другой трудным, рассмотрим следующие два утверждения, которые сформулированы на основе тех же логических отношений, но имеют разное содержание: (а) прямой вариант: «если Р, тогда Q» и (b) — альтернативный вариант: «не Р или Q»:
1a.Если вы спите с моей женой, я убью вас. 1b.Не спите с моей женой, или я убью вас. 2а. Если вам больше двадцати одного года, то вы можете пить алкоголь. 2b. Вам не больше двадцати одного года, или вы можете пить алкоголь.Первую проблему понять легко. Второе утверждение 1b следует естественно и очевидно из первого утверждения 1а. Во втором случае эти два утверждения кажутся крайне разъединенными. В чем особенность формулировки проблемы 1, которая делает ее столь не похожей на проблему 2? Как заставить человека увидеть, что условие из формы «если Р, тогда Q» может быть представлено различными способами? Исследователи мышления Спербер и Гиротто предполагают, что, получая описание случая через отрицание, люди с готовностью рассуждают по поводу этой проблемы и ищут альтернативное представление по формуле нечто «не Р или Q». Кроме того, когда условие написано как утверждение, касающееся моральных прав, люди интерпретируют формулу «если Р, тогда Q» как требование того, что запрещается (т. е. утверждение «Р и не Q» является эквивалентным обману). Таким образом, Спербер и Гиротто указали на то, что наша способность обнаруживать нарушения в условном утверждении «если Р, тогда Q» не зависит от конкретной способности обнаруживать мошенников. Более того, если контекст релевантный, намерения организатора четкие, а альтернативное представление условий прозрачно, испытуемые легко выполняют многие варианты задачи Уэйсона.
В ответ на критику Космидес, Туби и их коллеги представили своим оппонентам три определенных ответа. Во-первых, они утверждают, что результаты исследований, показывающих повышение эффективности выполнения задач Уэйсона посредством управления другими, несоциальными контекстами, не относятся к делу. Потому что первичные интуитивные представления человека в процессе эволюции имели адаптивную задачу: он использовал рассуждение для того, чтобы решать проблемы социального обмена и обнаружения мошенника. Тот факт, что существуют психологические механизмы, использующие рассуждение для решения других задач, — отдельная проблема. Далее, возможно, что у человека в эволюции развилась специальная способность для обеспечения социальных контрактов и обнаружения мошенников, которая впоследствии была «заимствована» для решения других проблем, которые появились в нашей эволюционной истории.
Второе опровержение поступает из ряда исследований, в которых задача Уэйсона существенно модифицируется. Эволюционные психологи Гигерензер и Хуг провели эксперимент, в котором каждый испытуемый прочитывал следующее утверждение: «Если служащий получает пенсию, то этот служащий, должно быть, работал в фирме, по крайней мере, в течение десяти лет». Одной половине испытуемых экспериментатор сказал, что они должны воспринимать эту фразу, как будто они были управляющими, а другой половине, — как будто они были служащими. Хотя каждый участник эксперимента читал одно и то же утверждение, их установки оказались разными. Служащие искали обман со стороны управляющих, а управляющие пытались найти обман со стороны служащих. Таким образом, одна лишь смена установки смещает фокус внимания на специфические виды нарушений.
В оригинальных экспериментах Космидес и Туби испытуемые прочитывали исходное утверждение, написанное на карте: «Если вы X, то должны носить кусочек вулканической скалы, подвязанный к вашей лодыжке». Чтобы определить, какую карту следует переворачивать, вы должны искать людей, которые подходят на роль X, и тех, кто не носит кусочка вулканической скалы на своей лодыжке. Когда статус X связан с каким-то вознаграждением, например с посещением вечеринки, испытуемые выполняли задачу хорошо, без нарушений. Когда статус X не несет вознаграждения или предполагает наказание, испытуемые выполняли задание плохо. Вместе взятые, эти результаты, кажется, подвергают сомнению критическую линию Спербера — Гиротто, поскольку единственный фактор, который изменяет выполнение испытуемым задания, — специфика поощрений и наказаний, имеющих отношение к некоторому социальному контракту.
Третий ответ авторы формулируют на основе обследования пациента Р. М. с повреждением путей, соединяющих основания лобных долей и миндалину[271].
Как упоминалось в главе 4, эта часть лобных долей обеспечивает тормозной контроль поведения и обработку информации, связанной с вознаграждением, в то время как миндалина обеспечивает эмоциональную оценку ситуации. Когнитивный невролог Валери Стоун и ее коллеги предъявляли пациенту Р. М. две формы задачи Уэйсона. Первая форма, как и ранее, представляла условие социального контракта, вторая форма диктовала в качестве условия необходимость соблюдать правила предосторожности. Условие социального контракта всегда имело следующую исходную форму: «Если вы выбираете выигрыш, вы должны удовлетворять определенным требованиям». Условие, предполагающее предосторожность, имело другую исходную форму: «Если вы выполняете опасное действие, сначала предпримите меры предосторожности». Приведем пример условия, требующего соблюдать осторожность: «Если вы прыгаете с утеса, сначала закрепите на себе страховочный шнур».
Хотя оба варианта задач подпадают под одну широкую категорию[272], мы могли бы получить доказательство их разного нервного обеспечения, наблюдая у испытуемого Р. М. утрату способности к решению только одного из двух заданий. В неврологии такое различие, или разобщение, — информативный признак, свидетельствующий о двух разных мозговых системах, каждая из которых выполняет свои функции. По характеру выполнения задания, требующего соблюдения предосторожности, пациент Р. М. напоминал здоровых испытуемых, но его эффективность падала на 40% ниже нормы при выполнении заданий по социальным контрактам. Если в основе способности к рассуждениям лежит общая психологическая система без специфических ограничений на содержание, то этот вид дефицита объяснить нельзя. Единственный способ объяснить различия в выполнении пациентом Р. М. заданий — это признать, что нейрофизиологическая основа различных видов рассуждения связана с разными видами нервных сетей. Однако это отнюдь не вариант известной поговорки «каждому свое». Скорее это аргумент в пользу представлений об особенностях умственных способностей и строения мозга человека вообще. Независимо от того, кто вы — охотник/собиратель, живущий в саванне, или бизнесмен с Уолл-стрит, ваш мозг обладает различным «программным обеспечением», благодаря чему возникает мышление в сфере социальных контрактов, с одной стороны, и предосторожности в организации поведения — с другой.
Что можно сказать относительно развития этих способностей? Можно ли утверждать, что ранняя компетентность в обмане других развивается параллельно с ранней компетентностью в выявлении мошенников — индивидуумов, которые не в состоянии следовать за социальными соглашениями и моральными правилами? С раннего детства родители и преподаватели учат детей правилам. Некоторые отличаются крайней прямолинейностью: никогда не бей брата, расчеши волосы, не задирай нос. Другие более сложные, они включают условия, почти идентичные тем, которые обсуждались выше. Если ты съешь овощи, то получишь десерт; если ты уберешь свою комнату, я возьму тебя в кино; если ты не закрепишь ремень безопасности, у нас могут возникнуть неприятности. Если Космидес и Туби правы и эта область размышлений является частью сложившейся в эволюции специализации, то маленькие дети должны обнаруживать раннюю компетентность в решении заданий, которые зеркально отражают задачу Уэйсона с выбором карты. Напротив, если эта форма рассуждения опосредуется более общими способностями, призванными решать проблемы индуктивного типа (проблемы, решение которых регулируется множеством правил), то способность ребенка должна появляться постепенно и обнаруживать более существенные кросскультурные различия.
В наборе заданий, специально разработанных для того, чтобы расширить изучение развития описанных выше компетентностей, возрастные психологи Нуньес и Харрис подготовили версию задачи Уэйсона с выбором карты, подходящую для ребенка трех-четырех лет[273].
Дети слушали несколько историй, построенных по одной схеме: ребенок хочет выполнить некоторое целевое действие, но сначала по настоянию родителя он должен сделать что-то еще. Каждая история, таким образом, включала разрешающее действие, но с ключевым условным утверждением: если ты хочешь получить разрешение, тогда ты должен удовлетворить предшествующее условие. Вслед за историей экспериментатор выкладывал перед ребенком четыре картинки, описывал каждую и затем просил, чтобы ребенок идентифицировал ту, которая представляет нарушение родительского условия. Затем ребенок должен был объяснить, почему дело обстоит именно так.
Рассмотрим в качестве примера историю о Сэме. Однажды Сэм захотел поиграть на улице. Его мама заявила, что, если он выходит из дома, чтобы поиграть, он должен надеть шапку. Вот четыре картинки, изображающие Сэма. На этой картинке (экспериментатор указывает на верхнюю картинку слева) Сэм у себя дома и на голове у него шапка... (Так описывается каждая картинка.) Затем внимание ребенка привлекают к картинке, где Сэм не послушался маму, и спрашивают: «Что на этой картинке Сэм сделал неправильно?»
Задача оказалась простой для детей и трех, и четырех лет. Мало того что они идентифицировали непослушного ребенка в знакомых ситуациях (такого, как Сэм), но также и в незнакомых ситуациях, даже таких, где мать просит свою дочь носить головной убор от солнца, когда та занимается живописью в закрытом помещении. Дети в этом возрасте были также способны объединять знание правил, регламентирующих поведение, со своим пониманием психических состояний других людей, проводя различие между намеренными и случайными нарушениями правила. Например, мама Сэма просит, чтобы он носил шапку, если играет на улице. На одной картинке Сэм на улице, и сам снимает шапку во время игры; на второй картинке ветер сдувает шапку Сэма в то время, как тот играет на улице. Дети признают, что только первая картинка представляет нарушение. Они понимают, что в моральной оценке ситуации важны не только последствия, но и средства, с помощью которых они были достигнуты.
Эти данные сопровождаются и другими выводами. Согласно им, действия, причиняющие вред (и в физическом, и в психологическом плане), совершаемые и в обычных, и в необычных жизненных ситуациях, оцениваются маленькими детьми как неправильные, и эти оценки зависят от намерений действующего лица. Например, дети в возрасте примерно до трех лет признают, что если действие причиняет вред, но намерение было хорошим, то оно оценивается менее строго, чем в том случае, когда намерение было плохим, т. е. с самого начала была цель — причинить вред. В совокупности эти наблюдения указывают на рано проявляющуюся способность улавливать тончайшие оттенки субъективного мира человека, противопоставляемого особенностям его поведения.
Вопреки и Пиаже, и Колбергу, открыто отрицавшим раннюю компетентность в сфере морали, которая зависит от умения распознавать намерения субъекта, эти исследования показывают, что маленькие дети обладают способностью идентифицировать мошенников. Они смотрят на причины и намерения действий, перед тем как соотнести их с моральным приговором. Хотя и в ограниченных пределах, эти результаты соответствуют предсказаниям Туби и Космидес: наша способность обнаруживать мошенников, которые нарушают социальные нормы, — скорее один из подарков природы, чем выученная способность, сложившаяся под влиянием родительской опеки с регламентирующими правилами.
Сострадательное сотрудничество
Романист Дороти Сайерс отметила: «Зависть — великий уравнитель: если она не в состоянии уравнять вещи, она опускает уровень... вместо того чтобы видеть кого-то счастливее других, она предпочтет видеть всех нас несчастными»[274].
Зависть — универсальная эмоция, связанная со злостью, и часто — источник нашего смущения и стыда, когда обнаруживаешь ее в своей душе. В отличие от своей эмоциональной сестры — ревности, зависть удостоилась намного меньшего внимания. В недавно изданной серии, посвященной семи смертным грехам, Джозеф Эпштейн пишет: «Происхождение зависти, как и мудрости, неизвестно, это тайна. Люди религиозного склада ума могли бы сказать, что зависть обязана своим возникновением первородному греху; это часть наследства человека, посланного «багажом» по пути из Эдема. Библия полна историями о зависти, некоторые истории содержат открытые действия, многие имеют завуалированный характер. Сущность зависти — в ее скрытости и недоступности для других».
Почти так же описывает это чувство психиатр Уильям Гэйлин: «Зависть действительно может быть бесполезной эмоцией. Она, кажется, не обслуживает ни одну из целей, столь явных для других эмоций. В отличие от чрезвычайных эмоций страха и гнева, она не обслуживает выживание; в отличие от гордости и радости, она не обслуживает стремление к достижениям или качеству жизни; в отличие от вины и позора, она не пробуждает совесть или другие чувства, необходимые для жизни в сообществе. Она не возбуждает, не освобождает и не обогащает нас»[275].
Этнографическая литература, посвященная описанию жизни охотников/собирателей, вместе с исследованиями в экспериментальной экономике и эволюционной психологии дают основания считать, что диагноз Гэйлина, поставленный зависти, устарел. Зависть нельзя игнорировать, поскольку она играет ключевую роль в выживании индивидуума, мотивируя его достижения, обслуживая осознание себя самого и других, возбуждая в человеке пристрастность, которая при наличии дополнительной стимуляции может привести к нарастанию насилия. Поскольку завистливые люди — источник угрозы, наблюдение за предметом их озабоченности может быть одним из способов избежать эскалации напряжения и восстановить нарушенное равновесие. В этой связи отметим, что наблюдение за поведением завистника не отрицает совершенно правильного заключения Гэйлина, согласно которому зависть является источником существенного недовольства и неприятностей. Как писал Шекспир в трагедии «Генрих VI», «где зависть порождает раздор, там наступает разрушение, там начинается смятение».
Первый шаг в понимании адаптивной логики зависти, которую можно рассматривать как один из компонентов в наборе средств создания Юма, связан с выяснением ее отличий от ревности. В то время как зависть всегда вызывается несправедливостью или неравенством во владении ценными ресурсами, ревность возникает, когда один индивидуум представляет угрозу, предполагаемую или реальную, установившимся отношениям, которые мы обычно воспринимаем как романтические, хотя они таковыми могут и не быть. Зависть поэтому развилась в ответ на воспринимаемую несправедливость, способную поддерживать дух соревнования с целью восстановить баланс.
В высокоэгалитарных обществах охотников/собирателей развивались многочисленные механизмы, задача которых состояла в том, чтобы поддерживать пристрастность и соперничество. Чувство зависти, а вслед за ней затраты усилий на уничтожение чьей-либо репутации, возможно, были одним из способов изменить других, готовясь к возможному возникновению ситуации соперничества. Как я упоминал в главе 2, охотники/собиратели нарушали социальную норму, если, возвращаясь с охоты, хвастались своими успехами. Умеренная форма зависти ведет к сплетне, и насмешка нередко используется как относительно дешевый механизм, чтобы возместить несправедливость, вызванную хвастовством. Оскар Уайльд размышлял: «Сплетня очаровательна! История — это просто сплетни. Но скандал — это сплетня, которую мораль делает неприятной»[276].
В лабораторных условиях экономисты-экспериментаторы создавали искусственные ситуации, когда испытуемым предлагали несправедливую сделку, вероятность успеха которой была существенно ниже, чем пятьдесят на пятьдесят. В ответ те действовали враждебно, отклоняя предложение, несущее личную потерю, но при этом определяли еще большую для своих противников. Когда в экономической игре кто-то выигрывал непропорционально большое количество ресурсов, проигравшие выражали желание потратить значительную часть своего дохода, лишь бы свести на «нет» прибыль, накопленную победителем.
Зависть поэтому может действовать как катализатор, способствуя уменьшению несправедливости. Но, в отличие от обществ охотников/собирателей, где всем в группе репутация каждого человека была известна, большинство из нас живет сегодня не в таких общинах — прозрачных, как аквариум. Это демографическое изменение может быть частично ответственно за более серьезные последствия зависти и за то, что зависть нередко проявляется более скрыто.
Известный фильм жанра экшен «Лара Крофт: расхитительница гробниц» представляет увлекательную дилемму — противостояние добра и зла. Борьбу между этими силами можно сравнить с эмоциональным «перетягиванием каната», которое возникает в контексте совместных действий, с одной стороны, Лары и ее помощников, а с другой — ее противников-мошенников. Лара Крофт, символизирующая добро, вспоминает беседу со своим отцом о древнем ключе. Если бы этот ключ можно было найти и использовать в течение парада планет, то он наделил бы счастливчика экстраординарной властью, способной управлять временем. Крофт находит первую из трех скрытых частей, которая затем была украдена секретной группой старейших политиков, символизирующих зло. Каждая сторона знает, что другая хочет получить контроль, и у каждой имеется нечто, нужное ее противнику. Крофт убеждает старейших, что они нуждаются в ней: ее знание поможет определить местонахождение других частей в период парада планет. Фаустиан, член сообщества старейших, предлагает Ларе путешествие во времени, чтобы встретиться со своим умершим отцом, — то, чего она отчаянно хочет. Они соглашаются сотрудничать. Обязательства даны. Цена обмана становится явной. Действие! Старейшие не имеют намерения сотрудничать. Не имеет таких намерений и Лара Крофт. Каждая сторона использует другую для эгоистичных целей. Побуждения Лары несут добро. Побуждения старейших направлены на достижение зла. Неудивительно, что добро в лице Лары Крофт, уничтожающей ключ и попутно нескольких старейших, побеждает.
Хотя сюжет фильма «Расхитительница гробниц» — беллетристика, он описывает обычный источник конфликта: обязательство. Эта проблема — исходный конфликт между личными интересами и сотрудничеством — проявляется в разнообразных социальных ситуациях, включая политику, инвестиционные дела, кооперацию грабителей банков, браки, дружбу, деловое сотрудничество и даже взаимодействие похитителя ребенка и его жертвы. Вообразите похитителя, который после нескольких недель незаконного удерживания своей жертвы внезапно понимает, что есть существенный риск быть пойманным. У него изменяются взгляды, и он обдумывает, не позволить ли жертве уйти. Но он осознает, что жертва может обратиться в полицию. Жертва уверяет похитителя, что никогда не скажет об инциденте никому, включая полицию. В интересах жертвы хранить вынужденное молчание. Оба понимают, однако, что, как только жертва будет свободна, ничто не обяжет ее сохранять тайну. Похититель поэтому приходит к выводу, что он должен убить жертву.
Обязательство требует доверия, для оценки которого нужны методы, позволяющие обнаружить мошенников. Обнаружение мошенников требует не только логических умозаключений, как обсуждалось ранее, но и умения истолковывать эмоции. Несколько лет назад множество социологов и эволюционных биологов, вдохновленных работами нобелевских лауреатов Томаса Шеллинга и Роберта Франка, подчеркивали важность эмоций в стабилизации кооперативных отношений и усилении надежности обязательств[277].
Эмоции обеспечивают непроизвольный механизм, позволяющий сформировать эквивалент обязательного контракта. Мы можем подчеркнуть силу этой идеи, повторно вводя понятие Homo economicus. Представители этой корыстной разновидности существ придерживаются обязательств и других социальных норм по причине ожидаемой угрозы наказания. Если они оказываются в одиночестве или уверены, что никто не сможет уличить их в нарушении норм, они никогда не будут чувствовать вину, стыд или смущение. Как мы узнали в предыдущей главе, такие индивидуумы существуют: эти искажения человеческой натуры именуются психопатами.
Скажем, я согласился помочь другу защищаться от соседа-хулигана, который часто останавливает и обижает маленьких и слабых детей. Однажды я обнаруживаю, что мой друг собирается подраться с хулиганом. Я вспоминаю свое обязательство помочь. С эгоистичной позиции у меня может возникнуть соблазн изменить своему слову: слишком велики затраты, связанные с борьбой. Если эгоизм — психология победы, то отбор должен повысить устойчивость к эмоциям, которые могли бы заставить действовать иначе. Напротив, если эмоции играют более существенную роль в смещении мотива и определяют желание чувствовать себя хорошо — благодаря сотрудничеству и плохо — из-за отступничества, я должен испытывать вину за нарушение своего слова. Чувство вины должно заставить меня помогать другу. Сочувствие к нему и обеспокоенность (что с ним будет после стычки с хулиганом?) должны привести к сотрудничеству. Обе стороны этого конфликта реальны: эгоистичные мотивы, толкающие к отступничеству, и эмоциональные привязанности, стабилизирующие сотрудничество.
До какой степени наши эмоции — гарантия против обмана, лжи, предательства и нарушения обязательств? Такие чувства, как вина, сострадание, смущение, лояльность, зависть, гнев и отвращение, — обеспечивают ли они профилактику эгоизма? Роберт Франк однозначно утверждает, что чувства побуждают нас к действию, обеспечивая силу мотивации. Не составляет труда уйти из ресторана, не оставив официанту чаевых. Но такое действие могло бы вызвать чувство смущения, вины и даже стыда. Эти чувства могут нанести ущерб вашей честности, ведя к дальнейщим корыстным действиям. Давайте рассмотрим психологию и нейробиологию эмоций, которые включены в стратегические действия, обеспечивающие материальную прибыль.
Когда мы вступаем в совместное предприятие с другим человеком, то, прежде чем начать и поддерживать деловые отношения с ним, оцениваем степень своего доверия к партнеру. Если есть информация о его прошлой работе, она может служить для оценки шансов возможного сотрудничества. Если вы играете в игру «Ультиматум» и ваш партнер отклонил все предложения, в соответствии с которыми начальный капитал составляет менее 30%, в ваших интересах предложить больший процент. Если вы недооценили этого игрока, шансы на отклонение высоки. А что если нет никакой информации о предшествовавшей работе партнера, но вы имеете возможность увидеть его лицо?[278]
Есть ли в этом лице что-то знакомое и вызывающее доверие? Если экспериментатор сформирует изображение человека, лицо которого будет напоминать ваше, вы с большей вероятностью станете ему доверять. Так как внутрисемейный альтруизм служил предметом эволюционного отбора, есть основание полагать, что отбор также благоприятствовал закреплению механизмов, которые позволяют родственникам опознавать друг друга. Факт, что люди, более вероятно, будут доверять тем, кто напоминает им их самих, предполагает, что доверие и родство связаны между собой. Мы можем чувствовать себя более уверенно и готовы рисковать вместе с теми, кто имеет с нами общие гены.
Действия могут возникать в результате эмоций или сами могут способствовать их возникновению. Когда мы совершаем поступок, который впоследствии, после размышлений, кажется неправильным, мы обычно переживаем стыд, вину, отвращение или смущение. Иногда эти эмоции поучительны и помогают нам измениться. Иногда они могут заставить нас делать правильные вещи.
Рассмотрим такое переживание, как вина. Это эмоция, которую мы испытываем, когда причиняем вред кому-либо в нашем социальном окружении. Чувство вины нередко возникает, когда мы обманываем и признаем последствия такого поступка. Но переживание вины может также играть стабилизирующую роль, полностью преобразуя неустойчивость, вызванную обманом.
Когда люди повторно заключают сделки в игре типа «Ультиматум», те, кто по общему признанию чувствует себя виновным, с большей вероятностью будут сотрудничать в будущих раундах. Вина — эмоция, которая возникает для контроля ущерба, — предположение, сделанное Робертом Триверсом почти тридцать лет назад[279].
Что происходит в нашем мозге, когда мы сотрудничаем или дезертируем, бросая партнеров? Нейроэкономика — недавно появившаяся область науки, которая объединяет технологии картирования активности мозга с теориями и методами классической экспериментальной экономики. Именно эта новая область знания начала давать частичные ответы на данный вопрос[280].
Антрополог Джеймс Райлинг наблюдал, как изменяется мозговая активация испытуемых в ходе повторных раундов игры «Дилемма узника». В этой игре вознаграждение за отступничество оказывается самым высоким, когда партнер, наоборот, сотрудничает. Такой стимул создает искушение предать сотрудничающего, несмотря на то что, если предают оба партнера, оба они получают вознаграждения значительно ниже, чем в случае сохранения сотрудничества. Каждый испытуемый, чередуя раунды, играл против двух партнеров: анонимного актера и компьютера. Причем актер получал секретную инструкцию: после трех раундов сотрудничества предать своего партнера. Компьютер играл согласно стратегии, образно именуемой «зуб за зуб»: хорошее кооперативное начало, затем действия в соответствии с шагами противника (нападение при неудачах), т. е. плата за все той же монетой.
У испытуемых, когда они играли против человека (актера), наблюдалось усиление активации в полосатом теле и орбитофронтальной коре. В предыдущей главе говорилось, что обе эти области участвуют в обработке информации о вознаграждении. Наряду с этим, только взаимовыгодное сотрудничество с компьютерным партнером активизировало орбитофронтальную коруНа предыдущем этапе взаимное сотрудничество с партнером увеличивало активацию в областях, вовлеченных в оценку награды, так же как и в разрешение конфликта.
Когда взаимность терпела неудачу или предложение оказывалось несправедливым, то, по данным нейровизуализации, имела место значительная активация в передней части островка. Это центр мозга, известный своей важной ролью в порождении отрицательных эмоций типа боли, горя, гнева и особенно отвращения. Интересно, что мошенников можно было определить через чувство отвращения, которое они вызывают. Еще один интересный факт заключался в том, что, когда испытуемые участвовали в альтруистическом наказании по форме, описанной в главе 2 (выплачивая личные средства, чтобы наложить больший штраф на кого-то другого), наказывающий испытывал облегчение и удовлетворение, доказанное активацией хвостатого ядра — центра, играющего решающую роль в обработке опыта, связанного с вознаграждением[281].
По-видимому, когда мы наказываем, наш мозг тайно «смакует» этот процесс. Таким образом, эмоции играют решающую роль в наших стратегических решениях, которые предусматривают необходимость сотрудничать и наказывать тех, кто обманывает.
В последней главе книги «Страсти в пределах разумного» (1988) Франк заключает, что люди «часто ведут себя не так, как предсказано моделью личного интереса. Мы голосуем, мы возвращаем потерянные бумажники, мы предоставляем костный мозг, мы жертвуем деньги на благотворительность, мы несем затраты во имя справедливости, мы действуем самоотверженно ради тех, кого любим; некоторые из нас даже рискуют жизнями, чтобы спасти совершенно незнакомых людей». Все это верно, но посмотрите, какова доля людей, совершающих бескорыстные, эмоционально опосредованные поступки, и картина будет выглядеть уже по-другому. Некоторые люди действительно рискуют своими жизнями, чтобы спасти незнакомцев. Это случается и на войне, и в мирное время. Но когда кто-то прыгает в озеро, чтобы вытащить тонущего ребенка, или под орудийным огнем спасает жизнь генерала, эти события освещаются в «Новостях» не только потому, что они свидетельствуют о героизме, но и потому, что они редки. Возможности помогать другим возникают часто, и гораздо чаще они игнорируются, чем вызывают альтруистичные поступки.
Пожертвования из милосердия представляют столь же мрачную картину с точки зрения эмоционального отвержения и жестокости материального мира. Франк подчеркивает тот факт, что страны типа Соединенных Штатов вносят приблизительно 100 миллиардов $ в год на нужды благотворительности. Однако, если пристальнее взглянуть на эту проблему, то картины великодушия будут далеко не равноценными. В некоторых странах, наиболее заметно это явление в Великобритании, есть обратная корреляция между объемом пожертвований и уровнем богатства: наиболее богатые дают относительно мало. В Великобритании приблизительно 30% семейств вносят вклады в благотворительность, и большинство этих пожертвований — весьма незначительны. В Соединенных Штатах почти 50% всех благотворительных пожертвований поступает церкви, причем именно той ее ветви, к которой принадлежит даритель. Такой вклад можно считать эгоистичным, потому что прихожане получают возмещение за свои подарки.
Донорство костного мозга обнаруживает сходную тенденцию. Мировой обзор доноров костного мозга 2003 года представляет широкий диапазон людей, жертвовавших свой костный мозг нуждающимся, причем среди доноров только 3 австрийца, но 3 миллиона американцев. Хотя я не мог найти никакой статистики о количестве людей, которые сначала выражали желание помочь больным, а затем отказывались, ясно, что сайты, призывающие людей стать донорами костного мозга и составляющие их списки, не могут решить эту проблему; то же касается и доноров органов. Хотя люди испытывают удовлетворение, пожертвовав некоторую сумму из милосердия или вернув бумажник потерявшему его, и чувствуют себя плохо, не сделав этого, большинство игнорируют напоминания или объявления с просьбой о благотворительных вкладах, а многие возьмут себе деньги из кошелька, найденного на улице. Результаты сравнительного исследования ответов, касающихся обнаружения собственности другого человека, показали, что японцы — жители Токио, намного более вероятно, возвратят собственность, чем американцы, живущие в Нью-Йорке[282]. Японская юридическая система предусматривает денежные поощрения тем, кто возвратит потерянные вещи, и карательные меры для тех, кто их присваивает.
Я не сомневаюсь, что в отсутствие нравственно релевантных эмоций эгоизм было бы трудно обуздать. Я также соглашаюсь с Франком, что традиционное экономическое представление об особенностях нашего вида ошибочно, и именно включение эмоций объясняет, почему мы иногда щедры и часто склонны к сотрудничеству. В чем я действительно сомневаюсь, так это в оптимистичном убеждении Франка, что эмоции способны гарантированно спасти нас от искушения приобрести большее материальное богатство. Мы — гибридная разновидность, потомство Homo economicus и Homo reciprocans. Скорее часто, чем редко, мы уступаем эгоистичному искушению. Мы не лучший вариант такого гибрида. Как проницательно указал Герман Мелвилл, «это весьма распространенное заблуждение некоторых недобросовестных, склонных к неверию, эгоистичных, беспринципных и безнравственных людей предполагать, что верующие люди, или доброжелательно-сердечные люди, или просто хорошие люди знают недостаточно, чтобы быть недобросовестными и эгоистичными, знают недостаточно, чтобы быть мошенниками»[283].
Управление нормами
Каждое общество основано на совокупности неофициальных норм и часто необъявленных ожиданий того, как люди должны вести себя. Во всех обществах имеются, по крайней мере, две нормы альтруистического поведения: помощь людям, которые не могут помочь себе сами, и возврат добра (благ) тем, кто помог тебе в прошлом. Первая форма представляет норму социальной ответственности, вторая — норму социальной взаимности. Взаимность следует за полученной ранее пользой, в то время как ответственность начинается с нулевого уровня, без ожидания, что приносимая помощь будет когда-либо возвращена. Социологи, как правило, считают, что эти нормы выучены, внедрены в сознание человека личным опытом и наблюдениями за третьими лицами. Помощь другим и возврат оказанного благодеяния приносят похвалу и хорошие чувства, в то время как равнодушие и нарушение своего слова вызывают критику и недобрые чувства. Вместе эти переживания учат нас добродетельной жизни[284].
Эти представления поддерживаются данными целого ряда наблюдений. В частности, старшие дети в большей степени, чем младшие, склонны помогать другим, для них более характерны ответственность и взаимность. Например, в одном исследовании экспериментатор читал истории детям в возрасте от пяти до десяти лет. В каждой истории ее герой, ребенок, либо помогал, либо не помогал тому, кто нуждался в помощи (например, другому ребенку, у которого нет игрушек), или тому, с кем ранее сотрудничал. Старшие дети выше оценивали помощь в тех ситуациях, где делался упор на ответственность, по сравнению с ситуациями, где преобладала взаимность. Они также были более склонны, чем младшие дети, помочь тем, кто в прошлом им не помог. С возрастом нормы ответственности, кажется, доминируют над нормами взаимности. Эти возрастные изменения совместимы со структурной моделью Колберга. Это дает основание считать, что маленькие дети придерживались конкретных эмпирических правил, тогда как старшие дети, благодаря своему опыту, больше внимания уделяли поддержанию социального порядка.
То, что образцы помощи изменяются в процессе развития, не вызывает сомнений. Неясным остается другое: являются ли опыт и обучение единственными причинами таких изменений и как опыт формирует эти образцы в поведении ребенка? Например, не исключено, что возможности развивающегося ребенка рассуждать о морали изменяются благодаря способностям, которые не имеют прямого отношения к этой сфере личности. Как упоминалось ранее, наряду с моральной способностью, развиваются и другие способности ребенка. Он учится понимать мысли и желания других людей, начинает отличать преднамеренные действия от случайных, строить планы на будущее и детально восстанавливать события своего прошлого. Ни одна из этих способностей не является специфической для сферы морали, но они, конечно, включаются в процесс порождения моральных суждений и попыток оправдать их. Некоторые из этих способностей, в частности способность приписывать другим людям верования и желания, отчасти определяются темпами биологического созревания, которое практически не зависит от опыта. Детей специально никто не учит распознавать психические состояния друтого человека. Эта способность формируется спонтанно и стихийно, ее формирование больше напоминает развитие у детей способностей наблюдать и слушать, в отличие, например, от способности к усвоению таблицы умножения.
Другая интерпретация развития моральной способности ребенка состоит в том, что наша моральная способность связана с медленно протекающими процессами созревания. В упомянутых выше исследованиях детские суждения о достоинствах чьего-либо альтруистического поведения во всех возрастных группах были наиболее последовательными, когда сравнивались с их собственным альтруистическим поведением в тех же самых контекстах ответственности и взаимности. Еще раз подчеркнем, что компетентность в оценке альтруистического поведения обнаруживает одни особенности, тогда как альтруистически ориентированное поведение — другие.
Эти результаты вместе с другими исследованиями ранней компетентности приводят к представлениям, которые противостоят широко принятому в социальной психологии подходу к проблеме морального развития. От природы мы обладаем особым психологическим механизмом — грамматикой социальных норм, она базируется на принципах, которые призваны решить, когда альтруизм допустим, обязателен или запрещен. Задача опыта состоит в том, чтобы уточнить специфические детали, определяемые местной культурой, урегулировать параметры, не влияя на логическую форму нормы и ее общую функцию. Основываясь на последних двух разделах, в которых подробно обсуждались проблемы обмана и обнаружения мошенников, я хочу теперь перейти к более общему кругу вопросов, касающихся социальных норм. Это расширение необходимо, чтобы вернуть одного из наших главных героев — создание Ролза — и более внимательно изучить грамматику, лежащую в основе этих правил поведения.
Исследования социальных правил в своем современном состоянии напоминают психическое расстройство, связанное с раздвоением личности. Одна сторона утверждает, что нет никаких принципиальных различий между несколькими вариантами социальных правил. Предполагается, что существует один, универсальный генератор правил, который действует в допустимых границах. Другая сторона утверждает, что различия реальны. Они имеют в своей основе разные психологические принципы и параметры, объясняющие таксономию, которая включает мораль, общепринятые требования, разрешение, предосторожность и личные правила.
Теоретическое основание для этого представления можно найти в эволюционной биологии и проблемно-ориентированном обзоре, представленном ранее. Логика естественного отбора предполагает, что психика снабжена специальными способностями к рассуждениям, которые развились в процессе эволюции, чтобы решать определенные адаптивные проблемы. Социальный обмен — одна проблема, а предосторожности, связанные с ним или с иными факторами, — другая. Представление о специальных способностях позволяет более четко сформулировать набор выкладок, характеризующих причинные и мотивационные аспекты каждого события. Если придерживаться аналогии с языком, имея в виду моральную грамматику, то вторая сторона личности, о раздвоении которой я писал выше, должна быть ближе к норме, в отличие от первой.
В последнем разделе я представил некоторые свидетельства в пользу этого (психо) анализа. Пациент Р. М. — доказательство того, что при повреждении некоторых центров мозга может избирательно страдать способность к суждениям о социальных контрактах при сохранении способности рассуждать о предосторожностях. Чтобы включить эти результаты в более широкий контекст, давайте вернемся к двум типам различий, описанных ранее: очень общее различие между описательными и предписывающими правилами, с одной стороны, и более конкретное различие между социальными соглашениями и моральными правилами — с другой[285].
Эволюционный подход позволяет определить ключевые различия между разными классами правил. Такую же возможность представляет научная литература, которая появилась в результате изучения развития моральных рассуждений. Первыми среди других это направление наметили Эллиот Тьюриел и Джуди Сметана[286].
Как упоминалось в главе 1, Тьюриел сформулировал важную идею, согласно которой среди разнообразия социальных правил или норм одни представляют результат принятых в данной культуре специфических соглашений, другие — моральные правила и третьи — личностные установки. Когда взрослым и детям устраивают «очную ставку» с этими различными нормами, они дают разные функциональные оправдания, высказывают различные образцы суждений об их допустимости, обнаруживают различные интуитивные представления относительно серьезности нарушения правила и формулируют различные приговоры, как если бы они обладали властными полномочиями.
Хотя еще не было достаточно обширных кросскультурных исследований этих различий, особенно с привлечением сообществ мелкого масштаба, исследования, которые уже выполнены, дают основания считать, что различные социальные правила опознаются универсально, как мальчиками, так и девочками, и даже, по-видимому, согласуются в культурах с различными стилями воспитания — в Китае и Соединенных Штатах. Социальные соглашения используются для координации группы, тогда как моральные правила — для решения вопросов благосостояния или справедливости. Социальные соглашения могут нарушаться и применяются выборочно только в отдельных группах людей, тогда как моральные правила неприкосновенны и универсально применимы. Нарушения моральных правил более серьезны, чем нарушения социальных соглашений. И лица, наделенные властными полномочиями, могут вмешаться и отменить социальные соглашения, но даже Бог не всегда может отвергать правила морали.
Эволюционный психолог Ларри Фиддик провел ряд экспериментов с двумя целями: во-первых, чтобы выявить ограничения задачи выбора Уэйсона и, во-вторых, поддержать идею, согласно которой человеческое мышление обладает набором четко сформулированных принципов, регулирующих рассуждения в сфере морали. Эти исследования представляют ключевой тест для проекта, главную роль в котором играет создание Ролза.
Одна группа испытуемых отвечала на три различные версии задачи Уэйсона, выдвигавшие на первый план поочередно предосторожность, социальный контракт и социальное соглашение. Каждый из предлагаемых сюжетов был посвящен некоему напитку, названному «танка».
ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ: Танка — ядовитый магический напиток, который может ослепить человека. Однако кофеин, содержащийся в кофейных зернах, нейтрализует яд, поэтому вождь племени ввел следующее правило: «Если вы пьете танку, то должны держать во рту зернышко кофе».
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ: Танка — пользующийся широкой популярностью (неядовитый) препарат (наркотик), приготовленный по секретному рецепту, который передается от матери к дочери. Чтобы получить танку, мужчина должен сделать своей жене подарок, поэтому вождь племени ввел следующее правило: «Если вы пьете танку, то должны что-то дать своей жене в подарок».
СОЦИАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ: Танка — магический напиток, который люди традиционно пили с зерном кофе во рту, т. е. существовало общепринятое правило: «Если вы пьете танку, то должны иметь во рту зерно кофе».
После каждого сценария испытуемым предлагали четыре карты. Опираясь на некоторый критерий, они должны были выбрать среди них случай нарушения правила. Вторая группа испытуемых читала те же самые сценарии и правила, но вместо карт и вопросов относительно нарушения правил они получали анкету и отвечали на вопросы анкеты. Цель состояла в том, чтобы выяснить, вызывают ли эти разные социальные условия различные суждения с точки зрения важности властных полномочий, согласия, универсальности и получают ли они разные объяснения. Для каждого сюжета анкетный опрос обеспечивал набор суждений и оправданий, и испытуемые, прочитывая их, заявляли о своем согласии, несогласии или сомнениях. Например, испытуемые читают, что члены одного из племен Му-бейта не должны пить танку без зерна кофе, даже если вождь и все население Му-бейта утверждают, что было бы хорошо пить танку без зерна кофе. Это утверждение выявляет роль властной фигуры (вождь) и согласия (все население Му-бейта). Затем испытуемые прочитывали объяснение: например, «вождь ввел правило для достижения социальной цели».
Фиддик сообщил о двух главных результатах. Испытуемые не обнаружили никаких различий в ответах на эти три сюжета, когда они предъявлялись в форме задачи выбора Уэйсона, но показали отчетливо выраженные различия по данным анкетного опроса. В целом испытуемые проводили различия между установкой на соблюдение предосторожности и социальными контрактами, но между социальными контрактами и социальными соглашениями особых различий выявить не удалось. Эти данные свидетельствуют в пользу четко сформулированной таксономии социальных правил и предостерегают от преждевременного одобрения теории, основанной на единственном эмпирическом методе.
Во второй группе исследований, заимствованных из работы Пола Розина, посвященной моральным эмоциям, каждый испытуемый сначала читал сюжет, вслед за ним правило, затем утверждение, указывающее на то, что человек нарушил это правило. Потом экспериментатор предъявлял испытуемым четыре фотографии, каждая представляла человека, лицо которого выражало определенную эмоцию: гнев, отвращение, опасение или счастье. Задача требовала от испытуемого идентифицировать выражение лица нарушителя правила. Если есть психологические различия между соблюдением предосторожности, социальными контрактами и социальными нормами, то нарушения этих правил должны сопровождаться различными эмоциями и соответственно различными выражениями лица. Вот пример.
Вы — антрополог, изучающий племя Джибару. Люди этого племени охотятся с ядовитыми стрелами и дротиками. Яд — мощный нейротоксин, получаемый от маленькой древесной лягушки. Известно, что он смертелен и для людей. Несколько человек из племени уже умерли, готовя ядовитые стрелы: яд попал им на кожу. Вы слышали об этой проблеме и принесли пачку резиновых перчаток для изготовителей оружия, чтобы они могли защититься от яда. Старейшины племени решили, что использование перчаток — прекрасная идея, поэтому они ввели следующее правило: «Если вы делаете ядовитые стрелы, то должны надеть резиновые перчатки». В то время как вы изучали образ жизни Джибару, одна из женщин племени увидела мужчину, нарушавшего правило.
Если соблюдение предосторожности защищает человека от опасности, то нарушения здесь должны быть связаны с опасением. Если социальные контракты поддерживают социальные связи, их близость или стабильность, то нарушения в этой сфере должны быть связаны с гневом. Результаты поддерживают эти предписания. Если мужчина делает ядовитые стрелы, не надевая резиновых перчаток, ответная реакция — опасение, а не гнев. Если мужчина изготавливает ядовитые стрелы, но не делится мясом, добытым затем охотой, — это нарушение социального контракта, и тогда ответ — гнев, а не страх.
Чтобы более тщательно изучить причинные и мотивационные аспекты этих правил, Фиддик провел заключительные эксперименты, параллельно уже обсуждавшимся исследованиям Харриса и Нуньес. По результатам этих экспериментов оказалось, что испытуемые судили социальные контракты как социальные правила, а проблему предосторожности они рассматривали вне социального контекста. Социальные контракты могут быть отвергнуты, если на то будет социальное согласие, но предостережения через договоренность отвергнуть нельзя. Опасное химическое производство, работающая со сбоями электрическая сеть, ненадежный мост — это объективные факты, прямо влияющие на условия жизни людей, и никакое городское собрание не может их отвергнуть. Учитывая эти различия, изучение причин нарушения должно иметь значение для социальных контрактов, но не для предосторожностей, где они очевидны.
Рассмотрим следующий пример из экспериментов Фиддика. В этом эксперименте фигурировали несколько историй, связанных с социальными контрактами и предосторожностями. Например, дети могут посещать занятия по плаванию в продвинутой группе, если они заплатили по 50 $ (социальная версия контракта) или если они уже хорошо умеют плавать (версия предосторожности). В каждой истории (в эксперименте) принимал участие либо отец, выбирающий возможные варианты для своего сына, либо пожилая женщина, страдающая болезнью Альцгеймера (возрастное разрушение клеток головного мозга)Отец сознательно разрешает своему сыну заниматься в этой груп" пе или, не желая платить 50 $ либо раскрывать его статус новичка в плавании, сознательно не разрешает. Напротив, пожилая женщина в силу своей рассеянности (ненамеренно) не может узнать об оплате в размере 50 $ или обратить внимание на уровень подготовки ребенка. Как и преполагалось, испытуемые с большей готовностью обнаруживали нарушение социальных контрактов в ситуациях, где это было сделано намеренно в противоположность случайному стечению обстоятельств. Наряду с этим, они не обнаруживали никаких различий между намеренным действием и случайным, когда речь шла о соблюдении предосторожностей.
Эксперименты Фиддика, вместе взятые, показывают, что в основе соблюдения предосторожностей, социальных контрактов и социальных соглашений лежат различные принципы и люди чувствительны к этим различиям. Они воспринимают их, ориентируясь на такие характеристики, как функция, универсальность, восприимчивость к властным полномочиям и серьезность нарушения. Управляют этими принципиальными различиями основные свойства нашей моральной способности: причинно-целевые аспекты действий и вызываемых ими эмоций, — те самые существа Ролза и Юма соответственно. Особенности экспериментального проекта Фиддика не позволяют определить, имели ли испытуемые доступ к этим принципам, и, кроме того, нельзя оценить, были ли эти принципы четко сформулированы на адекватном уровне абстракции. В своем исследовании экспериментатор обеспечил испытуемым релевантный набор объяснений каждого сюжета, вместо того чтобы просить их высказать свои суждения о действии и затем дать им объяснение. Последний подход был осуществлен в опросе о моральных интуитивных представлениях людей, который проводился на сайте Интернета и который я обсуждал в главах 3 и 4. Этот опрос открыл одну из возможностей выявить расхождение между суждениями людей и их оправданиями этих суждений. Хотя испытуемые, несомненно, могут дать объяснения, которые совместимы с их суждениями, я полагаю, что эти объяснения окажутся столь же недостаточными и несвязными, как и рассуждения о трамвайном вагоне или природе инцеста.
Я хочу высказать также ряд мыслей относительно абстрактности формулировок. Мне кажется, что, как и в случае с принципом двойного эффекта, обсуждавшимся в главе 3, принципы социального контракта и правила предосторожности в данных экспериментах сформулированы недостаточно детально, эти формулировки не соответствуют характеру аналитических операций, которые используются при интерпретации сложного социального события. Это общие «ярлыки», скрывающие, какими способами тонкие параметрические изменения ведут к большим эффектам, определяющим наше ощущение допустимого, в отличие от запретного, нарушающего. Если мы хотим, чтобы наши представления об этом «семействе» социальных правил обладали такой же объяснительной силой, как теории в современной лингвистике, нам нужно иметь более детализованное, «микроскопическое» их воспроизведение. Оно будет включать манипуляции намеренными аспектами действия, так же как и разнообразие их вариантов и последствий, связанных с действием или бездействием.
Уже сейчас очевидны некоторые вопросы, требующие решения. Способны ли люди заметить, если в контексте социального контракта возникают различия между преднамеренным и предвидимым последствием? Действительно ли нарушение контракта допустимо, если намерение субъекта состояло не в том, чтобы обидеть партнера, а в том, чтобы предоставить ббльшую помощь третьему лицу, нуждающемуся в ней? В этом случае обида партнера — предсказанный побочный эффект первичного намерения произвести ббльшее хорошее. С ответов на эти и другие вопросы мы начнем процесс построения грамматики социальных норм. Характеристика грамматики социальных норм имеет дополнительное значение, поскольку может пролить новый свет на старые дебаты в философии, касающиеся этического объективизма[287].
Сторонники этического объективизма полагают: верное моральное суждение должно распространяться абсолютно на все, что существует в мире, независимо от обстоятельств. Нет места для протестов или исключений, которые зависят от определенных условий. Нет места для релятивизма. Теперь вспомните, что ключевое различие между социальными соглашениями и моральными правилами состоит в том, что моральные правила имеют универсальный характер, т. е. они верны при любых условиях. По-видимому, даже маленькие дети понимают, что есть объективная истина в требовании: вы не можете без оснований причинять вред другому человеку. Это требование равно справедливо для американцев и африканцев, христиан и язычников, мальчиков и девочек. Более того, не существует никаких достаточных властных полномочий, чтобы превзойти это требование. С другой стороны, социальные соглашения несут очевидную печать релятивизма, изменяясь кросскультурно и под давлением силы. Маленькие дети также понимают, что моральные ярлыки типа «плохой» и «хороший» — объективные истинные характеристики. В то же время такие характеристики, как «неприглядный», «скучный», «вкусный», относительны и зависят от личных предпочтений. Хотя еще не совсем ясно, как дети овладевают способностью различать объективное и относительное, но эта способность появляется достаточно рано, позволяя развивающемуся ребенку воспринимать моральную арену через «объективные стекла». Изучение деталей грамматики, которая изменяет правила — от конвенционального до морального, — будет «питать» некоторые из центральных вопросов, беспокоящих многих философов-моралистов. То же самое верно и для исследователей в области юриспруденции, которые заинтересованы в приложении этих принципов к текущим и прикладным социальным проблемам.
Живя с унаследованным
В 1932 году педагогический психолог Е. Антипова писала, что наше чувство справедливости представляет «врожденное и инстинктивное моральное проявление, которое для своего развития действительно не требует ни предварительного опыта, ни социализации среди других детей... Нам присущи аффективное восприятие, элементарная моральная «структура», которой ребенок, кажется, овладевает очень легко и которая позволяет ему улавливать одновременно как зло, так и его причину, как невиновность, так и вину. Мы можем сказать, что имеем здесь эмоциональное восприятие справедливости», Это представление нативиста было немедленно встречено в штыки Жаном Пиаже. Он подчеркивал, поскольку Антипова пришла к своим заключениям в результате исследования детей трех — девяти лет, в этом возрастном диапазоне невозможно исключить влияние «тяжелой руки» опыта[288].
Для Пиаже понимание ребенком этики в значительной степени определяется его социальным опытом. Вначале моральные суждения возникают под влиянием родительских воздействий. Особенно важным на этой стадии является чувство ребенка о том, что существуют правила, внедряемые родителями, и эти правила — «священные», незыблемые и неизменные. Именно чувство уважения, которое питает ребенок к родителю, служит основой другого его чувства — долга. Пиаже считал, что «уважение — источник морального обязательства и чувства долга. Каждая команда, поступающая от уважаемого человека, отправная точка обязательного правила... Правильно поступать — для ребенка это означает повиноваться воле взрослого. Неправильно иметь собственные желания». В течение времени и в результате развития новых отношений с другими в пределах семьи и вне ее незыблемость родительских правил ослабевает, заменяясь большим чувством независимости. Этим заключительным изменением снова управляет опыт, позволяя каждому ребенку познать, что такое справедливость и что только справедливость и ожидается от социальных отношений.
Я надеюсь, что лингвистическая аналогия ясно дает понять, что дискуссия Антиповой и Пиаже лишена смысла. Если бы только они читали Аристотеля, который сотни лет назад указывал: «Ни по своей природе, ни вопреки природе достоинства не возникают в нас; скорее мы приспособлены по своей природе присваивать и совершенствовать их, делая это своей привычкой». В конечном счете мы хотим понять, каким образом человек достигает дефинитивного состояния морального знания. При этом позиция Пиаже рождает больше вопросов, чем позиция Антиповой. Например: как дети проходят через стадии морального развития? Почему они переходят с одной стадии на другую именно тем способом, который описан, а не каким-либо другим? Что ограничивает возможность изменения этого способа? Пиаже и его последователи не смогли содержательно ответить на эти вопросы. Как писал Юм, «природа должна обеспечить основание и дать нам некоторое понятие о моральных различиях»[289].
Дело в том, что психика человека обладает рядом врожденнх способностей, которые позволяют нам — именно нам, а не шимпанзе, дельфинам или попугаям — воспринимать некоторые моральные различия и оценивать их значение для нашей жизни и жизни других людей. Более того, хотя маленький ребенок мог бы извлечь любой опыт из окружающей среды и добавить его к своему набору моральных соображений, но этого не происходит, потому что должна быть некоторая врожденная структура, указующая, какие элементы опыта надо использовать как часть морального знания. Если это правильный диагноз, то некоторые особенности нашей ДНК должны обеспечивать такие психологические возможности. Помимо этого, некоторые особенности нашей ДНК также позволяют нам усваивать уникальные черты нашей локальной культуры. Кое-что в этом обсуждении требует дополнительных разъяснений, и, чтобы лучше понять это, вообразите три различных фенотипа, или варианта, одного из главных персонажей книги — создания Ролза[290].
Каждый фенотип имеет своеобразный «механизм приобретения опыта», который настроен на различный уровень, и поэтому они разнятся по степени выраженности признаков нативизма. Давайте называть их «слабым», «умеренным» и «твердым». Слабый ролзианец — вариант, не выполняющий своих обязательств. Как разновидность, отличная от всех других, он обладает способностью приобретать нравственно релевантные нормы, но природа не обеспечила ему ни одного из релевантных элементов. У слабого ролзианца есть механизм, который помогает ему узнавать о нормах. Однако у него недостаточно сформированы как общие, так и конкретные принципы, определяющие отношение к инцесту, социальной взаимности и убийству. Самая слабая версия слабого ролзианца даже не догадывается, что обладает «механизмом приобретения опыта», специализированным для сферы морали. Не исключено, что существует некоторый общий механизм, возможно объединенный с набором эмоциональных предубеждений, который превращает социальные соглашения в моральные правила. Среднеслабые версии догадываются, что этот механизм имеет определенное отношение к сфере морали, позволяя немедленно отличать конвенциональные нарушения от моральных нарушений.
Умеренный ролзианец, вероятно, наиболее близок по ряду характеристик мне самому, а также представлению, принятому большинством филологов, работающих в области генеративной грамматики. Умеренный ролзианец владеет набором принципов и параметров для построения моральных систем. Этим принципам, однако, не хватает содержания, и они ориентированы на причины и последствия действия. Содержание принципов определяется локальной культурой. Каждый ребенок может строить довольно большое, но ограниченное некоторыми пределами количество моральных систем. Специфические особенности моральной системы, выстраиваемой ребенком, устанавливает локальная культура, определяя свои параметры характерным для нее способом. Если вы рождены в Пакистане, ваши параметры установлены таким способом, что убийство женщин, которые обманывают своих мужей, не только допустимо, но и обязательно и находится в сфере ответственности членов семейства. Американский ребенок, сталкивающийся с теми же событиями, воспринимает их по-другому благодаря различиям в установке входных параметров: убийство вероломной женщины запрещено, за исключением одного нюанса, если вы — выходец с Юга, где такое когда-то допускалось (социально, если не юридически) и передавалось под ответственность мужа. Культура существенно влияет на раннее развитие умеренного ролзианца, устанавливая параметры моральной системы. После того как эти параметры установлены, значение культурных влияний падает. В этом случае усвоение второй моральной системы эквивалентно приобретению второго языка. Процесс медленный, требующий трудолюбия, механической памяти и многих часов усердия, т. е. нечто, весьма отличающееся от легкого, быстрого и почти рефлекторного усвоения первой системы.
Твердый ролзианец наделен конкретными моральными принципами, касающимися оказания помощи и причинения вреда. Они генетически встроены в его мозг и не способны изменяться под влиянием культуры. Твердый ролзианец познает вторую моральную систему довольно поздно, медленно и с большими усилиями.
Для того чтобы понять, который из фенотипов к настоящему времени имеет больше всего оснований, мы должны выяснить, какие существуют аргументы «за» или «против» каждой из этих характеристик. Как правило, те ученые, которые приводят доводы против позиции нативизма, делают это, пытаясь подорвать
идею универсальности. Они рассматривают сообщения об универсальных табу на инцест, иерархических социальных структурах, запретах на причинение вреда и находят исключения среди племен Бонго-Бонго и других. Например, вопреки убеждениям твердого ролзианца, запрет на кровосмешение не является универсальным. Известно, что в греко-романском периоде истории Египта до 30% городских браков заключались между братьями и сестрами. Браки между двоюродными братьями и сестрами заключались еще чаще, были широко распространены в течение долгого времени и на большой территории. Исключения из правил, связанных с нанесением вреда, также легко найти. Для некоторых племен (типа Яномамо из Венесуэлы) обычна следующая ситуация: мало того что члены одного племени систематически планируют жестокие нападения на другие, соседние племена, но таких нападений ждут, они смакуются и, возможно, считаются обязательными, учитывая характер межплеменных отношений. Голливудский фильм «Гладиатор» убедил всех зрителей, даже незнакомых с историей, в том, что римляне обожали смотреть на двух полуобнаженных мужчин, разрывающих друг друга на куски. Нанесение вреда другому было не только допустимым, но и необыкновенно зрелищным развлечением, правда для ограниченного круга случаев. Тем не менее критики нативизма говорят именно об этих случаях и считают себя победителями в давних спорах.
Эти исключения из универсальных правил действительно уничтожают, по крайней мере некоторые, потенциальные требования твердого ролзианца. Но я не знаю никого, кто придерживался бы такого жесткого взгляда на нашу моральную способность, и лишь немногие придерживаются такой крайней позиции для любой другой способности психики, включая лингвистическую. Как поступают умеренный и слабый ролзианцы, обороняясь против этих нападок?
Предположите в качестве аргумента, что мы имеем принципы, подобные табу на инцест и запрет на нанесение вреда. Умеренный ролзианец наделен этими общими принципами в дополнение к набору параметров, которые установлены локальной культурой в раннем развитии. Это набор параметров, который создает потенциал для формирования разнообразия моральных систем. «Потенциал» является здесь ключевым словом, потому что, по крайней мере не исключено, что каждая культура устанавливает некоторые параметры единым способом, что ведет к взаимно-культурной однородности суждений по поводу действий, во всяком случае некоторых. Наши данные, полученные в результате опроса на сайте Интернета, свидетельствуют о том, что некоторые формы вреда могут быть оценены именно так. Когда с точки зрения морали оценивается инцест, анализу подвергаются детали сексуального контакта (поцелуи, генитальный петтинг, половой акт), степень родства партнеров, а также минусы и плюсы межродственного скрещивания. Это и есть весь потенциал параметров. Возможно, эти параметры в процессе эволюции выделились для адаптивных целей, чтобы ограничивать потенциально вредные эффекты специфических паттернов спаривания. Точно так же, когда с точки зрения морали оценивается акт, связанный с нанесением вреда, мы рассматриваем намерение субъекта, его цели, положительные и отрицательные последствия, которые вытекают из его действий. Это все потенциальные параметры, и они, наиболее вероятно, ответственны за изменение наших суждений в случаях, подобных проблемам с вагоном.
Универсальная моральная грамматика — теория о наборе принципов и параметров, которые позволяют людям строить моральные системы. Это комплект «инструментов», позволяющих формировать разнообразные моральные системы, а не одну только систему. Грамматика, или набор принципов, фиксирована, но ее «продукция» (моральные системы) безгранична в пределах диапазона логических возможностей. В этой связи кросскультурная вариативность представляется вполне закономерной, и она не может рассматриваться как свидетельство против существования умеренного ролзианца. В то же время, когда при сравнении разных культур обнаруживается согласованность изучаемых свойств или явлений, возникают интересные вопросы о механизме, обеспечивающем их приобретение и единообразие. Может быть, некоторые параметры, а возможно все, установлены с учетом некоторого несоблюдения и открыты для альтернатив как функция текущих средовых ограничений? Например, оказывается, есть лингвистический универсал, согласно которому в грамматике разных языков не соблюдаются некоторые общеупотребительные нормы по отношению к так называемым немаркированным формам ряда глаголов. Так, английский глагол climbe в предложении «Джон поднялся в гору» может быть использован с предлогом up) обозначающим направление «вверх», так и без него. При этом оба варианта являются грамматически правильными и передают один и тот же смысл. В то же время следует подчеркнуть, что в предложении «Джон спустился с горы» этот же глагол climbe употребляется только с предлогом down, обозначающим направление «вниз». Такие же несоблюдения правил встречаются в фонологии, подобные случаи вполне возможны и в синтаксисе.
Можно ли считать, что предубеждения, если они существуют в морали, отражают предшествовавшие условия отбора, в которых некоторые установки давали больше преимуществ для выживания индивидуумов и для их репродуктивного успеха? Можно ли полагать, что моральные системы действуют подобно лингвистическим в том смысле, что выбор и установка некоторых параметров влияют на последующие варианты использования? Например, если в лингвистике установлен параметр предметного указателя или параметр порядка слов, создаются ограничения на все то, что может стать предметом обсуждения в этой области.
Когда культура решает, что социальная взаимность обязательна или что все формы кровосмешения запрещены, как это воздействует на другие нормы, включая оказание помощи и сексуальное поведение? Пока мы не имеем ответов на эти вопросы. Однако, склоняясь к лингвистической аналогии, мы открываем дорогу этим вопросам и ждем релевантных теоретических идей и наблюдений.
Вернемся к критикам нативизма. В нападках на умеренного или на слабого ролзианца в качестве аргумента неоднократно фигурируют исключения из принципа универсальности. Они используются как возможность доказать, что история культурной эволюции могла бы обеспечить лучшее объяснение явлениям универсального характера. Вот как представляет дело Джесси Принз: «Если бы универсалии могли эволюционировать под влиянием культуры, не было бы никакого основания считать их врожденными. И если бы универсалии не имели нравственного истолкования во всех культурах, они не могли бы квалифицироваться как врожденная мораль даже при наличии врожденных основ». Первая часть этого комментария касается тех аспектов морали, которые формируются под влиянием обучения, вторая часть связана с особенностями их кросскультурной вариативности. Рассмотрим их в обратном порядке.
Умеренный ролзианец, согласно его характеристике, не преследует целью создать единственную и исключительную моральную систему. Скорее его предназначение заключается в том, чтобы произвести множественные и разнообразные моральные системы. Обнаружение примеров противоположного характера не сможет отвергнуть этот тип. Принз, например, приводит много примеров близких родственников, имеющих сексуальные контакты, индивидуумов, с ликованием убивающих друг друга, и мирных сообществ, в которых отсутствует иерархичность. Это действительно интересные случаи, но они или не соответствуют предмету дискуссии в целом, или не представляют достаточно четких объяснений в плане критики нативизма. Несоответствие в большинстве примеров оказывается столь же некорректным, как и в случае противопоставления, с одной стороны, таких выдающихся личностей, как мать Тереза и Махатма Ганди, и, с другой стороны, характеристики, данной человечеству в духе гоббесианства [291] согласно которой все мы жестокие, мерзкие и грубые. Факт, что некоторые люди являются абсолютно альтруистичными, не противоречит тому, что другие таковыми не являются, и многие не имеют ничего общего с этими двумя крайностями. Таким же образом складывается и обсуждение проблемы кровосмешения. Даже если исключения имеют релевантный характер, их следует объяснить.
Рассмотрим вновь кровосмешение и более общий принцип, который мог бы руководить нашим сексуальным поведением. Возможно, когда кто-нибудь специально займется этим вопросом, он сформулирует этот принцип, что позволит более адекватно анализировать акт сексуального поведения. Такой принцип даст возможность исследовать намерения и цели двух связанных индивидуумов, оценивать их возраст, степень родственной близости и, наконец, высказать суждение относительно допустимости акта. Предметом наиболее выраженных межкультурных различий, видимо, будут способы, которые культуры используют, устанавливая каждый из этих параметров (или другие параметры). Но пока мы не узнаем источников изменений, так же как степень изменения, мы не сможем понять ни дефинитивного состояния знания, ни истории его развития.
Есть и другой аспект использования встречных примеров, которые применяются с целью подорвать позиции нативизма. Доступное для наблюдения поведение людей вряд ли обеспечивает ясное представление о лежащей в его основе моральной компетентности. Когда солдат накрывает собой гранату, чтобы спасти других солдат, у нас нет адекватного объяснения его поступку. Остается неясным, как наша моральная способность оперирует с представлениями о спасении или самопожертвовании. Аналогично, когда мы сталкиваемся с культурой, допускающей насилие, это еще недостаточное основание для вывода об отношении этой культуры к насилию в широком смысле слова. Принз обсуждает образ жизни племени Гахуку Гама из Папуа — Новой Гвинеи, которое, подобно Яномамо, часто осуществляет набеги и убивает своих соседей. Описание этих наблюдений он заканчивает так: «Они не думают, что нравственно неправильно вредить членам других групп». Но из этих этнографических наблюдений мы получаем только ограниченное представление о том, что они считают нравственно неправильным. Мы знаем только то, что есть ситуации, в которых они убивают других. Как я указывал ранее, интуитивное суждение, которое мы формулируем исходя из конкретного случая, возможно часто, даже чаще, чем можно полагать, будет отличаться от наших реальных действий.
Первая часть комментария Принза допускает возможность того, что универсалии являются предметом изучения, они передаются из поколения в поколение через устные или письменные памятники, с помощью религиозного воспитания, — это мудрость старших. Нам нет необходимости иметь врожденные, специализированные представления о силе земного притяжения, потому что всегда и везде мы можем легко узнать об этом физическом законе (принципе), наблюдая падение яблок или людей, идущих по земле, в отличие от тех, кто «плавает» в космическом пространстве. Мы также не имеем врожденных представлений о местоположении Солнца во Вселенной, потому что, глядя по нескольку раз день на небо, мы получаем необходимую информацию. Проблемы, подобные этой, в конечном счете, сводятся к вопросу об отношениях между психологическими механизмами «научения» и получаемой информацией. Вспомним наблюдение, о котором говорилось ранее, когда дети трех лет могли обнаружить нарушения разрешающих правил, оценивая намерения субъекта и его ориентацию среди возможных результатов. Эмпирический вопрос в данном случае такой: можно ли овладеть этой способностью через наблюдение или обучение? Если опыт действительно определяет формирование способности, то должна быть возможность ускорить ее проявление с помощью раннего обучения, предоставив детям дополнительное знакомство с правилами. Если, с другой стороны, способность обнаруживать нарушение — часть нашей врожденной моральной способности, тогда у детей, живущих в различных культурах, с сильно различающимся опытом в школе и дома, эта способность должна проявиться в возрасте до трех лет. Один из главных признаков врожденной способности — это «узкое окно» времени для выражения навыка, который является относительно нечувствительным к различиям в опыте.
Я использовал материал II части, чтобы представить эскиз представлений о развитии нашей моральной способности. Я убежден, что наблюдения склоняют нас к варианту умеренного ролзианца. Мы обладаем психологическим механизмом приобретения моральных принципов, параметров и норм. Младенцы рождаются, имея «стандартные блоки», обеспечивающие понимание причин и следствий действий, и эти ранние способности развиваются и взаимодействуют с другими, позволяя порождать моральные суждения. Младенцы также обладают набором неосознаваемых, автоматических эмоций, которые могут усиливать одни действия и блокировать другие. Вместе взятые, эти способности позволяют детям строить моральные системы. Какую именно систему они построят, зависит от местной культуры и присущих ей способов установления параметров, которые являются частью моральной способности.
Часть III. Эволюция кода
Истоки добра
...Интересно вообразить, как склонный к рассуждениям тунеядец... обратившись к философии этики, представит себя чистейшей воды интуитивным моралистом. Он стал бы указывать с абсолютной справедливостью, что приверженность рабочих жизни, полной непрерывного тяжелого труда за заработную плату ради пропитания, не может считаться просвещенным эгоизмом или не имеет никакого другого прагматического основания, так как эти «пчелы» начинают работать без опыта или размышления, поскольку они появляются из ячейки, с которой жестко связаны.
Томас Гексли*
Рассмотрим следующий вариант в уже неоднократно обсуждавшейся серии примеров с вагоном (см. главу 3). Джон стоит на пешеходном мосту и видит, что вагон, приближающийся к мосту, движется без управления. По пути следования вагона идут пять шимпанзе, а насыпи с обеих сторон дороги настолько круты, что вовремя они не смогут выбраться из опасной зоны. Джон знает, что единственный способ остановить потерявший управление вагон состоит в том, чтобы перекрыть ему движение какой-либо большой массой. Но единственный, кто имеет достаточно тяжелый вес, это громадный шимпанзе, который сидит на пешеходном мосту недалеко от Джона. Джон может спихнуть этого шимпанзе на рельсы, по которым движется вагон, убив эту обезьяну; или он может не делать этого, позволив пятерым шимпанзе погибнуть под колесами вагона.
Мое собственное интуитивное представление (не единственное, но его я принимаю для удобства) состоит в том, что допустимо столкнуть громадного шимпанзе. Несмотря на то что в аналогичном случае с человеком это недопустимо вообще или, по крайней мере, менее допустимо. Напомним, что речь идет о Фрэнке, персонаже параллельной дилеммы, который должен был столкнуть крупного человека с пешеходного моста, чтобы спасти людей, идущих по рельсам. Американские студенты колледжа разделяют эту интуицию. Каково объяснение или оправдание различий между людьми и шимпанзе? Почему прагматический результат признается в ситуации с животными, но не с людьми?
С точки зрения логики, если непозволительно использовать одну жизнь как средство для сохранения многих жизней, этот принцип должен применяться с равной силой по отношению к взрослым людям, младенцам, больным с поврежденным мозгом и животным. Хотя люди, противопоставляющие эти случаи, редко придумывают последовательные объяснения, многие ссылаются на отличительные различия между жизнью человека и жизнью животного, включая нашу ответственность за представителей нашего и других видов.
Эти варианты объяснения имеют мало смысла с точки зрения центральных вопросов, касающихся прав животных и их благополучия, которые интенсивно обсуждаются в настоящее время. Когда мы принимаем решения о лечении животных, мы часто ссылаемся на доступные для наблюдения различия между нашими умственными возможностями и их. Мы проводим границу, которая отделяет нас от них, используя понятие отличительных способностей, включая язык, сознание, эмоции и предвидение будущего. Марк Твен, обсуждая эти представления, полагал, что они приводят к важному заключению о нашей собственной моральной способности: «Всякий раз, когда я смотрю на животных и понимаю, что все, что они делают, безупречно, и они не могут поступать неправильно, я завидую их достоинству, чистоте и благородству и признаю, что моральное чувство — крайне сложный предмет»[292].
Критики проведения границы между животными и человеком отвечают так: приводя примеры из жизни человека как вида, указывая, что, хотя новорожденный ребенок не столь разумен, как взрослый шимпанзе (и даже есть своеобразный лингвистический вызов неравенству, согласно которому взрослого шимпанзе называют «пушистым кузеном» младенца), тем не менее немногие решились бы бросить на рельсы ребенка, чтобы спасти пятерых других детей. Указание на психологические различия между нами и ими не работает. Возможно, источником различий служит наша эмоциональная привязанность, формировавшаяся более чем миллионы лет и предназначенная гарантировать благополучие людей, но не других видов. Когда сталкиваешься с дилеммой вагона, становится очевидным, что наша эмоциональная привязанность к людям больше, чем наша привязанность к животным, и это влияет на изменение суждений. Если это представление правильно, оно вернуло бы нас к особой роли модели Юма в руководстве нашими суждениями. Мы могли бы вообразить, например, что чем слабее наша связь с конкретным животным, тем сильнее наше убеждение, что мы можем использовать одну жизнь ради спасения многих. Мы могли бы даже перейти от суждения допустимости действия к суждению об его обязательности, особенно если животные подвергаются опасности. Те, кто воспринимает любую жизнь как священное явление, никогда не станут проводить границы. Таким образом, они придерживаются логически защищаемой позиции, согласно которой, если недопустимо погубить одного человека, чтобы спасти многих, тогда также недопустимо раздавить одну гусеницу, убить канарейку или шимпанзе ради спасения многих. Те, кто видит различия между видами, проводят границу между человеком и животными и позволяют принципу прагматизма управлять своим поведением.
Обсуждение благополучия животных и их прав не имеет прямого отношения к центральным вопросам этой заключительной части, но они имеют непосредственное отношение к решению следующей проблемы: каковы умственные возможности животных, которые вносят свой вклад в эволюцию моральной способности? Ответ на этот вопрос мы находим у Дарвина: «Любое животное, обеспеченное отчетливыми социальными инстинктами, включая родительские и сыновние (дочерние) привязанности, неизбежно приобрело бы моральное чувство или совесть, как только его интеллектуальные возможности достигли бы (или почти достигли) такого же уровня развития, как у человека». Дарвин справедливо предполагал, что животные с социальными инстинктами — это именно те виды животных, с которыми можно связывать вопрос о происхождении и развитии морального чувства. Он также был прав, полагая, что в ходе эволюции нашего морального чувства природа, должно быть, добавила некоторые дополнительные средства к его «ядерной» сущности, разрешив индивидуумам не только беспокоиться о других, но и узнать, почему заботиться о других правильно, а наносить вред — часто неправильно. Однако Дарвин никогда не давал детального описания того, что именно добавила эволюция, не писал он и о том, почему естественный отбор, по-видимому, «благоприятствовал» этим дополнительным средствам. Однако он действительно допускал, что животные, наделенные «интеллектом», «почти столь же развитым», как у нас, возможно только в элементарной форме, но в принципе могли бы иметь моральное чувство, а отбор мог бы действовать в направлении сохранения тех групп, где зарождались истоки морали.
Жан Жак Руссо высказывался более определенно, сравнивая человека и животных, точно определяя ключевое различие между ними и нами — наши уникально человеческие признаки: «Каждое животное имеет идеи, так же как и чувства; оно даже способно до некоторой степени комбинировать эти идеи; и именно только в степени этого комбинирования человек и отличается от животного... По этой причине не разум составляет специфическое различие между человеком и животным, но присущее человеку качество свободы воли. Природа направляет свои команды каждому животному, и оно повинуется ее призыву. Человек получает такой же импульс, но в то же самое время осознает себя свободным, решая, подчиниться ему или воспротивиться»[293].
По Руссо, люди, в отличие от животных, имеют свободу воли. Для Томаса Генри Гекели, приверженца Дарвина, многие из наших хороших и плохих установок были «подарками» эволюции, но наша способность через систему этики уничтожать зло и продвигать добро была в значительной степени творением человека: «Законы и моральные предписания установлены до конца мироздания и напоминают индивидууму о его долге перед сообществом, которое не только влияет на него, но и защищает и которому он обязан если не самим своим существованием, то, по крайней мере, жизнью несколько лучшей, чем у грубого дикаря»[294].
Эти комментарии свидетельствуют о том, что Гексли отходит от позиций Дарвина. Гексли полагал, что эволюционная теория, а точнее, сравнительный метод не обеспечит должного проникновения в психологию морали. Как оказалось, Дарвин, в отличие от Гексли, был ближе к истине. К сожалению, однако, немало биологов-эволюционистов присоединились к авторитетному голосу Гекели[295].
Переходя от филогенетических или исторических оснований к адаптивной функции, Дарвин сначала представил репродуктивное соревнование среди индивидуумов в пределах группы, которая включала «сочувствующих и доброжелательных родителей», с одной стороны, и «эгоистичных и ненадежных родителей» — с другой. Полагая, что храбрые мужчины, рисковавшие своими жизнями, погибнут, в отличие от эгоистичных трусов, которые остались дома, он заключил, что естественный отбор не будет увеличивать число добродетельных лиц[296].
Напротив, переход от внутригруппового соперничества к соперничеству между группами представляет иную картину: «Племя, включающее многих людей, которых отличает патриотизм, преданность, дисциплинированность, храбрость, взаимная симпатия, готовность помочь другому, наконец, пожертвовать собой ради общего благополучия, такое племя всегда возьмет верх над большинством других племен... Во все времена и повсюду такие племена победили бы все другие; и поскольку этика — один из важных элементов их успеха, общепринятая нравственность (и число людей, наделенных ею в полном объеме), таким образом, всюду будет иметь тенденцию к укреплению и распространению».
Здесь Дарвин делает предположение: добрая воля людей будет превалировать над злом, создавая источник морального роста. И далее: когда одна группа противостоит другой, побеждает группа с более высокой моралью. Но, как показывает история, Дарвин заблуждался, если только кто-нибудь не пожелает приписать высокие моральные основания политике таких известных в истории личностей, как Чингисхан, Пол Пот, Адольф Гитлер, Иди Амин, Эфрайн Монт и Радко Младич. Все перечисленные лидеры несут ответственность за геноцид отдельных групп населения или целых народов, этнические чистки. Есть, однако, один аспект, в отношении которого Дарвин оказался прав. Если мы обратимся к позитивным результатам деятельности организаций типа Организации Объединенных Наций, то нельзя не отметить реализации добродетельных моральных установок, включая глобальное сокращение рабства, уменьшение насилия над детьми, отказ от высшей меры наказания и жестокого обращения с животными. Таким образом, для некоторых групп людей и животных представляется возможным облегчить распространение того, что многие считают универсальными правами[297].
Проблемы адаптивного функционирования можно рассматривать, по крайней мере, двумя способами. Классический подход состоит в том, чтобы документально зафиксировать, как определенные варианты поведения влияют на выживание индивидуума и его воспроизводство. Вспомним еще раз проблему альтруистического поведения. По Дарвину, в свете логики естественного отбора, быть добрым к кому-то другому, затрачивая собственные усилия и средства, не имеет особого смысла. Имеются в виду не только такие выдающиеся личности, как мать Тереза и Махатма Ганди, но даже и те, кто оставляет чаевые в ресторанах, заботится о потомстве других индивидуумов и вносит свой вклад в благотворительную деятельность. Эти действия уменьшают потенциал каждого человека для собственного продвижения. Если дарвиновская теория является правильной, отбор должен устранять достаточно «глупых» индивидуумов, понижая их репродуктивную ценность и, в конечном счете, сводя к минимуму их генетическое потомство, вкладывая капитал в других.
Как утверждали биологи-эволюционисты Уильям Гамильтон, Джордж Уильямс и Роберт Триверс, мы решаем этот парадокс, если анализируем поведение на уровне гена. Дело в том, что поведение, которое кажется искренне альтруистическим и хорошим для группы, фактически можно рассматривать как результат тайного действия эгоистичных генов. Мы поступаем хорошо по отношению к членам семьи, потому что наше генетическое потомство включено в них и в их потомство. Что хорошо для них, хорошо и для наших генов. Когда мы имеем дело с неродственниками, мы поступаем доброжелательно по отношению к ним, если имеем некоторые гарантии оплачиваемого возврата. Это не акт доброты. Социальная взаимность — акт личного интереса, потому что она предусматривает ожидания справедливого возврата. Я даю продовольствие тебе, ты — мне; я почесываю спину тебе, ты — мне, я посмотрю за твоим детенышем, а ты — за моим.
С точки зрения сохранения генетического материала, единственный способ понять эволюцию морального поведения состоит в том, чтобы выявить ее первопричины, направленные «на себя». Вместо того чтобы спрашивать: «Как я могу вам помочь?» — точнее было бы спросить: «Чем моя помощь вам, в конечном счете, может помочь мне?» В самом простом случае вы сравнили бы две стратегии — нравственную и безнравственную — и подсчитали бы число младенцев, родившихся в результате реализации той и другой. Если победит нравственная стратегия, причем и с точки зрения объема репродукции, и с точки зрения устойчивости по отношению к аморальным противникам, значит, отбор сохраняет моралиста и устраняет его безнравственных оппонентов. Однако жизнь не так проста, как логика аргументов.
Второй подход состоит в том, чтобы выяснить источник «проектируемых» свойств объекта. Опираясь на труд преподобного Палея «Естественное богословие», Ричард Доукинз утверждал, что только случайными обстоятельствами нельзя объяснить ни сложной точной работы механизма часов, ни тем более факта бытия живых существ. Для решения этого вопроса Палей обратился к Богу, а Доукинз с той же целью обратился к Дарвину. В то время как Бог всевидящ, естественный отбор осуществляет свои функции вслепую. Естественный отбор формирует организмы со сложными особенностями строения, основанными на неслучайном, но лишенном определенной цели процессе. Плохо спроектированные варианты устраняются, хорошо спроектированные сохраняются. Когда мы видим сложно устроенный организм или орган, мы видим уникальную работу естественного отбора, «мастера на все руки», который в целях адаптации творит прекрасные продукты из сырья, имеющегося под рукой. Этот аргумент равно справедлив как для организма в целом, так и для его отдельных частей: глаз, мозга и психики.
В последней главе я говорил, как Космидес и Туби использовали позицию проектирования, чтобы обосновать доводы в пользу эволюционного формирования «детектора лгуна». Как они предполагают, центральная проблема для наших предков из плейстоцена состояла в том, чтобы сотрудничать в обслуживании социального обмена. Когда индивидуумы участвуют в этом виде обмена, они неявно или явно устанавливают социальный Контракт. Учитывая, что индивидуумы могут нарушать социальные контракты, получая выгоду без оплаты стоимости, отбор мог «одобрить» тех индивидуумов, которые оказывались способными обнаружить таких мошенников. Обратный вариант проектирования требует, чтобы мы нашли психологический механизм, позволяющий идентифицировать случаи обмана, которым, согласно представлениям Космидес и Туби, мы, безусловно, обеспечены. Это свидетельство в пользу адаптивной позиции проекта.
Противоречие в работе, посвященной способности к обнаружению мошенника, связано с вопросом: почему эта способность развивалась в эволюции? Предполагая, что система обнаружения мошенника оформилась как адаптация к жизни у охотников/собирателей плейстоцена, Космидес и Туби подразумевают, что это уникально человеческая адаптация. Конечно, такое предположение вполне вероятно, но в отсутствие наблюдений над другими животными оно вряд ли может быть неоспоримым. Без изучения других животных заявления о человеческой уникальности лежат в области предположений. И, как я расскажу позже, имеются многочисленные наблюдения случаев обмана у животных и нескольких случаев, когда мошенники были ими обнаружены.
В этой главе я исследую, какие компоненты моральной способности, если таковые вообще имеются, возникли в эволюции до появления нашего собственного вида. Идею о социальной взаимности я представляю как главную и по причине ее исключительной роли в жизни человека и потому, что анализ этого явления поднимает вопросы о его психологических предпосылках. Чтобы начать и поддерживать взаимно-устойчивые отношения, индивидуумы должны узнать друг друга, выяснить основные вопросы, составляющие суть деловых отношений: что именно, кому, сколько, когда и с какими затратами? Индивидуумы должны также узнать, был ли ресурс для обмена предоставлен намеренно или это случайный, побочный продукт продвижения к иной эгоистичной цели? И, кроме того, не зависит ли обмен ресурсами от каких-либо условий?
Подобно другим социальным взаимодействиям, эта форма кооперации связана со многими способностями. В их число включаются способности определять ожидания, эмоционально реагировать на действия, которые удовлетворяют этим ожиданиям или нарушают их, способности усваивать, подчиняться и предписывать правила, а также испытывать чувство ответственности за позитивное развитие отношений. Поведение каждого человека, вступающего в социальные отношения, часто зависит от уровня развития и степени дифференцированности его самосознания, а также от способностей к сопереживанию и предвидению психических состояний других людей без прямого наблюдения за их поведением. Когда мы формулируем моральные суждения о чьем-либо действии, мы используем многие из этих способностей, несмотря на то что часто не осознаем сути основополагающего процесса. Возможно, они и есть психологические «биты» — элементарные частицы нашей психики, которые Дарвин имел в виду, когда рассматривал развитие наших интеллектуальных возможностей. Может быть, эти «биты», при условии такого же, как у человека, или близкого к нему уровня развития, дали бы некоторым животным примитивное моральное чувство, способность, которую мы могли бы с удовлетворением считать эволюционным предшественником нашей морали.
Дарвиновские узловые пункты действия
Когда физиолог Иван Павлов вырабатывал у своих собак условный рефлекс, он учил их ожидать пищу, как только те услышат звонок. Однако нам неизвестно, на что именно надеялись эти собаки, потому что Павлов никогда не исследовал, были ли они удовлетворены появлением привычной еды или ожидали какой-то особой пищи и, таким образом, чувствовали себя разочарованными и обманутыми, если им предлагалось что-то другое. Иными словами, что именно ожидают животные и о чем они думают до наступления предсказанного события? Независимо от содержания ответа, он не будет иметь прямого отношения к проблемам морального значения. Однако, поскольку ожидание включено в контакты в социальной сфере, необходимо глубже вникнуть в его сущность. Если животные могут формировать ожидания и обнаруживать их нарушения, то они должны быть способны к оценке социально правильных или неправильных действий, а возможно, и к оценке этих действий с точки зрения морали.
В 1920-е годы психолог Эдуард Тинкелпоу провел ряд экспериментов. Их цель — выяснить, способны ли обезьяны (макаки резус и шимпанзе) иметь определенные ожидания по поводу разных продуктов, сначала показанных им, а затем скрытых в контейнере. В одной серии экспериментов подопытная обезьяна видела, как Тинкелпоу прятал разные пищевые продукты в одном из двух контейнеров. Затем он ставил экран перед контейнерами, пряча их от взгляда животного, некоторое время ждал, а потом убирал экран и позволял обезьяне искать скрытые продукты. Все подопытные обезьяны активно исследовали контейнер с пищей, иногда его содержимое соответствовало тому, что было положено вначале, а иногда и нет. Если они видели, что Тинкелпоу спрятал банан, и затем находили банан, то выражали удовольствие. Если они видели, что Тинкелпоу положил банан, а они находили вместо банана салат, то начинали сердиться или были весьма озадачены.
Мы не знаем, что именно переживают приматы в ситуации удовлетворения ожидания или полного разочарования. Но эксперименты Тинкелпоу были успешно повторены несколько раз. Особо следует отметить нейрофизиологические исследования, в которых установили нервный код, отражающий ожидание соответствия и обнаружение ошибки[298]. Эти исследования убедительно демонстрируют, что мозг приматов в эволюции развивался таким образом, чтобы формировать ожидания, предвосхищая результаты, которые имеют значение для выживания.
Теперь я возвращаюсь к теме, изложенной в главе 4 и касающейся психических возможностей младенцев. Меня интересует вопрос, способны ли животные формировать ожидания, которые относятся к действиям и событиям, используя причины и следствия, а также способны ли они определять нарушения в ходе развития предсказанных событий? Приношу свои извинения Джиму Уотсону и Фрэнсису Крику, но я воспринимаю эти примитивные детекторы, как «ДНК» для дарвиновских «узловых пунктов действия».
Первый и самый основной принцип действия имеет отношение к способности воспринимать самостоятельное движение объекта. Это отправная точка для установления различий между одушевленными и неодушевленными объектами.
ПРИНЦИП 1: Если объект перемещается самостоятельно, это животное или часть его тела.В мире природы объекты, которые обладают способностью перемещаться самостоятельно, — это животные, а те, кто не способен к самостоятельному передвижению, — это или мертвые животные, или растения, или неодушевленные объекты. Сталкиваясь с этими разными объектами, какие ожидания формируют животные относительно их возможного перемещения в пространстве? Полагают ли они, что все животные могут двигаться куда им захочется? Считают ли они, что все неодушевленные объекты будут оставаться на одном и том же месте при условии, что у них нет контакта с некоторым другим объектом?
В ряде исследований, выполненных совместно с моими студентами, мы предъявляли диким обезьянам резус и воспитанным в неволе обезьянам игрункам коробку с двумя секциями, разделенными перегородкой и с отверстием в основании[299].
В каждой серии опытов экспериментатор помещал один предмет в одну из секций, на несколько секунд закрывал коробку экраном, затем удалял экран и показывал обезьяне, что предмет находится или в том же самом отделении, или в противоположном. Основным показателем внимания животного служило время рассматривания предмета после удаления экрана. Когда обезьянам показывали яблоко или шарик, они рассматривали эти предметы дольше, если оба предмета появлялись не в той секции, куда их положил человек, а в противоположной секции. Яблоко и шарик — неодушевленные объекты, они не могут перемещаться самостоятельно. Обезьяны резус и игрунки испытывали явное удивление, когда яблоко и перекатываемый человеком шарик, казалось, самостоятельно изменяли свое местоположение. Так же пристально они рассматривали глиняную фигурку, которую экспериментатор помещал в центр секции, а затем с помощью магнитов, но пряча их от обезьян, заставлял ее двигаться в пределах секции. Хотя от стартовой черты фигурка перемещалась самостоятельно (что соответствует представлению о самостоятельном движении), обезьяны выглядели удивленными, если фигурка оказывалась в смежной секции. Однако, когда экспериментатор помещал в одну из секций поочередно то живую древесную лягушку, то мышь, то краба-отшельника, время рассматривания не зависело от того, в какой секции в итоге оказывалось животное. Подопытные обезьяны резус и игрунки наблюдали одинаково долго и в том случае, когда эти животные появлялись в противоположной секции, и в том случае, когда они оставались в стартовой секции. Видимо, обезьяны резус и игрунки исходят из того, что живые существа имеют привилегированное положение: в отличие от неодушевленных объектов, животные могут двигаться когда и куда захотят или оставаться на одном месте. Хотя способность самостоятельно передвигаться является важным релевантным признаком живого существа, но обезьянам этого признака недостаточно. Когда возникает необходимость предсказать способность объекта занять то или иное место, эти обезьяны ищут дополнительные признаки одушевленности, намеки на то, что предмет, на который они смотрят, живой, он дышит и способен к передвижению на другое место.
Результаты этих экспериментов позволяют ставить вопрос о различиях в поведении обезьян и младенцев. Для представителей нашего вида самостоятельно передвигающийся объект, повидимому, обеспечивает достаточно признаков для предсказания его целей. Причем рассматриваемый объект может быть столь же прост, как шар или плоский диск на экране. Второй эксперимент, однако, предполагает, что обезьяны могут понимать следствие принципа 1: неодушевленный объект может передвигаться только в том случае, если вступает в контакт с другим объектом.
Чтобы глубже исследовать принцип 1, когнитивный психолог Лори Сантос показывала игрункам сначала красный поезд, а следом за ним — синий поезд. Затем она закрывала красный поезд экраном и запускала синий поезд. В первом случае синий поезд двигался позади экрана, и поскольку он толкал впереди себя красный, то вскоре красный поезд появлялся с другой стороны экрана. Во втором случае синий поезд только частично исчезал за экраном, а вскоре появлялся красный поезд. Таким образом, в первом случае (но не во втором) синий поезд вступал в контакт с неподвижным красным поездом. Второй случай физически невозможен, так как красный поезд не имел возможности двигаться самостоятельно, а синий поезд не вступал с ним в контакт. Игрунки обнаружили эту «невозможность», поскольку разглядывали вторую ситуацию дольше, чем первую. Эти результаты дают основание считать, что игрунки владеют следствием из принципа 1: неодушевленные объекты не могут заставить другие объекты двигаться, не вступив с ними в контакт.
Принцип 2 основывается на принципе 1, превращая цель в часть события.
ПРИНЦИП 2: Если объект перемещается в определенном направлении к другому объекту или месту, то эти мишени — объект или место в пространстве — представляют собой цель движущегося объекта.Чтобы проверить, является ли этот принцип частью психического кода, мы можем использовать анализ реакций младенца или животного на несоответствующее ожиданиям поведение другого объекта, по крайней мере с точки зрения нормального взрослого человека. Например, индивидуум проявляет внимание к предмету или его положению в пространстве, начинает двигаться к этому предмету, а затем отвлекается, изменяет направление движения или начинает собирать другие предметы. Удивится ли животное, видя индивидуума, который стремительно движется по направлению к какому-то объекту или другому животному, но вдруг останавливается, ложится и засыпает? Как отреагирует животное, увидев, что другая обезьяна, сосредоточенно рассматривавшая кокосовый орех, тянется не к нему, а к банану?
Эксперименты психолога Вудворд, описанные в главе 4, представляют попытку ответить на эти конкретные вопросы. Младенцы наблюдали, как экспериментатор пристально рассматривал один из двух предметов на сцене, а затем брал либо этот предмет, либо другой. Вторая ситуация особенно интересовала детей. Они смотрели гораздо дольше, когда экспериментатор брал тот предмет, на который до этого не обращал никакого внимания. Точно так же вели себя и обезьяны игрунки[300].
Похоже, что мы разделяем принцип 2, по крайней мере, с одним видом животных. Последнее весьма существенно, потому что это принцип действия с далеко распространяющимися последствиями, в том числе и в сфере морали. Его моральное значение, например, может быть связано с нашей способностью обнаруживать весьма непривлекательные действия. Когда неумный родитель дразнит своего ребенка, предлагая игрушку, которую тот никак не может достать, мы воспринимаем это как нравственно неправильное действие, как моральное нарушение. Поступок родителя мы диагностируем как «порочный», потому что признаем, что получить игрушку — цель ребенка. Без способности к опознанию цели и действия, направляемого целью, мы не имели бы категории «нравственно порочного поддразнивания». Животные типа игрунков имеют некоторые из похожих психологических механизмов, даже если они не приписывают нравственного нарушения такому поведению, при котором одна обезьяна дразнит другую. Однако другие приматы (например, шимпанзе), очевидно, способны к подобной атрибуции, и ниже я представлю тому свидетельство.
В 1984 году, работая в Кении, я изучал обезьян верветок (зеленых мартышек). Однажды я заметил детеныша, которого, казалось, что-то раздражало на его левом бедре. Он настойчиво копался в этом месте. Мать детеныша находилась на некотором расстоянии от него. Внезапно этот младенец подскочил и бросился вперед. Зная о раздражении на его бедре, я предположил: что-то задело больное место, заставив его так реагировать. Мать младенца немедленно помчалась за ним, чтобы выяснить, что случилось. Но о чем думала эта мать-верветка? Может быть, она решила, будто что-то укололо ее младенца, заставив его так подскочить? Или она была озадачена его очевидной попыткой подпрыгнуть, возможно, чтобы преодолеть невидимый барьер? Может быть, она подумала, что ее ребенок вел себя на удивление нерационально? Принцип 3 касается именно этой проблемы.
ПРИНЦИП 3: Если объект гибко изменяет направление движения, реагируя на другие объекты окружающей среды или на события, то это показатель рационального поведения.Психологи Гергель и Ксибра обеспечили необходимую проверку этого принципа в экспериментах с участием детей, а возрастной психолог Клаудия Улле представила аналогичные данные, полученные в опытах с детенышами шимпанзе[301].
Каждый шимпанзе по очереди сидел перед экраном телевизора и наблюдал, как маленький квадрат сначала перемещался по экрану вдоль барьера, иногда преодолевая его, а затем оказывался рядом с большим кругом. Этот сюжет повторялся многократно. Затем им показывали два новых сюжета уже без барьера. В первом сюжете квадрат продвигался немного вперед, затем, перемещаясь вверх и вниз, образовывал дугу и только после этого направлялся к кругу. Это было подражание первоначальной траектории движения (при наличии барьера), но с точки зрения наблюдателя — и взрослого, и младенца — такое движение казалось причудливым и иррациональным. Во втором сюжете квадрат направлялся сразу к кругу, демонстрируя совершенно рациональное действие.
Детеныши шимпанзе внимательнее и дольше смотрели на иррационально двигавшийся квадрат. Подразумевается, что они ожидали рационального действия от геометрической фигуры, сталкивавшейся с новой окружающей средой. Принцип 3, повидимому, связан с эволюционно наиболее древними основаниями психологии действия. Возможно, его биологическая база определяется специфическими компонентами ДНК приматов.
В некоторых районах Африки, когда шимпанзе вступают в контакт для груминга, животное, инициирующее взаимодействие, в качестве сигнала поднимает руку [302]. Партнер, если заинтересован в груминге, отвечает тем же, затем оба сцепляют руки в замок, образуя так называемое рукопожатие груминга. В этом случае в ответ на поднятую руку инициатора контакта поднимается рука партнера, образно говоря, поведение инициатора, отражаясь как в зеркале, вызывает условный ответ. Таким образом, устанавливается социальное взаимодействие. Это основной аспект принципа 4.
ПРИНЦИП 4: Если действие одного объекта во времени сближено с действием второго объекта, действие второго объекта воспринимается как социально обусловленный ответ.Груминг — одна из форм сотрудничества, наблюдаемого у животных в широком диапазоне видов. Встречи, сопровождающиеся грумингом, могут происходить последовательно, с большими или маленькими промежутками, или в одно и то же время. Другие формы кооперации представляют похожие взаимные услуги, включая уход за детенышем, сигналы тревоги и дележ пищи. Чтобы поддерживать эти совместные действия, животные должны иметь некоторое представление о социальной обусловленности. Они должны обладать способностями, близкими принципу 4. Для этого утверждения есть основания, несмотря на то что никаких экспериментальных исследований, результаты которых свидетельствовали бы в его пользу, до сих пор проведено не было.
Источник социальной обусловленности для некоторых животных связан с совместными играми, особенно с теми, в которых участвуют двое животных, действующих вместе для достижения некоторой общей цели. Не меньшее значение в этом плане имеют игры, предполагающие некоторую форму взаимности. В игре с обезьянами игрунками, ориентированной на разные стратегии взаимности, экспериментатор обучил одно животное придерживаться односторонней стратегии альтруиста, отдавая лакомство своему оппоненту при любой возможности. Второе животное экспериментатор обучил односторонней стратегии отступника-эгоиста: никогда не давать лакомства своему противнику. Идея эксперимента проста. Оба тренированных животных поочередно вступали в контакт с обезьянами, которые не были обучены специальным стратегиям «пищевого» поведения, но при этом были обеспечены питанием. Если социальная обусловленность действует, то ее результаты должны были различаться, когда нетренированная обезьяна предлагала пищу обученным противникам. Действительно, лакомство возвращалось к ней от альтруиста, но не от эгоиста. В конечном счете, все нетренированные животные охотно сотрудничали с альтруистом, который их мило угощал, и игнорировали эгоиста. Эти наблюдения вместе с другими экспериментами свидетельствуют: социальная обусловленность может играть центральную роль и в стабилизации, и в нарушении социальных отношений у животных[303].
По природе все животные, живущие группами, обладают навыками, которые позволяют им выбирать партнеров для кооперации и избегать мошенников. Они способны распознавать и учитывать нрав своих собратьев: добрых и свирепых, доминирующих и подчиняющихся. Многие животные объединяются в коалиции с заслуживающими доверия партнерами, а затем нападают и наносят поражение тем, кто в иерархии выше их. У низших и высших обезьян принята такая форма поведения: когда доминирующий самец оказывается рядом, кроткие, подчиняющиеся ему обезьяны раскрывают рот, обнажая зубы, демонстрируя тем самым свое подчинение, что, как правило, действует как «щит», предохраняя их от случайных проявлений насилия. Из этих наблюдений, однако, мы не получаем необходимых сведений о том, как эти навыки приобретаются и как они представлены в психике. Мы должны понять, существует ли ключевой принцип действия, который определяет, как животные судят специфические социальные взаимодействия, относя одни к категории оказания помощи, а другие — к категории нанесения вреда. Руководствуются ли животные принципом 5?
ПРИНЦИП 5: Если объект целенаправленно продвигается и гибко реагирует на ограничения, имеющиеся в среде, то объект имеет потенциал, чтобы причинить вред или принести пользу другим объектам такого же типа.Наиболее релевантные эксперименты в этом плане были проведены антропологом Давидом Примаком и психологом Джозефом Коллом. Оба исследования фокусировались на целях субъекта и взаимосвязи между действиями и значением последствий для каждого субъекта[304].
Для решения этой сложной задачи Примак привлек свою «звезду», шимпанзе Сару. После целого ряда лет, в течение которых шли эксперименты, у Сары сложились свои отношения с тренерами, одних она любила, а других — нет. Примак выбрал для этого эксперимента по одному из тех и других. В каждом испытании Сара сначала наблюдала видеозапись тренера, делающего попытку достать лакомство, которое находилось вне досягаемости. Затем экспериментатор вручал ей конверт с тремя фотографиями. На одной фотографии был снят тренер, действующий надлежащим способом, чтобы решить проблему (например, тренер брал длинную палку, чтобы пододвинуть лакомство). На другой фотографии тренер использовал действие, не подходящее для решения проблемы (например, он выбирал короткую палку, с помощью которой нельзя было добраться до еды). И заключительная фотография представляла тренера, действующего правильно, но не для решения данной задачи (например, тренер стоял на стуле). Последний ответ помог бы достать продукт, свисающий с потолка, но он не подходит, если нужно достать пищу, лежащую далеко на земле и которую можно подтянуть только длинной палкой.
Центральный вопрос исследования заключался в том, какие фотографии и соответственно какие действия выберет Сара в зависимости от того, кого она видела на фотографии: приятного или неприятного тренера? Если бы обезьяна была похожа на нас, она должна была выбрать надлежащее действие для приятного тренера и неподходящее или несоответствующее действие для неприятного тренера. Если бы она отличалась от нас, она могла бы только выбрать итоговую фотографию, независимо от того, какого тренера она наблюдала.
Сара действовала тем же способом, каким стали бы действовать мы. В каждом условии она выбирала надлежащее действие для приятного тренера и неподходящее или несоответствующее действие для неприятного тренера. Эти результаты дают основание считать, что шимпанзе опознают свои собственные цели и состояния и могут также представить цели других. Они могут объединять представления о целях других с оценкой своих собственных эмоций, чтобы выбрать действия, которые приносят пользу одним и потенциально вредят другим. Эта способность является главной для этики, поскольку ведет к стратегическому использованию сотрудничества с теми, кого мы любим, и отклонению контактов с теми, кто нам не нравится.
В исследованиях Колла шимпанзе образовывали пары с экспериментатором, который контролировал доступ к лакомству — любимому ими винограду. В небольшом числе ситуаций экспериментатор шел навстречу желанию обезьяны, давая ей виноград, а в других ситуациях он этого не делал. Основной вопрос заключался в следующем: сможет ли шимпанзе провести различия между действиями, которые внешне были очень похожи, но отличались с точки зрения основных намерений, или целей, экспериментатора.
Рассмотрим два подобных условия: первое было связано с поддразниванием обезьяны, второе — с использованием неловкости экспериментатора. В первом случае шимпанзе дразнили виноградом. Колл протягивал виноград через открытую перегородку, но, как только шимпанзе дотягивался до винограда, Колл придерживал виноград, не давая обезьяне завладеть им. Неуклюжесть приводила к тем же самым действиям, за исключением того, что Колл будто случайно ронял виноград каждый раз, когда придвигал его к открытой перегородке. В обоих вариантах взаимодействия шимпанзе никогда не получал винограда. Если бы шимпанзе заботились только о получении пищи, если бы они были просто «консеквенталистами» (т. е. ориентировались только на результат), — тогда, с их точки зрения, экспериментатор, который дразнил их, ничем не отличался бы от экспериментатора, который был неуклюж. Последствия одинаковы: никакого винограда. Если же шимпанзе беспокоил вопрос о том, почему они не получили винограда, если они заботились о средствах достижения результата, тогда эти два варианта взаимодействия рассматривались по-разному. В первом случае, дразня шимпанзе, Колл вел себя, с точки зрения морали, недостойно, нравственно порочно (вспомним принцип 2), во второй ситуации он оказался просто раздражающе неловок.
Шимпанзе видели различия между этими двумя условиями. В ответ на ситуацию, в которой их дразнили, и в отличие от ситуации с неуклюжей подачей лакомства, они уходили с испытательной площадки раньше и обнаруживали больше признаков расстройства. Они стучали в окно, агрессивно кричали. Может быть, они воспринимали поведение дразнившего их экспериментатора как нравственное искажение? Вряд ли кто-нибудь в настоящее время может ответить на этот вопрос. Точно так же открытым остается и вопрос о том, как бы вели себя шимпанзе в ситуации с неодушевленными объектами, выполняющими те же самые действия, стали ли бы они приписывать им те же самые оценки, как людям, участвоваьшим в проведении эксперимента? Для сравнения вспомним младенцев, которые наблюдали за движением геометрических форм на телевизионном экране.
Результаты исследований Примака и Колла дают основание полагать, что шимпанзе могут иметь доступ к принципу 5. Как минимум, они, кажется, могут, отстраняясь от внешних особенностей действия, понимать намерения и цели действующего лица, используя их как основание для того, чтобы различать тех, кто им помогает, и тех, кто им вредит. И возможно, это часть их психологического проекта, потому что отбор одобряет способности, которые, в конечном счете, питают личный интерес, даже если это находится в контексте сотрудничества с другими.
В отличие от большого объема информации, касающейся развития понятий об одушевленных и неодушевленных предметах у младенцев, мы знаем относительно мало об их эквивалентах у животных. Последнее делает оценку некоторых из этих принципов менее чем удовлетворительной, особенно если речь идет о проблемах морали. Отсутствие этих сведений весьма ощутимо, так как мы, в конечном счете, хотели бы выяснить, изменяются ли моральные суждения индивидуума в зависимости от того, как он воспринимает жизнь и смерть? Как было упомянуто в главе 4, у ребенка представление о смерти и ее понимание формируется относительно поздно. Имеют ли животные что-нибудь подобное понятию смерти? Совпадает ли это с представлениями ребенка, который фиксируется на таких критических признаках, как дыхание и движение? Или это более содержательное представление, более теоретически информированное, учитывающее понятия роста и воспроизводства? К сожалению, мы можем только рассказать о некоторых несистематических, отдельных наблюдениях.
Разумеется, некоторые животные и насекомые не имеют представлений о смерти. Как пишет Эдвард Уилсон, когда муравей умирает, его удаляют из колонии и помещают на кладбище. Однако дело, видимо, просто в том, что мертвые муравьи выделяют олеиновую кислоту, которая, попадая на живых муравьев, губит их. Это, наверное, и есть причина перемещения мертвых муравьев на муравьиное кладбище. Для муравья смерть — это олеиновая кислота. Сведений о других видах чуть больше, но тем не менее ситуация также не ясна. Изучение слонов, высших и низших обезьян дает основание полагать, что индивидуумы, особенно матери, после потери своего потомства переживают период траура. Есть наблюдения, которые зафиксировали, что потеря члена группы вызывает изменение в поведении других ее членов и, мы предполагаем, в их эмоциональном состоянии. Но эти сведения говорят нам очень немного об их понимании смерти. Имеют ли эти животные какие-либо представления о будущем умершего индивидуума, возможно ли когда-либо их возвращение или их существование будет продолжаться в некотором измененном состоянии где-нибудь еще? Без знания того, как животные понимают собственный жизненный цикл, связи между принципами действия и их моральным значением остаются очень неясными.
Кто я?
Когда я изучал обезьян резус на острове Кайо-Сантьяго (Пуэрто-Рико), меня навестила съемочная группа Би-би-си. Они снимали документальный фильм об эмоциях животных и хотели получить некоторые сведения о «социальной жизни» этих обезьян. Они также хотели установить большое зеркало и посмотреть, как будут вести себя обезьяны. Я предупредил их, что некоторые из наиболее возбудимых подростков и взрослых самцов могут разбить это зеркало вдребезги. И действительно, вскоре большой взрослый самец в стиле кунг-фу давил остатки зеркала, превращая его в мелкие осколки. Конец фильма. Потом обезьяны наблюдали, как мы подбирали все осколки, которые только смогли найти. Позже, в тот же день, когда съемочная группа ушла, мы увидели четырех прогуливавшихся взрослых самок: три обезьяны шли налегке, четвертая несла маленький осколок зеркала. Периодически обезьяны останавливались и внимательно и долго смотрели в зеркало[305].
Что они видели? О чем они думали? И почему только самки? Учитывая размер зеркала, они не могли думать, что в зеркале другая обезьяна. А если это не кто-то другой, тогда кто же еще, кроме «меня»? Может быть, они были поглощены мыслями о своей привлекательности, достойной их мужественных юношей?
Опыты с использованием зеркала превратились в настоящую индустрию исследований животного. Ее цель — выяснить, как животные воспринимают самих себя, присуще ли им чувство «самости»?[306]
Родоначальником такого подхода был Чарлз Дарвин, изучавший поведение орангутангов в неволе. Спустя более чем сто лет после Дарвина, в 1970 году, сравнительный психолог Гордон Гэллап разработал более точный и информативный метод. Гэллап обеспечил шимпанзе доступ к большому стационарному зеркалу и начал изучать их поведение. Подобно орангутангам, которых наблюдал Дарвин, шимпанзе смотрели в зеркало и делали гримасы, видя себя в зеркальном отражении. Обезьяны также искали что-то позади зеркала, как будто они пробовали определить местонахождение «невидимой части» индивидуума, находящегося в зеркале. Эти формы поведения не представляли большого интереса. Тогда Гэллап сделал следующий шаг. Он дал обезьянам наркоз и, пока те были без сознания, специальной краской без запаха нарисовал каждой пометки на одной брови и на одном ухе. Как только шимпанзе пришли в себя, Гэллап поместил перед ними зеркало и стал наблюдать. Приходя в себя, животное немедленно смотрело в зеркало и касалось отмеченных краской мест на голове. Это поведение можно истолковать двояко. Во-первых, шимпанзе обнаруживают, что, когда они начинают двигаться, зеркальное изображение полностью и абсолютно синхронно повторяет все их шаги. Замечая эти совпадения, обезьяна приходит к выводу: «Это я». Во-вторых, они воспринимают свое зеркальное отражение как другого шимпанзе с красными метками и удивляются, если находят то же самое у себя. В обоих случаях поведение «двойника» подсказывает смотрящему в зеркало индивидууму кое-что о нем самом. Тем не менее второе объяснение кажется маловероятным, учитывая тот факт, что, хотя шимпанзе опознают окрашенные метки и касаются их, они продолжают использовать зеркало, чтобы искать невидимые части тела того, кто в зеркале. Зеркало становится для них инструментом.
Другой вариант эксперимента был проведен сравнительным психологом Эмилем Мензелем, он также обогатил наше понимание самопознания у животных. Мензель хотел выяснить, могут ли шимпанзе и обезьяны резус использовать изображение своей руки на мониторе, чтобы найти скрытое местоположение цели. Оказалось, что резусы не могли ничего сделать еще на стадии начального обучения, поэтому никаких данных получено не было. Шимпанзе, в отличие от них, могли не только использовать проекцию своей руки на мониторе, чтобы найти скрытую цель, они оказались также способны переставлять свою руку, когда изображение было инвертировано. Более того, они вообще прекращали все действия, когда монитор показывал им не реальную динамику перемещения их руки, а предварительно снятую версию ее движений в другой ситуации. Исходя из поведения шимпанзе, мы приходим к выводу, что животное знало: «Это моя рука на экране».
Вслед за Гэллапом целый ряд исследователей задавались вопросом, обладают ли другие животные этой способностью, этим чувством «самости», или они столь же глупы и беспомощны, как обезьяны резус? Как будто библейский Ной руководил этим стандартным испытанием, выполняющим роль своеобразной входной платы в ковчег. Один за другим экспериментаторы исследовали поведение попугаев, голубей, ворон, слонов, дельфинов, игрунков, макак, бабуинов, орангутангов и горилл, показывая им зеркало и наблюдая их ответную реакцию. И один за Другим большинство этих животных оказалось не в состоянии Коснуться отмеченных областей и использовать зеркало, чтобы Исследовать обычно невидимые части. За исключением дельфинов, те животные, которые прошли испытание, были близкими эволюционными родственниками орангутангов, шимпанзе и бонобо (карликовые шимпанзе). Особо следует упомянуть гориллу Коко. Воспитанная человеком и обученная языку, она продемонстрировала все возможные доказательства понимания операций с зеркалом. Конечно, Коко отнюдь не среднестатистический экземпляр.
Некоторые исследователи утверждают, что шимпанзе, бонобо и орангутанги — особая группа животных. Другие ученые возражают им: эти животные не более специфичны, чем дельфины и гориллы, которые также, по-видимому, справляются с данным испытанием. В основе этих дебатов, однако, два бесспорных пункта. Во-первых, не все животные обнаруживают признаки того, что они опознают свое изображение в зеркале. Видовые различия могли возникнуть или потому, что некоторым животным не хватает этого специфического чувства «самости», или потому, что они не обладают особой чувствительностью к изменениям в визуальной сфере, которая вела бы к обнаружению окрашенных меток. Вместо этого те же виды животных могут обнаруживать большие способности в других сенсорных модальностях типа слушания, обоняния или осязания. Например, в широком разнообразии видов птиц, особенно певчих, отдельные особи демонстрируют удивительную способность отличать нюансы песни — своей и чужой. Они по-разному отвечают на свою собственную песню, искусственно воспроизведенную от внешнего источника, и на песню знакомого соседа или залетного гостя. У некоторых певчих птиц, сложивших собственную видоспецифическую песню, обнаруживаются нейроны, которые реагируют (разряжаются) только в том случае, когда птица слышит именно свою песню. По-видимому, на нейрофизиологическом уровне существуют специальные механизмы, благодаря которым певчая птица идентифицирует тонкие нюансы собственной песни.
Во-вторых, испытание зеркалом вообще ничего не говорит о том, что индивидуум думает, когда опознает свое отражение. Мы не знаем, какие чувства он испытывает. Может быть, он приходит в ужас от своего внешнего вида, или остается безразличным, или загипнотизированным, как Нарцисс. Мы не знаем того, что знают животные, что чувствуют они в связи с этим знанием, если только они вообще что-то чувствуют. Трудно представить и то, что они будут делать с этим знанием, при условии если смогут подняться до некоторого необходимого уровня понимания. Весьма уместные в этом контексте данные мы можем извлечь из интересных экспериментов с обезьянами резус. Цель этих исследований заключалась в том, чтобы выяснить, осознают ли эти обезьяны факт неполноты своей осведомленности.
Чтобы лучше понять проблему, вспомните кинофильм «Напоминание» — триллер, который исследует природу человеческой памяти. Хотя фабулу картины авторы намеренно оставляют неопределенной, каждому в зале ясно, что главный герой не помнит ни одного из недавних событий. Поэтому, чтобы облегчить себе задачу вспомнить, он наносит на свое тело татуировки, содержащие информацию о ключевых событиях. Он также клеит записки и фотографии по всей комнате. Он фактически «сгружает» то, что должно быть в его памяти, во внешнюю видеозапись своего недавнего прошлого. Эта уловка работает, потому что главный герой знает, чего он не знает. Он знает о своих «пустотах», и это позволяет ему противостоять трудностям.
Когнитивный невролог Роберт Хэмптон провел ряд экспериментов с обезьянами резус, цель которых — установить, знают ли обезьяны о том, чего они не знают[307].
В одной задаче он предъявлял подопытным обезьянам типовое изображение, убирал его и затем предлагал животному выбор: участвовать в тесте (проявить способности к различению) или отказаться от него. Испытание включало четыре изображения, одно из которых было такое же, как в образце. Хэмптон награждал обезьян, если они касались соответствующего изображения, и наказывал их долгим пребыванием в темноте (выключал свет) за выбор любого другого, неподходящего изображения. Это стандартное испытание соответствия образцу, которое используется в бесчисленных исследованиях приматов.
Эвристичное изменение этой стандартной процедуры, введенное Хэмптоном, было связано с возможностью частичного отказа обезьяны от участия в эксперименте. В некотором числе испытаний он предоставлял подопытным обезьянам выбор, допускающий отказ от испытания, но в оставшейся части испытаний он вынуждал их отвечать. Идея заключалась в том, чтобы дать им возможность отказаться от испытания, когда они чувствовали неуверенность, возможно, потому, что забыли детали типового изображения. Основной результат был прост и убедителен. Когда Хэмптон вынуждал обезьян выбирать испытание, они проводили тест намного хуже, чем в случаях, когда сами контролировали ситуацию и решали, что делать — выбрать тест или воздержаться. Казалось, обезьяны были способны выделять случаи, когда они забыли типовое изображение, оценивая свое незнание как препятствие для успешного выполнения задания. Это исследование — одно из немногих ясных свидетельств того, что животные способны учитывать то, что они знают, и могут использовать это знание, чтобы обеспечить эффективное действие.
Такие работы, как у Хэмптона, позволяют нам увидеть, как можно объединить различные линии исследований, направленных на изучение чувства «самости» животного, особенно в связи с их эмоциями и представлениями. Животные, у которых самоощущение объединяется с эмоциями и знаниями, вели бы себя особенным образом. Они были бы способны чувствовать вину за свои действия и были бы готовы ожидать признания вины от другого, они определяли бы различия между собственными верованиями и иными и использовали бы это знание при выборе своих действий и суждений о действиях других.
Американский философ Герберт Мид отмечал, что животные способны формировать представление о себе, используя гармонию соответствия между собственным поведением и его зеркальным отражением в поведении другого: «Любое действие, которое может затронуть самого индивидуума, как затрагивает оно других, и которое поэтому имеет тенденцию вызывать у него ответ, какой оно вызвало бы у других, будет служить средством для строительства образа себя»[308].
Крокодиловы слезы
В 2002 году японская корпорация «Такара» выпустила новое цифровое устройство — боулингвал, которое «переводит» лай собаки, ее рычание и визг на японский или английский язык.
Пресс-релиз описал устройство как «систему анализа эмоций животного», разработанное для «осуществления реального общения людей и животных». Устройство довольно простое, требуется только три шага, чтобы получить перевод. Шаг один: делаете запись голоса собаки. Шаг два: анализируете его акустику. Шаг три: преобразуете акустический сигнал в одну из шести категорий, соответствующих различным эмоциональным состояниям. Если в результате анализа в голосе собаки обнаруживаются признаки расстройства (возможно, пес хочет гулять, а его владелец Боб лежит на диване, наблюдая за финальным матчем по бейсболу), боулингвал выдает фразы типа «С меня хватит!» или «Вы про меня совсем забыли!». Если анализ обнаруживает печаль, боулингвал отвечает: «Мне все надоели» или «Мне грустно».
Устройство сразу же стало популярным. Журнал «Тайм» определил его как одно из лучших изобретений 2002 года, а пародийный аналог научного издания журнал «Анналы невероятных исследований» наградил создателей устройства пародийным эквивалентом Нобелевской премии мира [309] за достижение гармонии между видами.
Я думаю, что некоторых владельцев, любящих своих собак, расшифровка боулингвала лишила необыкновенного счастья общаться с представителем другого вида. Как сказал однажды американский политический комментатор Энди Руни, «если бы собака могла говорить, пропало бы все удовольствие от обладания ею».
Но те, кто купил боулингвал, фактически вложили определенные средства в программу компании, обещавшей дальнейшую расшифровку голосовых эмоциональных реакций собаки. И что же они получили в итоге? Существуют ли акустические признаки эмоционального напряжения, которые можно напрямую сопоставлять с особенностями поведения? Можно ли определить печаль на основе параметров звуковых волн?
Множество биологов, в том числе и я, потратили существенную часть своей профессиональной жизни, пытаясь расшифровать, о чем говорят животные. И ни один из нас не чувствовал себя столь уверенно, как корпорация «Такара» в присвоении каждому акустическому сигналу определенного ярлыка, такого же однозначного, как те фразы, которые произносит боулингвал. Может быть, ученые слишком осторожны или они пытаются найти последовательные объяснения тому, что животные чувствуют, вступая в общение? Перед сотрудниками японской компании стоят задачи, связанные с получением прибыли, а не научных результатов. В течение первых нескольких месяцев они продали тридцать тысяч изделий только в Японии, по цене 220 $ за штуку. К марту 2003 года продажи взлетели до трехсот тысяч штук и были сопоставимы с продажами на международном рынке.
Но что мы узнаем об эмоциях животного из работ, которые лежат в основе программ боулингвала? Действительно ли это симпатичный трюк или нечто большее? Начиная еще с Дарвина, было ясно, что животные имеют эмоции. Кто мог сомневаться, что рычащая собака сердится, мурлыкающий кот испытывает удовольствие, а обезьяна кричит от страха? Противоречие возникает, однако, в оценке особенностей эмоциональной сферы животных. Отражают ли слова, которые мы используем для описания этих эмоций, фактические переживания животного? Существуют ли эмоции, которые животные испытывают, а мы нет, и наоборот? Какую роль играют эмоции, когда животное принимает решение: эмоции животного только «подпитывают» решение или определяют его?[310]
Я остановился на этой дискуссии, чтобы поразмышлять о том, как современные представления об эмоциях животных помогают установить их вклад в кооперативные и конкурентные действия животных. Я хочу выяснить роль эмоций в поведении, которое руководствуется принципами, существенными для нормального функционирования любой социальной системы.
Рассмотрим страх — эмоциональное состояние, которое, очевидно, переживают многие животные, возможно, из-за его адаптивной роли в спасении от хищников и соперников[311]. Логика эмоций, подобно логике нашего концептуального знания и обучающих систем, может иметь свою специфику для разных видов переживаний. Боязнь змей отличается от страха высоты или ужаса перед надвигающимся приступом боли. Социальный психолог Сьюзан Минека показала, что люди и животные обладают своеобразной психологической готовностью на появление змеи реагировать возникновением страха и паники. Если группа обезьян резус, не имевшая опыта общения со змеями, наблюдала поведение экспериментальной группы обезьян при их столкновении со змеей, она с готовностью усваивала это опасение, с тревогой реагируя на появление змеи в следующий раз. Напротив, если неопытная группа резусов наблюдала демонстрацию страха своих соплеменников при виде цветочной клумбы, опасение не получало распространения. В следующий раз при виде цветочной клумбы они не проявляли никакой тревоги. Потребуется больше оснований, чтобы убедить примата, что с цветами тоже надо считаться. И если даже их можно было бы убедить в этом, состояние, связывающее цветы с опасностью, будет отличаться от неподдельного страха, который появляется при виде змеи. Этот вид страха также присущ и людям, как с обширным опытом взаимодействия со змеями, так и без него, причем страх перед змеями отличается от типичного состояния тревоги[312].
В отличие от людей и обезьян, крысы не имеют мимического выражения страха. В их поведении, однако, фиксируются специфические реакции замирания и бегства при виде всего того, что они находят угрожающим. При переживании страха у крыс, обезьян и людей отмечается целый каскад гормональных и нервных реакций. Например, когда человек испуган чем-то (это может быть громкий звук или вспышка света, неоднократно уже вызывавшая болезненное ощущение), у него наблюдается активация миндалины. Подобное явление характерно для всех млекопитающих.
Из-за взаимного наложения физиологических реакций и поведенческих ответов многие исследователи утверждают, что крысы, обезьяны и люди испытывают одну и ту же эмоцию — страх. Другие не соглашаются, заявляя, что фактическое переживание У каждого вида протекает по-своему, даже если есть параллели в поведении и некоторых аспектах физиологии. Например, возрастной психолог Джером Каган пишет: «Есть только одно весомое основание различать состояния, возникающие после болезненного удара током, у крыс и людей. Оно состоит в том, что лобные доли у человека намного больше. Когда люди слышат тон, который ранее был связан с ударом током, лобные доли активируются. Благодаря этому человек быстро приобретает контроль над биологическими проявлениями страха уже после двукратного предъявления тона. У крыс такого скорого проявления контроля быть не может»[313].
Хотя Каган, может быть, прав, его комментарий относительно видовых различий базируется на двух непроверенных предположениях. Размеры лобных долей имеют решающее значение для переживания страха и скорости, с которой устанавливается ассоциация между переживанием страха и тоном. Факт, что страх активирует лобные доли у людей, а у крыс этого не наблюдается, является интересным с точки зрения участия мозговой деятельности в проявлениях эмоций. Но от факта различия в активности разных областей мозга нельзя прямо переходить к утверждению, что обработка информации и переживание также имеют межвидовые различия. Информационная обработка ситуации у крыс, возможно, осуществляется в других центрах мозга, но переживание эмоции при этом может обеспечиваться тем же способом, как у человека.
Второе предположение, касающееся скорости образования ассоциации, также сталкивается с рядом трудностей. Хотя у человека ассоциацию между звуковым тоном и ощущением страха можно сформировать быстрее, чем у крысы или обезьяны, будучи приобретенной, эта ассоциация может вызывать ощущение страха, не обнаруживая никаких межвидовых различий. Крысы, обезьяны и люди будут переживать страх одинаково, независимо от того, насколько быстро возникла ассоциация. Различия в данном случае, по-видимому, связаны с механизмами научения, которые обеспечивают формирование ассоциации. Решающее значение здесь приобретает неодинаковый размер лобных долей, имеющих прямое отношение к научению, у разных видов. Лобные доли человека по своим размерам намного превосходят лобные доли других млекопитающих. Но эта интерпретация переводит дискуссию в другую плоскость: от различий в проявлении эмоций к различиям в способности к научению у разных видов.
Каган абсолютно прав, указывая, что наблюдения над поведением крысы не дают оснований для выводов относительно субъективных переживаний и чувств животного. Когда я говорю, что боюсь высоты, вы, конечно, не можете понять моих переживаний, если сами не испытываете страха высоты. Но даже если у вас есть боязнь высоты, вы все равно не сможете точно представить, что это означает для меня — испытывать такой страх. Однако, поскольку все люди, как представители одного биологического вида, имеют общую нервную и физиологическую основу, некоторые аспекты наших переживаний будут совпадать. Следовательно, когда вы говорите, что боитесь высоты, у меня есть общее понимание того, что вы подразумеваете. Я знаю это еще и потому, что мы — носители одного языка. Когда вы говорите «страх», я знаю — это слово обозначает особый вид эмоций.
При изучении животных мы просто не имеем доступа ко всей этой информации. По этой причине, может быть, не совсем разумно делать те же варианты предположений, как при обсуждении эмоциональной сферы человека. Те же самые проблемы возникают, когда речь идет об эмоциях маленьких детей. Когда животное или младенец замирает в испуге, наблюдается увеличение частоты сердечных сокращений, возрастает продукция гормона стресса кортизола, и они отворачиваются от очевидного источника опасности. Мы вполне осмысленно называем эти изменения признаками страха. В конце концов, это те же самые варианты реакций, которые взрослые люди часто обнаруживают, испытывая страх. Эти признаки указывают, что некоторые центры мозга сформировали оценочное суждение о ситуации, которое инициирует бегство или борьбу. Но мы не знаем, что означает переживание этого мучительного чувства для каждого индивидуума. Давайте отложим этот трудный вопрос в сторону. Вместо этого рассмотрим, как восприятие события — воображаемого, ожидаемого или реального — «запускает» эмоцию, а при случае и последующее действие.
У животных, живущих группами, либо в дикой природе, либо в неволе, эмоции вовлекаются в большую часть их повседневного существования. Животные участвуют в «политической» жизни своей группы, вырабатывают стратегии, пытаются подняться вверх в ее социальной иерархии или избежать любого возможного понижения в ее пределах. Восхождение требует мотивации, риска и агрессии, в то время как поддержание текущего статус-кво обязывает посылать сигналы подчинения и страха другим членам группы, занимающим более высокое место в иерархии. Матери, а иногда и отцы должны бороться, чтобы отлучить от материнской груди свое потомство, и часто приходится повторять попытку, поскольку способность детенышей приставать к матери, мучить ее и манипулировать ею ни с чем не сравнима. Чтобы сотрудничать, индивидуумы в группе должны согласовывать свою мотивацию и обеспечивать взаимное доверие. Время от времени возможны конфликты и поединки, вызываемые чувством мести или жаждой возмездия. Но долго сердиться на того, с кем вы вынуждены существовать бок о бок, не конструктивно. Лучше позаботиться о мире.
Наиболее содержательные исследования в этой области связаны с именем известного биолога Франса де Ваала и его классической книгой «Политика шимпанзе». Де Ваал помог понять сложности социальной жизни приматов, выдвигая на первый план их эмоции. Он показал, какую роль эмоции могут играть в стимуляции соревнования и стабилизации сотрудничества для сохранения мира. После агрессивного конфликта многие приматы и некоторые другие виды, включая дельфинов, козлов и гиен, пытаются урегулировать свои противоречия, участвуя в разнообразных миролюбивых действиях, начиная от объятий, поцелуев и поглаживания яичек до груминга и обмена пищей[314].
Конфликт вызывает стресс, примирение ведет к снижению напряжения. Уровень стресса у животных исследователи измеряют, наблюдая их поведение и делая запись физиологических маркеров, включая частоту сердечных сокращений и уровень кортизола в крови. Хотя стресс обслуживает адаптивную функцию, переводя индивидуумов в состояние готовности к действию, длительное напряжение ставит под угрозу иммунную систему, может вызывать гибель отдельных нервных клеток и, в крайнем случае, раннюю смерть. У обезьян резусов и бабуинов частота сердечных сокращений и уровень кортизола после агрессивного конфликта резко возрастают и остаются существенно превышающими норму в течение нескольких минут. Но, когда после конфликта следуют предложения мира, частота сердечных сокращений и уровень кортизола снижаются, так же как и сопутствующие поведенческие корреляты напряжения. Хотя мы не знаем, насколько похожи особенности переживания стресса у обезьян и человека, есть много поведенческих и физиологических параллелей, включая совпадающие изменения, которые сопровождают примирение.
Широкое распространение миролюбия среди млекопитающих сопровождается важными видовыми различиями, которые проявляются в том, как, когда и насколько часто они прибегают к его использованию. В совокупности эти данные содержат много интересного о биологии миролюбия, особенно его развитии и пластичности. Некоторые виды животных, например агрессивные обезьяны резус, редко используют миролюбие в двусмысленных ситуациях и при стрессе, возникающем в результате конфликта. Резус, намного более вероятно, переадресует агрессию: если обезьяна резус А ударила другую обезьяну В, то обезьяна резус В, более вероятно, пойдет и ударит обезьяну С, вместо того чтобы помириться и обнять обезьяну А. Напротив, сторонник равноправия и близких отношений, медвежий макак в подобной ситуации, с большей вероятностью, обнимет своего противника.
Возникает вопрос, являются ли эти особенности частью врожденного поведения каждого вида или они могут измениться под влиянием окружающей среды? Де Ваал и его коллеги провели важный в этом аспекте эксперимент. Суть эксперимента состояла в изменении среды обитания детенышей. Обезьяны резус мужского пола были изъяты из родной среды в раннем возрасте и переведены в колонию медвежьих макак. Сохранят ли молодые резусы свое деспотичное агрессивное наследие или прогнутся под традициями эгалитарного общества? Они прогнулись. Обезьяны резус регулировали свои противоречия, используя жесты медвежьих макак. Вернувшись в родную среду, обезьяны резус сохранили миролюбивый стиль, используя примиряющие жесты, чтобы управлять конфликтом. Суть этих данных сводится к следующему: поведение, направленное на урегулирование противоречий, имеет генетическую основу, но особенности окружающей среды определяют стратегии, контексты и приемы урегулирования.
Работы, посвященные миролюбию в среде животных, показывают, что эмоции играют центральную роль в обслуживании некоторых социальных норм и руководстве ими, даже если ближайшая цель состоит в том, чтобы уменьшить стресс и насилие. Если бы у нас был простой метод оценить суждения примата, мы могли бы сказать, что создание Юма «питает» его суждения относительно того, что является допустимым или возможным для примирения, а какие ситуации требуют его обязательно.
В одном из экспериментов шимпанзе показывали фильм о борьбе двух индивидуумов и затем предъявляли продолжение в двух вариантах. В одном случае борьба заканчивалась примирением, в другом — нет. Какая ситуация вызовет у шимпанзе больше удивления? Чего они ожидали сами? Что будет считаться социальным нарушением? Хотя эмоции здесь играют некоторую роль, но остается все та же дилемма, которая осложняла наше объяснение суждений человека. Наблюдая взаимодействие, шимпанзе, так же как и человек, должен признать его как случай агрессии, оценить, был ли нанесенный ущерб преднамеренным, являясь прямым или косвенным следствием стычки. Шимпанзе также должен знать, сколько времени потребуется для устранения последствий конфликта, и учесть ожидания «местного общества» относительно формы примирения. При таком раскладе, выполненном без участия эмоций, шимпанзе мог бы судить, допустимо ли примирение или оно обязательно, Если это так, то можно было бы сказать: вернулось существо Ролза. К сожалению, единицы исследователей в этой области рассматривают примирение с точки зрения описанных выше механизмов оценки, оставляя возможность, по крайней мере, для двух различных объяснений[315].
Суть этих объяснений касается соотношения эмоциональных оценок и анализа действия: либо оба компонента направляют ожидания животного, либо эмоциональная оценка следует из анализа действия. Независимо от решения этого вопроса, есть одно очевидное заключение: виды, использующие тактику миролюбия в диадических социальных отношениях (и даже в триадах), опираются на принципы действия, которые порождают ожидания о том, как они (животные) должны себя вести.
В настоящее время есть два объяснения того, почему у животных миролюбие развилось как форма решения конфликта. Первое: отбор благоприятствовал миролюбивой политике благодаря ее роли в сохранении долгосрочных ценных социальных отношений. Второе: отбор сохранил миролюбивые формы поведения, потому что они позволяют индивидуумам посылать «мягкие» сигналы о намерении восстановить совместные союзы для краткосрочных действий, связанных с получением ресурса. Оба объяснения придают первостепенное значение ценности взаимодействия, либо ради него самого, либо ради конкретных ресурсов, которые предоставляет такая линия поведения. В связи с этим появляется возможность объединить существо Юма с системой ценностей и некоторой мерой практичности. Мы можем спросить, какой ценой даются животному такие отношения? Чувствуют ли животные, что социальные отношения — часть их естественных прав? Сколько усилий они готовы приложить ради их налаживания и сохранения? Действительно ли лишение животного социальных отношений — это нарушение неявного морального кодекса?
Один из способов получить ответы на эти вопросы и узнать, что действительно имеет значение для животных, связан с неожиданным источником. Речь идет о ряде экспериментов, в центре которых — вопросы благосостояния животного и его права. В 1980-е годы этолог Марианн Доукинз и ее студенты провели блестящую серию экспериментов, основанных на простой экономической модели[316].
Их работа начиналась с предположения, что в ближайшем будущем наш вид будет держать другие виды в своеобразном «плену», с тем чтобы употреблять представителей разных видов в пищу или использовать их для некоторых биомедицинских целей.
Некоторые читатели решительно не согласятся с этой политикой, но факт остается фактом. Многие люди наслаждаются пищевыми продуктами, получаемыми из мяса животных, а при разнообразии болезней человека исследования на животных обеспечивают единственную в настоящее время надежду на получение средств их лечения. Учитывая, что мы собираемся использовать животных таким образом, единственная гуманная акция со стороны человека состоит в том, чтобы относиться к ним с уважением и дать им то, в чем они нуждаются. Мы можем выяснить, в чем они нуждаются, изучая, что они делают и что они имеют в своей природной среде. Наконец, мы можем использовать знания, получаемые из этих наблюдений для создания особой экономики, в которой животные смогут работать за плату, за то, что они хотят, или, возможно, ради того, в чем они нуждаются. Доукинз называет такой подход закрытой экономикой, потому что имеется только заранее ограниченный набор «изделий», которые индивидуум может приобрести в качестве оплаты за свой труд.
В одной из первых работ, выполненных в логике этого подхода, Доукинз исследовала, в чем нуждаются домашние куры. Основанием для эксперимента было решение британского правительства, заявившего, что из-за повышающихся затрат кур больше не будут снабжать древесной стружкой, которую кладут на пол их клеток. Доукинз утверждала, что цыплята и куры нуждаются в такой стружке, потому что она позволяет им выполнять типичное для вида поведение (царапание и раскапывание). Доукинз помещала кур в одну из секций двухсекционного ящика, разделенного дверью. Единственное различие между этими двумя секциями: одна имела деревянную стружку на полу, а в другой пол ничем не был покрыт. Куры, помещенные в секцию с деревянной стружкой на полу, оставались там все время. А куры, которых поместили в секцию с голым полом, немедленно перемещались в ту, где была стружка. Затем Доукинз усложнила для кур перемещение из одной секции в другую, усилив пружину на межсекционной двери. Хотя затраты на перемещение резко увеличились, куры, помещенные в секцию с голым полом, буквально таранили дверь и все-таки пробивались к деревянной стружке. Вывод был один: куры не просто хотят иметь деревянную стружку, они нуждаются в ней.
Разработанное по той же схеме другое исследование ставило своей целью выяснить, где предпочитает жить норка. Требовалось оценить условия размещения этих зверьков на меховых фермах.
Каждая норка начинала эксперимент в стандартной клетке, но с возможностью ее модернизации. Она могла выбрать различные предметы, которые размещались за разными дверями. За дверью 1 — норка нашла большую клетку, за дверью 2 — второй участок для гнезда, за дверью 3 — поднятую платформу, за дверью 4 — туннель, за дверью 5 — некоторые игрушки и, наконец, за дверью 6 — наполненный водой бассейн.
Норка постоянно открывала дверь 6, довольная возможностью насладиться водой. И, подобно курам, была готова платить высокую цену за допуск к воде, тараня тяжелую, пружинную дверь. Наиболее существенным, с точки зрения благополучия норки и нашего понимания эмоций и ценностей животного, является следующий вывод: норка, лишенная доступа к водоему, испытывала физиологический стресс, по уровню почти такой же, как и в случае отсутствия доступа к продовольствию. Если норки лишены данного им эволюцией права жить рядом с водой и в воде, эти животные непрерывно подвергаются стрессу. У животных, находящихся в постоянном стрессе, нарушается работа иммунной системы. Животные с нарушениями функций иммунной системы более восприимчивы к болезням и поэтому, с большей вероятностью, преждевременно гибнут. Это кажется несправедливым и неправильным.
Чего хочет норка? Водоемов. Почему? Потому что в природе норка проводит значительное время в воде. Вода — необходимый продукт потребления.
Опираясь на исходные позиции и результаты исследований этолога Марианн Доукинз, предназначенные внести объективность в нередко субъективные дебаты о благополучии животного, мы извлекаем новое понимание того, как эмоции животного соединяются с его ценностями. Мы изучаем потребности животных: за что они готовы бороться и как отбор формирует отношения между ценностью востребованного «товара» и их стремлением получить его?
Крокодилы не роняют слез, и слоны не плачут. Ни одно животное не выражает своего горя слезами. Это уникально человеческое выражение чувств. Но в основе этих особенностей человека лежат эмоциональные переживания, благодаря которым человек имеет много общего с животными. И в этом смысле существо Юма обладает древним эволюционным наследием. Понятие «наследия» в данном случае не подразумевает статическую психологическую систему, которая совершенно не изменилась с того момента в эволюции, когда мы вступили на собственный путь развития, «отклонившись» от нашего похожего на шимпанзе предка, приблизительно 6—7 миллионов лет назад. Наши способы переживания эмоций должны отличаться от переживаний эмоций животными. Но также эмоции шимпанзе должны отличаться от эмоций слона, которые, в свою очередь, должны отличаться от эмоций крокодила, а те, разумеется, должны отличаться от эмоций муравья. Главное здесь в том, что, независимо от того, какого рода эмоции имеют животные, эти эмоции вовлечены в их собственные действия и оценку действий других.
Естественная телепатия
В 1960-е годы программист Джон Конвей разработал компьютерную программу «Жизнь». Хотя эта программа была построена на основе нескольких простых правил, она обеспечила изящный пример того, как хаос может быть преобразован в порядок. Игра проводится на специальной сетке, в основном состоящей из ячеек и некоторого числа квадратов. Каждая ячейка имеет восемь соседних ячеек, и каждая ячейка является или живой, или мертвой. Только три правила привносят жизнь в эту статическую сеть:
1) если у ячейки только один сосед или вообще нет живых соседей, она умирает от одиночества;
2) если у ячейки четверо или больше соседей, она умирает от переполнения;
3) всякий раз, когда пустой квадрат имеет троих живых соседей, рождается новая ячейка.
Начиная с немногих беспорядочно заполненных ячеек в сетке, по мере того как некоторые ячейки умирают, а другие рождаются, мы быстро продвигаемся к серии организованных кластеров жизни.
Стандартная игра «Жизнь» вовлекает чрезвычайно простые существа, возможно бессмысленные, управляемые тремя правилами. Эти существа не имеют никаких социальных отношений. Что случится, если мы введем в игру «Жизнь» социальные отношения? Вообразите игру, в которой участвуют два вымышленных типа. Давайте называть их Б. и М. — бихевиористом и менталистом[317] соответственно.
Эти два типа внешне довольно похожи, но их внутренние позиции существенно отличаются. Бихевиорист принимает решения о социальных взаимодействиях и отношениях, используя только свой опыт. Накапливая данные, бихевиористы по сравнению с остальными проводят больше времени в своем кругу. Они используют простую статистику, чтобы классифицировать население, разделяя всех на друзей или противников. Их предшествующие ассоциации определяют и их поведение, и их совместную деятельность с другими членами группы. Менталисты также используют опыт, направляющий их изыскания, но идут на один шаг дальше. Они делают выводы о том, что не подлежит наблюдению: о верованиях, желаниях и намерениях других членов группы. Они «читают» чужие мысли, используя информацию о том, что другие индивидуумы могут или не могут увидеть или что они знают или не знают, чтобы предсказывать их будущие действия. Менталисты делают предсказания о поведении в отсутствие опыта поведенческого взаимодействия с другими. Поисковую активность индивидуума они рассматривают как доказательство его осведомленности. Они не могут знать того, чего не могут видеть, предполагая, что другие чувства — слух, осязание или обоняние — не играют существенной роли. Менталисты могут использовать свое понимание внутреннего мира других людей, чтобы наставлять и вводить в заблуждение. Эта способность делать заключение по поводу того, что не подлежит наблюдению, означает, что менталисты лучше понимают поведение, потому что они идут глубже, стремясь понять мысли и чувства, которые лежат в основе поведения.
Теперь представим процесс моделирования на сетке. В нем мы ищем не только закономерности перехода от хаоса к порядку, но и понимание того, кто одержит победу и почему. Если оба — и бихевиорист, и менталист — способны к воспроизведению, у кого будет больше потомков, кто выиграет дарвиновскую «гонку с препятствиями», показателем которой служит генетическое процветание? Если один из них победит в репродуктивном соревновании, то есть место для действия отбора, который будет способствовать сохранению одного варианта, устраняя другой. Отбор будет благоприятствовать лучшему проекту при данных экологических условиях. Менталист более быстр и проницателен, чем бихевиорист, но оба они оказались перед вызовом новой среды обитания и абсолютно новых социальных взаимодействий. Бихевиорист сидит и ждет большего количества данных. Выбирая следующий шаг, он полагается на хорошо знакомые признаки. В итоге бихевиорист допускает глупые ошибки, будучи не способен провести различие между двумя действиями, которые выглядят очень похожими, но различаются, потому что одно было сделано преднамеренно, а другое случайно. В результате соревнования бихевиориста и менталиста все закончится организованной структурой индивидуумов, созданной менталистом. Причина в следующем: менталист может предсказать, что произойдет, прежде чем это случится. Он действует подобно хорошим шахматистам, которые видят на несколько шагов вперед и, таким образом, могут управлять своими противниками, заранее зная, где те будут терпеть неудачу или преуспевать. В дарвиновском соревновании побеждает менталист, а бихевиорист гибнет.
Еще несколько лет назад в большинстве статей, посвященных проблемам психического развития человека, можно было встретить утверждение, что мы — единственные менталисты, а все животные — бихевиористы. В то время как люди обладают уникальной способностью понимать мысли, чувства и состояния других, любой представитель мира животных способен воспринимать и оценивать только свое поведение. В книге «Дикий разум» (2000) я воспроизвел эту общепринятую позицию, в соответствии с которой животные не в состоянии делать выводы о «верованиях, желаниях и намерениях (других). Они испытывают недостаток в модели психического». Я следовал за этим комментарием, однако с большим количеством осторожных примечаний, которые основаны отчасти на размышлениях, отчасти на новых данных, полученных одним молодым аспирантом: «...мы должны быть осторожны, делая это заключение при наличии относительно небольшого набора результатов, слабых методов, неполной выборки видов и малого числа особей каждого вида». Здесь я хочу представить текущее состояние проблем в этой быстро меняющейся области, а также показать связь этих материалов с центральными идеями, которые Давид Примак сформулировал приблизительно двадцать пять лет назад[318]. Способно ли какоенибудь животное, помимо человека, проникать за пределы наблюдаемого поведения и понимать психические состояния и особенности других индивидуумов? Если так, какие психические состояния животные могут улавливать, используя эту информацию, чтобы предсказать поведение, прежде чем что-либо случится?
Два набора экспериментов, проведенные один на макаках, а другой на шимпанзе, доминировали в этой области вплоть до конца миллениума[319]. Оба вели к одному и тому же заключению: животные, даже шимпанзе, являются последовательными бихевиористами! Дороти Чейни и Роберт Сейфарт показали, что макаки, имевшие детенышей, выражали одинаковый уровень тревоги, независимо от того, приходилось ли их малышам уже видеть приближение хищника или нет. Неведение относительно опасности хищника чревато большими неприятностями. Но матери-макаки действовали так, как будто не было никакого различия между неосведомленными детенышами и теми, кто уже имел необходимые знания. Они также были не в состоянии принять во внимание тот факт, что детеныши уже могли видеть хищника и поэтому должны знать о подстерегавшей их опасности. И, как показано в других работах, та же самая история разыгрывается в жизни других видов обезьян. У бабуинов, живущих в саванне Ботсваны, например, матери не зовут к себе свое обеспокоенное потомство, хотя материнский призыв показал бы детенышам, что матери знают об их тяжелом положении.
Антрополог Дэниел Повинелли представил сопоставимые результаты, основанные на ряде исследований шимпанзе. В соответствии с общей идеей эксперимента шимпанзе входил в комнату для испытаний и при каждом условии имел возможность просить лакомство у одного из двух экспериментаторов. При каждом условии один экспериментатор мог видеть просьбу шимпанзе, а другой нет. Например, один экспериментатор стоял лицом к шимпанзе, другой повернулся к нему спиной; один экспериментатор смотрел в сторону, а второй прямо перед собой; один имел повязку на глазах, другой — повязку, закрывающую рот; один надел на голову корзину, а другой держал корзину сбоку от головы. За исключением одного человека, который повернулся к нему спиной, в то время как все другие стояли к нему лицом, шимпанзе в своем поведении не делал никаких различий между экспериментаторами. Его просьбы о лакомстве адресовались случайным образом, даже после долгого обучения[320].
Иными словами, обезьяны с равной вероятностью просили еду как у того, кто мог их увидеть, так и у того, кто не мог. Подобно макакам, эти шимпанзе, столь же вероятно, будут обращаться к неосведомленному экспериментатору как к имеющему необходимую информацию. Макаки и шимпанзе не способны вникать в скрытый смысл происходящего.
Существуют, по крайней мере, две причины, почему в то время эти результаты казались парадоксальными[321]. Сначала было множество несистематических наблюдений за поведением диких и живущих в неволе обезьян, подтверждавших, что они весьма чувствительны к направлению взгляда другого, т. е. к тому, кто куда смотрит. Их чувствительность связана с особой формой поведения, которую биологи описывают как тактический обман. Речь идет о стратегической манипуляции доступом к информации для получения собственной выгоды. Например, животные, занимающие низкое ранговое место в группе, украдкой копулируют или потихоньку припрятывают еду, когда доминирующая обезьяна (альфа-обезьяна) не смотрит в их сторону. Хотя каждый исследователь признает необходимость осторожной интерпретации случаев несистематического наблюдения, их подборка содержит внушительный объем информации. В совокупности эти данные свидетельствуют, что приматы способны к обману, принимая в расчет то, что другие могут видеть или потенциально знать.
Другое исследование было выполнено на птицах — ржанках и сойках. В нем было высказано предположение, что эти птицы способны учитывать присутствие постороннего наблюдателя, когда цель их поведения — скрыть что-либо (гнездо — ржанками или запас продовольствия — сойками). Помимо этого, несколько исследований показали, что обезьяны следят за направлением взгляда других и могут использовать эту информацию, чтобы забрать то, на что смотрит кто-то другой. Например, если шимпанзе входит в комнату для испытаний и видит, что экспериментатор смотрит на потолок, он начнет немедленно разглядывать ту же самую часть потолка. Не увидев ничего достойного внимания на потолке, шимпанзе посмотрит на экспериментатора, чтобы повторно проверить направление пристального взгляда, и будет искать снова. Накопление подобных данных привело к усилению разногласий между сторонниками и противниками идеи о том, что животные могут проникать в «мир психического» других. Ответом на этот научный спор стала работа Брайена Хэйра, аспиранта, о котором речь шла выше[322].
Идея Хэйра была простой. В природе шимпанзе соперничают чаще, чем сотрудничают. Их конкурентоспособные навыки развились в процессе эволюции для взаимодействия со своими сородичами, имевшими сходные интересы в использовании ограниченных ресурсов, включая продовольствие и потенциальных помощников. Эксперименты Повинелли, напротив, предполагали сотрудничество и, в частности, межвидовое сотрудничество: между шимпанзе и человеком. Смогут ли шимпанзе установить взаимосвязь между наблюдением и знанием, если они должны соперничать друг с другом за доступ к продовольствию?
Эксперименты Хэйра включали задачи, предполагавшие соперничество между двумя шимпанзе различного ранга. Каждая экспериментальная задача (или условие) была направлена на решение одной и той же проблемы, но с разных сторон. Ее смысл состоял в следующем: будут ли соперничающие шимпанзе использовать информацию, получаемую в результате наблюдения, чтобы делать выводы и использовать эту информацию для следующего конкурентоспособного шага? Каждый вариант тестирования накладывал различные ограничения на условия наблюдения, т. е. на то, что могли видеть подчиненный, доминирующий или оба шимпанзе. Подчиненный шимпанзе находился в одной комнате, доминирующий — в другой, и между ними была комната для испытаний. Когда доминирующий и подчиненный видели корм в комнате для испытаний и имели доступ к нему, подчиненный оставался в своей комнате, а доминирующий выбегал и захватывал все. Но когда подчиненный мог видеть корм, который был скрыт от доминирующего шимпанзе, подчиненный направлялся прямо к корму. Например, в одном варианте Хэйр ставил два непрозрачных барьера в центре комнаты для испытаний. В то время как подчиненный шимпанзе наблюдал за ним, а доминирующий смотрел в сторону, он прятал один банан за барьером со стороны подчиненного. Хотя зависимые шимпанзе, как правило, избегают конфликтов из-за еды в присутствии доминирующих особей, в этом случае они кратчайшим путем устремлялись к спрятанному лакомству, используя в своих интересах результаты доступного только им наблюдения. Эти факты вместе с некоторыми другими данными показывают, что шимпанзе может использовать наблюдение для победы над соперником. Они также дают основания считать, что шимпанзе может интерпретировать наблюдение, извлекая из него полезное знание.
Эти результаты интересны и с другой точки зрения. Наблюдаемые варианты поведения шимпанзе отражают не их индивидуальные особенности, а скорее относительные ранги каждой особи в конкретной паре. Одна и та же обезьяна в некоторых случаях удерживала доминирующую позицию, а в других сочетаниях имела зависимое положение. Таким образом, их поведение изменялось как функция текущего ранжирования. Например, при том условии, когда Хэйр один банан располагал в открытом месте, а другой прятал за непрозрачным экраном, обезьяны изменяли свои стратегии в зависимости от их относительного ранга. Будучи в положении подчиненного, сначала они направлялись к спрятанному банану, а затем уже к лежащему открыто.
Играя доминирующую роль, они, напротив, в первую очередь двигались к видимому банану, а уже затем к спрятанному. Таким образом, в борьбе за корм поведение шимпанзе определяется не тем, как ведет себя его соперник, а тем, что тот может видеть и, следовательно, знать о текущей ситуации соревнования.
Результаты Хэйра открыли доступ к дальнейшим исследованиям шимпанзе и животных других видов, включая разные виды обезьян и даже птиц, например соек и воронов, определяя логику начальных экспериментов, особенно использование естественных, невыученных форм поведения[323].
Так, в ряде работ, выполненных на шимпанзе, живущих в неволе, и диких обезьянах резус, исследовались отношения между наблюдением и получаемым в результате знанием, при этом реализовывался оригинальный проект Повинелли, но с одним существенным изменением. Вместо сотрудничества между экспериментатором и подопытными обезьянами создавалась ситуация соперничества. Рассмотрим результаты исследования поведения макак резус, выполненного психологами Джонатаном Фломбаумом и Лори Сантос, так как их проект ближе других к работе Повинелли. Он также адресует полученные свидетельства в эволюционное прошлое к видам, которые приблизительно тридцать миллионов лет назад отклонились от эволюционной ветви, которая, в конечном счете, привела к возникновению человека.
Схема их эксперимента, проводившегося на острове КайоСантьяго, была такова. Два экспериментатора, разделенные расстоянием в несколько футов, приближались к одиноко сидящей обезьяне резус, причем каждый имел при себе поднос с виноградом. Затем они опускали эти подносы перед собой. В каждом варианте испытания один экспериментатор следил за обезьяной, в то время как другой или смотрел в сторону, или не мог ничего видеть сквозь установленный непрозрачный барьер. Во всех случаях обезьяны резус тащили лакомство у того экспериментатора, который не мог их видеть.
Птицы и приматы, столь отдаленно связанные, используют результаты наблюдения как источник знаний. В ходе эволюции у них развилась способность к углубленному анализу, позволяющая их психике предсказывать поведение.
Эти новые результаты, касающиеся понимания животными намерений других, — только начало. В них имеются дискуссионные моменты, и необходимо тщательно планировать дальнейшие исследования. Мы должны выявить общее и различное между людьми и животными в их способностях понимать мысли, намерения и настроения других. И подобия, и различия могут быть связаны со степенью, до которой животные могут использовать понимание чужих мыслей, желаний и намерений для суждения о значимости действий с точки зрения морали.
Один аспект, позволяющий провести эти различия, связан со степенью генерализации способности животных к пониманию других индивидуумов. Иными словами, вопрос состоит в том, насколько широко могут животные использовать эту способность, переходя из одного контекста в другой. Сразу несколько исследований шимпанзе показывают, что обезьяны успешно используют информацию о том, что знает другой индивидуум, и обнаруживают тенденцию вести конкурентоспособные взаимодействия с ним, а при неудаче использовать ту же самую информацию для ведения кооперативных взаимодействий[324].
С точки зрения возможностей человека, эти результаты кажутся озадачивающими. Если я знаю, что вам неизвестно, где спрятана пища, я могу вас либо обмануть, учитывая вашу неосведомленность, либо привести к этому месту, чтобы облегчить сотрудничество. Контекст не играет роли, потому что наша способность к пониманию чужих мыслей является более общей и абстрактной. Как мы интерпретируем результаты, полученные в опытах на шимпанзе?
Несколько исследователей поведения животных пришли к заключению, что отбор, по-видимому, способствовал развитию адаптации, определяемой конкретным контекстом, т. е. адаптации, призванной решить узкий диапазон проблем. Эта идея привела к метафоре, согласно которой интеллект животных действует по принципу лазерного луча, в то время как интеллект человека сопоставим с лучом прожектора. Одно из объяснений результатов, полученных при изучении шимпанзе, состоит в том, что их способность к «чтению» чужих мыслей отличается от нашей способности в том плане, что они могут использовать наблюдение как источник знания только в напряженной обстановке соревнования, но не в других контекстах. Эта специализация чем-то напоминает язык танца медоносной пчелы. Танец пчелы описан этологом, нобелевским лауреатом Карлом фон Фришем. Этот танец рассматривается как своеобразный язык, потому что он обладает символикой, обеспечивающей детальную информацию о местоположении пищи. Рисунок танца пчелы — это подробный рассказ об окружающем мире, его объектах и событиях. Оказалось, однако, что способности медоносной пчелы ограничены только одной-единственной сферой — пропитанием, и ничем иным, помимо пропитания. Хотя считалось, что медоносные пчелы не столь интересны для научных дискуссий, дальнейшая работа Фриша и других биологов выявила большую сложность социальной жизни этих насекомых. Поэтому пчелы могут подарить ученым множество тем для обсуждения, но их жизнь практически не соотносится с точностью их танца, описывающего источники пропитания. Пчелиная система связи — пример интеллекта, организованного по типу лазерного луча. Социальная психология шимпанзе может быть другим примером.
Помимо сказанного, существует альтернативное объяснение результатов, полученных в опытах с шимпанзе. Это объяснение возвращает нас к главе 4, проблемам обнаружения мошенничества и задаче Уэйсона по выбору карты[325].
Кратко повторим аргументы, которые Космидес и Туби использовали, чтобы обосновать и интерпретировать свои результаты. В ходе естественного отбора у людей развились способности, направленные на решение проблем с социальными контрактами, поскольку это именно те проблемы, которые приходилось решать нашим далеким предкам — охотникам и собирателям. И наоборот, у предшественников современного человека не было специальных оснований развивать функции, необходимые для решения абстрактных, социально отвлеченных логических задач. Доказательством служит разная результативность решения логических задач по классическому стандарту Уэйсона и таких же задач, но в версиях социального контракта, предложенных Космидес и Туби. Мы легко делаем правильные выводы, когда логика переведена на язык социального контракта. Такие же умозаключения даются человеку гораздо труднее, когда логика предстает в своей подлинной, «чистой» форме. Таким образом, налицо эффект контекста, который влияет на наши способности к логическим выводам. На основе этих результатов мы, однако, не делаем заключения, что интеллект человека, направленный на решение логических задач, организован по типу лазерного луча, как у медоносных пчел. Скорее мы склонны полагать, что контекст может иногда раскрывать скрытые способности. Подобное объяснение возможно и для результатов, полученных в опытах с шимпанзе. Только в контексте конкурентных взаимодействий мы можем обнаружить, что скрывается за взглядом шимпанзе. Учитывая искусство сотрудничества, которое шимпанзе проявляют в дикой природе, я предполагаю, что это только вопрос времени, когда кто-нибудь из исследователей продемонстрирует сопоставимые случаи понимания чужих намерений и мыслей у шимпанзе и в этом контексте тоже.
Если мы объединим все результаты, касающиеся способности животных понимать чужие умонастроения, заключение кажется ясным: мы не уникальны во владении этой способностью. Ранние представления Примака, согласно которым шимпанзе имеют модель психического, оказались правильными. Каких пределов может достичь эта способность у животных? Знают ли животные, что другие могут иметь заблуждения? Могут ли животные устанавливать различие между несчастным случаем, ошибкой и обоснованным выбором? На данном этапе слишком рано что-либо утверждать по этому поводу. В отсутствие такой информации мы не можем сказать, насколько содержательными являются представления животных относительно социальных действий других. Мы не можем сказать, оценивают ли они нарушения социальных норм на основе последствий или причин, побуждающих к этим действиям. Очевидна поэтому настоятельная необходимость узнать больше о том, что животные знают друг о друге.
Цена ожидания
Многие птицы и грызуны неделями или даже месяцами прячут свое пропитание в безопасных местах и затем, проголодавшись, по безупречно точным следам памяти возвращаются к этим тайникам. Многие пауки, рыбы и даже кошки, застыв в одной позе, внимательно наблюдают за добычей, прежде чем атаковать беспечную жертву. Многие виды приматов тратят значительное время, очищая, раскрывая или разбивая плоды, и получают за свои усилия награду в виде восхитительно вкусной мякоти плода. Большинство животных сталкиваются с проблемой: остаться ли с доступным запасом продовольствия или идти дальше к более плодоносным пастбищам? В каждом из этих случаев животные должны преодолеть весьма сильное искушение получить пищу сейчас ради более выгодного, но отсроченного вознаграждения. Они должны быть готовы к задержке вознаграждения. Это обстоятельство напоминает, что эволюция снабдила животных хорошей дозой самообладания.
Проблемы добывания пищи, типа упомянутых выше, предполагают процедуру принятия решения. Примите как стандарт в поведении животных следующее условие: естественный отбор направлял эволюцию таким образом, чтобы затраченные усилия на добывание пищи окупались (возвращались) большим приплодом. При оценке абсолютных значений маленькое количество продовольствия представляет меньшую ценность, чем большое; то же самое справедливо для низкои высококачественных продуктов питания. Ситуация становится интересной в том случае, когда небольшой по объему или низкокачественный продукт питания доступен немедленно, а большой или высококачественный продукт может быть обретен в будущем. Например, вообразите, что леопард видит маленькую хромую газель-детеныша на расстоянии нескольких футов от себя, а большая, упитанная и здоровая взрослая самка пасется на расстоянии в сто футов. Если леопард нападет на молодую газель, он одержит верх и получит еду немедленно. Если он отказывается от этой возможности и охотится на большую взрослую самку, ему потребуется больше времени и усилий, но и добыча будет больше.
Центральная проблема: как время влияет на процесс выбора? Ожидание большего или более ценного продукта чревато осложнениями. Вероятность того, что продовольствие будет доступно в будущем, через какое-то время уменьшается, поскольку и конкуренты могут завладеть добычей, и капризы погоды могут помешать охоте. Мы хотим понять, какие виды мысленных операций выполняют животные, когда сравнивают два варианта развития событий: получение немедленной небольшой выгоды в противоположность ожиданию чего-то более ощутимого. Насколько существенно снижается ценность «продовольственного пакета» в зависимости от времени ожидания? Существуют ли варианты выбора, которые ни одно животное не станет рассматривать, независимо от степени сиюминутной привлекательности добычи, полагая, что она не может быть соизмерима с ценностью жизни потомства? Если животные обнаруживают ограниченное самообладание, действуя импульсивно перед лицом искушения, то они не смогут выдержать требований, которые обязывает соблюдать следование социальным нормам. Они уступят личному интересу, отказывая в помощи другому. Краткосрочный выигрыш в собственных интересах перевесит большую, но отсроченную выгоду от сотрудничества или принесенной пользы другим.
Вопрос о взаимосвязи между ценностью продукта и сроком его получения подпадает под общую тему обесценивания (дисконтирования) результата с течением времени: чем дольше задержка в получении ресурса, тем ниже его ценность. Есть обширная литература по дисконтированию, наблюдаемому у крыс и голубей. Меньшее число работ посвящено менее традиционным лабораторным птицам и животным: скворцам, сойкам, игрункам, мартышкам и макакам[326].
При сравнении этих результатов с данными, полученными в исследованиях, выполненных с участием людей, возникает центральный вопрос. Как ценность продукта или действия изменяется в зависимости от времени? Экономисты склонны описывать взаимосвязь между ценностью продукта и временем математически, в виде экспоненциальной кривой. Субъективная ценность вознаграждения по мере ожидания уменьшается с постоянной скоростью. Таким образом, задержка — это мера риска, шанс потерять все, ожидая большего вознаграждения.
Напротив, исследователи психологии человека и поведения животного более склонны считать, что связь между этими факторами описывается гиперболической кривой. Как и в экспоненциальной модели, здесь есть взаимосвязь между субъективной ценностью и временем, но с двумя отличительными особенностями: ценность обратно пропорциональна временной задержке, и инверсия предпочтений возникает, когда задержка во времени, связанная с получением обоих вариантов награды, сдвигается в будущее. Переориентация выбора у людей происходит реально, и это факт, который раздражает экономистов, склонных к рациональным моделям, но восхищает психологов, интересующихся основаниями субъективного предпочтения. Экспоненциальная модель не может объяснить, почему человек, который предпочитает 10 $ сегодня, а не 11 $ завтра, может изменить свое предпочтение, если 10$ предлагается получить через тридцать дней, а 11 $ — через тридцать один день. Поскольку разница во времени и в деньгах сохраняется, то, с формальных позиций, должно сохраниться и предпочтение. Гиперболическая модель, напротив, предсказывает эффекты контекста, суть которых в том, что вознаграждение, отнесенное в будущее, вызывает существенно иное субъективное чувство по сравнению наградой, предоставляемой в настоящем. Люди способны к резким изменениям своих предпочтений в зависимости от времени. Гиперболическая модель предсказывает этот паттерн поведения.
Дайте голубям на выбор: один или десять шариков корма. Они постоянно будут выбирать десять; и так будет делать любое другое животное. Теперь для получения корма заставим голубей поработать. Если они клюют левую кнопку на панели, то немедленно получают один шарик, если же они клюют правую кнопку, то получают десять шариков, но позднее. Если «позднее» означает намного дольше, чем несколько секунд, голуби будут последовательно клевать левую кнопку для получения одного шарика. Они не могут сопротивляться. Ценность порции корма резко понижается после короткого ожидания. Импульсивность птиц сохраняется, пока есть хорошо ощутимое различие между маленьким и большим объемами корма и есть некоторый период ожидания большой порции и совсем незначительный период ожидания или полное его отсутствие — маленькой. У других видов, столь отличных от голубей (крысы, игрунки и макаки), способность к ожиданию большей награды составляет порядка нескольких секунд. Люди в условиях подобной задачи могут ждать в течение многих часов и даже дней. Никакого сравнения. Когда в дело включается терпение, из всех живых существ мы — наилучший образец[327].
Предпочтение меньшего по количеству, но немедленно получаемого продукта в некотором смысле иррационально. Если отбор благоприятствует долгосрочным достижениям, потому что они эффективнее влияют на выживание и воспроизводство, то животные должны пережидать эти временные задержки. Однако, как справедливо указывает специалист в области экологии поведения Алекс Касельник, когда определенный тип поведения наблюдается в широком разнообразии видов и когда последствия этого поведения, кажется, идут против окончательной цели — достижения максимальной генетической пригодности, перед эволюционистами возникает задача выяснить, почему это происходит. Специалист по экспериментальной экономике Эрнст Фер предлагает такое объяснение.
На протяжении всего эволюционного процесса вознаграждение, связанное с будущим, отличалось неопределенностью. Обстоятельства могут помешать животному, и поиск пищи будет прерван, или, в случае репродуктивных возможностей, животное может погибнуть прежде, чем ему удастся успешно решить эту задачу. В жизни людей обещание будущей награды может быть нарушено. И если риск, с которым сталкивается человек, со временем увеличивается или уменьшается, то он может изменить свое отношение к будущим событиям, и его поведение становится непоследовательным[328].
Это объяснение подразумевает, что животные, как и люди, нередко поступают не самым оптимальным образом и оказываются не в состоянии добиться максимального дохода: на них «давит» неопределенность ситуации. Но иногда то, что кажется неадаптивным поведением, может представлять правильное решение, соответствующее обстоятельствам.
Рассмотрим, например, типичную лабораторную задачу, предлагаемую голубям и крысам, — задачу, которую должно решить не имеющее опыта животное. Сначала особь бесцельно ходит по клетке. В конечном счете, она случайно наталкивается на рычаг, клюет его или нажимает на него, и в результате что-то происходит — немедленно или с некоторой задержкой. Так как причинно-следственные связи легче осознаются при коротких интервалах, контакт с рычагом, ассоциированный с небольшой задержкой или вообще без нее, дает эффект. Следовательно, на стадии обучения будет формироваться установка, побуждающая нажимать на рычаг ради маленькой сиюминутной награды. И эта установка накладывается на естественное «пищевое поведение» большинства животных в большей части контекстов, обеспечивающих пропитание. В природе решения, связанные с поиском пищи, как правило, не влекут за собой действий, предполагающих пассивное ожидание. В тех случаях, когда это все-таки происходит, например у птиц и грызунов, запасающих корм, есть определенный период накопления, за ним следует длительный период ожидания, предшествующий извлечению корма. Следовательно, склонность животных немедленно захватить маленькую награду можно объяснить тем обстоятельством, что в этих случаях существуют более прозрачные отношения между действием и получением вознаграждения. Обучение ожиданию в течение неопределенного периода времени в отсутствие выполнения какого-либо действия — неестественно и вступает в противоречие с биологически спроектированными механизмами обучения.
Стремясь обойти некоторые из этих проблем, ряд исследователей поведения животных следовали за идеями Касельника. Они использовали необычных лабораторных животных, чтобы изучать процесс принятия решения в условиях, приближенных к естественным. В традиционных лабораторных экспериментах «по обесцениванию вознаграждения» животным, как правило, дается возможность выбора между двумя вариантами и исследуется, как ожидание влияет на выбор. В других задачах ожидание оценивается на основе тех показателей, которые характеризуют «пищевое» поведение в природной среде, учитывая (при разработке экспериментальных заданий) умения и навыки, которыми владеют подопытные животные. Когда животные проголодаются, они редко заняты только тем, что сидят, не шелохнувшись, и ждут корм, который подносят им на серебряной тарелке. Исключения составляют хищники, способные долго караулить жертву.
Большинство видов животных, для того чтобы получить пищу, должны совершать разные движения: прогуливаться, бегать, летать, выцарапывать, очищать и взламывать. Добывающие корм животные должны «осуществлять» поведение.
В одном из своих исследований, проведенном на скворцах, Касельник давал птицам возможность, ради получения вознаграждения, выбрать ходьбу или полет. Причем каждый вариант выбора имел специфическую энергетическую стоимость и норму получения корма. Полет был связан с более высокими затратами, но лучшим вознаграждением. Скворцы придерживались линии поведения, описываемой гиперболической кривой, демонстрируя поведение, которое максимизировало потребление в единицу времени. По выражению Касельника, скворцы реализовывали наиболее рациональную стратегию, учитывая имеющиеся ограничения.
Принимая во внимание условия обитания разных видов животных и птиц, можно также показать, как отбор формирует особенности их поведения, связанные с готовностью к терпению. Эколог Джеф Стивенс сравнивал поведение, сопряженное с обесцениванием награды, двух тесно связанных видов обезьян — игрунков и обычных мартышек. У обоих видов самец и самка совместно воспитывают потомство, при этом имеется одна доминирующая пара, осуществляющая размножение, и их потомство, которое часто крутится вокруг, помогая поднимать следующее поколение. Оба вида имеют сходные количественные характеристики: отношение «размера мозга к размеру тела», размеры группы и продолжительность жизни. Оба вида живут в верхних ярусах тропического леса, питаясь плодами, насекомыми и соком деревьев. Есть, однако, два ключевых различия: предпочтения в еде и размер территории. Игрунки специализируются на насекомых, тогда как мартышки больше потребляют сок растений, кроме того, игрунки используют значительно большие по размеру территории. Эти различия позволяют сделать два интересных предположения. Учитывая, что игрунки предпочитают насекомых, они должны быть более импульсивны и нетерпеливы, чем мартышки, которые в основном пьют сок растений. Когда рядом летают насекомые, нет никакой необходимости ждать, наоборот, надо атаковать, и немедленно. В отличие от такой атаки, добывание сока требует терпения. Обезьяна должна царапать кору дерева, пока та не начнет сочиться, и затем сидеть и ждать, когда потечет струйка. Уходить с этого места, оставляя разработанный участок, чтобы потом вернуться, — плохое решение, потому что другая особь может легко воспользоваться чужими трудами и насладиться соком в отсутствие старателя. Различия в размере территории также ведут к различным прогнозам. Осваивая значительные территории, игрунки должны быть готовы ради пропитания путешествовать на большие расстояния, чем мартышки. Таким образом, если мы представим расстояние как меру времени и усилий, у мартышек функция (кривая) обесценивания отдаленного вознаграждения должна иметь более резкий подъем, чем у игрунков. Мартышки должны соглашаться на маленький объем корма, который находится близко, предпочитая его большому количеству корма, расположенному далеко. В отличие от мартышек, игрунки должны без всякого напряжения преодолевать лишнюю милю.
Когда представители этих видов выполняли задание на время, игрунки оказались более импульсивными, а мартышки терпеливыми: они ждали большей награды приблизительно в два раза дольше, чем игрунки. Когда же учитывалась готовность обезьян к перемещению в пространстве, теперь уже игрунки ради большего вознаграждения были готовы путешествовать значительно дольше. Вместе взятые, эти результаты показывают, что в нашей попытке понять, как развивается готовность к терпению, мы не должны игнорировать существенную роль, которую экология вида играет в формировании психики его представителей. То, что на первый взгляд кажется иррациональным, в естественных условиях может оказаться абсолютно рациональным и адаптивным решением.
Животные способны к чрезвычайному терпению, но только в высокоспециализированных условиях. Большую готовность к терпению обнаруживают прячущие пропитание птицы и грызуны, хищники, выслеживающие добычу, и некоторые приматы при добывании определенных видов корма. Возвращаясь к нашим рассуждениям о способности животных к пониманию чужих умонастроений, можно признать: вероятно, это другой пример интеллекта, действующего по принципу лазерного луча, уникальная специализация, встроенная в один или несколько контекстов, без каких-либо признаков гибкости. Предметом нашего исследования, однако, является другая проблема: простирается ли обнаруживаемое животными в контексте «пищевого поведения» нетерпение на социальные ситуации, где действуют насилие и сотрудничество, т. е. проблема, которая возвращает нас к этике.
«Приручение» насилия
Иерархия подчинения, неписаные правила владения территорией и собственностью в большинстве случаев хорошо работают, сдерживая агрессию. Мерами, которые поддерживают принятые правила, служат наказания: физическая расправа, преследование и изгнание из сообщности. Однако эти механизмы поддержания порядка действуют довольно слабо, в узком диапазоне ситуаций и практически не используются в кооперативных отношениях других животных. Если лев пассивно ведет себя в ситуации, требующей сотрудничества, это не создает для него никаких трудностей. Если обезьяна капуцин не выражает намерения помочь другому члену группы доставать пищу, ее никто не накажет за равнодушие. Если дельфин не в состоянии присоединиться к группе, его не погонят к другому океану и не исключат из будущих групповых объединений. В социальных отношениях всегда есть некто, нарушающий сотрудничество, избегающий вносить свой вклад, даже если он минимален. Часто это тот, кто сильнее, сообразительнее и хитрее других. Но слабый и посредственный, в свою очередь, тоже пытается бороться за свои права, активизируя продолжение соперничества.
Среди животных убийство — относительно редкое явление. Животные угрожают и борются друг с другом, но редко нападают, чтобы убить. Наш вид в этом плане можно рассматривать как исключение, но не единственное. Малочисленность убийств среди животных ставит два интересных вопроса, касающихся природы насилия: что останавливает и запускает этот механизм? Существуют ли принципы причинения вреда, которые определяют проявление насилия у животных, и сходны ли они с некоторыми принципами, которые проявляются в действиях людей? Чтобы ответить на второй вопрос, сначала надо ответить на первый. Его суть в следующем: что контролирует импульсы, побуждающие бороться и иногда убивать других? Эту проблему мы обсудим в главе 7.
Этолог и нобелевский лауреат Конрад Лоренц предположил, что агрессивный инстинкт часто управляется или подавляется «покорными» телодвижениями других индивидуумов. Этой темы я касался при обсуждении теории этики Джеймса Блэра, при рассмотрении особенностей поведения психопата. Рычащая собака, вероятно, не будет дальше наступать, если она видит, что жертва отводит глаза в сторону и поджала хвост. Пес может воздержаться от агрессивного нападения, потому что, как только сигнал покорности предъявлен, нет никакой дополнительной выгоды от дальнейшего наступления.
Некоторые авторы утверждают, что жесты, сигнализирующие о покорности, вызывают сострадание агрессора, или эмпатию. Эмпатия — как ощущение того, что чувствует другой, — может действовать на физиологическом уровне, бессознательно. Рычащий пес может остановиться, потому что почувствует, что будет ощущать слабое животное после нападения, и это подавляет его агрессию. Эмпатия может также проявляться и вполне осознанно. Возможно, рычащий пес представляет себе, на что это похоже — оказаться на месте слабого, и это удерживает его от агрессии. Однако нет никаких доказательств того, что собаки способны воображать, на что это похоже — быть другой собакой, но нет также никаких оснований исключить эту возможность.
Один из контекстов, связанных и с агрессией, и с конфликтом, касается переселения животных и включения их в новую группу. И у переселенцев, и у коренных обитателей возможны импульсы, которые, вероятно, подтолкнут их действовать в том или в другом направлении: уйти или остаться, бороться или убежать. У молодого самца млекопитающих, живущих группами, включая большинство приматов, когда он достигает репродуктивной зрелости, в жизни возникает напряженность. Он может или остаться в своей родной группе, или уйти, чтобы присоединиться к другой. Оставаясь в родной группе, он будет иметь антагонистические отношения с соседями. Но решив уйти, он сжигает за собой все мосты. Однако уход из группы связан и с другими трудностями. Попытка найти подходящую группу с помощниками и возможностью подниматься вверх в ее социальной иерархии влечет за собой, по крайней мере, одно серьезное боевое столкновение. У коренного обитателя появление чужого самца вызывает любопытство, но может также вызвать агрессию и некоторый страх, особенно в случаях, когда переселяющиеся самцы начинают буйствовать, убивая всех новорожденных в группе.
Исследования диких и содержащихся в неволе обезьян показывают, что гормон серотонин играет важную роль при социальных контактах. Эти данные распространяются и на поведение человека в подобных ситуациях[329].
Животные с низким уровнем содержания серотонина более импульсивны, они отрываются от своей группы в раннем возрасте и при приближении чужого начинают угрожать ему быстрее, чем особи с высоким уровнем содержания серотонина. Юные самцы вообще отличаются более низким содержанием серотонина, они более импульсивны, демонстрируя образец поведения, типичный для подчиненного по сравнению с поведением доминирующих самцов. Можно даже сказать, что уровень серотонина не просто коррелирует с показателями социальной импульсивности, а выступает в роли источника ее изменений. Введение животным типа обезьян верветок препарата флуоксетин мешает усвоению серотонина, таким образом, увеличивая его концентрацию. Верветки с более высокими показателями серотонина, менее вероятно, приблизятся к угрожающему им чужаку.
Важное звено в исследованиях, посвященных роли серотонина в проявлении импульсивности, — это изучение взаимосвязи агрессии и гормона тестостерона. Как нередко указывал журналист Дейв Барри, особенно в своем «Руководстве для парней», напыщенный мачизм мужчин возникает в результате отравления тестостероном. К счастью, серотонин и тестостерон включены в сложное физиологическое взаимодействие. Тестостерон мотивирует агрессию, в то время как серотонин регулирует уровень, или интенсивность, агрессии. Если уровни тестостерона высоки, возрастает вероятность «противостояния» этих агентов. Серотонин может снизить риск борьбы, уменьшая тенденцию отреагировать на малейшую провокацию. Когда уровень серотонина низок, импульсивность высока — мозг теряет контроль над агрессией.
В исследовании диких обезьян резус, живущих на острове недалеко от берегов штата Южная Каролина в США, обнаружено, что молодые самцы с высоким уровнем содержания тестостерона часто угрожали другим самцам, хотя при этом не обязательно страдали от каких-либо нападений[330].
В то же время индивидуумы с низкими показателями серотонина не только чаще участвовали в поединках, но и получали более серьезные повреждения, чем индивидуумы, отличающиеся высокими показателями содержания серотонина. Молодые самцы с низким содержанием серотонина также, с большей вероятностью, возьмут препятствие, прыгая через большие просветы между ветвями деревьев. Это опасный прыжок, который свидетельствует об их готовности к риску даже в ситуациях, не сопряженных с агрессией. Как отмечал биолог Роберт Саполски, избыток тестостерона приносит неприятности[331]. Именно он делает парней мужественными и одновременно с этим, по словам Дейва Барри, глупыми и смешными. К счастью, по крайней мере для некоторых животных, серотонин спасал им жизнь, преобразуя спонтанную (как коленный рефлекс) импульсивную агрессию в более управляемые и расчетливые действия при нападении в тех случаях, когда борьба была неизбежна.
Хотя есть вполне достаточно доказательств того, что естественный отбор влиял на формирование агрессивного поведения, немного известно о том, как такое направление отбора влияло на мозг и насколько быстро менялась структура и биохимия мозга. Неизвестно также, какой вклад это направление отбора, в противоположность другим факторам, внесло в формирование агрессивного поведения каждого вида. Однако есть другой путь решения этой проблемы: искусственная селекция посредством приручения.
Любой, кто знаком с породами собак, засвидетельствует, что существует множество собачих типажей — от свирепого питбуля: «подставь мне свое уязвимое место» до добродушного лабрадора: «почеши мне, пожалуйста, живот». Эти породы собак создали селекционеры. Процесс одомашнивания, или доместикации, предъявляет, однако, ряд требований: животные должны потерять свой страх перед людьми и присущую им склонность к агрессии. Однако, создавая различные породы и устраняя склонности животных к агрессивным импульсам, процесс селекции привел к ряду неожиданных характеристик, которые позволяют лучше понять механизмы контроля[332].
Если рассматривать одомашненных животных как группу, включая собак, кошек и многих сельскохозяйственных животных, то можно отметить следующее. У всех этих животных имеет место общее снижение агрессивности по сравнению с их дикими «родственниками», например у собак по сравнению с волками, у кошек по сравнению со львами, но не только это. В ходе одомашнивания произошло существенное уменьшение размеров мозга и клыков, наряду с изменением некоторых частей тела, которые выглядят как не связанные между собой анатомические фрагменты. Речь идет о таких морфологических признаках животных, как вислые уши и отличительные белые пятна на мехе и шкуре. Все эти изменения дают основание считать, что доместикация возвращает вид в прошлое, к ювенильным качествам, что биологи определяют как педоморфоз [333].
Самое детальное изучение процесса приручения было представлено в работах биолога Дмитрия Беляева, посвященных доместикации чернобурой лисицы. Его цель — исследовать процесс приручения, отбирая животных по степени их терпимости к человеку. Технология процесса была простой: приблизиться к дикой лисе и зафиксировать расстояние, на которое она подпускает человека, не убегая. Указанное расстояние может служить показателем терпимости. Далее нужно отобрать тех лис, у которых наблюдалась самая короткая дистанция при сближении с человеком, и получить от них потомство. На следующем этапе нужно повторить ту же процедуру с потомством, т. е. со следующим поколением. После сорока лет работы и тридцати поколений, родившихся в результате селекции, Беляев получил популяцию ручных лис с новорожденными лисятами, столь же дружественными по отношению к человеку, как новорожденные щенки. Интересно, что, как и во всех других случаях с одомашниванием животных, это новое поколение лис выглядело по-другому: белые пятна меха на голове, закрученный хвост, вислые уши и существенное уменьшение размеров черепа по сравнению с размером черепа диких лис. Результаты биохимического анализа мозга одомашненных лис показали более высокий уровень серотонина. Вспомните, что высокие показатели серотонина связаны с большим контролем над импульсивностью и, таким образом, более низким уровнем проявления спонтанной агрессии. Как отмечал Беляев, хотя они выбирали лис только по степени терпимости к человеку, итоги превысили их ожидания: появилась лиса с другим обликом, мозгом, темпераментом и социальным здравым смыслом, который сформировался в результате общения с людьми.
Изюминка этого исследования заключается в том, что оно наглядно демонстрирует: в результате селекции могут возникать непредусмотренные изменения. Когда специалисты выбирают специфическую черту для селекции, они не могут знать обо всех скрытых отношениях или корреляциях между разными чертами, поэтому возможны неожиданности. Далее, хотя задачи и интенсивность селекции, как правило, отличаются от естественного отбора, ясно, что селекция может достаточно быстро трансформировать мозг млекопитающего, даже столь сложный, как мозг чернобурой лисы, ведя к радикальным изменениям в поведении. Селекция может изменить динамику природной «гонки вооружений», поддерживая и укрепляя или импульсивность, или самоконтроль.
Можем ли мы быть уверены, что Беляев отбирал лис только по степени терпимости к человеку и опирался лишь на эту характеристику? Хотя он использовал дистанцию сближения с человеком, чтобы характеризовать каждое поколение, возможно, он ненамеренно выбирал и какие-то другие признаки. Например, возможно, те лисы, которые позволяют людям приближаться наиболее близко, имеют более высокие уровни серотонина. В размножении этих особей селекция оперирует уровнями серотонина. С другой стороны, возможно, что особи с самыми короткими дистанциями сближения с человеком больше других склонны к визуальному контакту, и, таким образом, социально более развиты и внимательны. Селекция на основе размножения таких особей шла бы по пути увеличения различий во внимании или социальном познании. Эти критические замечания не умаляют результатов исследования, они лишь подвергают сомнению их причину. Терпимость к человеку — это просто описание особенностей поведения. При селекции, которая проводится с конкретной целью приручения, мы не обязательно затрагиваем психологические основания, которые делают возможным такое поведение. Дикая лиса, не убегая от человека, может поступать так по разным причинам. Эксперименты с лисами показывают, что селекция может изменить импульсивность — на короткий период времени, — но они не объясняют, как этот процесс происходит.
С точки зрения интересующей нас моральной способности, важен результат. Эти исследования показывают, что интенсивная селекция может быстро изменить характер и социальный здравый смысл сложного позвоночного животного. Это заключение представляет существенный вызов тем, кто полагает, что человеческая психика в значительной степени формировалась в период плио-плейстоцена[334] и с тех пор сохранилась относительно неизменной. Хотя нельзя исключить того, что мы до сих пор «придерживаемся» многих мыслей и эмоций, присущих нашим предкам — собирателям и охотникам (возможности психики служили им, по-видимому, хорошим средством, поскольку обеспечивали выживание), история чернобурой лисицы открывает возможность существенных и быстрых изменений в развитии мозга.
Соблазненный правдой другого
При каких условиях одному животному допустимо вредить другому? В настоящее время принято считать, что животные наносят вред другим животным во время охоты, нападая на членов соседней группы, при избиении члена своей группы, занимающего в группе место ниже атакующего, в период детоубийства и при переадресации агрессии (своеобразный механизм уменьшения напряженности после конфликта). Как и при проведенном ранее обсуждении человеческого насилия, мы не находим одного-единственного этического принципа, руководящего насилием животного, четкого и простого, который однозначно определяет, что нанесение вреда другому запрещено. И при этом нет принципа, утверждающего, что вред допустим всякий раз, когда животное чувствует себя вправе причинить его. Мы объясняем разнообразие вариантов причинения вреда, обращаясь к принципам и параметрам, которые лежат в основе действий, и особенно — их причин и следствий. Но вклад ролзианской модели дополняет юманианская модель. Давайте вернемся к старому примеру, чтобы увидеть, как могут проявляться эти факторы.
Когда агрессор «улаживает» отношения со своей жертвой, в этом взаимодействии присутствует некоторый оттенок, который напоминает сочувствующую или, возможно, эмпатийную реакцию. В главе 4 я обсуждал некоторые исследования эмпатии человека, вдохновленные ранними работами Хоффмана. Они воспроизводили его данные более широко, в свете изменений, обусловленных развитием и поиском неврологических коррелятов. Эти исследования были выполнены Нэнси Эйзенберг, Эндрю Мельцоффом и Танией Сингер. Для некоторых ученых эмпатия представляет нечто большее, чем ощущение того же самого состояния, как у кого-то другого. Она влечет за собой знание или способность к осознанию того, что это такое — почувствовать себя кем-то другим.
В самой простой форме эмпатия формируется на основе системы зеркальных нейронов, где мое восприятие события является зеркальным отражением «претворения» данного события кемто другим. В какой-то момент, однако, эта форма сочувствия преобразовывается — или в эволюции, или в индивидуальном развитии — приобретением навыков к пониманию умонастроений другого. С этой новой способностью индивидуумам становится доступным понимание чувств другого; они могут представить свои переживания в такой же ситуации, найти средства улучшить свое состояние и на этой основе понять, как улучшить состояние другого.
Имеют ли животные что-нибудь подобное первой или второй форме эмпатии? Обсуждая особенности эмпатии людей, я упоминал интересное наблюдение: чуткие люди более восприимчивы к зевоте. Зевота вообще заразительна. Но она по-настоящему заразительна, если вы имеете большое сердце, неспособное отгородиться от страданий других. Основываясь на этой корреляции между зевотой и эмпатией, психолог Джеймс Андерсон задался вопросом: в какой степени другие животные также подвержены заражению зевотой?[335]
Шимпанзе, выросшие в неволе, наблюдали видеосюжет, в котором другой шимпанзе, делая что-то, зевал. Хотя и непостоянно, но некоторые особи шимпанзе вслед за ним тоже начинали зевать. Мы не можем сказать, что склонные к зевоте обезьяны являются чуткими, а невосприимчивые к ней обезьяны равнодушны. На основании всего сказанного можно лишь утверждать, что заразительная зевота является признаком эмпатии у людей и, возможно, что это справедливо для шимпанзе и других видов. Эта возможность, так же как и другие проявления взаимной заботы у животных, устанавливает более определенный взгляд на эмпатию.
В природе крысы кормятся в компании себе подобных и часто учатся друг у друга. В лабораторных условиях молодые животные узнают, чем питаться, или следуя примеру хорошо осведомленных особей, или принюхиваясь к воздуху, выдыхаемому этими особями. Поскольку крысы кормятся сообща, они, естественно, поглощают корм так, чтобы у кого-то еще был шанс его получить[336]. Чтобы установить, может ли одна крыса отказаться от корма ради благополучия другой особи, экспериментатор обучил первую крысу нажимать на рычаг для получения корма. Затем экспериментатор помещал вторую крысу в смежную клетку и изменял функции рычага. Теперь, когда крыса с доступом к рычагу нажимала на рычаг, ее соседка получала сильный удар током. Этот удар оказывал не только прямой эффект на «получателя», но и косвенный эффект — на крысу, управлявшую рычагом. После нескольких проб эта крыса фактически прекратила нажимать на рычаг и, таким образом, закрыла для себя доступ к продовольствию. Иными словами, эта крыса фактически заплатила свою цену (голодом!), избавляя соседку от боли. Это альтруизм, по крайней мере, в биологическом смысле: потери для крысы, управлявшей рычагом, с одной стороны, и выгода для жертвы удара — с другой. Результаты этого исследования дают основание считать, что крысы могут управлять своим желанием получить корм, чтобы блокировать действие, которое причиняет боль другому. Такое поведение крысы напоминает эмпатию, или сострадание. Но имеются и более простые объяснения. Вид крысы, корчащейся от боли, может вызывать отвращение. Когда что-то вызывает отвращение, животные обычно прекращают любую активность. Наконец, когда крыса, нажимающая рычаг, видит, как другая содрогается от боли, она может остановиться из страха возмездия.
Хотя эти результаты открыты для различных интерпретаций, анализируя их, можно провести параллель с данными по обесцениванию отсроченной награды, полученными на голубях и описанными ранее. На некотором уровне крыса, нажимающая на рычаг, должна противостоять искушению в виде немедленно получаемого корма. Эти исследования отличаются от экспериментов по обесцениванию награды в том плане, что контролю подлежит отнюдь не выбор между разными порциями корма: маленькая сразу или большая позднее. Выбор здесь имеет другое значение: крыса должна выбирать между некоторой порцией корма теперь и полным отсутствием корма потом, потому что нажим на рычаг причиняет боль ее соседке. Хотя крысы сначала на какое-то время прекращают нажимать на рычаг, затем они возвращаются к этому действию. Такое поведение закономерно, поскольку длительный отказ от нажатия на рычаг привел бы к голоданию. Несмотря на то что причинять боль другой крысе, может быть, плохо, а крыса «на рычаге» непосредственно ответственна за удар, личный интерес побеждает.
В последующем исследовании экспериментатор обучал группу крыс нажимать на рычаг, чтобы опустить к земле подвешенный кубик из пенополистирола. Если подопытная крыса была не в состоянии нажать на рычаг, экспериментатор наносил ей удар током. Как только крыса обучалась нажимать на рычаг, экспериментатор прекращал наказывать ее и, таким образом, устранял основание для нажатия рычага. В отсутствие наказания или награды мотив для нажатия исчезает. Для половины крыс эксперимент продолжался с кубиком из пенополистирола, прикрепленным ремнем, и рычагом для нажатия. Для других крыс экспериментатор заменял кубик живой крысой, закрепляя ее ремнем в неудобном положении, при этом животное извивалось и визжало. Крысы, которые имели дело с подвешенным кубиком, никаких действий вообще не предпринимали. Крысы, увидевшие подвешенную крысу, немедленно начинали нажимать на рычаг. Хотя экспериментатор не собирался одних наказывать за безразличие ударом тока, а других награждать за бескорыстные усилия кормом, они тем не менее нажимали на рычаг и опускали на дно клетки своих соплеменников, уменьшая их стресс, вызванный подвешиванием. Это — альтруизм. Крыса, нажимающая на рычаг, затрачивает определенные усилия и таким образом приносит пользу подвешенной особи, перемещая ее в более безопасное положение.
Что эти результаты говорят о развитии альтруизма и этики в более широком плане? Возможно, вид другого живого существа, переживающего бедствие, вызывает у нормально функционирующих животных эмоциональный ответ, который блокирует желание получить большее количество пищи. У многих из нас вид пожилого человека, пытающегося открыть тяжелую дверь или несущего большую сумку, вызывает почти рефлекторную реакцию сопереживания, которая заканчивается попыткой помочь, хотя это действие прерывает наш завтрак или интересную беседу. Нет никакой проблемы контроля, потому что нет никаких альтернатив для выбора. Возможно, что у животных возникают подобные реакции. Одного вида крысы, страдающей от боли, достаточно, чтобы вызвать сочувствующий ответ. Или напротив, возможно, что вид другой особи в беде вызывает у животного отвращение. Когда крысы воспринимают нечто, вызывающее у них отвращение, они прилагают все усилия, чтобы остановить это. Нажатие рычага само по себе не является альтруистическим действием.
Каждое из этих исследований ставит своей целью выяснить, что делают крысы в ситуациях, когда они могут помочь. Однако остается открытым вопрос о том, что крысы могли бы чувствовать, наблюдая поведение других особей: одно альтруистичное, а другое — эгоистичное? Предпочли бы они взаимодействовать с альтруистами? Изгнали бы они эгоистичных особей из своей группы? Нет ответов на эти вопросы. И пока их нет, мы не можем провести различие между суждениями животного или особенностями его восприятия действия и его решением действовать. Изучение приматов в целом дает не намного больше информации, но позволяет глубже проникнуть в природу этого явления.
Экспериментатор обучил обезьяну резус дергать одну из двух цепей, чтобы получать ежедневную порцию пищи. Подопытные обезьяны с готовностью подчинялись и кормили себя. Затем экспериментатор привел другую обезьяну резус в смежную клетку и, как и в исследованиях с крысами, присоединил одну из цепей к устройству, которое наносило удар тока размещенной в соседней клетке обезьяне. В этом случае, воспроизводя поведение крыс, резусы также прекращали дергать цепь. Но, в отличие от крыс, большинство обезьян резус показали большую сдержанность и значительный контроль, запрещающий это действие. Некоторые индивидуумы прекращали дергать цепь в течение пяти — двенадцати дней, фактически изводя себя голодом. Продолжительность голодовки (времени, которое резус воздерживался от дергания цепи) зависела от двух важных факторов. Это были его личный опыт, связанный с переживанием удара, с одной стороны, и вид страдающего от удара животного — с другой. Индивидуумы не трогали цепь в течение более длительных периодов времени, если они имели опыт (сами когда-то перенесли боль от удара током) и если их объединяли в пару со знакомым членом группы, в отличие от незнакомой особи или принадлежавшей к другой группе. Кроме того, воздержания практически не наблюдалось, если в соседнюю клетку помещали не другую обезьяну, а, например, кролика.
Эксперименты с обезьянами резус можно истолковать, привлекая те же неоднозначные объяснения, как и в случае экспериментов, выполненных на крысах. Хотя обезьяна резус может чувствовать эмпатию, или сочувствие, к другому живому существу, переживающему боль, но выражение боли также может вызывать у нее чувство отвращения. Вид другого живого существа, которое корчится от боли, часто служит источником отвращения. Наблюдение за товарищем по совместной жизни в клетке, который страдает от боли, может вызывать более сильное отвращение, чем наблюдение за муками незнакомого резуса. Вид кролика, переживающего боль, не трогает обезьяну. Резусы могут также думать, что все плохие поступки так или иначе будут наказаны, и поэтому опасаются возможного возмездия, если они продолжат получать пищу, причиняя боль соседу. Но даже если резусы знают, что, дергая цепь, они причинят боль другому, нет никаких оснований считать, что они прекращают выполнять это действие только для того, чтобы облегчить чьи-то страдания. Они могут остановиться, потому что это отвлекает их внимание от пищи или потому что они сами ожидают удар. Хотя эти эксперименты, проведенные на обезьянах резусах и крысах, не приводят к однозначным выводам, они поднимают вопросы, которые мы будем обсуждать в следующей главе. И главный среди них такой: может ли распознавание эмоционального состояния других вызвать у животного приостановку или прекращение текущей деятельности? Как указывают психологи Стефани Престон и Франс де Ваал[337], такая реакция может происходить совершенно бессознательно за счет использования нервных сетей, в которых собственные ощущения индивидуумов в процессе некоторого действия сопоставляются с ощущениями, вызванными действиями других.
В этой главе я сделал упор на том, что некоторые из основных функций, лежащих в основе нашей моральной способности, присутствуют и у животных. Мы видели, что животные испытывают эмоции, которые мотивируют нравственно релевантные действия, или приносящие помощь, или причиняющие вред другим, а также действия, направленные на урегулирование конфликтов и достижение «капельки» мира. Мы также узнали, что животные руководствуются несколькими, если не всеми основными принципами действия, которые присущи человеку в начале его жизни и отчетливо обнаруживаются у младенцев. Эти принципы, в конечном счете, связаны со способностью понимать настроения и чувства других и отчасти со способностью к самопознанию. Тем не менее между людьми и животными имеются немалые различия. Птицам и млекопитающим свойственна высокая импульсивность и слабый контроль своего поведения перед лицом искушения. Их кривые обесценивания награды с увеличением времени отсрочки становятся все круче. И это создает проблемы, когда необходимо помочь другому, а вознаграждение приходит не сразу, а с запозданием. Возможно, наиболее интригующее различие состоит в том, что отдельные виды животных обнаруживают некоторые из этих функций, но только люди обладают полным «комплектом» функций, обеспечивающих развитие моральной способности.
Исходные правила
Представьте общество, в котором никто не смог бы уцелеть как социальное существо, потому что это общество не соответствует биологически детерминированному восприятию и социальным нуждам человека. По исторически обусловленным причинам существующие сообщества могут иметь такие свойства, которые ведут к разным формам патологии.
Ноам Хомский [338]*
На протяжении всей истории во всех культурах мира разные группы формулируют разные варианты Золотого правила. Иногда они представляют положительную модальность, иногда — отрицательную. Однако общий принцип всегда остается неизменным[339].
БУДДИЗМ: «Не препятствуй другим таким способом, какой ты сам считал бы губительным». КОНФУЦИАНСТВО: «Разумеется, это принцип прекрасной доброты: не делай другим того, чего бы ты не хотел, чтобы они сделали тебе». ДАОИЗМ: «Считай прибыль соседа своей прибылью и его потерю своей собственной потерей». ИУДАИЗМ: «Что ненавистно тебе, не делай своему собрату. Это главный Закон, все остальное — комментарии». ХРИСТИАНСТВО: «Все то, что ты хочешь, чтобы другие люди делали для тебя, делай также для них». ИСЛАМ: «Никто из вас не является верующим до тех пор, пока не пожелает для своего брата того же, чего вы хотите для себя».Одна из причин этих наставлений состоит в том, что, когда люди живут социальными группами, Золотое правило становится обязательным условием совместного существования, очевидным предписанием, посланным свыше. Религии придают ему четкость и определенность, потому что люди обычно забывают о второй половине Золотого правила — они берут у других, но ничего не дают взамен. Биологи-эволюционисты создали весомую теоретическую парадигму для объяснения эгоистичных инстинктов, которые тормозят действенность Золотого правила. Я хочу применить эти идеи для исследования борьбы между тяжеловесом-эгоистом и его соперником, склонным к сотрудничеству. Цель заключается в том, чтобы использовать представления об адаптации для более пристального рассмотрения некоторых из самых древних принципов, которые регулируют оказание помощи и нанесение вреда в животном мире, и увязать их с современной характеристикой подобных принципов у людей.
Для определения особенностей моральной способности нам нужно провести два критических теста. Во-первых, мы должны определить, есть ли у животных все те механизмы, которые поддерживают нашу моральную способность. Мы рассмотрим все элементы этих механизмов, с помощью которых она функционирует, и исключим те из них, которые являются общими для людей и для животных. Оставшиеся элементы есть только у людей. Во-вторых, мы рассмотрим эти элементы и выясним, связаны ли они только с областью этики или же являются частью других областей знания. Здесь мы вновь проведем операцию исключения. Мы оставим специфичные для людей элементы моральной способности и исключим те, которые встречаются в других областях знания. Мы должны быть готовы к тому, что в результате окажется, что либо ни один из элементов не является присущим исключительно людям, либо те, что присущи только человеку, используются и в других областях знания. Тем не менее остается вероятность того, что некоторые из элементов имеют отношение только к сфере морали. Возможно также, что все элементы есть только у людей, но ни один из них не связан исключительно с моральной способностью. Во II части уже было показано, что существуют такие характеристики психики, которые участвуют в формировании наших моральных суждений, но не являются исключительно частью морали, в том числе базовые аспекты восприятия действия, теория психического и некоторые эмоции. Характерным для моральной способности оказывается то, как мы используем на практике эти общие элементы для формирования суждений о допустимых, обязательных и запрещенных действиях. Для рассмотрения этих вопросов мы начнем с эволюционной теории и сравнительного метода, созданного Дарвином.
Предисловие к книге «Эгоистичный ген» Ричарда Доукинза начинается такими словами: «Мы — машины для выживания, роботы, слепо запрограммированные на сохранение эгоистичных молекул, известных как гены». Мне, как и многим другим читателям, это высказывание показалось слишком сильным, особенно с учетом следующего за ним утверждения: «Это правда, которая до сих пор меня удивляет». После серии великолепно сформулированных и доказанных утверждений Доукинз завершает книгу фразой, которая должна была успокоить, но вместо этого озадачила меня еще почти на 25 лет: «Мы, единственные на планете, можем восстать против тирании эгоистичных репликаторов». В первом предложении Доукинз, очевидно, использовал «мы» не в узком смысле: «мы — люди». Наоборот, он подразумевал, что «мы» означает: «мы — живые организмы», в широком смысле; метафора Доукинза об эгоистичном гене не связана с конкретным видом, а именно — с людьми. Но последнее предложение, последняя капля чернил указывает на «мы — люди». Почему Доукинз считал, что мы единственные, кто способен преодолеть свою эгоистичную сущность? Почему он не хотел рассмотреть возможность того, что другие организмы могли бы возглавить восстание и сказать своим генам, чтобы те шли куда подальше? И что придавало ему уверенность в том, что мы можем восстать? Что стало бы решительным восстанием против человеческой природы? Какие эмоции и подкрепленные принципами концепции действия человека, в отличие от любого вида животных, могли накопить потенциал для борьбы с контролем со стороны генов и психологическими состояниями, которые они помогают создавать?
До публикации книги «Эгоистичный ген» доминирующим объяснением альтруизма у людей и у животных было следующее: он возник и развился, чтобы принести больше пользы группе. Отбор отдает предпочтение доброжелательности, потому что она полезна для группы[340].
Но быть хорошим требует усилий, и в этом состоит парадокс. Например, некто, подающий сигнал тревоги, потенциально привлекает внимание хищника, увеличивая вероятность собственной смерти, одновременно принося пользу другим, которые могут остаться необнаруженными. Тот, кто делится едой, жертвует личной выгодой, но одновременно приносит пользу другому, который иначе мог бы умереть с голоду. Что противостоит эгоизму? Зачем подавать сигнал тревоги или отказываться от еды, если кто-то еще может сделать за вас эту работу? Согласно теории группового отбора, жертва, приносимая группе на протяжении эволюции, является гораздо более полезной для вида, чем эгоистичное поведение. Но в группе, состоящей из командных игроков, всегда будет эгоист, который заботится в первую очередь о себе.
В книге «Эгоистичный ген» была сделана заявка на новое решение проблемы альтруизма за счет переноса внимания с отдельных людей и групп на гены. Люди подают сигналы тревоги не для того, чтобы защищать группу, а для защиты своих генов. Они стимулируют воспроизведение генов, связанных с сигналами тревоги, либо непосредственно, спасая собственную жизнь, либо косвенно, предупреждая своих кровных родственников. Самки не ставят своей целью регулирование рождаемости и сохранение группы от исчезновения, они стремятся произвести оптимальное количество детенышей, которые выживут и будут воспроизводить себе подобных. В отличие от Золотого правила, которое выходит за рамки биологических отношений между отдельными особями, правило Гамильтона, получившее название в честь своего создателя, покойного биолога-эволюциониста Уильяма Гамильтона, явно нацелено на генетических родственников. Правило Гамильтона гласит: действуй в отношении других соответственно тому, насколько они тебе близки в генетическом отношении[341].
Загадка альтруизма исчезает, если исходить из такой простой формулировки. Я готов понести личные жертвы, если это принесет пользу тем, кто имеет такие же гены, как у меня. В интересах генов мне следует принести себя в жертву, чтобы спасти двух братьев, четырех внуков или восьмерых двоюродных братьев или сестер.
Позиция эгоистичного гена не отвергает возможности того, что отбор может осуществляться и на других уровнях, в том числе на уровне отдельных особей, групп и даже видов. Конечно, возможно, как утверждает биолог-эволюционист Дэвид Слоан Уилсон, что группа кооперативных альтруистов возьмет верх над группой эгоистичных лжецов. Такое представление соответствует ранним интуитивным предположениям Дарвина. Межгрупповые различия создают разнообразие для отбора на уровне групп, и, как утверждают некоторые, ими можно объяснить необычные формы взаимодействия, которые наблюдаются у людей и не отмечаются у животных. Я вернусь к обсуждению этой возможности в конце главы и в эпилоге. А сейчас я сосредоточусь на связи адаптивной структуры и психологических ограничений[342].
Я начну с абсолютно очевидного примера необузданной заботы и возможной точки отсчета для эволюции нашей моральной ответственности за других, а именно со связи между родителями и потомством. Именно в этом контексте мы будем наблюдать, как проявляются принципы, которые регулируют поведение на основе взаимодействия[343].
Утешители и убийцы
Если вы не биолог, на ваше представление о «родительстве» влияет ваш опыт млекопитающего, который может включать рождение собственного ребенка, наблюдение за тем, как это происходит у других, или посещение зоопарка, где вы проведете время в обществе мохнатых существ, кормящих грудью. На человека-наблюдателя оказывают также влияние документальные фильмы, в которых изображены мамы-шимпанзе, играющие со своими милыми наивными детенышами; мамы-бабуины, переносящие свое потомство в безопасное место; дикие собаки, облизывающие своих щенков, пока те сосут молоко, и громадные неуклюжие мамы-слонихи, мягко и легко подгоняющие своих слонят, заставляя их идти, не отставая от остальных. Даже если вы отвлечетесь от животных и перейдете к птицам, возможно, что и здесь вы найдете подтверждение своим представлениям — это выводок теплых, мягких, неоперенных птенцов, спрятавшихся под крылом матери или отца в ожидании очередной порции корма. Есть ощущение, с помощью которого мы представляем воспроизводство себе подобных как нечто обязательное для животного мира, как часть того, что следует делать всем общественным видам в качестве атрибута их повседневной жизни. Отказ от этого считается невозможным в глазах матери-природы.
Это общее представление о «родительстве» нравится нам, потому что оно является отголоском нашего прошлого, согласуясь с тем, что, как нам кажется, мы должны делать. Было бы небрежностью с моей стороны утверждать, что у животных нет этих воспитательных наклонностей. Но, так же как у нашего собственного вида, эволюционная биология «родительства» сложна и интересна и дает возможность размышлять над принципами и параметрами помощи другим[344].
Здесь, так же как и в предыдущих главах, мы хотим подтвердить, что у родителей обычно есть мотивация заботиться о потомстве. Схема отбора, которая сделала бы воспроизводство совсем необязательным, безусловно, стала бы генетическим тупиком. Но мы также хотим выяснить, при каких условиях родители ведут себя иначе. Мы хотим понять те параметры, которые делают возможным отступления от общего принципа заботы о потомстве. Как мы увидим, эти параметры включают условия, при которых родители причиняют вред своим детям прямо или косвенно, разрешая другим выполнить эту грязную работу. Некоторые животные в определенных условиях ничем не отличаются от некоторых людей в определенных условиях: убийство новорожденных, убийство братьев и сестер и даже самоубийство — это все варианты, которые поддерживает не кто иной, как мать-природа[345]. Рассмотрим следующий заголовок в «Новостях»:
Муж и жена признаны виновными и приговорены к пожизненному заключению за то, что дали жизнь слишком многим детямДжейк и Сильвия Дарнер начали обзаводиться детьми сразу после окончания школы. К сорока годам у них было уже пятнадцать детей, а когда супругам исполнилось по сорок пять лет, в живых остались только двое из пятнадцати. На это обратили внимание местные социальные работники. Они отправились к Дарнерам. В доме беспорядок, шкафы пустые, а двое детей ходили полуголыми. С тех пор как у Дарнеров появились дети, средств для их содержания у них почти не было. На самом деле, как установил адвокат, они никогда и не собирались воспитывать детей. В суде Джейк заявил: «Мы знали, что не можем содержать всех этих детей. Мы всегда хотели завести столько детей, сколько сможем, и надеялись на то, что, по крайней мере, некоторые из них выживут». После завершения слушания дела судья Клингстон приговорил Дарнеров к пожизненному заключению за то, что они умышленно производили на свет слишком много детей.
Большинство из нас, вероятно, сочтут этот отрывок, в том виде как он изложен, шокирующим, потому что трудно представить родителей, которые играют в рулетку своими детьми. Рулетка не должна быть частью психологии создания семьи. Нам следует сначала подумать о будущем, просчитывая свой перспективный доход и расходы на воспитание одного ребенка. Затем нам нужно определить, какое количество детей при этом окажется приемлемым, и заводить их именно столько. Разве не замечательно, если бы все стали такими рациональными, а окружающая среда такой предсказуемо кооперативной? Однако мы не являемся ни абсолютно рациональными, ни способными на экономические подсчеты, необходимые для прогнозирования непредсказуемой окружающей среды.
Во многих человеческих сообществах и у бесчисленных видов животных особи действительно производят на свет больше потомства, чем они в состоянии содержать с учетом имеющихся ресурсов. Ни людям, ни животным не нужно заранее планировать потери некоторой части своего потомства. Все, что нужно, это холодная, слепая сила естественного отбора. Он на стороне тех, кто порождает, хотя и теряет, больше потомства, чем тех, кто демонстрирует абсолютный контроль и планирование, но производит меньше потомства. Например, у морских котиков, живущих на Галапагосских островах, многие самки рожают, когда у них уже есть одноили двухлетний детеныш, которого они продолжают кормить. На первый взгляд кажется, что это разумный подход: она может одновременно или последовательно кормить обоих детенышей. К сожалению, обычно она этого делать не может. Менее чем через несколько месяцев эти новорожденные котики умрут от голода. У нескольких видов птиц, таких как белые пеликаны и черные орлы, в кладке обычно два яйца, которые они откладывают одно за другим, часто с существенным временным разрывом между первым и вторым яйцом. К тому времени, когда из второго яйца вылупится птенец, первый птенец уже относительно неплохо развит. Прежде чем второй птенец получит возможность насладиться теплом и заботой родного гнезда, первый птенец предпринимает решительное наступление, которое биологи называют «облигатное убийство сиблингов». В одном наблюдении за черными орлами птенец, родившийся первым, нанес более полутора тысяч ударов клювом другому птенцу, который родился вторым, в то время как родители были рядом и видели, как умирает самый младший птенец. У второго птенца редко есть шанс выжить, и, кажется, родители не обращают на него внимания.
Эти примеры перепроизводства и вытекающие из них последствия могут показаться жестокими или глупыми, в зависимости от точки зрения. На самом деле ни одно из этих обвинений неверно. Логика естественного отбора действует точно так же. Самки морских котиков, быстро рожающие второго детеныша вслед за первым, в случае если им повезет с удачным с точки зрения ресурсов годом, выигрывают в репродуктивной «игре жизни» у относительно консервативных самок, которые ждут, пока каждый детеныш перестанет питаться их молоком. Принцип формулируется примерно так: ухаживайте за своим потомством в благополучные времена, но не делайте этого в отношении самых младших детенышей в неудачные годы. В этом принципе есть параметр, который влечет за собой допущение смерти потомства. У морских котиков и многих других видов родители разрешают потомству умирать с голоду, если ресурсы ограничены. И, вероятнее всего, матери-морские котики не ощущают вины или подавленности из-за того, что их детеныши остаются без еды. Нет смысла в том, чтобы отбор поощрял такие переживания, и есть все основания для того, чтобы выбор был сделан не в пользу индивидов, страдающих от подобных чувств. У птиц, откладывающих больше одного яйца в одном гнезде, используется та же логика. Отложите второе яйцо в надежде на то, что год будет неплохим. Если же это окажется не так, то пусть первый птенец возьмет на себя грязную работу, избавив родителей от тяжелой обязанности кормить второго птенца. В обоих случаях нанесение вреда входит в логику родительской заботы; в случае с пеликанами и черными орлами это является обязательным условием.
У других видов родители, и даже сиблинги, оказывают друг другу содействие, в своих интересах вмешиваясь в жизнь более молодого и слабого потомства. Происходящее в животном мире показывает, что мир родительской заботы тоже может быть ареной насилия. Там, где есть взаимодействие, есть и конкуренция, и иногда она приводит к летальному исходу. Можно раскрыть некоторые тайны, если определить параметры, которые, при условии включения в процесс, регулируют принципы нанесения вреда в рамках мира родительской заботы. Один из них — количество родившихся отпрысков. Этот параметр играет серьезную роль в семейной динамике.
Именно здесь возникает логика конфликта отцов и детей по схеме Триверса, особенно если вспомнить его интуитивные предположения о роли родителей. Вслед за формулировкой своих представлений о взаимодействии, и особенно после того как он открыл теневую сторону Золотого правила, он опять кардинально изменил существовавшие подходы, когда предложил, чтобы мы рассмотрели теневую сторону отношений родителей и детей. Нам нужно посмотреть на эту проблему как на часто повторяющуюся игру, в которой есть активные, конкурирующие участники с противоположными интересами. Мы можем лучше всего понять логику и динамику этой игры, рассмотрев начальные условия.
УСЛОВИЕ 1. С самых первых этапов внутриутробного развития и до, а часто и после окончания кормления дети играют активную роль в секвестировании ресурсов у родителей. Они не являются пассивными потребителями того, что приносят им родители. Они — активные участники игры. Они — конкуренты. Вспомните главу 5 и наше обсуждение геномного импринтинга. Речь идет о том, что эмбрион человека задуман так, чтобы умело обращаться с материнскими ресурсами, часто используя больше, чем она планировала отдать. В организме животных могут быть «приспособления», которые делают возможным конкуренцию сиблингов до их появления на свет. У песчаных тигровых акул беременная самка может произвести двадцать тысяч яиц. У каждого зародыша, скрытого в ее теле и находящегося там в безопасности, быстро вырастают зубы и развивается способность свободно плавать. Появление зубов и развитие подвижности вызывает каннибализм; некоторые из материнских яиц, производимых в конце беременности, становятся кормом для старших, что-то вроде внутриутробного фастфуда. К тому моменту, когда самка готова рожать, появляется тот каннибал-младенец, который оказался победителем, съев всех своих братьев. Как часто происходит в науке, это в чем-то ужасающее открытие было впервые сделано биологом, который после вскрытия взрослой самки акулы отметил: «Когда я первый раз засунул руку через длинный разрез в яйцеводе, у меня было ощущение, что меня укусили. Оказалось, я наткнулся на очень активный зародыш, который бросился с открытым ртом внутрь яйцевода»[346].
УСЛОВИЕ 2. Воспользовавшись логикой правила Гамильтона, в котором главными являются гены, а не особи или их группы, мы можем констатировать следующее. Любой отпрыск генетически идентичен сам себе, а с каждым из родителей он связан общими генами на 50%. Со своими полными сиблингами тот же отпрыск также имеет только 50% общих генов. Родители имеют со всеми своими отпрысками 50% общих генов при условии, что мать и отец все время одни и те же. Эти разные величины создают асимметрию интересов и, с точки зрения отпрысков, дают право предъявлять определенные требования. Асимметрии интересов провоцируют конфликт как между родителем и потомством, так и между сиблингами. Если отцовство носит неопределенный характер, от сезона к сезону, как это обычно бывает у всех полигиничных видов[347], тогда сиблинги будут неполными и поэтому связанными друг с другом меньше чем на 50%. Соответственно отбор на прожорливость будет еще больше. Хотя, согласно закону Гамильтона, вероятность совершения добрых поступков родственниками выше, чем неродственниками, количество таких поступков у родственников, тесно связанных друг с другом, тоже будет выше. Та же логика объясняет акты насилия. Степень генетического родства — это параметр, которым определяется время оказания помощи и время нанесения вреда.
Принимая предположения Гамильтона в широком смысле, мы можем представить, как в процессе отбора формируются психологические и «телесные» приемы, которые позволяют потомству манипулировать родителями, а родителям — отличать правду от лжи. У разнообразных птиц и млекопитающих птенцы и детеныши, как упоминалось в главе 5, издают крики-мольбы. Дети в этом аспекте ничем от них не отличаются, если не считать, что к тому же они обладают умением издавать акустические сигналы одновременно со слезотечением. Когда детеныши просят корма, родители должны оценить, действительно ли их просьбы соответствуют их пищевым потребностям. Несколько последних исследований показывают, что характеристики сигналов, подаваемых детенышами, отражают состояние их здоровья. Родители используют эту информацию, для того чтобы координировать свои действия и иногда уделять больше внимания тем, кто в этом нуждается, а в другое время не помогают им, если эти крики (мольбы) не имеют соответствующих характеристик. У верветок (зеленых мартышек) все матери реагируют на крики своих детенышей, когда те еще маленькие: вероятно, эти крики тесно связаны с их потребностями. В течение нескольких недель развития большинство детенышей начинают издавать более громкие крики, и часто они беспричинные, ненужные, направленные на то, чтобы вернуть мать (а приближается время, когда она не будет их больше кормить). Матери склонны распознавать это несоответствие, они начинают все меньше реагировать на крики детенышей. Большинство младенцев понимают, что происходит, и прекращают кричать, возвращаясь к уровню крика, который соответствует их потребностям. Некоторые детеныши либо не понимают, в чем дело, либо не обращают на это внимания и продолжают вести себя как прежде, издавая все более и более громкие крики. Как в той басне о мальчике, который все время кричал: «Волк!» — и жители деревни перестали обращать внимание на его крики, так и матери-обезьяны упорно игнорируют крики своих детенышей, и большинство из них умирают в возрасте до одного года.
УСЛОВИЕ 3. Если рассматривать только гены, противопоставляя их телу, или особи, или группе, то отбор генетической приспособленности может осуществляться несколькими способами. Мы переходим от рассмотрения того, сколько детей рождается у каждого человека, к тому, сколько копий родственных генов каждый человек помогает передать по наследству. Мы переходим от понятия индивидуальной, или прямой генетической, приспособленности к более инклюзивному чувству приспособленности, которое включает в себя количество рожденных детей плюс помощь, оказанная этим человеком другим людям, которые имеют общие с ним гены[348].
Размышления в таком направлении помогают разобраться в некоторых изначально парадоксальных наблюдениях за животными. Например, у некоторых видов птиц и некоторых приматов особи, способные к репродукции, отказываются от возможности размножения. Если целью эволюции является оптимизация генетического результата, то безбрачие — это конечный неадекватный тупик. В этих странных случаях особи отказываются от репродукции, чтобы помочь родителям в воспитании следующего поколения. Помощь сиблингам способствует их генетическому успеху. Кроме того, существует загадка, почему женщины и, может быть, самки нескольких видов, таких как шимпанзе или некоторые киты (обыкновенная гринда), продолжают еще долго жить после менопаузы; например, репродуктивный период у самок этих китов, так же как у людей, заканчивается в тридцать пять — сорок лет, а они живут до шестидесяти лет, причем, по некоторым данным, у них сохраняется способность кормить молоком до пятидесяти лет. Одно объяснение, первоначально касавшееся людей, но потенциально применимое и к другим видам, состоит в том, что бабушки переносят свою заботу с детей на внуков и на других близких родственников. Эта логика ведет к интригующей возможности того, что бабушки и дедушки подстраховывают наше генетическое процветание, помогая и себе, и своим родственникам производить больше здоровых детей[349].
УСЛОВИЕ 4. Большинство видов, размножающихся половым путем, для которых характерно родительское поведение, имеют за свою жизнь более одного детеныша. Иногда «родительство» ограничивается беременностью, как у самки солнечной рыбы, которая ждет, пока триста миллионов яиц полностью оплодотворятся, и затем выпускает их всех сразу в пучины океана. Иногда родительские функции осуществляются в более широком масштабе, как у кустарникового большенога. Самцы делают очень большую кучу из опавших листьев. Когда она подгниет, появляются самки, осматривают ее и, если их все устраивает, спариваются с самцами, а затем откладывают яйца в ее глубине. Участие самца в «родительстве» ограничивается тем, что он немного ухаживает за кучей. Когда вылупляется птенец, рядом нет никого, кто бы мог ему помочь; родившись в куче опавших листьев, птенец выбирается из скорлупы и начинает жить совершенно один. Другая крайность наблюдается у многих птиц и млекопитающих, которые склонны помогать своему потомству спустя много месяцев и даже лет после их рождения, обеспечивая их едой, средствами перемещения, защитой от хищников и соперников. Учитывая, что ресурсы родителя, которые он может дать потомству, ограничены, то, что он может выделить одному детенышу, потенциально уменьшает размер помощи другому. Для родителей ведущим принципом является увеличение достатка. Для их потомства более подходящим принципом является его использование.
Эти стартовые условия определяют ход игры. Родители хотят, чтобы потомство выжило и размножалось, и оно тоже хочет выжить и размножаться. Оно хочет оптимизировать свои личные возможности. Родители хотят оптимизировать свои репродуктивные результаты в течение всей жизни, т. е. следуют перспективной стратегии, которая предполагает прогнозирование потомства в течение хорошо прожитой жизни. Поскольку дети генетически — либо наполовину, либо чуть меньше, в зависимости от линии родства, — связаны со своими сиблингами, они также хотят, чтобы все выжили, пока от них не требуется слишком больших усилий и внимания. Следовательно, модель конфликта «родители — дети», по Триверсу, приводит к размышлениям о динамике семейного конфликта. Отношения, складывающиеся в семье, с точки зрения теории игр, которая рассматривалась в I и II частях, можно представить как игру, потому что существуют разные стратегии и ее выбор одним из участников зависит от того, что выберут другие. Однако имеются и существенные отличия, поскольку шкала времени охватывает от одной или нескольких повторных игр в жизни одной особи до множества игр, в которые играют многие особи на протяжении существования всего вида. Хотя каждый репродуктивный цикл представляет собой однократную игру, его последствия распространяются на множество циклов.
Используя эти модели, биологи-теоретики определили условия, в которых детоубийство или убийство сиблингов должно быть обязательным, а не факультативным и когда родителям следует больше вкладывать в потомство, а не беречь ресурсы для новой попытки в следующем сезоне. Эти условия, выраженные языком математических формул, представляют первые шаги в характеристике принципов и параметров оказания помощи и нанесения вреда в динамике развития семейных отношений.
Хотя родительская опека является лишь небольшой частью социальных отношений, существующих у людей и у животных, в этом кратком обзоре на первый план выдвигаются два главных аспекта, имеющих отношение к моему объяснению моральной способности. Первый состоит в том, что мы можем понять принципы нанесения вреда и оказания помощи, рассматривая только те параметры, которые, в случае их использования, определяют, когда конкретные действия осуществимы, а когда — нет. Мы склонны рассматривать рождение потомства у людей как обязательное условие, а заброшенность детей и детоубийство не только как запрещенные, но и как отвратительные с моральной точки зрения поступки.
В дескриптивном плане это не обязательно так. Если мы учтем условия, в которых происходила эволюция человека, и рассмотрим некоторые из вышеупомянутых параметров, то окажется, что заброшенность и детоубийство не только имеют место в человеческих сообществах, но и ожидаемы при определенных условиях. Ни детоубийство, ни убийство сиблингов не обязательно являются отклонениями, даже если они могут быть спровоцированы у людей и у животных экстремальными условиями. У всех животных они отчасти являются следствием неосознаваемых принципов, реализуемых особями в момент нанесения ими вреда другим членам семейства. Мы, безусловно, можем сознательно поддерживать эти неосознаваемые процессы или бороться с ними.
Второй аспект, также на дескриптивном уровне, состоит в том, что у нас и у животных есть некоторые общие принципы и параметры, связанные с родительской заботой. Многие животные заботятся о своем потомстве, в качестве воспитателей делая все, что в их силах, чтобы гарантировать ему долгую и благополучную жизнь. Но забота о потомстве не является обязательной. Нет правил, согласно которым все родители непременно должны заботиться о своем потомстве, а все сиблинги никогда не должны соперничать друг с другом. Существуют внутрии межвидовые исключения, обусловленные окружающей средой, стандартными размерами семьи и моделями воспитания. Все еще неизвестно, что происходит, когда отдельные особи являются свидетелями нарушений ожидаемых моделей родительского поведения или отношений между сиблингами: оценивают ли они их как противоречащие видоспецифическим нормам поведения и реагируют ли на них, используя соответствующие меры вмешательства? Под «нарушением» я имею в виду модель поведения, которая не соответствует принципам и параметрам родительской заботы, принятым у данного вида в данное время в данной среде обитания. Например, если ресурсов много, то возмущаются ли родители у видов, имеющих сиблингов (оставаясь тем не менее пассивными), когда перворожденный детеныш губит второго детеныша? Или они исправляют ситуацию, выступая на стороне самых младших?
Биологи уже исследовали эту проблему за исключением действий при некоторых важных условиях, например забирая перворожденного детеныша, добавляя корма и опекая детеныша, рожденного вторым. В некоторых случаях, например у сиблингов белых цапель, изменение этих факторов оказалось эффективным, с его помощью можно усилить или уменьшить жестокость нападений. До сих пор, однако, ни одна из этих манипуляций не повлияла на вмешательство родителей. Они либо не озабочены нарушениями и не считают их таковыми, либо вообще ничего не хотят менять, сохраняя свое равнодушное отношение к детенышу. Рассматривая эти возможности, я надеюсь стимулировать биологов к выполнению манипуляций такого рода с тем, чтобы мы могли лучше понять, как животные оценивают нарушения принципов, регулирующих нанесение вреда и оказание помощи в контексте родительской заботы, а также применительно к другим социальным отношениям.
Права собственности
Весной по всей Северной Америке на полях, покрытых травой, самцы краснокрылых черных трупиалов находят место, где сначала они поют, чтобы сообщить о своем появлении, а потом их песни продолжают звучать, чтобы привлечь внимание потенциальных партнерш для спаривания. Красиво окрашенная морская креветка стоматопода, обитающая в рифах на мелководье, защищает небольшую полость, которая является одновременно ее укрытием от хищников и местом, где можно соблазнить самок и сразиться с соперниками. Благодаря своим биологическим особенностям, особи стоматопода продолжают расти в течение всей жизни и поэтому часто ищут новые полости, которые больше соответствуют их размеру.
У крабов-отшельников есть гораздо более определенная территория, которую они называют своей, — это раковина на их панцире. Как и стоматоподы, они тоже растут всю жизнь, и им часто приходится искать новое пристанище. Это все примеры, в которых собственность приобретается в виде пространства или физического объекта, функционально равного пространству. Иногда собственностью одних животных становится другая (или другие) особь. В гаремных сообществах, например у горилл, гамадрилов и некоторых копытных животных (газелей, лошадей, оленей), один самец распоряжается доступом к группе самок. Это его самки, что подтверждается исключительными правами спаривания, готовностью разрешить им кормиться на одной территории и сильной мотивацией к их защите от хищников и соперников. Не приходится говорить, что самки отнюдь не пассивны, позволяя самцам делать то, что им хочется. Если дела идут неважно, например, если самец — ленивый папаша, плохой защитник или не может осуществить оплодотворение, самки уходят.
Все эти примеры поднимают проблемы, связанные с правами собственности. Когда мы говорим об этих правах, мы подразумеваем контроль или юрисдикцию особи или группы над объектом. Это широкое определение чрезвычайно полезно, особенно в современном мире, так как позволяет такому менее ощутимому виду собственности, как интеллектуальная собственность, считаться товаром, который можно и стоит защищать. Практическое использование и легализация этого понятия стимулирует конкуренцию, что приводит к четкому разграничению между собственниками и несобственниками.
Есть ли у животных понятие собственности, и если есть, то какое оно? Как определяется порядок ее наследования? Как обеспечивается право собственности? Какие принципы и параметры определяют владение собственностью? Как особи или их группы устраняют нарушения? В животных сообществах нет писаных правил поведения, однако есть неписаные правила, которые используются для регулирования доминантных отношений, полового поведения и защиты территории. Ими определяются представления о моделях взаимодействия, возможных результатах, закономерностях и пригодных к учету ресурсов.
Владение территорией устанавливается путем очерчивания ее границ. Иногда это делается с помощью размещения по периметру территории запретительных знаков, в качестве которых используются моча или кал. Иногда об этом сообщается с помощью сигналов, как это происходит у краснокрылых черных дроздов и многих других видов. У большинства видов, имеющих собственную территорию, существуют приоритеты. Если особь, не имеющая своей территории, залетает или заходит на территорию, где находится ее собственник, нарушитель почти сразу ретируется, даже не пытаясь ее захватить. Есть неписаное правило, которое гласит: территория, занимаемая особью, является ее бесспорной собственностью. Когда же попытки ее захвата все-таки происходят, они провоцируют преследования или нападения. Если ситуация становится напряженной, собственники территории обычно имеют преимущества обладателя, хотя иногда неоднократные попытки присвоить кусок земли вынуждают их пойти на уступки только для того, чтобы отделаться от захватчика[350].
У таких животных, как стоматоподы и крабы-отшельники, факторы, которые определяют, когда допустимо покушаться на чью-то собственность, другие. Способ ведения игры и полученные результаты, как правило, обусловлены различиями в размере и орудиях борьбы, которые биологи называют «потенциалом удержания ресурсов». Крабы-отшельники, например, часто ищут новую раковину. Сами они обычно не избавляются от раковины на своем панцире, поэтому те, кому нужна новая раковина, должны выяснить, соответствует ли нынешний владелец своей собственности. Размер раковины не является точным показателем размера краба-отшельника. Чтобы оценить степень пригодности, крабы-отшельники постукивают друг друга клешнями по панцирю. Возникающий в результате звук дает необходимую информацию. Если краб соответствует своей раковине, ее резонансные характеристики отличаются от характеристик раковины, в которой находится краб небольшого размера (в ней остается много свободного места). Если по раковине стучит большой краб и слышит по звуку, что там находится небольшая особь, он начинает толкать раковину и в конце концов выгоняет владельца из его «дома». Тот не поднимает шума, потому что его собственное постукивание дало ему информацию о размере противника. Здесь играют роль бойцовские возможности краба, которые ему нужны для того, чтобы определить, когда есть вероятность оспорить свое право собственности, а когда ее нет.
Вопросы владения собственностью носят особый характер, когда она может перемещаться или ее можно перемещать. Это справедливо, и когда речь идет о еде. В нескольких замечательных исследованиях, проведенных на макаках, биологи Ханс Куммер и Марина Кордз давали им тюбик с изюмом, который был либо прикреплен к стене, либо мог свободно перемещаться[351].
Если тюбик был закреплен и если подчиненная макака добиралась до него первой, но не могла удержать тюбик (например, роняла его), старшие обезьяны его отбирали. Тем не менее если подчиненная макака прижимала тюбик к груди, то доминантная обезьяна согласно кивала головой, подтверждая тем самым, что подчиненная может им владеть.
Вероятно, у макак есть закон владения собственностью, который основан на степени родства. Он эффективно регулирует поведение лидера и вселяет в подчиненных чувство покоя и порядка, когда они все-таки добираются до еды. У многих приматов между самцами и самками установлены исключительные отношения. Они характерны для моногамных и гаремных сообществ и представляют собой попытки ограничить половые отношения только парой или только одним самцом и его группой самок. Члены каждой из этих групп рассматривают других в каком-то смысле как собственность.
У людей западных культур принято считать, что гаремы — это группа жен, находящихся под контролем одного мужчины. Однако в арабских культурах, где когда-то появились гаремы, это слово означает «запретный» или «изолированный». Оба эти значения подчеркивают идею ограниченного ресурса, сохраняемого с помощью евнухов, которые, в отличие от других, не могут создать конкуренцию. Гамадрилы тоже живут в гаремных сообществах и представляют собой интересный пример того, как с помощью неписаного правила устанавливается контроль и ограниченный доступ к ценному ресурсу — собственности. У гамадрилов гарем состоит из одного взрослого самца, нескольких взрослых самок и их детенышей. Как и при регулировании границ территории, правило для него таково: если вы владеете гаремом, все остальные уважают ваше право собственности. Ни другие самцы, имеющие гарем, ни молодые самцы, у которых еще нет гарема, никогда не попытаются присвоить себе чужих взрослых самок.
Учитывая такое уважение (с их стороны), как же формируются гаремы? Обычно взрослые самцы присматриваются к перспективным молодым самкам и собирают их в своем гареме, пытаясь наилучшим образом продемонстрировать свои лидерские качества. В условиях неволи вы можете наблюдать, как раскрывается эта динамика и как возникает взаимоуважение у самцов. Если вы поместите самца А в загон с незнакомой самкой С, он сразу будет пытаться привлечь ее внимание, ухаживая за ней и располагаясь поближе к ней. Если самец В наблюдает за этим, а затем попадает в тот же загон, он не будет приближаться к влюбленной парочке. А теперь изменим ситуацию, и пусть самец В завлекает самку D, а за этим наблюдает самец A. Появляясь в загоне, он тоже уважительно относится к отношениям самца В и самки D. Эти неписаные правила помогают поддерживать социальные условности вопреки отдельным особям, у которых есть соблазн обмануть. И в случае с гамадрилами эти правила поддерживают права собственности — право, которое есть у взрослого самца, когда он создает гарем.
Интересуясь проблемой родительской заботы, мы, кроме того, зададимся вопросом, как особи могли бы реагировать на экспериментально создаваемое насилие? Как самец гамадрила А реагирует на самца В, видя, как тот входит в загон и движется в сторону самки С? Если самец В никогда не видел, как самец А общается с самкой С, он может не знать об их отношениях, в отличие от какого-нибудь племенного «жеребца-мачо», который осознанно пытается отбить чужую самку. Самец А, вероятно, захочет вернуть свою собственность, но ему следует быть менее агрессивным в отношении самца В, в отличие от ситуации, когда самец В наблюдает за общением самца А и самки С, а затем, однако, пытается переманить ее, когда остается один. Здесь мы не только рассматриваем то, что считается нарушением социальной нормы, но и то, учитывают ли животные причины, приведшие к нему. Мы возвращаемся к созданию Ролза и проблемам, касающимся способности истолковывать причинные и намеренные аспекты явления. Хотя у нас нет ответов, которые были получены в экспериментах, направленных на решение этих проблем, или в других экспериментах, касающихся защиты территории или половых партнеров, у нас все-таки есть частичные ответы в другом контексте: борьба за власть в социальных группах, для которых характерны доминантные иерархии. Эти отношения представляют собой один из основных контекстов для рассмотрения принципов, которые возникли для регулирования доступа к ресурсам и контроля над ними.
Отношения «доминирование — подчинение» касаются власти и преобладают в животном мире[352]. Животные различаются с точки зрения жесткости и тех принципов, которыми определяется победа или поражение в схватке. У некоторых видов, таких как «общественные» насекомые (пчелы, осы, муравьи) и голый слепыш, особи с рождения имеют ранг, и надежды на его изменение мало. У этих видов особи с низким рангом могут мечтать о ниспровержении особей с более высоким статусом, но это происходит редко. У других видов отношения менее жесткие, и у особей больше возможностей изменить свой статус.
У нескольких видов млекопитающих, особенно у тех, для которых характерна система многоженства, ранг во многом определяется размером особи. Классическим примером служит морской слон. Владелец гарема — самый крупный самец, особь гигантских размеров, на фоне которого все самки и большинство самцов выглядят значительно меньшими по размеру, и в результате он контролирует более 90% спариваний. В течение одного или двух сезонов его существования в качестве владельца гарема происходит несколько схваток, а потом появляется другой самец и смещает его. Единственным значимым фактором является размер особи. В отличие от этого, у многих видов приматов статус доминирования особи определяется размером, возрастом, полом, рангом матери и наличием партнеров по коалиции. У большинства, но не у всех приматов взрослые имеют более высокий ранг, чем молодняк, а самцы выше по рангу, чем самки. Когда самец бабуинов достигает репродуктивной зрелости, часто он покидает свою натальную (ту, к которой он принадлежит с рождения) группу. После перехода в новую группу он обычно занимает положение главного бабуина, альфа-самца. Наоборот, когда самцы макаки резус уходят из своей натальной группы, в новой группе они оказываются на самой низкой ступени иерархии, даже если в своей группе они занимали главенствующее положение. У многих обезьян восточного полушария, например таких, как макаки, особь имеет высокий ранг, даже если она мала по размеру, при условии, что ее мать имеет высокий ранг.
Ранг определяет, кто быстрее получит ресурсы, включая еду, места отдыха и возможности для спаривания. Особи, имеющие низкий ранг, обычно подчиняются авторитету с высоким рангом. Когда они нарушают традицию, пытаясь низвергнуть особь с более высоким рангом, они часто ищут поддержку у другой особи. Эти коалиции демонстрируют политическую сообразительность, как показало описание поведения шимпанзе, сделанное де Ваалом[353]. Например, неискушенный наблюдатель только и видит, как два шимпанзе бьют третьего. Опытный наблюдатель улавливает кульминацию тщательно продуманного ниспровержения особи с более высоким рангом, осуществляемого в ходе нападения на нее участниками коалиции. В одном примере участниками были недавно низвергнутый альфа-самец Иероин, только что получивший высший ранг альфа-самец Лют и бета-самец Никки. Вскоре после возвышения Люта Никки создал коалицию с Иероином, чтобы присвоить себе альфа-статус. Без его помощи он не смог бы захватить власть. Далее, коалиционная поддержка со стороны Иероина нужна была Никки и тогда, когда он добился альфа-статуса. Поскольку большинство животных не могут заставить других оказывать им коалиционную поддержку, они предлагают тем нечто, что могло бы стимулировать их лояльность и помощь. Никки уступил Иероину первенство в спаривании, которое тот принял, спариваясь вдвое чаще, чем Никки. Но, как только ведущее положение Никки упрочилось, он отобрал у Иероина принадлежащее ему преимущество в спаривании, продолжая поддерживать с ним вполне приятельские отношения.
Коалиции представляют собой дополнительный уровень сложности в понимании принципов, регулирующих отношения доминирования. Хотя мы можем присвоить ранг каждой особи, у большинства животных, имеющих социальную организацию, те из них, кто использует альянсы в схватках, получают помощь от партнеров для достижения цели. Следовательно, прогнозирование результатов схватки усложняется, так как оно зависит от условий, в которых создается коалиция. Независимо от результата эти взаимоотношения показывают, что существуют принципы, которыми регулируются внутригрупповые ресурсы. Эти принципы определяют, когда лучше проявить уважение к власти, а когда — бросить ей вызов, ища помощи у других для нанесения вреда.
У некоторых видов навыки или сообразительность особи могут быть настолько выдающимися, что репутация может оказаться важнее, чем ранг доминирования, давая тем самым особи дополнительное преимущество на поле конкурентной борьбы. Рассмотрим в качестве примера великолепный эксперимент биолога Эдуарда Штамбаха[354]. В каждой из нескольких групп длиннохвостых макак Штамбах удалил особь с самым низким рангом и обучил ее пользоваться автоматом для попкорна, который был деликатесом для этой конкретной группы обезьян, живших в неволе. И все особи с низким рангом научилась (самостоятельно и отдельно от группы) нажимать по очереди на несколько ручек, для того чтобы получать попкорн. Каждого из этих «специалистов» Штамбах вернул в свою группу, поставив там автомат для попкорна. Когда на нем загоралась лампочка с надписью «Готово», «специалист» подходил, нажимал на ручки и смотрел, как попкорн падает в чашку. Но забирала лакомство безапелляционно и быстро доминантная особь. Эта последовательность — подчиненный работает с автоматом, а лидер съедает попкорн — повторялась много раз, пока «специалисты» не взбунтовались. Лампочка на автомате горела все ярче, доминантные особи ожидали действий «специалистов», а те никак не реагировали. То, что произошло дальше, было удивительно. Не обучавшиеся у Штамбаха доминантные особи перестали отгонять «специалистов» от автомата и начали чаще ухаживать за ними. Вскоре после этого «специалисты» вернулись к автомату, нажали на ручки, и теперь они сидели и ели попкорн вместе с доминантными особями. Хотя им и не удалось повысить ранг доминирования, благодаря своим умениям они, подобно королевскому шуту, замечательно проводили время вместе с доминантными особями. Этот результат особенно интересен потому, что показал: доминантные особи не пытались использовать принуждение для получения доступа к еде. Эксперимент Штамбаха подтвердил, что животные могут приобретать определенную репутацию и использовать ее в расчете на получение еды. Вместо стратегии преследования, которая используется у многих видов приматов, эти животные выбирали хорошее отношение к подчиненным особям.
Животным, имеющим социальную организацию, обычно много известно о своем статусе и о статусе других членов своей группы; оказывается, наиболее оформленной эта способность является у приматов[355]. Когда подчиненный нарушает правила, пытаясь запасать ресурсы, которые обычно предназначаются для более доминантных животных, он делает это как можно незаметнее, часто оценивает угол обзора доминантного животного, чтобы понять, что удастся унести незаметно. Если подчиненный нарушает правила и доминантное животное его поймает, обычно нарушителя начинают преследовать, и часто это превращается в тотальную охоту за ним. Для предотвращения таких нарушений и для того, чтобы держать подчиненных в рамках, доминантные животные иногда совершают немотивированные нападения.
Как пишет об этом Джоун Силк, у многих видов приматов доминантные животные «совершают произвольные агрессивные поступки и бессмысленные акты устрашения». На поверхностном уровне они могут производить впечатление нарушений, действий, которые противоречат принципам, на основе которых наносится вред. Однако эти действия не противоречат логике схваток между животными: они подходят друг другу по размерам, часто сталкиваются между собой, помнят о предыдущих схватках и о существенных потерях, которые понесли, участвуя в борьбе. Наилучшая стратегия доминантного животного состоит в том, чтобы время от времени, наугад, организовать тотальное нападение так, чтобы у подчиненного было мало возможностей для мести. Подобные действия будут удерживать подчиненных в состоянии относительно большого стресса и будут способствовать устойчивости социальной иерархии.
Кроме этих нападений, однако, есть еще и сигналы, которые посылают доминантные животные своим подчиненным, для того чтобы показать, что они совершенно определенно не расположены совершать нападения. Они также составляют важную часть социальной системы, так как позволяют лидерам создавать коалиции с подчиненными, использовать подчиненных в роли воспитателей для своих детенышей и время от времени вовлекать их в дружественные отношения.
Для того чтобы выяснить, распознают ли бабуины аномальные отношения, т. е. ситуации, в которых подчиненный нарушает правила, Чейни, Сейфарт и Силк воспользовались тем, что некоторые голосовые сигналы подаются только особями, которые имеют определенный ранг доминирования[356]. У бабуинов, живущих в дельте реки Окаванго в Ботсване, матери, имеющие высокий ранг, часто подходят к матерям с низким рангом и ворчат на них. Ворчащие звуки часто являются сигналами, которые доминантные животные посылают подчиненным (иногда доминантная обезьяна ворчит, когда рядом нет подчиненных).
Слыша эти звуки, матери-подчиненные нередко отвечают покорным лающим звуком, выражающим страх. Доминантные животные никогда не подают таких сигналов подчиненным животным. Важно то, что, во-первых, ворчание может раздаваться в отсутствие лающих сигналов подчинения, а лай может звучать в тех случаях, когда нет ворчания, и, во-вторых, доминантные самки могут издавать ворчащие звуки даже после того, как подчиненная самка перестала лаять. Единственная устойчивая модель голосового сигнала возникает, когда одно животное ворчит, а другое лает. Здесь ворчание всегда исходит от доминантного животного, в то время как подчиненное животное всегда лает.
Воспользовавшись этими сигналами доминирования, Чейни и ее коллеги воспроизводили либо аномальные, либо правильные последовательности звуков и при сравнении степени внимания животных в первом и во втором случаях использовали ту же логику, что и при оценке длительности фиксации взгляда. Бабуины тратили больше времени на прослушивание аномальной последовательности сигналов, чем на прослушивание правильной последовательности. Это значит, что они обнаруживали нарушение.
Доказать, что бабуины обнаруживают это нарушение, только первый шаг. Он свидетельствует о том, что они реагируют на конкретные принципы доминирования, и показывает, как эти принципы отражаются в поведении. Дальше необходимо найти некую меру того, как слушатели оценивают такие нарушения, и выяснить, меняет ли она динамику их социальных отношений. Нам нужна ситуация, в которой особи получают возможность либо восстановить равновесие, наказав нарушителя, либо воспользоваться ситуацией для изменения правил игры.
Как только мы выходим за рамки темы родительской заботы, мы обнаруживаем другие принципы и параметры, которыми регулируются модели нанесения вреда и оказания помощи другим. Эти принципы определяют, когда особи конкурируют в борьбе за ресурсы, когда, вероятнее, они будут защищать свою собственность и когда им следует ожидать, что член группы нанесет им ущерб, потому что они нарушили принцип, по которому она живет. Мои рассуждения лишь едва затронули проблему этих взаимодействий и теоретических моделей, которые должны их объяснить. В общем, мы мало понимаем оценочный аспект конкуренции у животных — тот аспект, который связан с созданием Ролза. Мы не знаем, в чем состоит нарушение прав собственности и какими психологическими ресурсами обладают животные, чтобы оценить эти ситуации. Мы не знаем, учитывают ли животные чужие намерения, принимая решение о возможности наказания за действие, которое наносит вред другому. Но самая лучшая исходная позиция состоит в том, чтобы признать, что эти проблемы существуют и их стоит рассматривать.
Нужны двое
Среди исторических пьес Шекспира «Король Лир» выделяется сложным сюжетом, в котором есть примеры взаимодействия, обмана, борьбы за наследство и за возвращение доброго имени, стратегий получения власти, родительского предпочтения и соперничества между сиблингами. Пьеса начинается с того, что несчастный Лир спрашивает у трех своих дочерей — Гонерильи, Реганы и Корделии, — насколько сильно они его любят. Этот вопрос — своего рода повод к началу соревнования между полными сиблингами, попытка инспирировать соперничество в расчете на присвоение огромного наследства. Гонерилья и Регана играют по правилам, при этом каждая пытается перещеголять другую. Любимица Лира Корделия видит неприкрытую лесть своих сестер и решает говорить правду. Она сказала отцу, что любит его так, как это следует делать дочери, но не более того. Лир взбешен и лишает Корделию титула и наследства, намереваясь отдать свое богатство Гонерилье и Регане. Жадные и жаждущие власти, они считают, что их отец глуп и недостоин своего титула, и замышляют удалить его от трона. Они объединяются, понимая, что вместе они сильнее, чем по одиночке. По мере развития действия в пьесе мы наблюдаем, как эгоизм разрушает альянс Гонерильи и Реганы и как любовь и уважение Лира возвращаются к любимой дочери Корделии. В этой истории мы видим силу взаимодействия, адаптивную значимость коалиций, распад родственных связей, борьбу за ресурсы и трудности в сохранении устойчивых родственных альянсов на основе взаимодействия.
Некоторые животные, особенно львы, гиены, дельфины и многие обезьяны, в том числе человекообразные, создают коалиции, для того чтобы выиграть у других особей в борьбе за доступ к еде, территории и сексу. Эти альянсы, созданные как между родственниками, так и между неродственными особями, требуют координации, соблюдения обязательств и взаимодействия. Хотя последнее наблюдается во всем животном мире, оно принимает различные формы на основе разных принципов, которые связаны между собой психологическими способностями и адаптивными целями животных.
Суть дела в том, что, хотя у людей и у животных есть много общих форм взаимодействия, имеются два очевидных отличия. Мы — единственные живые существа, которые взаимодействуют с генетически неродственными особями в больших масштабах и которые постоянно демонстрируют устойчивое сотрудничество, основанное на тех или иных принципах обмена. Далее я буду рассматривать некоторые из принципов, которые лежат в основе наших, общих с животными способностей к взаимодействию. В этой главе будет дана характеристика различий, объяснение причин их появления и того, что мы единственные, у кого возникли и существуют особые формы помощи.
Благодаря правилу Гамильтона, взаимодействие с родственником больше не представляет собой трудной проблемы для биологов-эволюционистов. Как показано на рисунке, родственное взаимодействие возникает и сохраняется, потому что затраты альтруиста на взаимодействие перевешиваются преимуществами для реципиента, который является носителем тех же генов.
Тот факт, что описанный вариант взаимодействия решает проблему помощи, ориентированной на родственников, не означает, что они всегда будут хорошо относиться друг к другу — подумайте о короле Лире или об убийстве сиблингов у белых цапель и орлов. Однако у животных распространено именно это взаимодействие, ориентированное на родственников, и для многих видов, имеющих социальную организацию, оно является доминантной моделью оказания помощи.
Загадкой остаются отношения между генетически неродственными особями. Дарвин в книге «Происхождение видов» утверждал, что естественный отбор не может обусловить такое изменение внутри какого-либо одного вида, которое совершается исключительно ради пользы для другого вида. Хотя Дарвин изучал, главным образом, взаимоотношения между видами, мы можем применить его принципы в равной степени к рассмотрению подобных взаимоотношений между особями одного и того же вида. Нам нужно объяснить, например, почему львы в совместной охоте не мошенничают, предоставляя право партнеру одному убивать добычу; почему одна летучая мышь-вампир срыгивает кровь другой, подкармливая ее и не получая ничего взамен; почему приматы, занимаясь грумингом, не «наживаются» на чистке меха и чесании спины, но делают это, не получая благодарности взамен[357].
Любая кооперация включает в себя как минимум одно действие, совершаемое одной особью для блага другой или нескольких других особей. С дарвиновской точки зрения, подобное поведение становится интересным тогда, когда поступок требует затрат и родство не может служить в качестве объяснения. Побочный мутуализм возникает тогда, когда результат действия оказывается полезным для обоих участников. Хорошим примером служит совместная охота, где каждая особь, А и Б, заинтересована в успешной охоте и каждой из них нужна помощь, по крайней мере, со стороны еще одной особи для максимального увеличения шансов на успех. Охота сама по себе является затратным делом для обоих участников, но оба извлекают выгоду, если они вместе убьют добычу. Возможно, что в этих ситуациях и затраты и польза распределяются по-разному, вероятно, одна особь несет больше затрат и получает больше выгоды. Главное состоит в том, что взаимодействие возникает как побочный акт или как случайное проявление эгоистичных во всех других отношениях интересов.
Взаимообмен, который обсуждался в I и II частях, влечет за собой первый акт альтруизма, за ним в какой-то момент в будущем следует ответный акт альтруизма. Хотя взаимность и кажется довольно простой, она требует мощного психологического инструментария, в том числе способности определять количество затрат и приобретений, сохранять их в памяти, помнить о предыдущих взаимоотношениях, удачно выбирать время для возврата своих вложений, находить и наказывать лжецов и устанавливать определенные соответствия между тем, что даешь, и тем, что получаешь.
Мы задаем один и тот же вопрос, касающийся всех форм взаимодействия: для тех, кто вступает во взаимодействие, лучше объединяться с одной или с несколькими другими особями или оставаться в одиночестве? Рассмотрим два примера: совместную охоту у львов и создание альянса у дельфинов[358].
В обоих случаях мы хотим выяснить, какие параметры благоприятны для взаимодействия, а какие — нет. Чтобы собрать необходимые экспериментальные данные, биологи Крэг Пакер и Энн Пьюзи провели долгое время на равнинах Серенгети в Танзании, наблюдая за тем, как охотились львы, ведя подсчет количества львов, участвовавших в преследовании добычи, вычисляя коэффициент удачной охоты, размер пойманной добычи и объем еды на одну особь. В районах проведения наблюдений, где группы львов участвуют в совместной охоте, коэффициент успешной охоты возрастал с увеличением размера группы, при этом группы оказывались успешнее, чем львы, охотившиеся в одиночку.
Тем не менее в рамках этой общей модели, в которой взаимодействие оказывается благоприятствующим фактором, существуют разные стратегии охоты. В частности, прежде чем возникнет возможность поохотиться, львы на равнинах Серенгети выбирают одну из трех стратегий. Они могут совсем воздерживаться от охоты, могут подчиниться общей модели охоты, которую демонстрируют другие, или играть роль активного участника охоты, которая меняется в зависимости от роли остальных участников группы — иногда они могут возглавлять преследование, а иногда отставать от группы. Стратегия, выбранная львом, определяется в большой степени размером добычи, на которую ведется охота, и конкретным составом животных, которые действительно не хотят присоединяться к охоте. Когда добыча мелкая (например, бородавочники), львы обычно охотятся в одиночку, и большинство членов группы воздерживается от совместной охоты. Когда добыча крупная (например, буйвол), взаимодействие не только более распространено, но и необходимо, так как крупная добыча опасна и возрастает вероятность опозориться. Уклонение от охоты на буйвола — это своеобразное «мошенничество», как и участие в такой охоте, но в роли, требующей наименьших затрат. Во взаимодействии львов озадачивает то, что, кажется, нет практически никаких затрат на уклонение и никаких выгод от выполнения роли активного охотника. В этом смысле хотя и существуют принципы, которые определяют, когда у львов возникает взаимодействие и когда оно становится максимально полезным с точки зрения полученного результата, однако для того, кто не участвует в совместной охоте, отлеживаясь, пока остальные заняты делом, а потом пользуется плодами общих усилий, заметных последствий нет.
Совместная групповая охота у львов — это пример мутуализма, потому что те, кто участвует в ней, вместе извлекают выгоду, даже если есть различия в понесенных расходах и окончательных результатах. Львы также сообща защищают свою территорию от нарушителей, и часто братья объединяют силы, чтобы возглавить стаю, совершают несколько детоубийств, чтобы стимулировать репродуктивные способности самок и затем внедриться в их группы.
Альянсы дельфинов возникают в огромных сообществах, в которых общий размер группы может достигать сотен особей, но в повседневной жизни особи взаимодействуют в небольших группах и ненадолго. Как Пакер и Пьюзи, Ричард Коннор провел очень много времени на море, наблюдая за бутылконосами, живущими в заливе Акул в Австралии. Зная о соответствии социальной организации у дельфинов и шимпанзе, Коннор рассчитывал получить данные о коалициях, и ему это удалось. В самом начале проекта он наблюдал за появлением и сохранением коалиций у самцов. Обычно это были две или три особи, которые объединялись, для того чтобы выиграть у других коалиций или одиночек в борьбе за доступ к потенциальным брачным партнерам. По аналогии с совместной охотой у львов Коннор показал, что коалиции защищают самок гораздо успешнее, чем отдельные особи. Кроме того, он показал, что коэффициент успеха возрастает с увеличением размера коалиции, достигнув высшей точки в необычном сверхальянсе из четырнадцати самцов, у каждого из которых было от пяти до одиннадцати партнеров внутри этой сверхгруппы. Эта группа, как и многие группы приматов, демонстрирует, что дельфины также имеют иерархическую социальную организацию с разными уровнями отношений. Хотя Коннору еще предстоит описать разные стратегии, как это было сделано в наблюдениях за львами, им уже установлено разделение труда во время охоты. Когда дельфины охотятся сообща, одна особь берется исключительно за выполнение роли «загонщика», направляющего добычу в сторону группы дельфинов, которые выполняют роль «заграждения». Учитывая, как много было сказано об уникальности разделения труда в эволюции человека, примеры, подобные этим, должны не только сделать нас скромнее, но и переключить наше внимание на условия, в которых особи принимают на себя похожие или разные роли, участвуя в совместных действиях.
Примеры, когда животные создают альянсы, ставят несколько вопросов[359]. Как особи выбирают своего партнера или партнеров? Учитывают ли животные не только лояльность, этичность действий и физическую силу своих партнеров, но и их умения? Нужно ли особям иметь непосредственный опыт общения со своими потенциальными партнерами, для того чтобы создать альянс, или они могут использовать свои наблюдения, для того чтобы решить, кто будет участвовать во взаимодействии, а кто будет нарушать свои обязательства? Как упоминалось ранее, биолог-эволюционист Ричард Александер давно указал на один способ, с помощью которого животные могут вступать в устойчивые отношения кооперации. Он состоит в том, чтобы собирать данные о тех, кто участвует в кооперации и кто обманывает, а затем избирательно взаимодействовать с первыми, игнорируя или избавляясь от последних. Это обычно считается формой косвенного взаимообмена, она может нести меньше психологической нагрузки, чем прямой взаимообмен. О нем мы еще поговорим, это наша следующая тема.
Наблюдения также могут дать особям информацию о том, кто является лидером и аутсайдером альянса. Сколько пассивных членов может выдержать альянс, сохраняя свою эффективность и достаточное количество добычи на одну особь? В теоретических моделях и на практике, что подтверждают наблюдения за львами, гепардами и дельфинами, альянс обычно состоит из трех особей, особенно если его целью является сексуально рецептивная самка. Неясно между тем, как создание альянса из трех особей влияет на успешность их действий, а успех, в свою очередь, поддерживает устойчивость альянса? В последней работе Коннор предполагает, что у дельфинов самые устойчивые коалиции состоят из особей, которые координируют свои действия.
Те, кто изменил еде
Нагиб Махфуз, нобелевский лауреат по литературе 1988 года, отмечал: «Еда объясняет поведение человека лучше, чем секс». Тем не менее, даже если вся пища мира находится в вашем распоряжении, жизнь без секса — генетический тупик. Обмен еды на секс — это древний обычай, как и использование пищи для обмена заключенными. Вероятнее всего, еда была первым товаром, который люди использовали в торговле, и особенно в контексте взаимовыгодных обменов. Многие интересные наблюдения за животными подтверждают, что у них тоже происходит обмен ресурсами. Например, зеленые мартышки, поддерживающие друг друга в схватке, затем в обмен за помощь тщательно ухаживают за кожей тех, кто им помог, или антилопы по очереди ухаживают за недоступными частями тела друг у друга. Наблюдения показывают, что пропитание является самым распространенным платежным средством. Следовательно, сосредоточенность на обмене едой предоставляет самую лучшую возможность поискать взаимообмен среди большого разнообразия видов.
Первыми теоретическими аргументами в пользу взаимовыгодного обмена мы обязаны Роберту Триверсу, который, используя логику правила Гамильтона, превратил Золотое правило в стратегию эгоизма. Вспомните, в I и II частях было сказано: чтобы появился взаимный альтруизм, особи должны принять три условия:
1) небольшие затраты на то, чтобы что-то дать, и большая польза от того, что приобретено;
2) временная задержка между первичным и ответным актом дарения;
3) множество возможностей для взаимодействия при условии, что дарение пропорционально приобретению.
Взаимовыгодный обмен отличается от мутуализма временной задержкой, обозначенной в условии 2. Трудность состоит в том, чтобы преодолеть эту задержку, — период, в течение которого реципиенты, возможно, никогда не вернутся, чтобы оплатить долги. Условие 3 помогает ограничить тех, кто мог бы исчезнуть: ответное действие должно начинаться только тогда, когда у первого донора есть причины рассчитывать на дальнейшее взаимодействие с реципиентами. С учетом условий 2 и 3 мы могли бы рассчитывать на то, что взаимообмен есть у высокоорганизованных видов, имеющих длительную историю, где у особей есть множество возможностей не только наблюдать за другими, но и строить с ними отношения, либо способствуя развитию взаимных обязательств, либо прекращая всякие «знакомства» и наказывая тех, кто ведет себя как изменник.
Летучие мыши-вампиры имеют относительно большой для животных такого размера мозг. Они могут жить почти двадцать лет, проводя большую часть времени в крупных устойчивых социальных группах, где есть много возможностей для взаимодействия с одними и теми же особями. Особи издают характерные звуки, что позволяет узнавать их даже в темноте дупла, где они живут. Выживание вампира зависит от потребления крови. Если в течение более чем шестидесяти часов он не получит порцию крови, он умрет. Ежедневно особь должна либо сама найти корм, либо убедить кого-то другого отдать ей немного неиспользованной крови. Эти особенности делают вампиров идеальными объектами для исследования взаимовыгодного альтруизма.
Биолог Гери Уилкинсон наблюдал у вампиров более ста случаев срыгивания (обратного кормления кровью). Поскольку кровь является ценным ресурсом, отказ от нее представляет собой некую жертву. Срыгивание носит альтруистический характер. Зачем оно делается? Почти 80% случаев приходится на отношения «мать — детеныш». Их не подвергали тщательному анализу, так как все очевидно. Срыгивание детенышам имеет смысл: у них половина генов, общих с родителями; здесь нет расчета на ответное действие, и правило Гамильтона отдает приоритет родственникам. В остальных случаях срыгивания — между отдаленно родственными особями — примерно половина приходилась на отношения «дедушка/бабушка — внуки». Это также можно объяснить родственными связями и стремлением максимально увеличить генетический эгоизм. Здесь нет необходимости в обмене.
Кажется, что срыгивание у вампиров сильно мотивировано родством, а количество случаев срыгивания у генетически неродственных вампиров чрезвычайно небольшое. Тем не менее, учитывая, что некоторые срыгивания были сделаны в отношении неродственников, эти примеры требуют какого-то объяснения. Есть две версии: либо некоторые вампиры ошибались, не узнавая своих родственников, и, таким образом, случайно отдавали кровь посторонним, либо они намеренно отдавали кровь неродственникам в расчете на то, что получат ее от них в будущем.
Чтобы лучше понять, что стимулирует срыгивание для неродственников, и выяснить, есть ли зависимость между тем, что дают, и тем, что получают в обмен, Уилкинсон провел лабораторный эксперимент над восьмью неродственными вампирами. Много дней подряд он забирал одну особь из колонии перед кормлением, одновременно обеспечивая остальных особей максимальным количеством крови в течение двух часов. Потом он возвращал изголодавшуюся особь в группу сытых вампиров. Модель, по которой они делились кровью, была понятной: особи отдавали кровь тем, кто раньше тоже делился с ними кровью. Хотя количество участников и количество взаимовыгодных срыгиваний было небольшим, эти эксперименты подтвердили зависимость: вампиры отдавали кровь тем, кто поделился ею с ними в прошлом.
Хотя эти замечательные биологические особенности и поразительное поведение не вызывают сомнений, есть, по крайней мере, две причины, которые требуют осторожного отношения к восприятию примера с вампирами как подтверждения взаимовыгодного альтруизма.
Первая причина: хотя срыгивание для неродственных особей встречается, такие случаи редки, и нет данных о том, что особи признают реципиентов именно как неродственников, а не принимают их за своих. Уилкинсон не проводил никаких опытов, которые бы показали, что вампиры узнают своих родственников, и если это так, то какова степень этого родства? Последствия случайного срыгивания могут быть полезны для неродственников, но его преимущества и механизмы, возможно, создавались для родственников, а срыгивания для неродственников возникают как случайный побочный продукт с недостаточными последствиями для адаптации, для включения действия отбора.
Вторая причина: даже если мы согласимся с этими несколькими примерами, совершенно неясно, какую роль в выживании особей играет взаимовыгодный альтруизм у неродственников — важную или незначительную? Очевидно, что для выживания особям нужна кровь. Другой вопрос, зависят ли они от взаимовыгодного обмена с неродственными особями, для того чтобы выжить?
Можно проверить второй способ — есть ли у животных взаимовыгодный альтруизм, — если понаблюдать за прирученными голубыми сойками, которых научили клевать кнопки в одной из двух классических экономических игр[360]. Хотя задание — выбор кнопок — очень неестественное для соек, однако в дикой природе сойки сообща воспитывают птенцов. Расширенная семья отвечает за совместное воспитание потомства, поэтому их собственно биологические особенности, возможно, предрасполагают птиц к совместным действиям даже в необычных ситуациях. Биологи Кевин Клементс и Дейв Стефенс воспроизвели для них игру «Дилемма узника». В ней вознаграждение за обоюдное взаимодействие было выше, чем за обоюдный отказ от участия, но ниже, чем в случае, когда одна сойка устраняется от взаимодействия, а другая в это же время участвует в нем. Триверс изначально использовал «Дилемму узника», чтобы показать, почему в совместных играх появляются нарушители. Как было показано, дилемма возникает, потому что лучшим вознаграждением для обоих является взаимодействие, но на каждом конкретном этапе самое лучшее вознаграждение для отдельной особи появляется при нарушении кооперативного поведения. Во второй игре, которая называется «Мутуализм», дилеммы нет, потому что самое лучшее вознаграждение для обоих участников, как по отдельности, так и вместе, может быть получено в результате взаимодействия; искушение нарушить правило отсутствует.
В каждой игре участвовали две сойки, у каждой был доступ к кнопке «Взаимодействие» и к другой кнопке — «Отказ от взаимодействия». Одна сойка начинала игру, выбирая одну из кнопок. Сразу после этого у второй сойки появлялась возможность сделать выбор, но она не знала о выборе своего партнера по игре, пока не появлялся приз в виде еды; экспериментатор поддерживал зависимость между этим вознаграждением и выбором сойки (на рисунке она отражена окружностями разного диаметра).
Когда сойкам предлагали игру «Дилемма узника», они быстро отказывались от участия. Кооперации птиц в ее решении не возникало. Наоборот, когда сойки переходили к игре, основанной на мутуализме, они не только объединялись, но и сохраняли кооперацию в течение многих дней. То, что сойки меняли стратегию поведения в зависимости от игры, которую им предлагали, показывает, что на их реакции оказывало влияние вознаграждение, которое они получали в каждой игре.
Чтобы определить, могут ли другие условия сделать возможным взаимодействие у соек в ситуации «Дилеммы узника», Стефенс и его коллеги провели второй эксперимент. На этот раз он был направлен на главный аспект взаимовыгодного альтруизма: искушение получить немедленное вознаграждение оказывается сильнее, чем готовность подождать большего вознаграждения. Как обсуждалось в главах 4 и 6, несколько исследований с участием животных и людей показывают, что ожидание вознаграждения обесценивает его значимость. Небольшое вознаграждение сейчас лучше, чем большое потом. Люди и животные ниже ценят вознаграждения, которые можно получить лишь в будущем.
Исследования взаимодействия людей свидетельствуют: уменьшение интервала времени для получения большого вознаграждения приводит к усилению взаимодействия, т. е. к уменьшению отказов от взаимодействия. В первом эксперименте сделанный сойками выбор приводил к немедленному получению какогонибудь вознаграждения. Во втором эксперименте Стефенс и его коллеги давали вознаграждение не сразу. Каждая пара соек должна была сыграть несколько раундов игры друг с другом, прежде чем получить вознаграждение. Это условие, следовательно, устраняло немедленное искушение, а также позволяло каждому участнику наблюдать за реакциями другого. В этих условиях сойки объединялись с тем участником, который играл по принципу «око за око». Они решали повторяющуюся «дилемму узника», пытаясь вступать во взаимодействие, а не отказываться от него.
Клементс и Стефенс в конце своей первой работы по изучению поведения соек написали следующее: «Нет эмпирических данных о кооперации неродственников в ситуации, которая является естественной или искусственно созданной, где известно, что паттерн вознаграждения соответствует «дилемме узника». Последующие эксперименты с сойками привели Стефенса и его коллег к другому выводу, который, однако, не противоречит тому, что животные не способны поддерживать взаимовыгодные отношения в естественных.условиях: «Наша работа предполагает, что время получения вознаграждения может приводить к расхождению между устойчивым взаимодействием и взаимодействием, которое приводит к обоюдному отказу от кооперации... Но экспериментальные действия, необходимые для стабилизации взаимодействия... носят особый характер». Иными словами, в природе у животных может никогда не быть необходимых условий для взаимовыгодных устойчивых отношений, даже если в экстремальных и неестественных условиях некоторые животные достаточно сообразительны, для того чтобы вступать во взаимодействие.
Третий эксперимент на взаимодействие, включавший обмен едой, проводился над капуцином — приматом из Западного полушария. Капуцины живут большими, устойчивыми социальными группами, вступают в полигамные сексуальные отношения и населяют джунгли Южной и Центральной Америки. Благодаря большим размерам мозга, исключительной ловкости и очень общительному характеру, они появились в многочисленных телешоу, а в фильме «Вспышка» их неточно изобразили как источник африканского вируса эбола[361].
Де Ваал воспользовался очевидными социальными способностями капуцинов, проведя несколько экспериментов, направленных на выяснение причины предшествовавших неудачных опытов с этими и другими видами[362].
В первом эксперименте он обучил самок капуцинов работать как самостоятельно, так и в паре с другой неродственной особью за то, чтобы получить еду. Задание было простым: дергать за рычаг, передвигая чашки с едой так, чтобы та оказалась в пределах досягаемости. Когда было два капуцина и, следовательно, два рычага, обе особи вынуждены были дергать одновременно, чтобы передвигать чашки в положение, при котором они могли до них дотянуться. Когда экспериментатор наполнял едой обе чашки, оба капуцина дергали за рычаг. Хотя их совместное движение выглядело как совместное поведение, мы можем объяснить его скорее как эгоистическое, когда каждая особь дергает за рычаг для себя. Это пример мутуализма.
Когда экспериментатор клал еду только в одну чашку, та особь, которая видела это, почти всегда дергала за рычаг, а вторая обезьяна делала это реже. Однако когда участница эксперимента с пустой чашкой также дергала за рычаг, у нее было больше шансов получить еду от участницы, которая уже наслаждалась своей порцией, чем в том случае, когда она не могла оказать ей помощь; я говорю «она», потому что взаимодействие этого типа возникало только у самок. Особи, имевшие доступ к чашке с едой, редко передавали ее тем, кто им помогал. Вместо этого они позволяли им приблизиться к чашке с едой и взять кусочки через отверстия в проволочной решетке, которая разделяла обезьян.
Является ли это взаимовыгодным альтруизмом? Помощник приносит пользу партнеру, дергая за рычаг, что само по себе требует некоторых затрат. Следовательно, по определению помощник совершает акт альтруизма. Платой является та энергия, которая затрачена на то, чтобы дергать за рычаг. Реципиент получает выгоду в виде еды. За это он разрешает помощнику взять немного еды. Оказывается, следовательно, что изначально альтруистическое действие оплачивается другим. Но есть одно важное отличие от описания взаимовыгодного альтруизма Триверса: когда особь, перед которой находится чашка с едой, присваивает вознаграждение в обмен на усилия помощника, тот извлекает выгоду почти в то же самое время. Между изначально альтруистическим актом помощи в нажатии рычага и взаимовыгодным актом щедрости, которая позволяет помощнику получить доступ к еде, практически нет перерыва. Приобретенная выгода возвращается почти сразу. Это похоже на мутуализм. Кроме того, хотя более вероятно, что еду получают помощники, а не наоборот, мы все еще не можем сделать вывод о том, что оказание помощи приводит к тому, что помощнику разрешают взять еду. У нас до сих пор нет данных о соответствующей реакции, т. е. такой, для которой помощь является причиной, почему другой отвечает взаимностью.
Для дальнейшего изучения этих проблем де Ваал и его коллеги провели другие эксперименты, где они манипулировали едой в зависимости от ее ценности, половым составом участников эксперимента и количеством возможных контактов с одним и тем же партнером. Выяснилось, что особи чаще разрешали брать еду, если это были низкокачественные продукты. Предполагается, что, если ответное действие есть, оно чаще всего поддерживается, когда затраты на обмен едой небольшие. В парах самка — самка, но не в парах самец — самец или самец — самка, более вероятно, что особь А разрешит особи В взять еду, если в предшествовавшем эксперименте особь В тоже разрешала особи А взять еду. Это связано с проблемой временного разрыва, но такие обмены объясняли менее 10% изменений в поведении. Следовательно, многие другие факторы оказывали влияние на то, позволяли или не позволяли две самки брать у себя еду.
Работа де Ваала, безусловно, показывает, что капуцины способны участвовать в совместном действии, могут допустить, чтобы у них брали еду, и делают это с учетом помощи, полученной во время выполнения задания, — дернуть за рычаг. Очевидно, что капуцины вступают в кооперацию. Однако есть несколько причин, по которым действия капуцинов только ограниченно можно рассматривать как взаимовыгодный альтруизм. Во-первых, объединение происходит нечасто и только в парах самка — самка. Во-вторых, поскольку затраты на выполнение действия (дернуть за рычаг) малы и обмен едой происходит чаще всего тогда, когда качество еды низкое (затраты на обмен низкие), не очевидно, что дерганье за рычаг является альтруистическим. Наконец, в природе нет ситуаций, когда два капуцина действуют совместно для достижения общей цели и есть возможности для совершения особью выгодного для реципиента действия, которое вызовет ответные действия реципиента, выгодные для особи. Проводя параллель с выводом, сделанным в результате исследования мышей-вампиров, можно сказать, что в социальных отношениях капуцинов взаимовыгодный альтруизм — это в лучшем случае незначительный фактор.
Последний пример связан с другими обезьянами Западного полушария — игрунками[363]. В отличие от капуцинов, живущих большими социальными группами, для которых характерны полигамные отношения, игрунки живут малыми группами, отношения в которых отличаются моногамностью; конечно, как и все остальные моногамные животные, самцы и самки игрунков обычно ищут кандидатов для спаривания за рамками «ханжеской» парной связи. В группах, состоящих из родителей и обычно из одного или двух поколений детенышей, старшие детеныши помогают воспитывать младших. Часть помощи оказывается при дележе еды. Следовательно, так же как голубые сойки, игрунки воспитывают потомство сообща. Чтобы изучить возможность взаимовыгодного альтруизма у игрунков, вместе с экономистом Китом Ченом и двумя аспирантами — Эмелин Чонг и Франциской Чен мы разработали несколько экспериментов.
В каждом эксперименте мы придумали игру между неродственными игрунками, в которой одно животное — актер — могло дергать за рычаг, чтобы дать еду неродственному реципиенту, при этом оно само не получало никакой еды; следовательно, мы рассматривали дерганье за рычаг как альтруистический поступок. Зачем неродственным игрункам давать друг другу еду?
В первом тесте мы обучили двух игрунков быть актерами, играющими диаметрально противоположные роли: альтруист всегда дергал за рычаг, чтобы дать еду партнеру, а эгоист никогда этого не делал. Представьте себе этих актеров как мать Терезу и Николо Макиавелли соответственно. Причина для такого экспериментального дизайна была простой: если игрунки дают еду другим на основе предшествовавших актов доброты, то они должны дать больше всего еды альтруисту и меньше всего или совсем ничего не дать эгоисту.
Игрунки следовали сюжету пьесы, чаще всего дергая за рычаг с альтруистской Терезой и редко — с отступником Николо. Такое поведение отражает два факта: игрунки давали еду неродственным особям и поступали так в зависимости от аналогичных действий, совершенных в прошлом. Является ли это взаимовыгодным альтруизмом? Пока нет. Может быть, они ощущали себя более щедрыми, когда ели больше? Когда играла альтруистка, она отдавала еду на каждом этапе тестирования. То, что ее партнер все время получал еду, должно было заставить его чувствовать себя хорошо, даже слишком хорошо. Когда игрунок насытился, более вероятно, что он дернет за рычаг и отдаст еду. То, что похоже на взаимовыгодное действие на основе альтруистического поступка, на самом деле может являться побочным продуктом хорошего самочувствия — чувства сытости.
Для проверки этой версии мы провели другие эксперименты, используя только необученных игрунков. В одной игре игрок А получал один кусочек еды, если дергал за рычаг, но отдавал три кусочка игроку В. В следующей попытке, если игрок В дергал за рычаг, он не получал еды, но давал два кусочка игроку А. С учетом этих вознаграждений взаимовыгодное дерганье за рычаг окупилось бы, так как каждый игрок получил бы три кусочка еды после завершения всего эксперимента. Животные, выполнявшие роль игрока А, должны были всегда дергать за рычаг из эгоистичного интереса получить еду, и они это делали. Но животные, игравшие роль игрока В, никогда не дергали за рычаг. Хотя игроки В всегда получали вознаграждение от игроков А (как в первом эксперименте с «матерью Терезой») и, таким образом, всегда испытывали чувство полного насыщения и имели хорошее самочувствие, они не дергали за рычаг для игроков А. Хорошего самочувствия было недостаточно, чтобы осуществилось взаимовыгодное действие. Обеспечение другого кормом не может быть рассмотрено в качестве случайного побочного продукта эгоистичного поведения.
Игрунки дают еду неродственным особям, но более внимательное рассмотрение того, как они это делают, позволяет увидеть признаки неустойчивой системы. По мере развития игры количество еды, отданной другим, уменьшалось. Это уменьшение характеризует большинство игр на взаимодействие, придуманных экономистами. Если я знаю, что это наша последняя возможность для взаимодействия, тогда мне лучше поступить эгоистично: я смогу получить выгоду и не буду расплачиваться за свой эгоизм. Но если я следую этой логике непосредственно перед последней возможностью взаимодействия, то я точно буду думать о возможности схитрить и в предпоследнюю, и в предпредпоследнюю попытку, и т. д. Взаимодействие расстраивается в связи с искушением обмануть напоследок. Для игрунков это становится все более понятным по мере развития игры. Далее, если один из игроков отказывается от двух последовательных возможностей дергать за рычаг, все совместные действия заканчиваются. Как и голубые сойки, игрунки могут поддерживать какой-то уровень взаимовыгодных действий при некоторых ограниченных условиях. Однако в целом это неустойчивая система.
Есть и другие исследования обоюдного альтруизма в мире животных. В том числе, например, игры типа «око за око» у рыбок гуппи, когда они следят за хищником; совместная защита территории у львов; ухаживание друг за другом у африканских антилоп (импала) и у нескольких низших приматов; коалиции у самцов бабуинов и дельфинов за доступ к самкам; взаимный обмен едой у шимпанзе[364].
Эти исследования отражают один из трех фактов: для животных не характерен реципрокный альтруизм. Очевидные примеры действий, казалось бы укладывающихся в схему взаимного альтруизма, можно объяснить по-другому (например, мутуализм), или, как в примерах с летучими мышами-вампирами, капуцинами и игрунками, они указывают на то, что взаимовыгодный альтруизм нераспространен, неустойчив либо возникает в искусственно созданных условиях[365].
Хотя многих животных можно стимулировать к совершению ответных действий, они либо слишком бестолковы, либо искушение не совершать таких действий слишком велико, либо давление отбора слишком слабое.
Изучение взаимовыгодного альтруизма у животных приводит еще к одному выводу. Для каждого из рассмотренных видов (за исключением зеленых мартышек, у которых, очевидно, есть обмен в уходе друг за другом и в оказании коалиционной поддержки) все примеры взаимовыгодного альтруизма включают получение «прибыли» лишь одного типа, в рамках одного контекста, а промежуток времени для обмена очень короткий. Так, летучие мыши-вампиры обмениваются кровью, но они не обмениваются чем-нибудь другим. Капуцины разрешают брать еду, если им помогли ее получить, но нет данных о том, что они в обмен на это подают сигналы тревоги, связанные с появлением хищника, или помогают создавать коалиции, или участвуют в обмене другого рода (например, уходе друг за другом или воспитании потомства). Правда, де Ваал описывает, как шимпанзе ухаживают друг за другом и обмениваются едой, но его анализ не указывает на связь между количеством еды, которую одно животное отдает, и тем, сколько времени тратит другое животное на уход за ним. И во всех этих примерах обмен занимает чуть более нескольких минут или в лучшем случае один-два дня.
Если взаимообмен у животных существует, то он основан на жестких правилах, которые регулируют, как взаимодействовать в привычных условиях с конкретным предметом в пределах короткого времени, отведенного на взаимодействие. По существу, в нем нет неопределенности и отвлеченности, которыми отличается взаимообмен у людей, а также нет потенциала для поддержания отношений во время относительно долгих перерывов между актами взаимообмена. Почему существует такой разрыв между нами и животными? Ответ появится, как только мы разделим взаимообмен на составные части и поищем те, которые есть только у нашего вида.
Ведение учета
Напряженные отношения между представителями довоенных старых богатых семей и возникшим после войны классом нуворишей находятся в центре романа Эдит Уортон «Время невинности», получившего Пулицеровскую премию. Это роман о Нью-Йорке конца девятнадцатого века. Ключевым для всех противоречий было разное представление о браке: каким должен быть брак, как его надо заключать и как в нем жить? У женщин и мужчин из высших слоев общества роли в браке были четко определены. Женщины занимали второстепенное положение. Мужчины зарабатывали деньги или тратили семейное наследство. Они могли делать со своим временем все, что им захочется, а женщины должны были поддерживать мужей, шикарно выглядеть, рожать детей и развлекаться. Отличительным признаком этих отношений было неравенство. В начале книги Арчер представляет себе традиционный брак, в котором он выступает в роли учителя, а его жена — в роли ученицы. Эти мечтания наполняют его медовый месяц: он едет с женой на итальянские озера, чтобы приобщить ее к поэзии. Вскоре идеалистическим представлениям Арчера о браке приходит конец: он узнает о несчастном браке своей приятельницы Эллен с графом Оленски. Арчер выступает в ее защиту, утверждая, что у женщин должно быть больше свободы в браке, больше справедливости. «Женщины должны быть свободными — такими же свободными, как мы», — заявляет он[366].
Представления о справедливости выходят далеко за рамки брака, проникая почти во все сферы жизни человека. Они являются составной частью юридических решений, спортивных и других соревнований, вопросов занятости, заработной платы, военных действий и менее глобальных, ежедневных отношений, в которых есть кооперация. В основе политической философии Джона Ролза лежит принцип, который гласит, что справедливое общество — это общество, которое строится на основе законов. Психология справедливости у нашего вида состоит из множества компонентов, включая некоторую способность вести учет, распространять влияние субъективных ценностей на разные сущности и действия, узнавать, когда возникло неравенство, отличать случайное действие от умышленного действия и отступничества, определять, когда несправедливое действие заслуживает кары. Разделяем ли мы с наиболее смышлеными животными всю эту философию или только ее часть?
Замечательный пример честной игры есть в наблюдениях биолога Марка Бекоффа. Он следил за играми молодняка семейства собачьих — собак, койотов и волков[367].
Все, кто имеет собак, знают, какие это игривые создания, особенно щенки. Собаки воспроизводят разные движения, из последовательности которых состоит игра, в том числе приглашение поиграть и сигнал, что это намерение является дружелюбным, а не агрессивным. Похожие движения есть у волков, что неудивительно, учитывая эволюционное происхождение наших домашних питомцев. Кажется, что у собачьих есть правила, которыми определяется порядок игр. Если игроки отличаются по возрасту, размеру и силе, ожидается, что тот, у кого есть какое-либо преимущество, возьмет на себя самую сложную часть игры, позволив младшим занять более выгодное положение, играть не в полную силу и бегать не слишком быстро. Задержка со вступлением в игру является социальной нормой. Особи, которые ее нарушают, оказываются вне игры, сидящими в уголке, в полном одиночестве, в то время как все играют с более благоразумными партнерами. Те койоты, которые не придерживаются правил игры, имеют гораздо больше шансов покинуть свою стаю, чем те, кто играет по правилам. Различия между теми, кто следует нормам, и теми, кто их нарушает, связаны с генетической изменчивостью, которая является необходимым условием естественного отбора. В исследовании Бекоффа особи, которые нарушают правила игры и покидают свои стаи, умирают в два раза чаще по сравнению с теми, кто придерживается правил. Лучше играть по правилам.
Наблюдения Бекоффа, а также другие исследования совместных действий позволяют предположить, что у животных, возможно, есть какое-то чувство несправедливости. В его основе лежит способность порождать надежды и затем негативно реагировать, если ожидание кем-то или чем-то нарушено. Эксперименты Тинкелпоу, упомянутые в последней главе, заставляют задуматься. Когда макака резус наблюдала, как экспериментатор прятал банан под одной из чашек, а потом тянулась к этой чашке с бананом и вместо него находила лист салата латука, она реагировала с раздражением и заметным разочарованием. Чтобы так реагировать, макаки резус должны создать у себя ожидание, помнить о нем и потом установить, соответствует ли их ожидание тому, что получилось в итоге, или оно было нарушено. Они должны знать, на каком-то уровне, когда нечто происходит не так. Это первый фактор в эволюции животного, который оно способно обнаруживать как несправедливость (нарушение равенства) .
Второй фактор касается некоторой меры стоимости вознаграждения. Если предположить, что одна мера стоимости связана с количеством доступных продуктов питания, тогда исследование анализа животными этого показателя предоставляет данные, подтверждающие, что животные могут обнаружить количественные нарушения[368].
Например, если вы показываете игрунку или макаке резус простую операцию сложения одной виноградины с другой, расположенных за ширмой, а потом покажете результат: одна, две или три виноградины, обезьяны смотрят дольше всего на неправильный результат — одна виноградина и три виноградины.
Эксперименты Тинкелпоу, а также многие другие эксперименты, проведенные после него, показывают, что, кроме количественного эквивалента ценности, животные могут также распределять в определенном порядке свои предпочтения в еде. Эксперименты с норкой показывают, что клетка, где есть емкость с водой, ценится выше, чем более просторная клетка, с большим количеством корма или игрушек. Главное — это то, что животные ценят некоторые вещи выше, чем другие, а в отдельных случаях они могут использовать свою систему количественной оценки, чтобы определить ценность результатов, как это требуется в таких играх, как «Дилемма узника».
Третий фактор связан с тем, как уже упоминалось ранее, что животные должны жить в сообществах, в которых они могут выражать свои предпочтения, по крайней мере время от времени. В сообществах, имеющих иерархии доминирования, всегда будут существовать несправедливые отношения в распределении ценных ресурсов. Это то, что составляет суть иерархии доминирования. У некоторых животных иерархии предполагают весьма несправедливые отношения, как, например, у морских слонов, когда самец осуществляет буквально все акты спаривания, а остальные занимают периферийные позиции, мечтая о том дне, когда эта функция перейдет к ним. В других сообществах наблюдается больше равноправия: животные с высоким рангом берут себе больше, чем животные с низким рангом, но у последних есть право голоса, и они вовсе не лишены доступа к еде, территории и сексуальным отношениям. На самом деле в таких сообществах лидеры зависят от подчиненных: без них они были бы менее сильными в межгрупповых схватках и более уязвимыми для хищников, учитывая принцип «одна голова — хорошо, а две — лучше». Следовательно, у подчиненных есть некоторые рычаги давления на лидеров.
На основе этих наблюдений биологи Сара Броснан и Франс де Ваал разработали несколько экспериментов, чтобы выяснить, играет ли справедливость какую-нибудь роль в обмене едой у шимпанзе и капуцинов[369]. Так же как в некоторых играх, придуманных экономистами для людей, цель игры состояла в том, чтобы установить, отклонят ли оба вида те предложения, которые покажутся им в каком-то смысле несправедливыми? Броснан и де Ваал предложили игру, включавшую элементы несправедливости, предварительно выяснив, какую еду предпочитают капуцины и шимпанзе. Все обезьяны отдавали предпочтение винограду по сравнению с другими видами пищи, в том числе по сравнению с огурцами и сельдереем.
Сначала особи учились обменивать жетоны на еду. У капуцинов это были камушки, а у шимпанзе — трубочки. Потом экспериментатор подвергал каждого испытуемого тесту в четырех разных ситуациях, при этом в трех из них участниками были две обезьяны, а в четвертой — только одно животное. В первой ситуации от каждого животного требовалось отдать жетон в обмен на огурец. Хотя, возможно, огурцы не слишком интересовали животных, курс обмена был справедливым, и каждое животное получало один ломтик огурца в обмен на один жетон. Во второй ситуации возникала несправедливость: экспериментатор в обмен на жетон давал одному животному очень ценный для него виноград, а другому — огурец. В третьей ситуации учитывались приложенные испытуемым усилия: экспериментатор давал одному животному виноград как вознаграждение, не требуя ничего взамен. Другое животное, наоборот, отдавало жетон в обмен на огурец. Так же, как во второй ситуации, несправедливость была налицо. И если шимпанзе и капуцины учитывают усилия или вложения, для того чтобы выяснить, что является справедливым, тогда несправедливость возрастает еще больше, так как одно животное получает очень ценное вознаграждение, не прилагая никаких усилий. Наконец, в четвертой ситуации экспериментатор требовал, чтобы животное отдавало жетон в обмен на огурец, в то время как очень ценный, но недоступный виноград был у них на виду.
В целом оказалось, что представители обоих видов животных редко участвовали в обмене или принимали вознаграждение в том случае, когда их партнер получал более выгодное предложение, либо отдавая жетон в обмен на виноградину, либо получая ее бесплатно. Также оба вида чаще отказывались от возможностей обмена в ситуации несправедливости, чем тогда, когда они были без партнера, но могли видеть недоступный им виноград. То животное, которое получало лучшее предложение, не делилось со своим неудачливым партнером ни в одной из ситуаций.
Учитывая предыдущие исследования де Ваала, в которых он выяснял, разрешают ли шимпанзе и капуцины брать еду своим партнерам, можно, вероятно, предположить, что те, кому повезло выиграть виноград, сгладят ситуацию, поделившись им со своим партнером. Отсутствие реакции на несправедливое распределение вознаграждения объясняется, вероятно, малым размером вознаграждения и невозможностью поделить его на части. У шимпанзе отказы наблюдались чаще, когда оба партнера были из недавно созданной, а не из давно существовавшей социальной группы; это позволяет предположить, что длительность отношений играет ключевую роль в терпимости. Если мой лучший друг обворует меня, я, возможно, рассержусь, но я бы не хотел, чтобы наши отношения разрушились, поэтому я буду терпимым к этой несправедливости, по крайней мере какое-то время. Если же меня обворует некто, с кем я едва знаком, тогда терпеть несправедливость бессмысленно, если только я не думаю, что у наших отношений есть будущее. Шимпанзе, вероятно, проявляют одинаковое чувство терпимости, хотя важно помнить о том, что отказы одного животного не оказывают влияния на его партнера. У капуцинов только самки, объединенные в пару, обнаруживали различия в реакции на каждое условие эксперимента; у шимпанзе половые различия не наблюдались.
Броснан и де Ваал делают вывод, что оба вида животных распознают в обмене наличие несправедливости. Далее ученые утверждают, что, хотя психологический фактор, лежащий в основе этого чувства справедливости у животных, может быть не идентичен тому, что в подобных ситуациях испытывают люди, он представляет собой отправную точку для изучения эволюционных предшественников чувства справедливости у человека.
Эти потрясающие эксперименты позволяют поставить много вопросов, касающихся природы обмена, степени несправедливости, с которой готовы мириться, способности подсчитывать количество обменов в течение длительного периода контактов, роли репутации и связи между ценой жетона и вознаграждением, которое получают в обмен на него. Работа Броснан и де Ваала, подобно всем замечательным экспериментам, подверглась серьезной проверке и критике. Например, когда особи отказываются от вознаграждения, они подвергают себя риску, связанному со снижением приспособленности. Однако их поступки не имеют никакого отношения к психологическому здоровью или генетической приспособленности их партнера. Таким образом, отказ от огурца просто означает, что тот, кто его не взял, не получит ничего взамен, что в корне противоречит игре «Ультиматум», описанной в главе 2. Там предложение, на которое следует отказ, является причиной того, что тот, кто дает, уходит домой с пустыми руками. А удачливая обезьяна начинает есть виноградину, возможно, наслаждаясь ею еще больше, зная, что другой отверг единственное доступное вознаграждение. Когда особь отказывается от вознаграждения и затем угрожает экспериментатору, это может быть выражением реакции на несправедливость или на нарушение ее ожиданий. Когда шимпанзе и капуцины проявляют агрессивность в отношении экспериментатора, это происходит потому, что они ждали одного, а получили нечто совсем другое. Они никогда не оценивают случившееся как проявление несправедливости.
В отличие от обмена едой у людей или у других животных, шимпанзе и капуцины, играющие в эти игры, ничего не платили за свои жетоны. Поэтому, может быть, называть такое взаимодействие «обменом» — это преувеличение. Особи отдают свои жетоны, но это действие не отличается от того, как особь выбирает нужный ключ, чтобы получить взамен еду. Если такой выбор не делается, крысы и голуби не получают еды. Если шимпанзе и капуцины не отдают камушек или трубочку, они не получают еды. В естественных условиях оба вида никогда не производят таких обменов, которые придумали Броснан и де Ваал. Ни у одного из видов нет ничего подобного той системе обмена, которая была создана в этих экспериментах. На самом деле в дикой природе шимпанзе толерантно относятся к тому, что другая особь возьмет еду, особенно во время охоты. И, как упоминалось в последнем разделе, те, кто разрешает взять больше еды, стремятся получить больше внимания к себе (ухода за собой). Что касается капуцинов, живущих на воле, есть лишь немного данных относительно того, что они делятся едой, и нет никаких данных об этом в контексте совместного взаимодействия или взаимовыгодного обмена. Согласно экспериментальным данным, только самки участвуют в этом виде обмена, но нет данных о реакции на несправедливость в парах, состоящих либо из двух самцов, либо из самца и самки. Важным является и несоответствие между поведением в экспериментальных условиях и спонтанным поведением в естественных условиях. То, что в неволе эти животные, оказывается, реагируют на нечто, подобное несправедливости, показывает, что при определенных условиях включается психологический фактор. Это важное открытие. Но оно ставит очень сложные вопросы, касающиеся того, как эта способность возникла, в каком контексте и при каких условиях отбора она развивалась?
Обман и его последствия
На спортивных площадках всего мира слышны возгласы: «Обманщик. лжец!» Те же возгласы раздаются в уединенных кабинетах ученых мужей и в безвкусно-роскошных апартаментах делового мира. Когда правила игры нарушены, это вызывает бурю
эмоций и стремление отомстить. Кажется справедливым наказывать тех, кто знает, что делает, при проявлении снисходительности к тем, кто случайно нарушает общественные законы, возможно, не зная о данных нормах.
В то же время математические модели, с помощью которых часто определяют вероятность конкретного явления, показывают, что кооперация может развиваться и сохраняться, если люди наказывают и обманщиков, и тех, кто не противодействует обману[370]. Если такого наказания нет, кооперация разрушается, так как люди нарушают обязательства. В человеческих сообществах четко разработаны эти психологические средства. А как обстоят дела у животных? Обманывают ли они, создавая паутины грубой лжи? И если их разоблачают, то наказывают ли за это? Есть два вида обмана: искажение информации и ее сокрытие. Это различие связано с более традиционным делением на действие и бездействие. Животные овладели обоими видами обмана. Например, тропические птицы издают сигналы тревоги, когда поблизости нет хищников. Таким способом они отвлекают своих соперников от главной цели — борьбы за пропитание. Петухи кукарекают, сообщая о том, что нашли еду (хотя на самом деле никакой еды нет): они завлекают кур, чтобы те приблизились, и вместо еды, на которую они рассчитывали, куры получают влюбленные взгляды. Макаки резус сдерживают призывные сигналы, которые они подают в период брачных игр или при поиске корма, если высока конкуренция, и таким образом они скрывают информацию о ценных ресурсах[371].
Когда животные обманывают, они поддаются искушению нарушить социальные нормы, чтобы получить больше, чем их конкуренты, еды, сексуальных партнеров или власти.
В некоторых из этих примеров обман является исключением, как можно предположить, опираясь на теоретические положения[372]. Так, исследования приматов дают сотни примеров предполагаемого обмана, включая случаи, когда особи издают сигналы тревоги, связанные с приближением хищников, хотя на самом деле их нет. За время «тревожной паузы» они успевают затеряться в скалах, чтобы спрятать еду или скрыть потенциальных сексуальных партнеров. Хотя общее количество полевых наблюдений очень большое, число этих наблюдений по отдельному виду внутри популяции незначительное. Это редкие случаи. У других видов обман достаточно распространен, предоставляя ученым материал для дальнейших исследований. Например, в 45% случаев петухи подают сигналы, связанные с едой, но направленные на объекты, не имеющие к ней никакого отношения. Эти сигналы должны привлечь самок, но они либо вообще не обращают на них внимания, либо не хотят тратить время на петуха, сигнализирующего о еде, которой рядом с ним нет. Теоретически, если некто часто злоупотребляет значимым сигналом, поднимая ложную тревогу или не издавая ни звука в момент опасности, тогда либо этот субъект полностью утратит доверие, либо, если злоупотребление усилится, перестанут доверять самому сигналу. В этой связи нужно различать искажение правды и ее сокрытие. Последнее тоже преступление, но таких лжецов сложнее и установить, и доказать их обман. Невозможность подать сигнал часто бывает обманчивой. Кроме того, иногда трудно определить, является ли текущая ситуация подходящей для подачи сигнала или лучше не пользоваться соответствующими сигналами, так как существует некое соглашение с другими особями. Философ Сиссела Бок изящно замечает, что, «в то время как любой обман требует секретности, секретность не обязательно предназначена для того, чтобы обманывать»[373].
Следовательно, для определения особей как лжецов необходим отбор образцов поведения, наличие достаточного количества примеров, когда особь, оказываясь в ситуации, требующей подачи сигнала, набирает в рот воды. Наоборот, искажение информации установить проще. Если особь подает сигнал тревоги, когда поблизости нет хищников, это расценивается как ложь, направленная на искажение информации. Однако, как в басне, было бы несправедливо называть несчастного мальчика лжецом из-за одного случая. Чтобы утратить доверие к кому-либо, требуется многократное нанесение оскорбления.
Есть значительное количество данных о том, что животные иногда ведут себя нечестно, обманывая, для того чтобы опередить других. Однако если обман внутри группы животных не очень распространен, то маловероятно, что возникнет и будет развиваться механизм распознавания и наказания обманщиков. С другой стороны, если случаев обмана относительно много, то естественный отбор должен быть на стороне наблюдателей-скептиков, которые, обнаружив обманщиков, наказывают их, отказываясь вступать с ними в сотрудничество. Согласно последним теоретическим моделям взаимодействия, сотрудничество с честными особями и стремление избегать общения с нечестными может обеспечить мощную защиту от нарушения обязательств. Странно, но никто не установил, характеризуют ли животные других животных как честных или нечестных, отказываясь взаимодействовать с пользующимися дурной репутацией лжецами и стремясь к отношениям с надежными и честными особями[374]. Тем не менее мы можем рассмотреть феномен обмана, разделив его на несколько ключевых элементов, и затем определить, обладают ли животные всеми этими элементами или только некоторыми из них.
Для того чтобы обманывать, животное должно быть способно либо изменять типичную связь между сигналом (или поведением) и его функцией (или значением), либо скрывать информацию, которая обычно открыта. Рассмотрим эти два аспекта обмана по порядку.
Во многих сообществах животных существует относительно устойчивая связь между сигналом и его функцией. Имеется в виду, что сигнал, который должен передавать информацию о наличии хищника или о находящемся поблизости сопернике, используется только в этих конкретных условиях. Обман требует гибкости. Он требует использовать сигнал в другом контексте, вступить в противоречие с правилом и нарушить привычное соответствие[375].
Ричард Доукинз и Джон Кребз отмечали, что животные не вступают в общение с целью передать информацию как таковую[376]. Можно говорить лишь о действиях тех, кто подает сигналы и манипулирует поведением своей группы, а ее члены скептически реагируют на передаваемые сигналы, пытаясь снять слой лжи и добраться до правды. В эволюционной игре особи, которые посылают честные сигналы о намерении, уязвимы для обманщиков. Если особь А всегда честно сигнализирует об агрессивном намерении, то особь В может ответить более отчаянным сигналом, что явится ложной информацией, другими словами, особь В воспользовалась честностью особи А: издала более громкий сигнал и заставила ее отступить. То, что нечестность может воспользоваться стратегией честности, показывает, почему, по крайней мере, некоторые аспекты общения могут стать предметом манипуляции.
С другой стороны, если обман считать частью игры, то отбор будет благоприятствовать развитию скептицизма или, как Доукинз и Кребз заметили первыми, развитию способностей к пониманию мотивов поведения другого. Но, в отличие от представлений житейской психологии об убеждениях и желаниях других, которые обсуждались ранее, способность понимать мысли другого в этом смысле требует другой способности, а именно способности устанавливать несоответствие между подразумеваемой функцией сигнала и некоторой мерой реальности. Несколько изящных экспериментов с пчелами и зелеными мартышками показывают, как биологи могут заниматься поиском скептицизма в животном мире[377].
Рабочие пчелы, возвращаясь после сбора нектара, обычно исполняют замысловатый танец. Он сигнализирует остальным пчелам-сборщикам, где находится пища и какого она качества. И главное — он приглашает остальных пчел-сборщиц лететь к месту, где находится еда, собрать ее и принести в улей. Используя стационарный улей, расположенный у озера, биолог Джим Гулд научил нескольких пчел-сборщиц летать за пыльцой на лодку, расположенную у берега. Постепенно Гулд переместил лодку на середину озера. Как только пчелы-сборщицы стали постоянно перелетать на лодку, он дал им возможность возвращаться в улей и исполнять свой танец. Потенциальные рекруты наблюдали за танцем своих товарищей по улью, но никто даже не попытался лететь в сторону лодки с пыльцой. Не двигаясь с места, они проявляли скептицизм, соотнося инструкции пчел-сборщиц со своей картой местности.
Неудачную попытку передачи опыта нельзя объяснить невозможностью полета над водой, потому что контрольный эксперимент, когда Гулд разместил лодку на воде, но недалеко от берега, привел к тому, что пчелы-сборщицы набрали обычное число добровольцев. У пчел есть «инструмент скептицизма», они используют свою способность сравнивать то, что им известно в данный момент о рельефе местности, с тем, о чем сообщает пчела-сборщица в своем танце.
Для рассмотрения скептицизма у зеленых мартышек в типичных условиях обитания этих обезьян Чейни и Сейфарт воспроизвели ситуацию из басни о мальчике, который кричал: «Волк!» Зеленые мартышки, живущие на равнинах Кении, производят акустически отчетливые голосовые сигналы, когда они обнаруживают членов соседней стаи. Специальный сигнал подается в том случае, когда они видят соседей, но те находятся не очень близко и не нарушают границ своей территории. Обезьяна подаст другой сигнал, когда соседи вторгнутся в ее пространство и между ними разгорится борьба. Если неоднократно воспроизводить любой из этих сигналов, то обезьяны, в конце концов, перестают реагировать. Логика простая: если одно животное продолжает кричать: «Агрессивный сосед находится в 45° к северу» — и никакой угрозы при этом нет, то другие уже не реагируют, потому что сигнал ложный. Но только из-за того, что зеленая мартышка Фред лжет, вовсе не следует, что и зеленая мартышка Джо тоже лжет. В результате эксперимента делается вывод: если подопытные обезьяны прекратят реагировать на призывы Фреда, это не означает, что они станут скептически воспринимать подобные сигналы, когда их начнет подавать Джо. Их интерес возобновится, потому что у Джо пока еще нет репутации лжеца, которая уже есть у Фреда. Как и пчелы, мартышки имеют некую способность к проявлению скептицизма, основанную на использовании несоответствия между значением сигнала и реальным положением дел.
Хотя и у пчел, и у зеленых мартышек есть механизм, обеспечивающий критическое отношение к ложным сигналам, из обоих примеров нельзя узнать, как это влияет на их социальную связь с лжецом. Если пчела-сборщица неоднократно возвращается в улей и сообщает ложную информацию о местонахождении корма, игнорируют ли остальные ее танец или предпочитают более действенные меры, наказывая лжеца физически или подвергая его остракизму? Игнорируют ли члены группы зеленых мартышек тех, кто подает ложные сигналы, или они пытаются активно воздействовать на их поведение, применяя остракизм или физическую силу? И в отношении обоих видов: если особь пытается обмануть в одном контексте и ее поймали, делают ли остальные вывод о том, что она лжет во всех прочих ситуациях, или ярлык лжеца связан исключительно с конкретной ситуацией, в которой особь уличена во лжи? Например, если зеленая мартышка неверно подает сигналы о соседних группах, считают ли остальные, что она будет ненадежно сообщать о хищниках или о разногласиях внутри группы? На эти вопросы пока нет ответов, но они необходимы для понимания психологии обмана у животных.
Психология и эволюция сокрытия информации различны. В отличие от актов искажения информации, акты ее сокрытия установить труднее, и поэтому они должны встречаться чаще. Если особь не подает сигнала при появлении хищника, это может быть актом сокрытия информации или свидетельствовать о невозможности его обнаружения, и только в относительно непривычных условиях особь будет точно знать, что член группы увидел хищника, но информацию об этом предпочел скрыть. Хотя акты сокрытия информации широко распространены, для них требуется другой набор средств. Для того чтобы скрыть информацию от других, особи обязаны подавить голосовой сигнал или изменить мимику. Они должны воздержаться от действия, которое является типичным. Как я писал в главе 6, большинство животных не способны в должной мере контролировать свое поведение посредством торможения. (Об этом свидетельствуют: резкое обесценивание награды при увеличении времени ожидания, трудности переобучения — выработка одного навыка вместо другого и ряд других моментов.) Кроме самоконтроля, особи, желающие скрыть информацию, должны уметь правильно распознавать контекст, в котором данная стратегия будет работать.
Наблюдения и эксперименты на птицах и приматах показывают, что бывают ситуации, когда животные не подают ожидаемых в таких случаях сигналов. Например, Питер Марлер и его коллеги установили, что петухи, нашедшие еду, молчат, если вокруг никого нет или рядом находится другой петух, но они же громко кукарекают, если видят знакомую или незнакомую курицу[378].
Следовательно, у петухов звуки, сигнализирующие о найденном корме, связаны с особенностями аудитории. А вот сигналы тревоги петухи и курицы подают независимо от пола и возраста особей в их окружении, но при условии, что это своя аудитория — только петухи и куры. Если аудитория смешанная (например, есть еще перепела), то петухи и куры не издают ни звука. Сигнализация у петухов не является рефлексом, неразрывно связанным с ситуацией. Подача сигнала определяется социальной ситуацией. Если петух не издает звуков при виде еды или в присутствии другого петуха, он скрывает информацию, чтобы получить конкурентное преимущество.
Макаки резус могут «выключать» свои голосовые связки в ситуации спаривания и поиска еды. В то же время иногда при спаривании самцы подают громкие и индивидуально окрашенные голосовые сигналы. Для тех, кто слушает их, не видя макак, звук брачного призыва несет информацию о ситуации и личности того, кто издает этот звук. Он также может вызвать конкуренцию и борьбу среди самцов. Когда конкуренция за доступ к самкам возрастает, как это происходит, если сексуально рецептивных самок мало, спаривающиеся самцы прекращают издавать звуки. Интересно, что отсутствие звуков они восполняют жестикуляцией, как в немом кино. По-видимому, это приводит к снижению накала конкуренции.
Есть и другие объяснения этих примеров подавления голосового сигнала, которые подводят нас к иному аспекту психологии. В каждом из описанных мной примеров молчание, возможно, не является признаком сокрытия информации. Скорее некоторых ситуаций недостаточно, для того чтобы спровоцировать голосовой сигнал (а намерения утаить информацию вовсе нет!). Не тот, кто его не подает, скрывая таким способом информацию, потому что знает, что так можно манипулировать убеждениями окружающих, оставляя их в неведении, а особенности ситуации влияют на работу голосовых связок. Когда петухи находят еду, будучи в одиночестве или видя другого петуха, они следуют простому правилу: не издавать никаких звуков. Когда они находят еду в присутствии курицы, они кукарекают. Принцип подачи голосового сигнала прост. Все определяется одним параметром — составом аудитории. То же самое можно сказать и о макаках резус. Имея данные о наличии у них и у шимпанзе «видения как знания», необходимо разработать эксперименты, с помощью которых можно узнать, лгут ли животные, искажая или утаивая информацию, опираясь при этом на то, что другие животные не только делают, но и на то, что им известно[379].
Искусство мести
Наказание — это один из способов контроля над обманом. Это форма внешнего контроля. Но для наказания кого-то другого нужно иметь, по крайней мере, две способности. Во-первых, способность понимания диапазона возможных или терпимых видов поведения в данной ситуации. Потому что поступки, влекущие за собой наказание, — это те действия, которые существенно отличаются от диапазона нормативных видов поведения или эмоций в популяции.
В книге «Генезис правосудия» правовед Элан Дершовиц утверждает, что Бог должен был найти адекватный подход к наказанию. Его первые наказания были либо слишком, либо недостаточно суровыми. Бог говорит Адаму, что тот умрет, если съест яблоко с древа познания; Адам сообщает Еве об угрозе со стороны Бога. Как нам известно, требования Бога — это пустая угроза. Он не выполняет ее. Божье наказание для Евы состоит в тяжких трудах и подчинении Адаму, которого Бог наказывает необходимостью трудиться в поте лица своего за хлеб насущный и тем, что его посевы гибнут и жизнь его конечна. Эти новые характеристики Бог делает наследственными, так что потомки Адама и Евы испытывают те же страдания.
А теперь рассмотрим еще одну историю грехопадения. Каин убивает своего брата Авеля и затем пытается скрыть свой грязный поступок. Две неожиданности. Каин не только лишает другого человека жизни, но и, благодаря тому что Ева сорвала яблоко с древа познания, знает, что некоторые поступки являются этически правильными, а некоторые — таковыми не являются. В то время как Ева не имела представления об этом этическом различии, Каин знал о нем и нарушил его. Бог наказывает Каина, оставляя его в полном одиночестве, лишив его своей поддержки. Первородный грех номер два представляется более тяжким, чем первородный грех номер один. Оказывается, что в схеме Божьего наказания что-то не так.
Во-вторых, это умение отличать намеренные или умышленные нарушения от неумышленных или случайных нарушений. Если я рассердился и плеснул вам в лицо водой, то мой поступок достоин порицания и наказания; если я споткнулся, когда нес стакан с водой, и плеснул ее вам в лицо, последствия те же, но мотивация, вероятно, не подлежит осуждению. Учитывая, что животные могут и обманывать, и использовать скептицизм для разоблачения лжецов, способны ли они также наказывать, и если да, то как они это делают и дает ли это какие-то результаты? Кроме того, является ли наказание чем-то, что животные используют в ограниченном количестве ситуаций, или же оно является разнообразным в социальном плане и применяется всякий раз, когда нарушается норма?
В середине 1990-х годов биологи Тим Клаттон-Брок и Джеффри Паркер использовали теорию эволюционной игры, для того чтобы рассмотреть сущность наказания у животных. Преимущество этой теории состоит в том, что она стимулирует понимание разных потенциальных стратегий, которые конкурируют в эволюционных временных рамках, при этом используется генетическая приспособленность как мера успешной и устойчивой стратегии. Еще одним преимуществом является то, что каждая стратегия включает в себя правило игры, таким образом, возвращая нас к рассмотрению принципов, которые потенциально управляют актами наказания.
Клаттон-Брок и Паркер начали с достаточно широкого определения наказания: агрессивная реакция на поступок, уменьшающая зло, которая дорого обходится тому, кто наказывает, но еще дороже — тому, кого наказывают. Это определение делает наказание похожим на злость: я совершаю нечто, что уменьшает мою приспособленность, но еще больше это уменьшает вашу приспособленность. Однако, в отличие от злости, наказание направлено на долговременную выгоду для того, кто наказывает. Цель состоит в том, чтобы уменьшить приспособленность провинившегося и предотвратить нарушения в будущем. В этом смысле наказание может быть стимулом для взаимодействия с целью установить санкции против нарушителей нормы.
Клаттон-Брок и Паркер разработали несколько гипотетических игр, в которых оба игрока могут использовать наказание или воздержаться от него, кроме того, они могут нарушать или не нарушать социальную норму. Например, в одной игре подчиненные могли увеличить свою приспособленность за счет доминантного животного, нарушая правила. Они выигрывают, если доминантные животные упускают возможность наказать за проступок. С точки зрения последних, наказание — это наилучшая стратегия, так как стоимость наказания для субординированной особи превышает понесенные доминантами издержки. В большинстве сообществ животных, имеющих социальную организацию, иерархии доминирования навязывают асимметрию, которая состоит в том, что животные с высоким рангом могут наказывать за проступки животных с низким рангом, а подчиненные не могут отплатить тем же. Следовательно, наказание — это эволюционно устойчивая стратегия в подобных ситуациях, потому что подчиненные не имеют права голоса, и доминантные животные выигрывают, удерживая животных с низким рангом от протестного поведения; они также могут использовать наказание как способ привлечения таких животных к сотрудничеству.
В тех случаях, когда есть асимметрия, доминантные животные не совсем избавлены от риска. Как отмечалось выше, подчиненные имеют рычаг давления, потому что жизнеспособность группы в борьбе за ресурсы против соседей-конкурентов зависит от состава группы, а не только от ее лидеров. Кроме того, у некоторых видов животные с низким рангом могут добиться поддержки от других членов группы, чтобы напасть на животных с высоким рангом. Альянсы, которые заключаются животными с низким рангом, могут наказывать доминантных животных, которые нарушают нормы.
В какой мере представление о том, что животные действительно используют наказание, подкрепляется эмпирическими данными? Мы уже рассмотрели несколько примеров, которые укладываются в рамки, установленные Клаттон-Броком и Паркером.
У видов, имеющих свою территорию, резиденты преследуют и часто нападают на особей, которые вторгаются на их территорию, пытаясь отделить ее часть для себя. Это наказание понятно: захватчики нарушили социальную норму, в соответствии с которой права собственности находятся у резидентов. У видов, отличающихся жесткой иерархией доминирования, лидеры будут часто нападать на подчиненных, пытающихся схватить бесхозный кусок еды или тайком вступить в сексуальные отношения. Здесь снова речь идет о том, что доминантные животные имеют преимущество в доступе к еде, территории и сексуальным партнерам. Когда подчиненные пытаются захватить то, что реально им не принадлежит, доминантные животные часто используют акт наказания, набрасываясь на них. И в случае защиты своей территории, и в случае проявления доминирования нападающие животные несут минимальные потери от преследования нарушителя, но могут понести и дополнительные потери, если нарушитель окажет сопротивление. Выигрыш больше, если нарушитель откажется от дальнейших притязаний. Чаще всего нарушители действительно не дают отпора. Когда же они сопротивляются, то тот, кто наказывает, должен еще раз оценить, чего ему это будет стоить, — и либо наказать жестче, либо совсем не наказывать.
Макаки резус, когда находят еду, иногда издают характерные сигналы, а иногда этих сигналов они не подают. Наряду с подавлением сигналов к спариванию, эти наблюдения позволяют предположить, что макаки резус могут скрывать информацию о том, что они нашли еду. Однако такой очевидный обман не проходит даром. В экспериментальных условиях такие «молчуны» подвергаются нападению чаще, чем те, кто делится информацией с остальными и соответственно получает меньше еды. То, что таким нападениям подвергаются обезьяны с высоким и низким рангом, скрывающие найденную еду, означает, что макаки резус наказывают всех, кто нарушил социальную норму или обычай.
Эти наблюдения, кроме того, актуализируют еще один аспект моделей Клаттон-Брока и Харви. В большинстве примеров наказание будет асимметричным, когда доминантные животные действуют против подчиненных. Однако в тех случаях, когда асимметрия выходит за рамки «разумного» (либо из-за существенного различия в размере животных с высоким и низким рангом, либо в силу обычая), животные с низким рангом могут подыскать себе партнеров по коалиции, для того чтобы преодолеть эту асимметрию и наказать доминантных животных, которые нарушают социальную норму. Когда макака резус с низким рангом обнаруживает доминантное животное с едой, о которой оно не сообщило остальным членам группы, громкие крики возмущенной особи собирают других макак, которые присоединяются к погоне.
Мы, конечно, не знаем, думают ли макаки о нормах, размышляют ли о том, что означает — следовать нормам или нарушать их. Мы также не знаем, насколько точно особи оценивают число или степень тяжести таких нарушений, если они вообще это делают. Кроме того, это исследование не дает ответа на самый важный вопрос: меняется ли поведение лжеца под влиянием агрессии? Для того чтобы доказать, что такая агрессия выступает как наказание, необходимо доказать, что оно действует как средство устрашения, уменьшая или исключая в будущем попытки скрыть местоположение пищи или заставляя лжеца покинуть данную социальную группу[380].
В каждом из приведенных примеров тот, кто наказывает, имеет шанс получить какую-то непосредственную выгоду. Резидент борется за свою территорию. Макака резус борется за доступ к еде, и во многих случаях преследование другой макаки, которая скрыла информацию о еде, приносит результат в виде небольшого количества еды. Но есть ситуации, когда польза менее ощутима. Это заставляет некоторых ученых предположить, что у животных есть карательные акции, осуществление которых объясняется необходимостью сохранения социальной нормы, но не получением прямой материальной выгоды. Тайники, в которых вороны прячут еду и которые потом защищают, являются их частной собственностью, и никто на них не посягает. Если какой-нибудь ворон попытается стащить еду из такого тайника, его владелец, а в некоторых случаях и посторонние вороны нападут на воришку. Нападение, в котором участвуют вороны, не являющиеся владельцами этого запаса, может принести им прямую выгоду в будущем, поскольку они преследуют вора, который способен польститься и на их тайники.
Самый удачный пример карательных акций дают наблюдения за общественными насекомыми, в особенности за пчелами, осами и муравьями. Рассмотрим пчел[381].
Большинство яиц откладывают пчелиные матки. Оставшуюся часть яиц откладывают рабочие особи, которые производят на свет только мужские особи. Те пчелы, которые участвуют в репродукции, следовательно, в колонии теснее связаны с пчелиными матками и молодыми мужскими особями. Учитывая те преимущества, которые есть у пчеломатки, контролирующей воспроизводство, личинке лучше превратиться в нее, а не в рабочую особь. Тем не менее, по мере того как количество особей, которые пытаются стать пчелиными матками, возрастает, эффективность пчелиной семьи снижается. Пчеломатки не имеют рабочих навыков. Низкая эффективность работы приводит к резкому падению продуктивности пчелиной колонии. И вот здесь появляются карательные акции. Жестко контролируя процесс развития личинки через распределение корма, рабочие особи регулируют количество особей, которые превратятся в пчеломаток: те, что должны стать ими, получают больше еды, чем те, которые будут рабочими особями. Кроме того, когда обнаруживается избыток личинок, которые надеются стать пчеломатками, или оказывается, что рабочие особи откладывают слишком много яиц, карающие акции направляются на уничтожение последних.
Общее правило, действующее у общественных насекомых, состоит в том, что чем успешнее реализуются карательные акции, тем ниже уровень правонарушений. Можно предположить, однако, что рабочие особи используют, по крайней мере, одну хитрость: у некоторых видов особи помечают свои яйца химическим способом, чтобы имитировать запах яйца пчеломатки. Это может снизить вероятность обнаружения яиц рабочих пчел при карательной акции.
Ни один из примеров наказания, которые обсуждались до сих пор, не является результатом реакции на особей, которые обманывают участников кооперативных отношений. Но, как я отмечал в начале этой дискуссии, именно в таких ситуациях наказание оказывается наиболее важным, особенно если провести параллель с наказаниями в кооперации людей. Есть ли какие-нибудь данные о наказании в случаях взаимодействия у животных? Краткий ответ — нет. Летучая мышь-вампир, которая уклоняется от возврата долга, не подвергается ни остракизму, ни легкому наказанию, ни изгнанию из своей колонии. Лев, который отстает от других во время скрытого нападения на захватчика, впоследствии не подвергается нападению со стороны вожака и не отстраняется от участия в следующем нападении. Самец шимпанзе, который не участвует в опасном патрулировании границы своей территории, предпочитая остаться и приударить за сексуально рецептивной самкой, не изгоняется из своей стаи. Отсутствие подобных наблюдений, разумеется, не исключает возможности того, что животные, вероятно, наказывают тех, кто не исполняет свой долг, не участвуя в общем деле. Может быть, биологи ищут не там или не создали подходящих условий для экспериментов? Например, животные, возможно, наказывают, используя не прямую физическую агрессию, а скрывая ресурсы или какие-нибудь возможности от тех, кто обманывает. Трудно подтвердить эти теоретические предположения, так как очень сложно объяснить, почему животное не вело себя должным образом, например, почему оно не подавало никаких сигналов.
Отсутствие физического наказания у животных можно объяснить и иначе. Например, тем, что они взаимодействуют, не используя насилие, в том числе и такую его разновидность, как психологическое давление[382].
Шимпанзе и беличьи обезьяны непрерывно просят еду у тех, кто ее имеет. При этом они используют набор разных тактических приемов — от более тонких, таких как постоянное преследование и пристальное разглядывание, до жестикуляции перед носом того, кто ест. Цель подобных действий, по-видимому, состоит в том, чтобы раздражать тех, у кого есть еда, и ждать, пока они сдадутся и поделятся ею или не обратят внимания на того, кто ее стащил. Во всяком случае у обоих видов обезьян раздражающие действия приносят им еду, а отсутствие каких-либо действий — нет. Можно предположить, что такое поведение — своеобразный способ стимулирования кооперации, не требующий особых усилий. Хотя это и важно, мы пока остаемся с неизменным выводом: в сообществах животных наказание является слабой или вообще призрачной формой возмездия для тех, кто оказался во власти соблазна обмануть.
Адаптивные нормы
Несколько лет назад мой друг прислал мне по электронной почте набор фотографий утки с утятами, идущими по тротуару. Первая фотография напомнила мне классическую детскую книжку Роберта Мак-Клоски «Пропусти утят». На других фотографиях утка с утятами постепенно подходили к решетке метро. Гордая мамаша шла прямо по решетке. Ее детки, послушно следуя за ней, падали один за другим сквозь решетку навстречу своей судьбе, ожидавшей их внизу. Следовать за матерью — это правило, жестко запрограммированное головным мозгом всех утят и многих других видов, детеныши которых являются зрелорождающимися и способными самостоятельно двигаться на раннем этапе развития. Обычно это разумный поступок или правило, у которого долгая эволюционная история[383]. Но иногда в природе происходят такие резкие изменения, что прежнее правило либо устаревает, либо, по крайней мере, необходимо подумать о его модификации, которая является частью программы развития.
Похожая ситуация наблюдается у бабуинов, живущих в дельте реки Окаванго в Ботсване. Их пример еще более удивителен, так как изменение окружающей среды не столь радикально, как решетка метро, это изменение вызвано естественными причинами, а не искусственно создано. Каждый год, когда в дельте идут дожди, одна из главных рек, которая протекает через участок, где живут бабуины (за ними наблюдали Чейни и Сейфарт), переполняется водой. Иногда бабуины оказываются на одном берегу реки, и по целому ряду причин им необходимо перебраться на другой берег. Переплывать реку опасно не только потому, что бабуины не увлекаются водными видами спорта и не проводят в воде все свое свободное время, но и потому, что в реке есть крокодилы. Когда бабуины переплывают реку, они делают это быстро и осторожно. Но об одном они иногда забывают, переплывая реку: о своих детенышах на животе. В некоторых случаях самки плывут вместе с детенышами, которые держатся за их живот. Когда мамаши выходят на берег, их детеныши мертвы: они захлебнулись во время плавания. В этих случаях детеныши бабуинов, очевидно, до заплыва не карабкаются вверх, чтобы оказаться в безопасности на спинах своих матерей, а матери не предпринимают необходимых усилий, чтобы поднять детеныша на спину и спасти его. «Транспортирование» детенышей на животе не является правилом у бабуинов. Обычно детеныши с удовольствием перемещаются верхом на спинах своих матерей, которые с неменьшим удовольствием относятся к такому способу передвижения. Эта форма поведения неадаптивна, однако она устойчиво воспроизводится у бабуинов, живущих в дельте Окаванго. Иногда в целом удачные модели поведения используются в новых условиях, а результат оказывается отрицательным. То, что в общем плане носит адаптивный характер, в частных случаях может привести к плохим адаптивным последствиям, если окружающая среда изменяется, в особенности если это происходит непредсказуемо.
Примеры с утятами и бабуинами свидетельствуют о том, что типичные модели поведения могут привести к негативным последствиям. Но, как показали две последние главы, есть много случаев, когда особи следуют правилам, в том числе определенным социальным нормам, и последствия оказываются положительными. Десятки животных учатся тому, что и как есть, наблюдая за тем, как это делают другие, в результате появляются местные кулинарные традиции. Это, во-первых, экономит время и, во-вторых, предохраняет от возможности съесть что-то опасное, что может привести к отравлению или даже к смерти. Иерархические организации создают для особей похожие преимущества: им не нужно мучительно думать, как и когда бороться за ресурсы. Усвоив иерархическую структуру и выполняя правила, по которым ведется борьба за ресурсы и за доступ к ним, особи могут сэкономить время и избежать ненужных потерь. Следовательно, в сообществах животных нормы выполняют адаптивную функцию, определяя надежные перспективы, связанные с оказанием помощи и нанесением вреда другим. Для того чтобы нормы выполняли свою адаптивную функцию, необязательно их воспринимать на сознательном уровне. На самом деле эффективность норм оптимальна, если их действие носит скрытый характер, как они, вероятно, и проявляются в большинстве случаев у животных, да и у людей тоже.
Есть несколько причин, по которым я уделяю так много внимания нормам, связанным с сотрудничеством, и в частности с взаимодействием, которое составляет сущность Золотого правила. Последнее возникает в той или иной форме во всех культурах — либо как открытое религиозное учение, либо как скрытые социальные нормы. Универсалии часто являются отражением общего биологического механизма, частью генетического наследия видов. Они также часто воспринимаются как наследие нашего прошлого, элементы психологической организации, которую мы получили от наших предков. В отличие от других форм взаимодействия, которые можно объяснить правилом Гамильтона или мутуализмом, взаимность требует другого объяснения и других психологических составляющих, включая правила, которые определяют, когда можно наносить вред другой особи. Хотя в моральном суждении заложено нечто гораздо большее, чем решение вопросов кооперации, это одна из проблем, которая является общей для нас и для животных. Терзания, вызванные желанием быть хорошими, связаны с искушением быть эгоистичными. Соблазн нарушить обязательства коренится в конкурентных стремлениях организма, направленных на оптимизацию получения еды, сексуальных отношений или власти.
Между животными устанавливаются хорошие взаимоотношения, когда их гены родственны. Животные могут рассчитывать на помощь на основе генетического родства, т. е. получать ее от близких родственников. Когда неродственники имеют возможность вступать в длительное взаимозависимое альтруистическое взаимодействие, искушение нарушить обязательства нередко оказывается сильнее систем контроля, исключая какие-либо чрезвычайно напряженные ситуации. Другие факторы, не связанные с контролем, также, вероятно, нарушают устойчивость взаимообязывающих отношений. Учитывая отсутствие наказания в ситуации взаимодействия, те, кто нарушает обязательства, вполне могут безболезненно избежать ответственности, что, в свою очередь, может провоцировать дальнейшие попытки заниматься обманом. Сочетание отсутствия контроля, власти искушения и психологических ограничений является препятствием для возникновения длительных взаимообязывающих отношений.
Мы вернулись к началу: оказывается, люди наделены уникальной способностью, которая делает возможным широкое взаимодействие у неродственных индивидуумов и позволяет поддерживать устойчивые отношения на основе взаимности. Здесь, в этом последнем разделе, я объясню причину появления лакуны в таксономии; это объяснение вернет нас к I части, где я описывал приводящее многих в замешательство наличие разных суждений о моральных дилеммах и разных объяснений этих суждений. Однако, для того чтобы обосновать свое объяснение, вначале я опять вернусь к логике лингвистической аналогии и к вопросу о том, какие данные требуются для ее реализации.
Чтобы понять, в чем состоит уникальность нашей моральной способности, мы должны определить, какие характеристики являются уникальными для людей и какие черты уникальны для сферы нравственности. Это предполагает проведение двух отдельных операций вычитания: в одной из них исключается то, что является общим для человека и для животных, и остается то, что характерно исключительно для людей, а в другой исключается то, что имеет место и в других областях знания, и остается то, что связано исключительно с областью морали. Я соединю то, что нам известно об этой проблеме, и выделю несколько аспектов, которые для нас пока неизвестны, и сделаю некоторые поверхностные предположения.
Центральной частью создания Ролза является механизм оценки, с помощью которого из какого-либо события выбираются релевантные характеристики. Они обретают форму физических действий, их причин и последствий. Младенцы наделены некоторыми элементами этой системы, рано проявляя чувствительность к иерархической структуре событий, к важности различения неодушевленных и одушевленных объектов, к роли, которую выполняют цели и намерения, и к связи между поступками и эмоциональными последствиями.
Когда мы рассматриваем животных, мы обнаруживаем поразительные параллели между тем, как они «обрабатывают» примитивные формы поступков, и их базовыми эмоциями. Интереснейшие исследования способности животных к пониманию других также дают все более и более похожую картину. Рассматривая животных, далеко отстоящих друг от друга, например птиц и собак, а также виды, которые связаны друг с другом более тесно, в частности высших и низших обезьян, мы находим подтверждение существования у них таких способностей, как объединение внимания, понимание намерений и целей, а также использование ими зрения для проникновения в суть вещей.
Эти первые шаги в создании теории и развитии представлений о психическом и те исследования, которые уже проводятся, вот-вот приведут к обнаружению у них и других способностей. Можно только догадываться, насколько далеко зайдут эти исследования. Если ориентироваться на современную тенденцию, есть большая вероятность того, что она станет катализатором для внезапного и полного изменения представлений у некоторых философов (таких, как Кристин Корсгард). Эти философы считают, что, поскольку только мы способны переключать внимание на то, во что верим, чего желаем и к чему стремимся, только мы обладаем чувством нормативного или предписывающего: «Наша способность переключать внимание на свои собственные умственные действия является также способностью дистанцироваться от них и подвергать их сомнению... Должен ли я верить? Является ли это восприятие действительно причиной, для того чтобы верить? ...Должен ли я действовать? Является ли это желание действительно причиной для совершения действия?»[384] Без рефлексии животные не могут отделить себя от своих действий и поэтому не могут рассмотреть альтернативных причин действия. Вот такая история.
Основной «элемент» нашей способности отвечать взаимностью и заниматься решением моральных дилемм, в которых долговременные достоинства конкретных поступков оказываются важнее, чем кратковременные и эгоистически приятные альтернативы, — это способность временно отказываться от немедленного вознаграждения. Само собой разумеется, что маленькие дети, а также пациенты с травмами лобных долей головного мозга легче поддаются откровенным искушениям. И все мы время от времени не выдерживаем ожидания более крупного вознаграждения. Но когда обычных взрослых людей сравнивают с нормальными взрослыми особями голубей, крыс, игрунков (когтистых обезьян), мартышек и макак, мы оказывается «боковым ответвлением», действия которого осуществляются в другом временном диапазоне. Даже самые терпеливые животные ждут только несколько секунд, прежде чем отреагировать на доступное и меньшее вознаграждение. Люди, в отличие от них, могут ждать днями и даже неделями, прежде чем поддаться меньшему и более откровенному соблазну. Одной из причин этого является наличие гораздо больших по размеру и более структурно дифференцированных лобных долей, которые играют ключевую роль в реализации контроля сдерживания.
Мы можем не только сдерживать желание получить немедленное вознаграждение, но и использовать нашу способность к самоконтролю для блокирования ранее выученных правил. Таким образом возникают возможности для создания новых социальных норм. Для большинства, если не для всех животных правила, выученные в процессе «социализации», обычно оказываются весьма строгими. Когда животные выучивают правила, отражающие постоянно повторяющиеся, значимые закономерности в окружающей среде, они стремятся соблюдать их, даже если эти правила в результате изменений среды приводят к негативным последствиям. Как только правила приобретены, они имеют тенденцию не меняться, обеспечивая автоматизм, стандартизацию действий.
Еще одно отличие состоит в том, что только у нас есть набор физических и психологических хитростей, своего рода профилактических мер, которые, может быть, помогают сдерживать искушение. Маленькие дети могут пользоваться языковыми средствами, в частности метафорами, для того чтобы превратить очень вкусный зефир в безвкусное облако. Взрослые могут выбросить свои кредитные карточки, чтобы не поддаться искушению совершать покупки, или прожить неделю в учебном лагере, чтобы не прельщаться ароматом местной пекарни. Это некоторые из последствий терпеливого поведения в ситуациях, не связанных с решением моральных проблем. Однако терпение обладает не меньшим потенциалом при решении проблем в сфере морали, позволяя нам избегать искушения обманывать и не отказываться от наших взаимообязывающих отношений.
Терпение — это только одно из необходимых защитных средств против нестабильности взаимодействия. Все совместные отношения уязвимы для лжецов. В этом отношении люди не отличаются от животных. Разница состоит отчасти в психологическом факторе, который возникает, когда лжеца поймали. Хотя животные, защищая свои ресурсы, нападают на нарушителя, нет данных о том, что они нападают на тех, кто ведет себя нечестно по отношению к общему делу. Это различие можно объяснить двояко: либо животные не могут обнаружить лжецов в момент совершения совместных действий, либо они не могут применить логику агрессии к ситуации взаимодействия — во время защиты общих ресурсов. И в том и в другом случае у них нет одного из главных механизмов, с помощью которого люди (неродственные субъекты!) вступают во взаимодействие, а также осуществляют крупномасштабные совместные действия. Этот механизм называется наказанием. Мы не знаем, когда возникла и развилась у нашего вида эта способность. Мы также не знаем, какое изменение окружающей среды привело к появлению наказания. Первобытные люди наказывали остракизмом. Но была ли эта способность у их предшественников, и если была, то почему? Что бы и когда бы ни произошло, условия для совместных действий изменились. Я вернусь к обсуждению этого вопроса через некоторое время.
Если мы совершаем операцию исключения, избавляясь от тех характеристик нашей моральной психологии, которые есть и у животных, у нас остается набор характеристик, которые присущи только человеку: определенные, интуитивно складывающиеся представления, моральные эмоции, сдерживающий контроль и наказание лжецов. Вероятно, есть и другие аспекты, а некоторые из тех, что остаются после операции исключения, возможно, у животных более развиты, чем считается в настоящее время. Если я что-то и узнал, наблюдая за животными и изучая их, а также читая об их поведении в работах моих коллег, то это следующее: представления об уникальности человека часто исчезают прежде, чем они успеют просуществовать хоть какое-то время. Представьте себе предлагаемый набор несовпадающих способностей как временный список. Но будем также иметь в виду, что какието типичные для человека характеристики все-таки останутся.
Я предупреждал в начале III части о том, что те, кто ждет ответа на вопрос, есть ли у животных мораль, останутся неудовлетворенными. У меня нет ответа, потому что вопрос плохо сформулирован: ответ зависит от того, что представляется кому-либо наиболее интересным или важным в обсуждении морали. Вместо ответа я опять воспользуюсь лингвистической аналогией и задам конкретные вопросы о нашей моральной способности, включая вопросы о ее структурных компонентах, о том, как они развиваются и, что наиболее существенно, как они эволюционировали. Некоторые ее элементы есть и у животных, а некоторые присущи только человеку. Можно ли, следовательно, сделать вывод, как это сделал Дарвин, о том, что «абсолютно любое животное, наделенное хорошо выраженными социальными инстинктами, включая родительские и сыновние привязанности, неизбежно приобретает моральное чувство, или совесть, коль скоро его интеллектуальные способности стали такими же (или почти такими же) развитыми, как у человека»? Мы, конечно, можем сделать такой вывод, но он оставляет без ответа самое важное: какие же это его интеллектуальные способности? Именно они склоняют чашу весов и побуждают нас воспользоваться другим средством оценки.
Один ответ связан с различием, которое часто используется в юридических спорах: это различие между моральным субъектом и моральным «пациентом». Хотя о нем много написано, в особенности с учетом его ключевого места в дебатах о юридической защите детей, взрослых, имеющих психические недостатки, и животных, мы можем свести все подробности к одному пункту: понимает и уважает ли некто чужие права и берет ли на себя ответственность за свои поступки? Если ответ положительный, тогда индивидуум является моральным субъектом. Если ответ отрицательный, но индивидуум может испытывать страдания, тогда она или он является моральным «пациентом»; моральные субъекты в какой-то степени несут ответственность за благоденствие моральных «пациентов».
Когда философы, биологи и психологи объединили усилия, чтобы распространить действие Билля о правах на таких человекообразных обезьян, как орангутанги, гориллы, карликовые обезьяны и шимпанзе, им пришлось доказывать, что эти животные должны иметь определенные базовые права, при этом ученые признавали, что еще кто-то должен защищать эти права. Им пришлось включить человекообразных обезьян в категорию моральных «пациентов». Это представляется вполне разумным, хотя многие утверждают, что у такой классификации сложная структура, в частности, неясно, куда следует включить животных из зоопарков, почему мы должны ограничиваться человекообразными обезьянами, почему рассматриваются только конкретные права и что нам следует делать, если любое из этих животных совершит преступление, например убьет человека?
Реальная проблема, связанная с делением на моральных субъектов и моральных «пациентов», заключается в том, что оно зависит от теста, который еще никто не ввел: как вы определяете, понимают ли и уважают ли животные чужие права и несут ли ответственность за свои поступки? Что касается уважения, то на эту часть вопроса ответить легче, так как мы можем посмотреть, следуют ли индивиды определенным принципам: толерантное отношение к чужой собственности, нанесение вреда и оказание помощи другим в конкретных ситуациях, обусловленных социальными нормами. Но остается неясным, как проводить проверку понимания. Также неизвестно, как определить, понимают ли они, что это значит — принять на себя ответственность. Одно дело, когда животные заботятся о тех, кто нуждается в такой заботе. Совершенно другое дело — ощущать бремя долга, осознавать последствия нарушения обязательств об оказании помощи. Причина, по которой я подробно останавливаюсь здесь на этом различии, заключается в том, что для многих ученых, которые пишут о нашем моральном чувстве, и в частности о нашем чувстве справедливости, совместные действия животных являются всего лишь согласованными элементами социального поведения. В них нет эксплицитно выраженного указания на причину возникновения правил взаимодействия, на причину необходимости их признания и строгого соблюдения на групповом уровне. При обсуждении такого ведущего принципа справедливости, как честность, Ролз прямо пишет об этом: «Социальное взаимодействие от социально согласованной активности отличает, например, то, что активность координируется приказами, которые отдает неограниченная центральная власть. А социальное взаимодействие скорее регулируется общественно признанными правилами и процедурами, которые принимаются как приемлемые для регулирования поведения каждого человека теми, кто участвует в этом взаимодействии»[385].
Можно сказать, что мы унаследовали ряд способностей от наших предков-приматов. Мы используем многие из них как в моральных, так и в лишенных морального аспекта ситуациях. Оказывается, однако, что те способности, которые развивались исключительно внутри нашего вида, возможно, сыграли поворотную роль в нашей способности поддерживать самое широкое взаимодействие с неродственными особями. Одно из наиболее полных объяснений этого последнего эволюционного достижения принадлежит биологам Роберту Бойду и Питеру Ричерсону. Они отталкиваются от одного из первых предположений Дарвина об эволюции морали. Вспомним, что он приводил доводы в пользу того, что одна группа приобретает больший и более устойчивый набор моральных норм, чем другая группа, обеспечивая преимущество в межгрупповой конкуренции. В этом смысле Дарвин объяснял эволюцию морали, обращаясь к групповому отбору. Бойд и Ричерсон используют этот аргумент, но дополняют его более сложными математическими моделями, экспериментальными данными и межкультурными наблюдениями.
Прежде всего следует отметить, что люди, в отличие от любых животных, демонстрируют более выраженные межгрупповые различия. Близкие группы могут иметь разные языки, брачно-семейные принципы, правила наказания, предпочтения в одежде, наконец, представления о сверхъестественном и о том, что нас ждет в будущем. У животных соседние группы редко испытывают симпатию друг к другу, но различия между ними незначительные. Даже в случаях, когда противоположные группы географически удалены друг от друга, отличия все равно остаются несущественными.
В совместном проекте, который осуществляли специалисты по приматам (они изучали шимпанзе, живущих в Восточной и Западной Африке), было установлено несколько десятков социальных обычаев. Большинство из них касалось технологий добывания пищи и орудий труда: некоторые популяции шимпанзе пользовались камнями, чтобы колоть орехи, а другие использовали палочки, чтобы вытаскивать термитов. Реже наблюдатели отмечали различия в методах ухода за поверхностью тела и в нескольких других социальных действиях. И антрополог Давид Примак, и я установили, что эти различия не оказывают большого эмоционального влияния на жизнь шимпанзе. Если бы небольшая группа шимпанзе решила не обниматься, выполняя груминг, или предпочла вытаскивать термитов лапой, а не палочкой, члены группы не отлучили бы их от своего коллектива. В этом смысле различия, которые мы наблюдали у разных групп шимпанзе, больше похожи на различия между странами, где используют правоили левостороннее движение транспорта, чем на различия между тутси и хуту из Руанды, между ирландпем-католиком и ирландцем-протестантом, между северянином и южанином во времена гражданской войны в США. В рамках своей культуры мы, конечно, хотим, чтобы все ездили по установленной стороне дороги, и штрафуем тех, кто нарушает правила движения. Но автомобильные привычки населения можно изменить, что и продемонстрировало правительство Швеции в 1970-е годы. Вряд ли такое принуждение можно рассматривать как повод к идеологическим переменам. Шведы остались шведами и после того, как они изменили правила дорожного движения, что, впрочем, никак не повлияло на снижение числа аварий на дорогах. А теперь попробуйте сказать шведам, чтобы они заменили своих лютеранских священников ортодоксальными раввинами! Вероятнее всего, в этой исторически мирной стране не только начались бы военные действия, но и переход был бы медленным, тяжелым и эмоционально болезненным.
Слабо выраженная межгрупповая вариативность животных, наряду с относительно высоким уровнем миграции, фактически исключает возможность группового отбора. В отличие от этого, значительная вариативность, которая существует между различными группами людей, создает возможность для группового отбора.
Кроме межгрупповых различий, существуют два механизма, которые также способствуют повышению однородности внутри группы, — это подражание и склонность к конформизму. Хотя шимпанзе и, возможно, некоторые другие животные могут успешно соперничать с человеком по своей способности к подражанию, у людей подражание имеет специфические черты, по крайней мере их три. Во-первых, подражание у человека характеризуется ранним рефлексивным возникновением в процессе развития, во-вторых, независимостью от конкретной сенсорной модальности и, в-третьих, тесной связью с психическим состоянием других людей, включая их намерения и цели. Подражание, наряду с нашей способностью обучать и передавать точную информацию, делает возможным очень точное копирование, воспроизведение наблюдаемого. Подражание создает условия для психологического единообразия внутри группы, внося свой вклад в формирование межгрупповых различий. Кроме этих механизмов, есть еще склонность к конформизму — стремление делать то же, что и другие члены группы, и оставлять несогласие маргиналам.
Как я отмечал во II части, десятки экспериментов в социальной психологии свидетельствуют о существовании таких свойств нашей психики, как впечатлительность и податливость воздействию, которые активируются без нашего согласия. Мы общаемся с кем-нибудь, кто часто чешет затылок, и у нас появляется желание делать то же самое. Мы видим пожилого человека, с трудом передвигающего ноги, и мы начинаем идти так же, как он. Нравится нам это или нет, но в наших головах все время звучит популярная песенка, и звучит очень настойчиво. На основе этих фрагментов опыта, порождаемых активностью нервной системы, у нас возникают пристрастия, и, как отмечают Бойд и Ричерсон, эти пристрастия склоняют нас к формированию группировок с особыми отличительными признаками. Благодаря большой заинтересованности помочь своим и нанести вред посторонним, мы получаем основу для крупномасштабной кооперации, осуществляемой неродственными субъектами. Наряду с нашими мощными системами наказания, это дает ключ к пониманию парадокса объединения людей.
Независимо от того, продолжаем ли мы и в какой степени использовать наши первобытные установки, современная жизнь отличается от той, что была в прежние времена. Нормы, которые раньше были адаптивными, возможно, больше таковыми не являются. Моральные дилеммы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, очень сильно отличаются от тех, с которыми сталкивались люди в доисторические времена. Многие из нас имели возможность помочь генетически неродственным людям — иностранцам, которые живут в тысячах миль от нас, на другом континенте. Людей призывают внести свой вклад в деятельность организаций, оказывающих помощь попавшим в беду, а странам предлагают ликвидировать СПИД или нарушения прав человека. Принципы, которые развивались для того, чтобы координировать помощь, не развиваются в этих условиях. Если в поиске разгадки обратиться к истории первобытного общества, то увидим, что принципы, лежащие в основе оказания помощи, были разработаны для разрешения дилемм, которые возникали в группе (например, кому раньше прийти на помощь: больному родственнику или раненому вождю, лежащему неподалеку?). Помощь на расстоянии с ее неопределенностью была невозможна.
Теми же самыми проблемами объясняются особенности нанесения вреда. Насилие со стороны соседей в лучшем случае вызвало бы стрельбу из луков, первобытные лучники могли поразить на расстоянии нескольких десятков футов. Когда первобытный человек убивал члена своей или соседней группы, он нес прямую ответственность за его смерть. Проблемы, подобные проблеме трамвайного вагона, в которых действие одного человека косвенно наносит вред другому человеку и — часто — множеству других людей, в первобытном обществе никогда не рассматривались.
Аналогичные проблемы возникают в контексте утилитарных интересов, связанных с полезностью или ценностью. Согласно утилитарному подходу, в качестве главного принципа рассмотрения моральных дилемм признается принцип их оценки с точки зрения последствий, где слово «последствия» превращается в гипертрофированное понятие «добро». Однако, как отметил Тетлок[386], мы «боремся, защищая священные ценности от мирского вторжения, с помощью все более и более мощных общественных тенденций». Когда людей вынуждают участвовать в таких сделках, как приобретение ребенка за деньги или продажа органов на аукционе, они чувствуют себя, мягко говоря, некомфортно и часто испытывают моральное оскорбление в ответ на само предложение считать эту проблему обоснованной.
Объяснить противоречие морали и действительности можно следующим образом: системы, которые создают интуитивные моральные суждения, часто противоречат тем системам, которые являются причиной наших поступков, потому что современный «ландшафт» только смутно напоминает наше первоначальное состояние. В этом контексте создание Ролза будет выступать с интуитивными предположениями о том, что правильно или неправильно с моральной точки зрения. Создание Канта ответит обоснованными аргументами против этих интуитивных предположений, и иногда где-то между ними окажется создание Юма, которое привнесет страх и тревогу, пытаясь с помощью всех доступных ему данных склонить нас к одному из моральных полюсов.
Эпилог
Моральный инстинкт
Я убежден, что ясное осознание первостепенной важности моральных принципов для улучшения и облагораживания жизни не нуждается в идее законодателя, особенно законодателя, который творит основываясь на вознаграждении и наказании.
Альберт Эйнштейн [387]В отличие от любых других видов, которые существуют на Земле, представители homo sapiens являются одновременно и очень разными, и очень похожими друг на друга. В различных частях мира люди говорят на труднодоступных для взаимного понимания языках, практикуют разные сексуальные ритуалы, слушают разную музыку, переживают разные события, верят в разных богов, участвуют в разных спортивных состязаниях, имеют разные социальные нормы для оказания помощи и нанесения вреда. Этот «пейзаж» выдвигает на первый план нашу изобретательность в инновациях и межкультурной вариативности, а также нашу непочтительность к конформизму. Но каждый из этих аспектов человеческого бытия дает основание полагать, что существуют универсальные свойства человеческой психологии, которые ограничивают диапазон культурного разнообразия.
Языки, на которых мы говорим, отличаются, но все они возникли и функционируют на основе универсального набора принципов. Наши художественные вкусы невероятно вариативны, но биология, которая подкрепляет нашу эстетику, порождает универсальное предпочтение симметрии в визуальных искусствах и гармонии в музыке. Идея, которой посвящена эта книга, состоит в том, что этику следует интерпретировать в той же логике. В основе обширного культурного разнообразия наблюдаемых социальных норм лежит универсальная моральная грамматика, которая позволяет каждому ребенку в процессе роста сформировать узкий диапазон возможных моральных систем. Когда мы судим о чем-то как о нравственно правильном или неправильном, мы поступаем инстинктивно, используя систему подсознательно действующего и недоступного интроспекции морального знания. Межкультурная вариативность моральных норм подобна межкультурной вариативности разговорных языков: обе системы позволяют членам одной группы обмениваться идеями и ценностями друг с другом, но не с членами другой группы. Однако до сих пор неясным остается вопрос, является ли формирование столь выраженных межгрупповых различий адаптивным или представляет собой побочный продукт изоляции и исторических непредвиденных обстоятельств, как в случае языка, так и в случае этики?
Идея, согласно которой мораль имеет биологическую основу, вступает в противоречие с тремя классическими утверждениями. Во-первых, биологические перспективы являются неотъемлемо пагубными, поскольку ведут к предопределенным результатам, таким способом устраняя свободу воли. Однако некоторые философы и психологи (например, Дэниел Деннет, Стивен Линкер и Дэниел Вегнер) оспаривают это утверждение, указывая, что ничто в эволюционной или биологической перспективе однозначно не ведет к понятию определенного, установленного или неизменного набора суждений или верований. Биологические основы действуют по-другому. Наша биология, как и биология всех видов на Земле, устанавливает диапазон возможных вариантов поведения. Наблюдаемое разнообразие вариантов представляет только ограниченный набор из выборки потенциально возможного. Такое богатство вариантов объясняется тем, что наша биология взаимодействует со средой, а окружающая среда очень вариативна. Но из того факта, что окружающая среда вариативна, не следует, что культуры изменяются параллельно, без каких-либо ограничений. Если существует универсальная моральная грамматика, принципы установлены, то потенциальный диапазон моральных систем открыт для изменений, будучи ограничен логическими возможностями мозга и до некоторой степени исторической инерцией.
Во-вторых, если биологическая основа морали действительно существует, то принципы морали должны кодироваться в ДНК. Различные последовательности аминокислот могут быть связаны с разными этическими правилами: одними — относящимися к нанесению вреда и другими — относящимися к оказанию помощи. Эта идея кажется действительно не слишком логичной, но она не имеет никакого отношения к тому, что я обосновывал. Заявить, что мы обладаем универсальной моральной грамматикой, значит признать, что в процессе эволюции у человека сформировались общие абстрактные принципы, позволяющие решать, какие действия запрещены, допустимы или обязательны. Этим принципам не хватает определенности содержания. Нет таких принципов, которые диктовали бы, какие специфические сексуальные, альтруистические или насильственные действия являются допустимыми. Ничто в геноме человека не определяет, будут ли детоубийство, кровосмешение, эвтаназия или сотрудничество допустимы, и если будут допустимы, то для каких именно индивидуумов. Наиболее простой способ увидеть, что это должно быть именно так, — признать, что каждый ребенок, в зависимости от его «культурного происхождения», приобретет свою моральную систему. Универсальная моральная грамматика — теория о принципах, которые позволяют детям строить большой, но конечный диапазон разных моральных систем.
В-третьих, даже если биология вносит свой вклад в нашу моральную психологию, только религиозная вера и юридические принципы могут предотвратить моральное разложение. Эти две формальные системы, с их четко сформулированными правилами, должны активно действовать, нивелируя эгоистичные импульсы. Дарвин придерживался близкой к этому позиции, заявляя: «Человек, который не верит и не имел когда-либо оснований уверовать в существование своего личного Бога или будущей жизни, несущей возмездие или вознаграждение, в качестве правила жизни, насколько я могу судить, может только следовать своим импульсам и инстинктам, тем из них, которые оказываются самыми сильными или представляются ему наилучшими»[388].
В относительно недавнем прошлом Адольф Гитлер, следуя логике Дарвина, но явно с низкими целями, утверждал, что только религия может формировать наш моральный облик, и, таким образом, «светские школы нельзя допускать, потому что такие школы не имеют никакого религиозного обучения, а общее моральное обучение без религиозной основы построено на воздухе; следовательно, обучение и воспитание характера должны быть построены на религии и вере... мы нуждаемся в верующих людях»[389].
Хотя приравнивание этики к религии широко распространено, оно неправильно, по крайней мере по двум причинам. Из него следует ложное предположение, что люди без религиозной веры испытывают недостаток в понимании моральных прав и заблуждений и что люди религиозные более добродетельны, чем атеисты и агностики. Как показывают исследования моральных суждений в широком диапазоне культур, атеисты и агностики равно и в полном объеме способны к различению нравственно допустимых и запрещенных действий. Еще более важно, что при предъявлении большого набора моральных дилемм и тестовых ситуаций иудеи, католики, протестанты, сикхи, мусульмане, атеисты и агностики формулируют те же самые суждения и с таким же уровнем несогласованности или непоследовательности при их объяснении. Следует признать, объем выборки в этих исследованиях был ограничен. Но в пределах этого диапазона, который включает людей, по их собственному признанию, глубоко религиозных и тех, кто считает себя атеистом, нет никакого различия. Эти наблюдения дают основания считать, что система, которая подсознательно порождает моральные суждения, не чувствительна к религиозной доктрине.
Идея, что религия необходима для того, чтобы порождать моральные суждения, терпит неудачу и на другом уровне. Большинство, если не все религии основываются на относительно простых этических правилах: не убивай, не обманывай, не кради, не нарушай обещания. Эти правила, однако, не способны объяснить образцы моральных суждений, которые были описаны в предыдущих главах. Мы не перестаем ощущать «вес» моральной дилеммы, когда простое этическое правило или прагматический принцип подводят нас. Религия может заставить людей говорить, что эвтаназия и аборт нравственно неправильны, но когда религиозные деятели сталкиваются с подобными, но менее знакомыми и эмоционально напряженными случаями, их интуиция не дает им однозначного ответа.
Недалеко от религиозной доктрины ушла идея, согласно которой наши универсальные моральные установки возникают на основе общего жизненного опыта и обучения, а не на основе на-
шего универсального биологического фундамента. Каждый ребенок развивается в относительно гомогенной среде, которая прививает ему универсальные правила, позволяющие решать, когда необходимо оказать помощь, а когда допустимо причинить вред. Дети копируют нравственно допустимые действия, но не запрещенные. Родители и педагоги корректируют неправильное, с точки зрения морали, поведение и одобряют правильное.
Эта позиция также ошибочно предполагает, что представление о моральных инстинктах отрицает роль обучения, кроме того, она не в состоянии объяснить расширение объема знаний в сфере морали. Подобно языковым системам, конкретно-специфические и культурно-вариативные моральные системы являются предметом обучения, — в том смысле, что детальное содержание социальных норм приобретается в результате приобщения к местной культуре, в то время как абстрактные принципы и параметры являются врожденными. Опыт должен инструктировать врожденную систему, сокращая диапазон возможных моральных систем вплоть до одной — специализированной. Этот тип инструктивного обучения характерен для бесчисленных биологических процессов — от иммунной системы до языковых способностей. Когда геном создает механизм для порождения фактически безграничного диапазона потенциально возможного разнообразия, роль опыта заключается в том, чтобы путем ряда выборов привести организм к конечному и определенному результату. Исходно иммунная система способна реагировать на огромное число молекул, но, благодаря влиянию опыта, приобретенного в раннем детстве, реально оказывается связанной только с немногими. Точно так же лингвистическая способность могла бы обеспечить усвоение множества живых языков, но, благодаря влиянию родного языка, ограничивается несколькими параметрами, порождая единственный язык. Я утверждаю, что мораль формируется по такому же принципу.
Привлечение опыта в качестве единственной детерминанты морального знания ребенка не может объяснить диапазон нравственно релевантных действий, демонстрируемых детьми, если не учитывать подражание и родительскую инструкцию. Дети совершают разнообразные действия, которые родителям и их ровесникам совершенно не свойственны. Так, взрослые никогда не говорят «Меня пошло на рынок», точно так же они никогда не сгребают все игрушки в одну кучу, демонстрируя чрезвычайный собственнический инстинкт, и, будучи расстроены, не бьют и не кусают своих приятелей. Набор моральных действий ребенка не является «клоном» родительского. Более того, если вы внимательно понаблюдаете за поступками детей, то увидите: не все, что детям не следует делать, соответствует тем особенностям их поведения, которые родители или сверстники этих детей пытались изменить в прошлом. Родительские установки моральных норм могут объяснить только небольшую долю знаний ребенка. Главная причина этого состоит в том, что многие из принципов, лежащих в основе наших моральных суждений, недоступны сознательному отражению. Взрослые считают, что преднамеренный вред хуже, чем предсказанный (вспомним дилемму, в которой решение столкнуть толстого мужчину на рельсы перед вагоном воспринимается как более вредоносное по сравнению с переключением тумблера), но, как правило, не осознают, что в своих суждениях они опираются на различие в оценках преднамеренного и предсказанного вреда. Родители не могут преподать то, чего они не знают.
Интуитивные моральные представления, которые направляют многие из наших суждений, часто находятся в противоречии с руководящими принципами, продиктованными законом, религией или тем и другим вместе. Ни в одной из жизненных сфер это противоречие не является более важным, чем в области этики биологических исследований, и особенно в тех случаях, когда речь идет о недавних сражениях по поводу допустимости эвтаназии и аборта. Чтобы увидеть, как развивается эта проблема и почему необходимо более глубокое понимание нашей моральной способности, если мы хотим провести границу между описательными и предписывающими принципами, позвольте мне возвратиться к эвтаназии и случаю с Терри Шейво, с которого я начал эту книгу. Эпизод с эвтаназией, осуществляемой путем прекращения жизнеобеспечения, оказался довольно обычным. 15 июня 2005 года поиск упоминаний о «Терри Шейво» на сайте Google дал 1 220 000 ссылок; в тот же день поиск упоминаний термина «эвтаназия» дал 1 480 000 ссылок. Одновременно упоминание о «мировом голоде» встречалось в 8 780 000 случаев. Эти статистические данные вполне типичны.
Когда такой случай становится предметом всеобщего обсуждения, от 60 до 70% голосующих людей полагают, что доктора должны прекратить поддержание жизни, отключив каналы жизнеобеспечения. Кроме того, те же респонденты отметили, что они примут такое же решение в подобной ситуации и в отношении себя, и в отношении своего супруга. Та часть аудитории, которая придерживалась противоположной точки зрения, в основном представляла сторонников религиозного права, утверждавших, что жизнь является драгоценной и находится в руках Бога. Кардинал Жозе Сарэйва Мартинс из Ватикана сказал, что решение отключить жизнеобеспечение Терри было «выступлением против Бога».
Причины этой шумихи остаются неясными. Возможно, они связаны с расплывчатостью общественного мнения в Соединенных Штатах, где разделение влияний между правительством и религией до сих пор остается достаточно неопределенным. Возможно, причина — в особых обстоятельствах этого конкретного случая, включая эпизоды остановки и возобновления жизнеобеспечения, вражду между членами семейства, вовлечение правительственных должностных лиц высокого уровня без их личного контакта с Терри или с членами ее семьи, и, разумеется, очевидную готовность исполнительной власти отвергнуть закон, идя навстречу личным убеждениям или религиозным верованиям. Отставив лицемерие, большинство людей примкнули к пожеланиям Терри закончить поддержание жизни, разделив точку зрения, которая, кроме того, совпадает с большинством философских, юридических и медицинских аргументов, но не согласуется с религиозной доктриной. С точки зрения здравого смысла и интуитивно многие из нас полагают, что, если человек страдает от болезни без надежды или с минимумом надежды на излечение, самый гуманный подход — завершение жизни или путем прекращения жизнеобеспечения, или другим способом, приносящим смерть как облегчение. Это случай, в котором многие вред расценивают как допустимый, а некоторые считают возможным воспринимать его как обязательный, особенно когда боль и страдания мучительны и нет никаких средств лечения. Разногласия между людьми возникают, когда обсуждается вопрос, есть ли существенное различие между двумя способами, позволяющими больному уйти из жизни: прекращение поддержки жизнеобеспечения и использование сверхдозы препарата?
Экономический анализ этой проблемы вынуждает глубже задуматься над природой наших интуитивных представлений относительно поддержания жизни, особенно в связи с упоминавшимися ранее различиями между нравственным действием и бездействием и нашими моральными обязательствами по отношению к другим людям. Рассмотрим следующие данные: федеральное правительство может потратить два миллиона долларов либо на поддержание жизни пациента, находящегося в вегетативном состоянии, либо на помощь голодающим, сохранив при этом пятьдесят тысяч человеческих жизней. Если деньги передают пациенту, эти пятьдесят тысяч умрут, если фонды направят на помощь голодающим, умрет пациент. Действительно ли разрешено, обязательно или недопустимо федеральному правительству посылать деньги в фонд помощи голодающим? Интуитивные представления по этому вопросу, вероятно, будут разными. Вообще, законотворческая политика редко предписывает моральное обязательство помогать, но постоянно ищет способы запретить действия, которые причиняют вред. В нашем примере трата денег на жизнеобеспечение неизлечимо больного пациента прямо ведет к смерти пятидесяти тысяч человек; такое неоказание помощи — фактически убийство, если только мы хотим знать о последствиях. Таким образом, с прагматической точки зрения, если обращать внимание на последствия, должно быть допустимым послать деньги фонду помощи голодающим, и моральная обязанность правительства сделать так; передачу средств на поддержание жизни неизлечимо больного пациента нужно запретить.
Может ли у людей когда-либо возникнуть моральное обязательство умереть, причинить себе вред? Хотя довольно трудно представить, чтобы естественный отбор мог когда-либо привести к формированию инстинкта самоубийства, дальнейший анализ предполагает, что эта жертва могла бы быть своеобразным вкладом в сохранение ценных ресурсов для семьи. Самопожертвование, возможно, при некоторых обстоятельствах могло быть предметом отбора. Такой отбор, в свою очередь, мог привести к появлению психологии морального обязательства.
Как только при обсуждении эвтаназии мы обращаемся к таким моральным «маневрам», признаваемым многими отвратительными, всплывают параллельные проблемы, связанные с абортом и детоубийством, в более широком плане — с понятием нанесения вреда другим. Однако разные на первый взгляд морально релевантные случаи и ситуации можно свести к одному и тому же набору принципов с небольшими, но все же существенными изменениями в установлении параметров. Это та сфера, где идея универсальной моральной грамматики может иметь свое самое существенное выражение, объясняя, как понимание описательных и, возможно, универсальных моральных принципов переносится на наш подход к принципам предписания того, что должно быть.
Прогресс любой науки предоставляет людям все более и более богатый набор объяснительных принципов, раскрывающих суть изучаемого явления, а также ставит новые вопросы, которые никогда не рассматривались в прошлом. Наука этика находится только на самых ранних стадиях своего формирования, но она стремительно развивается в настоящем и имеет богатые перспективы на будущее. Если рассматривать недавнее развитие лингвистики как пример для подражания и если изучение истории помогает понять многие тайны, хранящиеся в ее запасниках, то, формулируя новые вопросы о нашей моральной способности (что я и делал на протяжении всей книги), мы можем ожидать «ренессанса» в нашем постижении сущности морали. Более того, исследование человеческой морали больше не будет делом только гуманитарных и социальных наук, они разделят ее изучение с естествознанием.
Я начал это исследование нашей психологии морали, основываясь на аналогии, вдохновленной идеей Джона Ролза. Суть его идеи в том, что мы обеспечены моральным инстинктом, способностью человеческой психики, которая подсознательно направляет наши суждения относительно добра и зла. Она устанавливает диапазон подлежащих обучению моральных систем, которые имеют как общие, так и специфические параметры. Подобно Ролзу, я придерживаюсь позиции плюрализма, которая признает различные моральные системы и считает приверженность единственной системе деспотической. Понятие универсальной моральной грамматики с параметрическими вариациями обеспечивает один из способов воплотить идею плюрализма. Это положение требует, чтобы мы выяснили, как опыт в ходе развития устанавливает специфические параметры моральной системы. Требуется также понять, почему, будучи единожды сформирована, каждая моральная система создает ее носителю большие трудности в понимании чужих моральных систем, так же как и при освоении чужого языка. Признание того факта, что мы имеем общую универсальную моральную грамматику и с рождения способны к усвоению любой из существующих в мире моральных систем, должно вызывать у нас чувство удовлетворения — чувство, с помощью которого мы, может быть, лучше сможем понять друг друга.
Литература
Abell F., Happe E & Frith U. (2000). Do triangles play tricks? Attribution of mental states to animated shapes in normal and abnormal development // Cognitive Development, 75, 1—16.
Abu-Odeh L. (1997). Comparatively speaking: the “honor” of the “east” and the “passion” of the “west” // Utah Law Review, 281, 287—307.
Adolphs R. (2003). Cognitive neuroscience of human social behavior // Nature Neuroscience Reviews, 4, 165—178.
Adolphs R., Tranel D. & DamasioA. (1998). The human amygdala in social judgment // Nature, 393, 470—474.
Ainslie G. (2000). Break-Down of Will. New York: Cambridge University Press.
Alexander R. D. (1987). The Biology of Moral Systems. New York: Aldine de Gruyter.
Allport G. W (1954). The Nature of Prejudice. Cambridge: Addison-Wesley.
Almor A. & Sloman S. (1996). Is deontic reasoning special // Psychological Review, 103, 374—380.
Altmann J. (1980). Baboon Mothers and Infants. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Anderson J. R., Myowa-Yamakoshi M. & Matsuzawa T (2004). Contagious yawning in chimpanzees // Proceedings of the Royal Society, London, Biology Letters, 4, SI—S3.
Anderson S. R. & Lightfoot D. (2000). The human language faculty as an organ // Annual Review of Physiology, 62, 697—722.
Anderson S. W., Bechara A., Damasio FI., Tranel D. & Damasio A. R. (1999). Impairment of social and moral behavior related to early damage in human prefrontal cortex // Nature Neuroscience, 2, 1032—1037.
Aureli F. bade Waal F. В. M. (2000). Natural Conflict Resolution. Berkeley: University of California Press.
Austen J. (1814). Mansfield Park. New York: Oxford University Press.
Axelrod R. (1984). The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books.
Ayduk O., Downey G., Testa A., Yen Y & Shoda Y. (1999). Does rejection elicit hostility in high rejection sensitive women? // Social Cognition, 17, 245—271.
Ayduk O., Mendoza-Denton R., Mischel W., Downey G., Peake P. K. & Rodriguez M. L. (2000). Regulating the interpersonal self: strategic self-regulation for coping with rejection sensitivity // Journal of Personality and Social Psychology, 79, 776—792.
Baird J. A. ScAstington J. W. (2004). The role of mental state understanding in the development of moral cognition and moral action // New Directions for Child and Adolescent Development, 103, 37—49.
Baird R. M. & Rosenbaum S. E. (2001). The Ethics of Abortion: Pro-Life vs ProChoice. New York: Prometheus Books.
Baker M. C. (2001). The Atoms of Language. New York: Basic Books.
Baldwin D. A. & Baird J. A. (2001). Discerning intentions in dynamic human action // Trends in Cognitive Science, 5, 171—178.
Bariaji M. R. (2001). Implicit attitudes can be measured // H. L. Roediger & J. S. Nairne & I. Neath & A. Surprenant (Eds.), The Nature of Remembering: Essays in Honor of Robert G. Crowder. Washington: American Psychological Association.
Baron J. (1994). Nonconsequentialist decisions // Behavioral and Brain Sciences, 17(1), 1—10.
Baron J. (1998). Judgment Misguided: Intuition and Error in Public Decision Making. Oxford: Oxford University Press.
Baron J., Granato L., Spranca M. & Teubal E. (1993). Decision making biases in children and early adolescents: exploratory studies // Merrill-Palmer Quarterly, 39, 23—47.
Baron-Cohen S. (1995). Mindblindness. Cambridge, MA: MIT Press.
Baron-Cohen S., Leslie А. M. & Frith U. (1985). Does the autistic child have a “theory of mind”? // Cognition, 21, 37—46.
Barrett L. & Henzi S. P. (2001). The utility of grooming in baboon troops // R. Noe & J. A. R. A. M. van Hoof & P Hammerstein (Eds.), Economics in Nature (p. 119—145). Cambridge: Cambridge University Press.
Barry D. (1995). Complete Guide to Guys. New York: Ballantine Book, Random House.
Bassili J. N. (1976). Temporal and spatial contingencies in the perception of social events // Journal of Personality and Social Psychology, 33, 680—685.
Bateson M. & Kaselnik A. (1997). Starlings’ preferences for predictable and unpredictable delays to food // Animal Behaviour, 53, 1129—1142.
Baumeister R. E (1999). Evil. Inside human violence and cruelty. New York: W H. Freeman.
Baumeister R. F, Stillwel A. & Heatherton T E (1994). Guilt: An interpersonal approach // Psychological Bulletin, 115, 243—267.
BecharaA., Damasio A., Damasio H. be Anderson S. W. (1994). Insensitivity to future consequences following damage to human prefrontal cortex // Cognition, 50, 7—15.
Bechara A., Damasio H., Tranel D. & Damasio A. (1997). Deciding advantageously before knowing the advantageous strategy // Science, 275, 1293—1295.
Beck A. T (1999). Prisoners of Hate: The cognitive basis of anger, hostility and violence. New York: HarperCollins.
BekoffM. (2001a). The Dolphin’s Smile. New York: Discover.
BekoffM. (2001b). Social play behaviour: cooperation, fairness, trust, and the evolution of morality //Journal of Consciousness Studies, 8, 81—90.
BekoffM. (2004). Wild justice, cooperation, and fair play: minding manners, being nice, and feeling good // R. Sussman & A. Chapman (Eds.), The Origins and Nature of Sociality (p. 53—79). Chicago: Aldine Press.
Belyaev D. K. (1979). Destabilizing selection as a factor in domestication // Journal of Heredity, 70, 301—308.
Bentham J. (1789/1948). Principles of Morals and Legislation. New York: Haffner.
Bercovitch F. B. (1988). Coalitions, cooperation and reproductive tactics among adult male baboons // Animal Behaviour, 36, 1198—1209.
Bergman T. J., Beehner J. C, Cheney D. & Seyfarth R. (2003). Hierarchical classification by rank and kinship in baboons // Science, 302, 1234—1236.
Berkowitz L. & Daniels L. R. (1964). Affecting the salience of the social responsibility norm: effects of past help on the response to dependency relationships // Journal of Abnormal and Social Psychology, 68, 275—281.
Berthoz S.,Armony J. L., Blair R. J. R. & Dolan R. J. (2002). An f MRI study of intentional and unintentional (embarrassing) violations of social norms // Brain, 125, 1696—1708.
Binmore K. G. (1998). Game theory and the social contract. II. Just Playing. Cambridge, MA: MIT Press.
Blair R. J. R. (1995). A cognitive developmental approach to morality: investigating the psychopath // Cognition, 57, 1—29.
Blair R. J. R. (1997). Moral reasoning and the child with psychopathic tendencies // Personality and Individual Differences, 22, 731—739.
Blair R. J. R. & Cipolotti L. (2000). Impaired social response reversal. A case of ‘acquired sociopathy’ // Brain, 123, 1122—1141.
Blair R. J. R., Morris J. S., Frith C. D., Perrett D. I. & Dolan R. J. (1999). Dissociable neural responses to facial expressions of sadness and anger // Brain, 122, 883— 893.
Blair R. J. R., Sellars C, Strickland /., Clark E, Williams A. О., Smith M. & Jones L. (1995). Emotion attributions in the psychopath // Personality and Individual Differences, 19, 431—437.
Boehm C. (1999). Hierarchy in the Forest: The evolution of egalitarian behavior. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Bok S. (1978). Lying: Moral Choice in Public and Private Life. London: Quarter Books.
Bolig R., Price C. S., O'Neill P L. & Suomi S. J. (1992). Subjective assessment of reactivity level and personality traits of rhesus monkeys // International Journal of Primatology, 13, 287—306.
Bouchard T J., Lykken D. T, McGue M., Segal N. L & Tellegen A. (1990). Sources of human psychological differences: the Minnesota Study of Twins Reared Apart // Science, 250, 223—228.
Bowles S. & Gintis H. (1998). Is equality passe? Homo reciprocans and the future of egalitarian politics // Boston Review, Fall, 1—27.
Bowles S. & Gintis H. (1999). Is equality passe? Homo reciprocans and the future of egalitarian politics // Boston Review, 23, 4—35.
Bowles S. & Gintis H. (2003). The evolution of cooperation in heterogeneous populations. Unpublished manuscript, Santa Fe.
Boyd R., Gintis H., Bowles S. & Richerson P J. (2003). The evolution of altruistic punishment // Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 100, 3531—3535.
Boyd R. & Richerson P J. (1992). Punishment allows the evolution of cooperation (or anything else) in sizeable groups // Ethobgy and Sociobiology, 113, 171— 195.
Boyd R. & Richerson P J. (2005). The Origin and Evolution of Cultures. New York: Oxford University Press.
Brewer M. B. (1999). The psychology of prejudice: ingroup love or outgroup hate? // Journal of Social Issues, 55, 429—444.
Brosnan S. F. bade Waal F. В. M. (2003). Monkeys reject unequal pay // Nature, 425, 297—299.
Brosnan S. F., Schiff H. C. & de Waal F. В. M. (2005). Tolerance for inequity may increase with social closeness in chimpanzees // Proceedings of the Royal Society, London, B, 1560, 253—258.
Brothers L. (1997). Friday’s Footprints. New York: Oxford University Press.
Brothers L. & Ring B. (1992). A neuroethological framework for the representation of minds //Journal of Cognitive Neuroscience, 4, 107—118.
Brown D. E. (1991). Human Universals. New York: McGraw Hill.
Bshary R. (2001). The cleaner fish market // R. Noe & J. A. R. A. M. van Hoof & P Hammerstein (Eds.), Economics in Nature (p. 146—172). Cambridge: Cambridge University Press.
Butterworth B. (1999). What Counts: How every brain is hardwired for math. New York: Free Press.
Byrne R. & Whiten A. (1990). Tactical deception in primates: The 1990 database // Primate Report, 27, 1—101.
Byrne R. W. & Corp N. (2004). Neocortex size predicts deception rate in primates // Proceedings of the Royal Society, London, B, 277, 1693—1699.
Caldwell R. L. (1986). The deceptive use of reputation by stomatopods // R. W Mitchell & N. S. Thompson (Eds.), Deception: perspectives on human and nonhuman deceit (p. 129—146). New York: SUNY Press.
Call J. (2001). Chimpanzee social cognition // Trends in Cognitive Science, 5, 388— 393.
Call J., Hare B., Carpenter M. & Tomasello M. (2004a). Do chimpanzees discriminate between an individual who is unwilling to share and one who is unable to share? // Developmental Science, 4, 488—498.
CallJ., Hare B., Carpenter M. & Tomasello M. (2004b). ‘Unwilling’ versus ‘unable’: chimpanzees’ understanding of human intentional action // Developmental Science, 7, 488—498.
Call J. & Tomasello M. (1999). A nonverbal theory of mind test. The performance of children and apes // Child Development, 70, 381—395.
Caramazza A. (1998). The interpretation of semantic category-specific deficits: what do they reveal about the organization of conceptual knowledge in the brain? // Neurocase, 4, 265—272.
Caramazza A. & Shelton J. (1998). Domain-specific knowledge systems in the brain: the animate-inanimate distinction //Journal of Cognitive Neuroscience, /0,1—34.
Carey S. (1985). Conceptual Change in Childhood. Cambridge, MA: MIT Press.
Carey S. (in press). The Origins of Concepts. Cambridge, MA: MIT press.
Carlson S. M. & Moses L. J. (2001). Individual differences in inhibitory control and children’s theory of mind // Child Development, 72, 1032—1053.
Carlson S. M., Moses L. J. & Hix H. R. (1998). The role of inhibitory processes in young children’s difficulties with deception and false belief // Child Development, 69(3), 672—691.
Casati R. & Varzi A. C (1996). Events. Brookfield: Dartmouth Publishing Company.
Chalmeau R., Visalberghi E. & Galloway A. (1997). Capuchin monkeys, Cebus apella, fail to understand a cooperative task // Animal Behaviour, 54, 1215—1225.
Chandler M., Fritz A. S. & Hala S. (1989). Small scale deceit: deception as a marker of two-, three-, and four-year olds’ early theories of mind // Child Development, 60, 1263.
Chandlery M. J., Sokol В. W. & Wainryb C. (2000). Beliefs about truth and beliefs about rightness // Child Development, 71 [Г]у 91—97.
Cheney D., Seyfartb R. & Silk J. (1995). Reconciliatory grunts by dominant female baboons influence victims’ behaviour // Animal Behaviour, 54, 409—418.
Cheney D. L. & Seyfartb R. M. (1990a). Attending to behaviour versus attending to knowledge: Examining monkeys’ attribution of mental states // Animal Behaviour, 40, 742—753.
Cheney D. L. & Seyfartb R. M. (1990b). How Monkeys See the World: Inside the mind of Another Species. Chicago: University of Chicago Press.
Cheney D. L., Seyfartb R. M & Silk J. (1995). The responses of female baboons (Papio cynocephalus ursinus) to anomalous social interactions: Evidence for causal reasoning? //Journal of Comparative Psychology, 109, 134—141.
Cheng P. W. & Holyoak K. W. (1985). Pragmatic reasoning schemas // Cognitive Psychology, 17, 391—416.
Cheng P W. & Holyoak K. W. (1989). On the natural selection of reasoning theories 11 Cognition, 33, 285—313.
Chomsky N. (1957). Syntactic Structures. The Hague: Mouton.
Chomsky N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, MA: MIT Press.
Chomsky N. (1979). Language and Responsibility. New York: Pantheon.
Chomsky N. (1986). Knowledge of language: Its nature, origin, and use. New York: Praeger.
Chomsky N. (1988). Language and Problems of Knowledge. Cambridge, MA: MIT Press.
Chomsky N. (1995). The Minimalist Program. Cambridge, MA: MIT Press.
Chomsky N. (2000). On Nature and Language. New York: Cambridge Univesity Press.
Clements К. C. & Stephens D. W. (1995). Testing models of non-kin cooperation: mutualism and the Prisoner’s Dilemma // Animal Behaviour, 50, 527—535.
Clements WA & Pemer J. (1994). Implicit understanding of belief // Cognitive Development, 9, 377—395.
Clutton-Brock T. H. (1991). The Evolution of Parental Care. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Clutton-Brock T. H. & Parker G. A. (1995). Punishment in animal societies // Nature, 373, 209—216.
Connor R. C. (1996). Partner preferences in by-product mutualism and the case of predator inspection in fish // Animal Behaviour, 51, 451—454.
Connor R. C, Heithaus M. R. & Barre L. M. (1999). Superalliance in bottlenose dolphins 11 Nature, 37/, 571—572.
Connor R. C, Heithaus M. R. & Barre L. M. (2000). Complex social structure, alliance stability and mating access in a bottlenose dolphin ‘super-alliance’ // Proceedings of the Royal Society, London, B, 268, 263—267.
Connor R. C., Smolker R. A. & Richards A. F. (1992a). Dolphin alliances and coalitions // A. H. Harcourt & F. В. M. d. Waal (Eds.), Coalitions and Alliances in Humans and Other Animals (p. 415—443). Oxford: Oxford University Press.
Connor R. G, Smolker R. A. & Richards A. F. (1992b). Two levels of alliance formation among male bottlenose dolphins // Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 89, 987—990.
Coppieters В. & Fotion N. (2002). Moral Constraints on War. Principles and Causes. Lan-ham: Lexington Books.
Cosmides L. & Tooby J. (1992). Cognitive adaptations for social exchange // J. Barkow & L. Cosmides & J. Tooby (Eds.), The Adapted Mind (p. 163—228). New York: Oxford University Press.
Cosmides L. & Tooby J. (2000). The cognitive neuroscience of social reasoning // M. Gazzaniga (Ed.), The New Cognitive Neurosciences (p. 1259—1270). Cambridge, MA: MIT Press.
Csibra G. & Gergely G. (1998). The teleological origins of mentalistic action explanation: A developmental hypothesis // Developmental Science, 1, 255—259.
Csibra G., Gergely G., Biro S., Koos D. & Brockbank M. (1999). Goal attribution without agency cues: The perception of “pure reason” in infancy // Cognition, 72, 237—267.
Cummins D. (1996a). Evidence for the innateness of deontic reasoning // Mind and Language, 11, 160—190.
Cummins D. (1996b). Evidence of deontic reasoning in 3-and 4-year-old children // Memory and Cognition, 24, 823—829.
Cunningham W. A., Nezlek J. B. & Banaji M. R. (2005). Implicit and explicit ethnocentrism: revisiting the ideologies of prejudice // Personality and Social Psychology Bulletin, 31, 105—132.
Daalder I. H. & Lindsay J. M. (2004). America Unbound: The Bush Revolution in Foreign Policy. Washington: Brookings Institution Press.
Daly M. & Wilson M. (1988). Homicide. Hawthorn, NY: Aldine de Gruyter.
Daly M. & Wilson M. (1998). The Truth About Cinderella. New Haven, CT: Yale University Press.
Damasio A. (1994). Descartes’ Error. Boston: Norton.
Damasio A. (2000). The Feeling of What Happens. New York: Basic Books.
Darwall S. (1998). Philosophical Ethics. Boulder: Westview Press.
Darwin C. (1871). The Descent of Man and Selection in Relation to Sex. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Darwin C. (1872). The Expression of the Emotions in Man and Animals. London: John Murray.
Darwin C. (1958). The morality of evolution. Autobiography. London: Norton.
Davidson R. J., Scherer K. R. & Goldsmith H. H. (2003). Handbook of Affective Sciences. New York: Oxford University Press.
Dawkins M. S. (1983). Battery hens name their price: consumer demand theory and the measurement of ethological ‘needs’ // Animal Behaviour, 31, 1195—1205.
Dawkins M. S. (1990). From an animal’s point of view: motivation, fitness and animal welfare // Behavioral and Brain Sciences, 13, 1—61.
Dawkins R. & Krebs J. R. (1978). Animal signals: information or manipulation // J. R. Krebs & N. B. Davies (Eds.), Behavioural Ecology (p. 282—309). Oxford: Black-well Scientific Publications.
de Quervain D. J.-F., Fischbacher U., Treyer V, Schellharmmer M., Schnyder U., Buck A. & Fehr E. (2004). The neural basis of altruistic punishment // Science, 305, 1254—1258.
de Waal F. В. M. (1982). Chimpanzee Politics. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
de Waal F. В. M. (1989а). Food sharing and reciprocal obligations among chimpanzees //Journal of Human Evolution, 18, 433—459.
de Waal F. В. M. (1989b). Peacemaking among primates. Cambridge: Cambridge University Press.
de Waal F. В. M. (1996). Good Natured. Cambridge, MA: Harvard University Press.
de Waal F. В. M. (2000a). Attitudinal reciprocity in food sharing among brown capuchin monkeys // Animal Behaviour, 60, 253—261.
de Waal F. В. M. (2000b). Primates: a natural heritage of conflict resolution // Science, 289, 586—590.
de Waal F. В. M. & Berger M. L. (2000). Payment for labour in monkeys // Nature, 404, 563.
Deary /. /. (2001). Intelligence: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.
DeBruine L. M. (2002). Facial resemblance enhances trust // Proceedings of the Royal Society, London, B, 269, 1307—1312.
Dehaene S. (1997). The Number Sense. Oxford: Oxford University Press.
Dennett D. C. (2003). Freedom Evolves. New York: Viking.
DePaulo В. M., Jordan A., Irvine A. & Laser P. S. (1982). Age changes in the detection of deception // Child Development, 53, 701—709.
Dewey J. (1922/1988). Human nature and conduct // J. Dewey (Ed.), Collected Works: The Middle Works, Volume 14. Carbondale, IL: Southern Illinois University Press.
Dienes 2. & Pemer J. (1999). A theory of implicit and explicit knowledge // Behavioral and Brain Research, 22, 735—755.
Dolinko D. (1992). Three mistakes of retributivism // UCLA Law Review, 39, 1623—1657.
Dovidio /. F., Glick P & Rudman L. (2005). On the Nature of Prejudice: 50 Years after Allport. New York: Blackwell Publishing.
Downey G. & Feldman S. (1996). Implications of rejection sensitivity for intimate relationships // Journal of Personality and Social Psychology, 70, 1327—1343.
Downey G., Feldman S. biAyduk O. (2000). Rejection sensitivity and male violence in romantic relationships // Personal Relationships, 7, 45—61.
Driscoll D. M., Anderson S. W. & Damasion H. (2004). Executive function test performances following prefrontal cortex damage in childhood. San Diego: Society for Neurosciences Abstract.
Ducoing A. M. & Thierry B. (2003). Withholding information in semifree-ranging tonkean macaques //Journal of Comparative Psychology, 117, 67—75.
Dugatkin L. A. (1997). Cooperation Among Animals: An Evolutionary Perspective. New York: Oxford University Press.
Duncan D. (1993). Miles from Nowhere: Tales from America’s Contemporary Frontier. New York: Viking/Penguin Press.
Durkin D. (1961). The specificity of children’s moral judgments // Journal of Genetic Psychology, 98, 3—13.
Dworkin R. (1993). Life’s Dominion: An argument about abortion, euthanasia, and individual freedom. New York: Alfred A. Knopf.
Ebbesen M. (2002). The Golden Rule and Bioethics. Unpublished Master’s, University of Aarhus, Aarhus, The Netherlands.
Eisenberg N., Losoya S. & Spinrad T (2003). Affect and prosocial responding // R. J. Davidson & K. R. Scherer & H. H. Goldsmith (Eds.), Handbook of Affective Sciences (p. 787—803). New York: Oxford University Press.
Ekman P. (1985). Telling lies: Clues to deceit in the marketplace, marriage, and politics. New York: WW Norton.
Ekman P. (1992). An argument for basic emotions // Cognition and Emotion, 6, 169—200.
Ekman P., Friesen W. V & O'Sullivan M. (1988). Smiles while lying //Journal of Personality and Social Psychology, 54, 414—420.
Ekman R & O'Sullivan M. (1991). Who can catch a liar? // American Psychologist, 46, 913—920.
Ekman R, O'Sullivan M., Friesen W. V & Scherer K. R. (1991). Face, voice, and body in deceit //Journal of Nonverbal Behavior, 15, 125—135.
Ellis H. D. & Lewis M. B. (2001). Capgras delusion: a window on face recognition // Trends in Cognitive Science, 5, 149—156.
Elster J. (1979). Ulysses and the Sirens. Cambridge: Cambridge University Press.
Elster J. (2000). Ulysses Unbound. New York: Cambridge University Press.
Emery J. (2003). Reputation is everything. Available: / public/2003/may/clpub.asp.
Emery N. J. & Clayton N. S. (2001). Effects of experience and social context on prospective caching strategies by scrub jays // Nature, 414, 443—446.
Engel H. (2002). Crimes of Passion: An Unblinking Look at Murderous Love. Westport, CT: Firefly Books.
Epstein J. (2003). Envy. Oxford: Oxford University Press.
Fairbanks L. A. (1996). Individual differences in maternal style of Old World monkeys // Advances in the Study of Behaviour, 25, 579—611.
Fairbanks L. A., Melega W. R, Jorgensen M. J., Kaplan J. R. & McGuire M. T. (2001). Social impulsivity inversely associated with CSF 5-HIAA and Fluoxetine exposure in vervet monkeys // Neuropsychopharmacology, 24, 370—378.
Fehr E. (2002). The economics of impatience // Nature, 415, 269—272.
Fehr E. & Fischbacher U. (2003). The nature of human altruism—Proximate and evolutionary origins // Nature, 425, 785—791.
Fehr E. & Gachter S. (2002). Altruistic punishment in humans // Nature, 415, 137— 140.
Fehr E. & Henrich J. (2003). Is strong reciprocity a maladaptation? On the evolutionary foundations of human altruism // P. Hammerstein (Ed.), The Genetic and Cultural Evolution of Cooperation (p. 55—82). Cambridge, MA: MIT Press.
Ferguson M. J. & Bargh J. A. (2004). How social perception can automatically influence behavior // Trends in Cognitive Science, 8, 33—38.
Fessler D. M. T. (1999). Toward an understanding of the universality of second order emotions // A. Hinton (Ed.), Beyond Nature or Nurture: Biocultural approaches to the emotions (p. 75—116). New York: Cambridge University Press.
Fessler D. M. T, Arguello A. P., Mekdara J. M & Macias R. Disgust sensitivity and meat consumption: A test of an emotivist account of moral vegetarianism // Appetite, 4/(1), 31—41.
Fessler D. M. T & Haley K. J. (2003). The strategy of affect: emotions in human cooperation // P Hammerstein (Ed.), Genetic and Cultural Evolution of Cooperation (p. 7—36). Cambridge, MA: MIT Press.
Fiddick L. (2004). Domains of deontic reasoning: resolving the discrepancy between the cognitive and moral reasoning literatures // The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 57A, 447—474.
Fiddick L., Cosmides L. & Tooby J. (2000). No interpretation without representation: the role of domain-specific representations in the Wason selection task // Cognition, 77, 1—79.
Fischer J. M. & Ravizza M. (1992). Ethics: Problems and Principles. New York: Holt, Rinehart & Winston.
Fiser J. biAslin R. N. (2001). Unsupervised statistical learning of higher-order spatial structures from visual scenes // Psychological Science, 12, 499—504.
Fiske A. R (2002). Socio-moral emotions motivate action to sustain relationships // Self and Identity, 7, 169—175.
Fiske A. P. (2004). Four modes of constituting relationships // N. Haslam (Ed.), Relational Models Theory: A contemporary overview. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Fiske A. P. & Tetlock P. E. (2000). Taboo trade-offs: constitutive prerequisites for political and social life // S. A. Renshon & J. Duckitt (Eds.), Political Psychology: Cultural and Crosscultural Foundations (p. 47—65). London: Macmillan Press.
Fiske S. T (1998). Stereotyping, prejudice, and discrimination // D. T. Gilbert & S. T. Fiske & G. Lindzey (Eds.), The Handbook of Social Psychology (p. 357— 411). New York: McGraw Hill.
Fitch W. T, Hauser M. D. & Chomsky N. (2005). The evolution of the language faculty: clarifications and implications // Cognition, 97, 179—210.
Flanagan O. (1996). Self Expressions. Mind, morals and the meaning of life. New York: Oxford University Press.
Flombaum J. & Santos L. (2005). Rhesus monkeys attribute perceptions to others // Current Biology, 75, 1—20.
Foot P. (1967). The problem of abortion and the doctrine of double effect // Oxford Review, 5, 5—15.
Foster K. R. & Ratnieks F. L. W. (2000). Facultative worker policing in a wasp // Nature, 407,692—693.
Frank R. H. (1988). Passion Within Reason: The Strategic Role of the Emotions. New York: Norton.
Frank S. A. (1995). Mutual policing and repression of competition in the evolution of cooperative groups 11 Nature, 377, 520—522.
Frazer J. G. (1910). A Treatise on Certain Early Forms of Superstition and Society. London: Macmillan.
Freire A., Eskritt M. & Lee K. (2004). Are eyes windows to a deceiver’s soul? Children’s use of another’s eye gaze cues in a deceptive situation // Developmental Psychology, 40, 1093—1104.
Frohlich N. & Oppenheimer J. A. (1993). Choosing Justice: An Experimental Approach to Ethical Theory. Berkeley: University of California Press.
Faster J. (1997). The Prefrontal Cortex: Anatomy, Physiology, and Neuropsychology of the Frontal Lobe. Philadelphia: Lippincott-Raven.
Galef В. G.,Jr. (1996). Social enhancement of food preferences in Norway rats: a brief review // С. M. Heyes & J. B. G. Galef (Eds.), Social Learning in Animals: The Roots of Culture (p. 49—64). San Diego: Academic Press.
Gallese V & Goldman A. (1998). Mirror neurons and the simulation theory of mindreading // Trends in Cognitive Science, 12, 493—501.
Gallese V, Keysets C. & Rizzolatti G. (2004). A unifying view of the basis of social cognition // Trends in Cognitive Science, 8, 398—403.
Gallistel C. R. & Gelman R. (2000). Non-verbal numerical cognition: from reals to integers // TICS, 4, 59—65.
Gallup G. G.,Jr. (1970). Chimpanzees: self-recognition // Science, 167, 86—87.
Gallup G. G.,Jr. (1991). Toward a comparative psychology of self-awareness: Species limitations and cognitive consequences // G. R. Goethals & J. Strauss (Eds.), The Self: An Interdisciplinary Approach (p. 121—135). New York: SpringerVerlag.
Garvey S. R (1998). Can shaming punishments educate? // University of Chicago Law Review, 65, 733.
Gaylin W. (2003). Hatred: The psychological descent into violence. New York: Public Affairs.
Gelman R. (1990). First principles organize attention to and learning about relevant data: number and the animate-inanimate distinction as examples // Cognitive Science, 14, 79—106.
Gelman S. A. (2003). The Essential Child: Origins of Essentialism in Everyday Thought. London: Oxford University Press.
Gentner T, Margoliasb D. & Nusshaum H. (in press). Recursive syntactic pattern learning in a songbird. Nature, still in press.
Gergely G. & Csihra G. (2003). Ideological reasoning in infancy: the naive theory of rational action // Trends in Cognitive Science, 7, 287—292.
Gergely G., Nadasdy Z, Csihra G. & Biro S. (1995). Taking the intentional stance at 12 months of age // Cognition, 56, 165—193.
Gert B. (1998). Morality: Its Nature and Justification. New York: Oxford University Press.
Gert B. (2004). Common Morality. New York: Oxford University Press.
Gibbon J., Church R. M., Fairhust S. & KacelnikA. (1988). Scalar expectancy theory and choice between delayed rewards // Psychological Review, 95, 102—114.
Gibbs J. C. (2003). Moral Development and Reality. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Gilovich T, Griffin D. & Kabneman D. (2002). Heuristics and Biases: The psychology of intuitive judgment. Cambridge: Cambridge University Press.
Gintis H. (2000). Strong reciprocity and human sociality // Journal of Theoretical Biology, 206, 169—179.
Gintis H., Bowles S., Boyd R. & Fehr E. (2003). Explaining altruistic behavior in humans // Evolution and Human Behavior, 24, 153—172.
Gintis H., Smith E. & Bowles S. (2001). Costly signaling and cooperation // Journal of Theoretical Biology, 213, 103—119.
Girotto V, Light P. & Colboum C. J. (1988). Pragmatic schemas and conditional reasoning in children // Quarterly Journal of Experimental Psychology, 40A, 469— 482.
Goldberg E. (2001). The Executive Brain. New York: Oxford University Press.
Golding W. (1999). Lord of the Flies. New York: Penguin Books.
Goldman A. (1971). The individuation of action // Journal of Philosophy, 68, 761— 774.
Goldman A. (1979). The paradox of punishment // Philosophy and Public Affairs, 9, 42—58.
Goldman A. (1989). Interpretation psychologized // Mind and Language, 4, 161 — 185.
Goldman A. (1992). In defense of the simulation theory // Mind and Language, 7, Ю4—119.
Gomez J.-C. (2005). Species comparative studies and cognitive development // Trends in Cognitive Science, 9, 118—125.
Gordon N. (2001). Honor killings: An editorial // Iris, 42, / archives/42/nonfiction.html.
Gordon P (2004). Numerical cognition without words: evidence from Amazonia // Science, 306, 496—499.
Gordon R. (1986). Folk psychology as simulation // Mind and Language, 1, 158— 171.
Gould J. L. (1990). Honeybee cognition // Cognition, 37, 83—103.
Greene J. D. (2003). From neural ‘is’ to moral ‘ought’: what are the moral implications of neuroscientific moral psychology // Nature Neuroscience Reviews, 4, 847—850.
Greene J. D., Nystrom L. E., Engell A. D., Darley J. M. & Cohen J. D. (2004). The neural bases of cognitive conflict and control in moral judgment // Neuron, 44, 389—400.
Greene J. D., Sommerville R. В., Nystrom L. E., Darley J. M. & Cohen J. D. (2001). An fMRI investigation of emotional engagement in moral judgment // Science, 293,2105—2108.
Greenspan P. S. (1995). Practical Guilt. New York: Oxford University Press.
Griffiths P E. (1997). What Emotions Really Are. Chicago: University of Chicago Press.
Gyger M. & Marler P (1988). Food calling in the domestic fowl (Gallus gallus): the role of external referents and deception // Animal Behaviour, 36, 358—365.
Haidt J. (2001). The emotional dog and its rational tail: A social intuitionist approach to moral judgment // Psychological Review, 108, 814—834.
Haidt J. (2003). The moral emotions // R. J. Davidson & K. R. Scherer & H. H. Goldsmith (Eds.), Handbook of Affective Sciences (p. 852—870). Oxford: Oxford University Press.
Haidt J. & Joseph C. (2004). Intuitive ethics: how innately prepared intuitions generate culturally variable virtues // Daedalus, 55—66.
Haidt /., McCauley C. R. & Rozin P (1994). Individual differences in sensitivity to disgust: a scale sampling seven domains of disgust elicitors // Personality and Individual Differences, 16, 701—713.
Hala S., Chandler M. & Fritz A. S. (1991). Fledgling theories of mind: deception as a marker of three year olds’ understanding of false belief // Child Development, 62, 83—97.
Hamilton W. D. (1964a). The evolution of altruistic behavior 11 American Naturalist, 97, 354—356.
Hamilton W. D. (1964b). The genetical evolution of social behavior // Journal of Theoretical Biology, 7, 1—52.
Harbaugh W. T, Krause K. & Liday S. (2003). Children’s bargaining behavior: differences by age, gender, and height. Working pages.
Harbaugh W T, Krause К, Liday S. & Vesterlund L. (2003). Trust in children // E. Ostrom & J. Walker (Eds.), Trust and Reciprocity (p. 302—322). New York: Russell Sage Foundation.
Harbaugh W. T, Krause K. & Vesterlund L. (2001). Risk attitudes of children and adults: choices over small and large probability gains and losses // Experimental Economics, 5(7), 53—84.
Hardin G. (1968). The tragedy of the commons // Science, 162, 1243—1248.
Hare B.y Call ].yAgnetta B. & Tomasello M. (2000). Chimpanzees know what conspecifics do and do not see // Animal Behaviour, 59, 771—785.
Hare B.y Call J. & Tomasello M. (2001). Do chimpanzees know what conspecifics know? // Animal Behaviour, 61, 139—151.
Hare B.y Plyusnina /., Ignacio N.y Scbepina O., StepikaA., Wrangbam R.W.&t Truth. N. (2005). Social cognitive evolution in captive foxes is a correlated byproduct of experimental domestication // Current Biology, 15(3), 226—230.
Hare B. & Tomasello M. (2004). Chimpanzees are more skilful in competitive than in cooperative cognitive tasks // Animal Behaviour, 68, 571—581.
Hare R. D. (1993). Without Conscience. New York: Guilford Press.
Hare R. M. (1981). Moral Thinking: Its levels, method, and point. Oxford: Clarendon Press.
Harman G. (1977). The Nature of Morality: An Introduction to Ethics. New York: Oxford University Press.
Harris R L. (2000). The Work of the Imagination. Oxford: Blackwell Publishers.
Harris P. L. & Nunez M. (1996). Understanding of permission rules by preschool children // Child Development, 67, 1572—1591.
Harris R. (1989). Murder and Madness: Medicine, Law and Society in the Fin de Siecle. Oxford: Clarendon Press.
Hart B. L. & Hart L. A. (1989). Reciprocal allogrooming in impala, Aepyceros melampus // Animal Behaviour, 44, 1073—1084.
Hassani О. К & Cromwell H. C. (2001). Influence of expectation of different rewards on behavior-related neuronal activity in the striatum // Journal of Neurophysiology, 85, 2477—2489.
Hasselmo M. R., Rolls E. T & Baylis G. C. (1989). The role of expression and identity in the face-selective responses of neurons in the temporal visual cortex of the monkey // Behavioural Brain Research, 32, 203—218.
Hauser M. D. (1992). Costs of deception: cheaters are punished in rhesus monkeys // Proceedings of the National Academy of Sciences, 89, 12137—12139.
Hauser M. D. (1993). Rhesus monkey (Macaca mulatto} copulation calls: Honest signals for female choice? // Proceedings of the Royal Society, London, 254, 93— 96.
Hauser M. D. (1996). The Evolution of Communication. Cambridge, MA: MIT Press.
Hauser M. D. (1997). Minding the behavior of deception // A. Whiten & R. W Byrne (Eds.), Machiavellian Intelligence II (p. 112—143). Cambridge: Cambridge University Press.
Hauser М. D. (1998). Expectations about object motion and destination: Experiments with a nonhuman primate // Developmental Science, 1, 31—38.
Hauser M. D. (2000). Wild Minds: What Animals Really Think. New York: Henry Holt.
Hauser M. D. & Carey S. (1998). Building a cognitive creature from a set of primitives: Evolutionary and developmental insights // D. Cummins & C. Alien (Eds.), The Evolution of Mind (p. 51—106). Oxford: Oxford University Press.
Hauser M. D., Chen M. K., Chen E. & Chuang E. (2003). Give unto others: genetically unrelated cotton-top tamarin monkeys preferentially give food to those who altruistically give food back // Proceedings of the Royal Society, London, B, 270, 2363—2370.
Hauser M. D., Chomsky N. & Fitch W. T (2002). The faculty of language: What is it, who has it, and how did it evolve? // Science, 298, 1569—1579.
Hauser M. D. & Spelke E. (2004). Evolutionary and developmental foundations of human knowledge // M. Gazzaniga (Ed.), The Cognitive Neurosciences (p. 853—865). Cambridge, MA: MIT Press.
Hawkes K. (2003). Grandmothers and the evolution of human longevity // American Journal of Human Biology, 15, 380—400.
Hazlitt W. (1805/1969). An Essay on the Principles of Human Action and Some Remarks on the Systems of Hartley and Helvetius. Gainesville, FL: Scholars’ Facsimiles and Reprints.
Heider E & Simmel M. (1944). An experimental study of apparent behavior // American Journal of Psychology, 57, 243—259.
Heinsohn R. & Packer C. (1995). Complex cooperative strategies in group-territorial African lions // Science, 269, 1260—1262.
Henrich J., Boyd R., Bowles S., Camerer C, Fehr E., Gintis H. & McElreath R. (2001). In search of Homo economicus: behavioral experiments in fifteen smallscale societies // American Economics Review, 91, 73—78.
Henrich ]., Boyd R., Bowles S., Camerer G, Fehr E., G intis H., McElreath R., Barr A., EnsmingerJ., Hill K., Gil-White F, Gurven M., Marlowe E, Patton J. Q., Smith N. & Tracer D. (in press). Economic Man in cross-cultural perspective: behavioral experiments in 15 small scale societies // Behavioral and Brain Research, 28, 795—855.
Heyes С. M. (1998). Theory of mind in nonhuman primates // Behavioral and Brain Sciences, 21,101—114.
Higley J. D.,Mehlman P T, Higley S. B.,Femald B., Vickers J., Lindell S. G., Taub D. M., Suomi S. J. & Linnoila M. (1996). Excessive mortality in young free-ranging male nonhuman primates with low cerebrospinal fluid 5-hydroxy-indoleacetic acid concentrations // Archives of General Psychiatry, 53, 537—543.
Hill K. (2002). Altruistic cooperation during foraging by the Ache, and the evolved human predisposition to cooperate // Human Nature, 13, 105—128.
Hinde R. A. (2003). Why Good Is Good: The sources of morality. London: Routledge.
Hirschfeld L. A. (1996). Race in the Making: Cognition, culture and the child’s construction of human Kinds. Cambridge, MA: MIT Press.
Hirschi T & Gottfredson M. R. (1983). Age and the explanation of crime // American Journal of Sociology, 89, 552—584.
Hobbes T (1651/1968). Leviathan. New York: Penguin.
Hobbes Т (Ed.). (1642/1962). De Corpore. New York: Oxford University Press.
Hobson R. R (2002). The Cradle of Thought. London: Macmillan.
Hoffman M. L. (2000). Empathy and Moral Development. Cambridge: Cambridge University Press.
Hollander E. & Stein D. (1995). Impulsivity and Aggression. New York: Wiley Press.
Horder J. (1992). Provocation and Responsibility. Oxford: Clarendon Press.
Hrdy S. B. (1999). Mother Nature: A history of mothers, infants, and natural selection. New York: Pantheon Books.
Hume D. (1739/1978). A Treatise of Human Nature. Oxford: Oxford University Press.
Hume D. (Ed.). (1748). Enquiry Concerning the Principles of Morals. Oxford: Oxford University Press.
Huntsman R. W. (1984). Children’s concepts of fair sharing //Journal of Moral Education, 13, 31—39.
Hurley S. (2003). Animal action in the space or reasons // Mind and Language, 18, 231—256.
Hursthouse R. (1999). On Virtue Ethics. New York: Oxford University Press.
Hutcheson F (1728/1971). Illustrations on the Moral Sense. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Huxley T H. (1888). The struggle for existence: a programme // Nineteenth Century, 2 J, 161—180.
Inagaki K. & Hatano G. (2002). Young Children’s Thinking about the Biological World. New York: Psychology Press.
Inagaki K. & Hatano G. (2004). Vitalistic causality in young children’s naive biology // Trends in Cognitive Science, #[#], 356—362.
Intrator J., Hare R. D., Stritzke R, Brichtswein K., Dorfman D., Harpur T, Bernstein D., Handelsman L., Schaefer C., Keilp ]., Rosen J. & Machac J. (1997). A brain imaging (single photon emission computerized tomography) study of semantic and affective processing in psychopaths // Biological Psychiatry, 42, 96—103.
Ivins M. (2004). Imperialists’ ball. The Progressive, June, 50.
JackendojfR. (2002). Foundations of Language. New York: Oxford University Press.
Jefferson T. (1787/1955). Letter to Peter Carr, August 10 //J. P Boyd (Ed.), The Papers of Thomas Jefferson (p. 15).
Johnson S. C. (2000). The recognition of mentalistic agents in infancy // Trends in Cognitive Science, 4, 22—28.
Johnson S. C. (2003). Detecting agents // Philosophical Transactions of the Royal Society of London, B, 358, 549—559.
Johnson S. C. & Carey S. (1998). Knowledge enrichment and conceptual change in folk biology: evidence from people with Williams syndrome // Cognitive Psychology, 37, 156—200.
Johnstone R. A. & Dugatkin L. A. (2000). Coalition formation in animals and the nature of winner and loser effects // Proceedings of the Royal Society, London, B, 267, 17—21.
KacelnikA. (1997). Normative and descriptive models of decision making, time discounting and risk sensitivity // G. Bock & G. Cardew (Eds.), Characterizing Human Psychological Adaptations (p. 51—70). London: Wiley.
Kacelnik A. (2003). The evolution of patience // G. Loewenstein (Ed.), Time and Decision: Economics and Psychological Perspectives on Intertemporal Choice (p. 115—138). New York: Russell Sage Foundation.
Kagan J. (1998). Three Seductive Ideas. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Kagan J. (2000). Human morality is distinctive //Journal of Consciousness Studies, 7, 46—48.
Kagan J. (2002a). Morality, altruism, and love // S. G. Post & L.'G. Underwood & J. P Schloss & W B. Hurlbut. (Eds.), Altruism and Altruistic Love (p. 40—50). New York: Oxford University Press.
Kagan J. (2002b). Surprise, Uncertainty, and Mental Structures. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Kagan /., Reznick J. S. & Snidman N. (1988). Biological bases of childhood shyness // Science, 250, 167—171.
Kagan /., Snidman N. & Arcus D. (1998). Childhood derivatives of high and low reactivity in infancy // Child Development, 69, 1483—1493.
Kagan S. (1988). The additive fallacy // Ethics, 90, 5—31.
Kagel J. H. & Roth A. E. (1995). Handbook of Experimental Economics. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Kahn P. (2004). Mind and morality // New Directions for Child and Adolescent Development, 103, 73—83.
Kahneman Z)., Schkade D. & Sunstein C. R. (1998). Shared outrage and erratic awards: the psychology of punitive damages // Journal of Risk and Uncertainty, 16y 49—86.
Kalnins I. V. bi Bruner J. S. (1973). The coordination of visual observation and instrumental behavior in early infancy // Perception, 2, 307—314.
Kaminski /., Call J. & Tomasello M. (2004). Body orientation and face orientation: two factors controlling apes’ begging behavior from humans // Animal Cognition, 7, 216—223.
Kamm E M. (1992). Creation and Abortion: A study in moral and legal philosophy. New York: Oxford University Press.
Kamm F. M. (1998). Morality, Mortality: Death and whom to save from it. New York: Oxford University Press.
Kamm F. M. (2000). Nonconsequentialism // H. LaFollette (Ed.), Ethical Theory (p. 205—226). Maiden, MA: Blackwell Publishing.
Kamm F. M. (2001a). Morality, Mortality: Rights, duties, and status. New York: Oxford University Press.
Kamm F. M. (2001b). Ronald Dworkin on abortion and assisted suicide // The Journal of Ethics, 5, 221—240.
Kamm F. M. (2004). Failures of just war theory: terror, harm, and justice // Ethics, 114,650—692.
Kane R. (1998). Through the Moral Maze: Searching for Absolute Values in a Pluralistic World. New York: Paragon House.
Kant I. (1785/1959). Foundations of the Metaphysics of Morals (L. W Beck, Trans.). New York: Macmillan.
Kant I. (2001). Lectures on Ethics. New York: Cambridge University Press.
Kanwisher N. (2000). Domain specificity in face perception // Nature Neuroscience, 3, 759—763.
Kanwisher N.y Downing R, Epstein R. & Kourtzi 2. (2001). Functional neuroimaging of human visual recognition // Kingstone & Cabeza (Eds.), The Handbook on Functional Neuroimaging (p. 109—152). Cambridge, MA: MIT Press.
Kaplan J. R., Fontenot M. В., Berard J. & Manuck S. B. (1995). Delayed dispersal and elevated monoaminergic activity in free-ranging rhesus monkeys // American Journal of Primatology, 35, 229—234.
Kaplow L. & Shavell S. (2002). Fairness versus Welfare. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Karmiloff-Smith A. (1992). Beyond Modularity. Cambridge, MA: MIT Press.
Keil L. J. (1986). Rules, reciprocity, and rewards: a developmental study of resource allocation in social interaction // Journal of Experimental Social Psychology, 22, 419—435.
Kelly M. H. (1999). Regional naming patterns and the culture of honor // Names, 47, 3—20.
Ketelaar T biAuW-T (2003). The effects of feelings of guilt on the behaviour of uncooperative individuals in repeated social bargaining games: an affect-as-information interpretation of the role of emotion in social interaction // Cognition and Emotion, 77, 429—453.
Kiehl K. A. y Hare R. D.yLiddle P. E & McDonald J. J. (1999). Reduced P300 responses in criminal psychopaths during a visual oddball task // Biological Psychiatry, 45 у 1498—1507.
Kiehl К. A. у Smith A. M., Hare R. D.yMendrekA.y Forster B. B.y Brink J. & Liddle P F. (2001). Limbic abnormalities in affective processing by criminal psychopaths as revealed by functional magnetic resonance imaging // Biological Psychiatry, 50, 677—684.
Kitcher P (1985). Vaulting Ambition: Sociobiology and the quest for human nature. Cambridge, MA: MIT Press.
Knobe J. (2003a). Intentional action and side effects in ordinary language // Analysis, 63, 190—193.
Knobe J. (2003b). Intentional action in folk psychology: an experimental investigation // Philosophical Psychology, 16, 309—324.
Kochanska G., Murray K., Jacques T Y., Koenig A. L. & Vandegeest K. A. (1996). Inhibitory control in young children and its role in emerging internalization // Child Development, 67, 490—507.
Kohlberg L. (1981). Essays on Moral Development, Volume 1: The Philosophy of Moral Development. New York: Harper and Row.
Korsgaard С. M. (1996). Sources of Normativity. Cambridge: Cambridge University Press.
Krebs J. R. & Dawkins R. (1984). Animal signals: mind-reading and manipulation // J. R. Krebs & N. B. Davies (Eds.), Behavioural Ecology (p. 380—402). Sunderland, MA: Sinauer Associates Inc.
Kruska D. (1988). Mammalian domestication and its effect on brain structure and behavior // H. J. Jerison (Ed.), Intelligence and Evolutionary Biobgy (p. 211— 250). New York: Springer Verlag.
Kuhlmeier V, Wynn K. & Bloom P (2003). Attribution of dispositional states in 12-month-olds // Psychological Science, 14, 402—408.
Kuhn T (1970). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.
Kulwicki A. D. (2002). The practice of honor crimes: a glimpse of domestic violence in the Arab world // Issues in Mental Health Nursing 23, 77—87.
Kummer Н. & Cords М. (1992). Cues of ownership in long-tailed macques, Macaca fascicularis // Animal Behaviour, 42, 529—549.
Kundera M. (1985). The Unbearable Lightness of Being. New York: Harper Collins.
Lakoff G. (1996). Moral Politics. Chicago: University of Chicago Press.
Lasriik H., Uriagereka J. & Boeckx C. (2005). A Course in Minimalist Syntax: Foundations and Prospects. Maiden, MA: Blackwell Publishers.
Leach H. M. (2003). Human domestication reconsidered // Current Anthropology, 44, 349—368.
LeDoux J. (1996). The Emotional Brain. New York: Simon and Schuster.
Lee K., Cameron C. A., Doucette J. & Talwar V. (2002). Phantoms and fabrications: young children’s detection of implausible lies // Child Development, 73, 1688— 1702.
Leibniz G. W. (1704/1966). New Essays on Human Understanding. Cambridge: Cambridge University Press.
Lerdahl F. & JackendoffR. (1996). A Generative Theory of Tonal Music. Cambridge, MA: MIT Press.
Leslie A. M. (1987). Pretense and representation: the origins of “theory of mind” // Psychological Review, 94, 412—426.
Leslie A. M. (1994). ToMM, ToBY, and Agency: core architecture and domain specificity // L. A. Hirschfeld & S. A. Gelman (Eds.), Mapping the Mind: Domain Specificity in Cognition and Culture (p. 119—148). Cambridge: Cambridge University Press.
Leslie A. M. (2000). Theory of mind as a mechanism of selective attention // M. Gazzaniga (Ed.), The New Cognitive Neurosciences (p. 1235—1247). Cambridge, MA: MIT Press.
Leslie A. M. & Keeble S. (1987). Do six-month-old infants perceive causality? // Cognition, 25, 265—288.
Leslie A. M., Knobe J. & Cohen A. (in press). Acting intentionally and the side-effect effect: ‘Theory of mind’ and moral judgment // Psychological Science, still in press.
Lewis M., Sulivan M. W. & Brooks-Gunn J. (1985). Emotional behavior during the learning of a contingency in early infancy // British Journal of Developmental Psychology, 3, 307—316.
Lewis R. J. (2002). Beyond dominance: the importance of leverage // Quarterly Review of Biology, 77, 149—164.
Lieberman D., Tooby J. & Cosmides L. (in press). Does morality have a biological basis? An empirical test of the factors governing moral sentiments relating to incest // Proceedings of the Royal Society, London, B, 270, 819—826.
Lieberman N. & Klahr Y. (1996). Hypothesis testing in Wason’s selection task: social exchange cheating detection or task understanding? 11 Cognition, 58, 127—156.
Litowitz D. (1997). The trouble with ‘scarlet letter’ punishments // Judicature, 81 (2), 52—57.
Mackie J. (1977). Ethics: inventing right and wrong. London: Penguin.
Macnamara J. (1990). The development of moral reasoning and the foundations of geometry // Journal for the Theory of Social Behavior, 21, 125—150.
Markus H. R. & Kitayama S. (1991). Culture and self: implications for cognition, emotion, and motivation // Psychological Review, 98, 224—253.
Marler Р.у Karakashian S. & Gyger М. (1991). Do animals have the option of withholding signals when communication is inappropriate? The audience effect // C. Ristau (Ed.), Cognitive ethology: the minds of other animals (p. 135— 186). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Marlowe F. (2004). Better to receive than to give: How the Hadzaplay the game. Unpublished manuscript, Cambridge, MA.
Martau P.A. у Caine N. G. & Candland D. K. (1985). Reliability of the emotions profile index, primate form, with Papio hamadryas, Macaca fuscata, and two Saimiri species // Primates, 26, 501—505.
Mason G. J.y Cooper J. & Clarebrough C. (2001). Frustrations of fur-farmed mink // Nature, 410, 35—36.
Mason H. E. (1996). Moral Dilemmas and Moral Theory. New York: Oxford University Press.
May L.y Friedman M. & Clark A. (1996). Minds and Morals. Cambridge, MA: MIT Press.
Mayell H. (2002). Thousands of women killed for family “honor”. Available: 0212_honorkilling.html.
Mazur J. E. (1987). An adjusting procedure for studying delayed reinforcement // M. E. Commons & J. E. Mazur & J. A. Nevin & H. Rachlin (Eds.), Quantitative Analyses of Behavior (p. 55—73). Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
McAlpine L. M. & Moore C. L. (1995). The development of social understanding in children with visual impairments //Journal of Visual Impairment and Blindness, 89, 349—358.
McCabe K. A., Houser D.y Ryan L.y Smith V. L. & Trouard T. (2001). A functional imaging study of cooperation in two-person reciprocal exchange // Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 98у 11832—11835.
McCleam G. E. (1997). Substantial genetic influence on cognitive abilities in twins 80 or more years old // Science, 276, 1560—1563.
McGrew W. C. & Feistner A. T. C. (1992). Two nonhuman primate models for the evolution of human food sharing: chimpanzees and callitrichids //J. H. Barkow & L. Cosmides & J. Tooby (Eds.), The Adapted Mind (p. 229—249). New York: Oxford University Press.
Mead G. H. (1912). The mechanism of social consciousness //Journal of Philosophy, Psychology, and Scientific Methods, 9, 401—416.
Mehlman P. T.y Higley J. D., Faucher l.y Lilly A. A., Taub D. M.y Vickers/., Suomi S. J. & Linnoila M. (1994). Low CSF 5-HIAA concentrations and severe aggression and impaired impulse control in nonhuman primates // American Journal of Psychiatry, 151, 1485—1491.
Mehlman P. T, Higley J. D., Faucher /., Lilly A. A., Taub D. M.y Vickers Suomi S. J. & Linnoila M. (1995). Correlation of CSF 5-HIAA concentration with sociality and the timing of emigration in free-ranging primates // American Journal of Psychiatry, 152, 907—913.
Mele A. (2001). Acting intentionally: probing folk notions // B. F. Malle & L. J. Moses & D. Baldwin (Eds.), Intentions and Intentionality: Foundations of Social Cognition (p. 27—43). Cambridge, MA: MIT Press.
Mendres K. A. & de Waal F. В. M. (2000). Capuchins do cooperate: the advantage of an intuitive task // Animal Behaviour, 60, 523—529.
Metcalfe J. & Mischel W. (1999). A hot/cool-system analysis of delay of gratification: dynamics of willpower // Psychological Review, 106, 3—19.
Mikhail J. M. (2000). Rawls’ linguistic analogy: A study of the ‘generative grammar’ model of moral theory described by John Rawls in ‘A theory of justice’. Unpublished PhD, Cornell University, Ithaca, NY.
Mikhail J. M. (2002). Law, science, and morality: a review of Richard Posner’s “The Problematics of Moral and Legal Theory” // Stanford law Review, 54, 1057— 1127.
Mikhail J. M. (in press). Rawls’ linguistic Analogy. New York: Cambridge University Press.
Mikhail J. M.y Sorrentino C. & Spelke E. (2002). Aspects of the theory of moral cognition: Investigating intuitive knowledge of the prohibition of intentional battery, the rescue principle, the first principle of practical reason, and the principle of double effect. Unpublished manuscript, Stanford, CA.
Milgate D. E. (1998). The flame flickers, but burns on: modern judicial application of the ancient heat of passion defense // Rutgers Law Review, 57, 193—227.
Milgram S. (1974). Obedience to Authority: An experimental view. New York: Harper and Row Publishers.
Milinski M. (1981). Tit for tat and the evolution of cooperation in sticklebacks // Nature, 325, 433—437.
Milinski M.y Semmann D. & Kramheck H.-J. (2002). Reputation helps solve the ‘tragedy of the commons’ // Nature, 475, 424—426.
Miller D. & Walzer M. (1995). Pluralism, Justice and Equality. Oxford: Oxford University Press.
Mineka S.y Davidson M.y Cook M. & Keir R. (1984). Observational conditioning of snake fear in rhesus monkeys //Journal of Abnormal Psychology, 93, 355—372.
Mineka S.y Keir R. & Price V (1980). Fear of snakes in wild and laboratory reared rhesus monkeys (Macaca mulatto) // Animal Learning and Behavior, 8y 653— 663.
Minter M.y Hobson R. P. & Bishop M. (1998). Congenital visual impairment and ‘theory of mind’ // British Journal of Developmental Psychology, 76, 183—196.
Mischel W. (1966). Theory and research on the antecedents of self-imposed delay of reward // B. A. Maher (Ed.), Progress in Experimental Personality Research (p. 85—132). New York: Academic Press.
Mischel W. (1974). Processes in delay of gratification // L. Berkowitz (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 7 (p. 249—292). New York: Academic Press.
Mischel W.y Skoda Y & Rodriguez M. L. (1989). Delay of gratification in children // Science, 244y 933—938.
Mischel W.y Zeiss R. & Zeiss A. (1974). Internal-external control and persistence: validation and implications of the Stanford preschool internal-external scale // Journal of Personality and Social Psychology, 29, 265—278.
Mock D. W. (2004). More Than Kin and Less Than Kind. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Moliere J. B. P. (1673). Le Misanthrope. Oberon Books: London.
MollEslinger R J. & Oliviera-Souza R. (2001). Frontopolar and anterior temporal cortex activation in a moral judgment task: preliminary functional MRI results in normal subjects // Archives of Neuropsychiatry, 59, 657—664.
MollJ., Oliveira-Souza R. & Eslinger P. J. (2002). The neural correlates of moral sensitivity: a functional MRI investigation of basic and moral emotions //Journal of Neuroscience, 27, 2730—2736.
MollJ., Oliveira-Souza R., Moll F. T, Ignacio I. E., Caparelli-Daquer E. M. & Eslinger P. J. (2005). The moral affiliations of disgust. Working paper. Not yet published.
Moll J., Olivier-Souza R. & Bramati I. E. (2002). Functional networks in moral and non-moral social judgments // Neuro Image, 16, 696—703.
Moore C. & Macgillivray S. (2004). Altruism, prudence, and theory of mind in preschoolers // New Directions for Child and Adolescent Development, 103, 51— 62.
Moore G. E. (1903). Principia Ethica. Cambridge: Cambridge University Press.
Muller J. L., Sommer M., Wagner V, Lange К., Taschler H., Roder C. H., Schuierer G., Klein H. E. & Hajak G. (2003). Abnormalities in emotion processing within cortical and subcortical regions in criminal psychopaths: evidence from a functional magnetic resonance imaging study using pictures with emotional content // Biological Psychiatry, 54, 152—163.
Munn C. (1986). Birds that “cry wolf” // Nature, 319, 143—145.
Murnighan J. K. & Saxon M. S. (1998). Ultimatum bargaining by children and adults //Journal of Economic Psychology, 79, 415—445.
Nesse R. M. (Ed.). (2001). Evolution and the Capacity for Commitment. New York: Russell Sage Foundation.
Newport E. L. baAslin R. N. (2004). Learning at a distance. I. Statistical learning of non-adjacent dependencies // Cognitive Psychology, 48, 127—162.
Newtson D. (1973). Attribution and the unit of perception of ongoing behavior // Journal of Personality and Social Psychology, 28, 28—38.
Newtson D., Engquist G. & Bois J. (1977). The objective basis of behavior units // Journal of Personality and Social Psychology, 35, 847—862.
Newtson D., Hairfield Bloomingdale J. & Cutino S. (1987). The strucutre of action and interaction // Social Cognition, 5, 191—237.
Nichols S. (2002). Norms with feeling: toward a psychological account of moral judgment // Cognition, 84, 221—236.
Nichols S. (2004). Sentimental Rules. New York: Oxford University Press.
Nichols S. & Folds-Bennett T (2003). Are children moral objectivists? Children’s judgments about moral and response-dependent properties // Cognition, B23— B32.
Nikulina E. M. (1991). Neural control of predatory aggression in wild and domesticated animals // Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 15, 545—547.
Nisbett R. E. & Cohen D. (1996). Culture of Honor: The Psychology of Violence in the South. Boulder, CO: Westview Press.
Noe R. (1990). A veto game played by baboons: a challenge to the use of the Prisoner’s Dilemma as a paradigm of reciprocity and cooperation // Animal Behaviour, 39, 78—90.
Noe R., van Hoof J. A. R. A. M. & Hammerstein P (2001). Economics in Nature. Cambridge: Cambridge University Press.
Nourse V. (1997). Passion’s progress: modern law reform and the provocation defense // Yale Law Journal, 106, 1331—1344.
Nowak М. A., Page К. М. & Sigmund К. (2000). Fairness versus reason in the ultimatum game // Science, 289, 1773—1775.
Nowak M. A. & Sigmund K. (2000). Enhanced: Shrewd investments // Science, 288, 819.
Nucci L. (2001). Education in the Moral Domain. Cambridge: Cambridge University Press.
Nunez M. & Harris P L. (1998). Psychological and deontic concepts: separate domains or intimate connection? // Mind and Language, 13, 153—170.
Nusshaum M. (2004). Hiding from Humanity: Disgust, Shame, and the Law. Princeton, NJ: Princeton University Press.
O'Neill P & Petrinovich L. (1998). A preliminary cross cultural study of moral intuitions // Evolution and Human Behavior, 19, 349—367.
Ohman A., Flykt A. & Esteves F (2001). Emotion drives attention: Detecting the snake in the grass // Journal of Experimental Psychology: General, 130, 466— 478.
Oliveira Souza R. & Moll J. (2000). The moral brain: a functional MRI study of moral judgment // Neurology, 54, 1331—1336.
Olson J. M., Roese N. J. & Zanna M. P (1996). Expectancies // E. T. Higgins & A. W Kruglanski (Eds.), Social Psychology: Handbook of Basic Principles (p. 211—238). New York: Guilford Press.
Olsson A., Ebert J. P, Banaji M. R. & Phelps E. A. (2005). The role of social groups in the persistence of learned fear // Science, 309, 711—713.
Onishi К. H. & Baillargeon R. (2005). Do 15-month-old infants understand false beliefs? // Science, 308, 255—257.
Packer C. (1977). Reciprocal altruism in olive baboons // Nature, 265, 441—443.
Packer C. & Pusey A. (1985). Asymmetric contests in social mammals: respect, manipulation and age-specific aspects // P J. Greenwood & P H. Harvey (Eds.), Evolution: Essays in Honour of John Maynard Smith (p. 173—186). Cambridge: Cambridge University Press.
Packer C. & Ruttan L. (1988). The evolution of cooperative hunting // American Naturalist, 132, 159—198.
Paladino M.-P, Leyens J.-P, Rodriguez R., Rodriguez A., Gaunt R. & Demoulin S. (2002). Differential association of uniquely and non-uniquely human emotions with the ingroup and outgroup // Group Processes and Intergroup Relations, 5, 105—117.
Parr L. A. (2001). Cognitive and psychological markers of emotional awareness in chimpanzees // Animal Cognition, 4, 223—229.
Patterson O. (1982). Slavery and Social Death. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Peake P K., Mischel W. & Hebl M. (2002). Strategic attention deployment for delay of gratification in working and waiting situations // Developmental Psychology, 38(2), 313—326.
Peterson L., Hartmann D. P & Gelfand D. M. (1977). Developmental changes in the effects of dependency and reciprocity cues on children’s moral judgments and donation rates // Child Development, 48,1331—1339.
Petrinovich L. & O'Neill P (1996). Influence of wording and framing effects on moral intuitions // Ethology and Sociobiology, 17, 145—171.
Petrinovich L.y O'Neill P & Jorgensen M. J. (1993). An empirical study of moral intuitions: towards an evolutionary ethics // Ethology and Sociobiology, 64, 467— 478.
Phelps E. A.y O'Connor K. Cunningham W. A., Funayama S.y Gatenby J. C, Gore J. C. & Banaji M. R. (2000). Performance on indirect measures of race evaluation predicts amygdala activation // Journal of Cognitive Neuroscience, 72, 729—738.
Piaget J. (1932/1965). The Moral Judgment of the Child. New York: Free Press.
Piaget J. (1954). The Construction of Reality in the Child. New York: Basic Books.
Pica Py Lemer C, Izard V & Dehaene S. (2004). Exact and approximate arithmetic in an Amazonian Indigene Group // Science, 306y 499—503.
Pinker S. (1994). The Language Instinct. New York: William Morrow and Company.
Pinker S. (1997). How the Mind Works. New York: Norton.
Pinker S. (2002). The Blank Slate. New York: Penguin.
Pinker S. & Jackendoff R. (2005). The faculty of language: what’s special about it? // Cognition, 95, 201—236.
Platek S. M.y Critton S. R.y Myers T E. & Gallup G. G.,/r. (2003). Contagious yawning: the role of self-awareness and mental state attribution // Cognitive Brain Research, 17у 223—227.
Polak A. & Harris P L. (1999). Deception by young children following noncompliance // Developmental Psychology, 35, 561—568.
Posner E. A. (2000). Law and Social Norms. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Posner R. A. (1992). Sex and Reason. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Posner R. A. (1998). The problematics of moral and legal theory // Harvard Law Review, Illy 1637—1717.
Povinelli D. (2000). Folk Physics for Apes. New York: Oxford University Press.
Povinelli D. J. & Eddy T. J. (1996). What young chimpanzees know about seeing // Monographs of the Society for Research in Child Development, 1—247.
Povinelli D. J.yRulfA. B., Landau K. R. & Bierschwale D. T. (1993). Self-recognition in chimpanzees (Pan troglodytes): Distribution, ontogeny, and patterns of emergence // Journal of Comparative Psychology, 107, 347—372.
Premack D. (1976). Intelligence in Ape and Man. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Premack D. (1990). The infant’s theory of self-propelled objects // Cognition, 36, 1—16.
Premack D. & Premack A. (1983). The Mind of an Ape. New York: Norton.
Premack D. & Premack A. (2002). Original Intelligence. New York: McGraw Hill.
Premack D. & Premack A. J. (1995). Origins of human social competence // M. Gazzaniga (Ed.), The Cognitive Neurosciences (p. 205—218). Cambridge, MA: MIT Press.
Premack D. & Premack A. J. (1997). Infants attribute value+/to the goal-directed actions of self-propelled objects // Journal of Cognitive Neuroscience, 9, 848— 856.
Preston S. & de Waal E В. M. (2002). Empathy: It’s ultimate and proximate bases // Behavioral and Brain Sciences, 25, 1—72.
Preuschoft S. (1999). Are primates behaviorists? formal dominance, cognition and free-floating rationales // Journal of Comparative Psychology, //3, 91—95.
Prinz J.J. (2004). Gut Reactions. New York: Oxford University Press.
Prinz J. J. (in press). Against moral nativism // P Carruthers & S. Laurence & S. Stich (Eds.), Innateness and the Structure of the Mind, Vol. II. Oxford: Oxford University Press.
Pylyshyn Z. W & Storm R. W. (1998). Tracking multiple independent targets: Evidence for a parallel tracking mechanism // Spatial Vision, 3, 179—197.
Rachels J. (1975). Active and passive euthanasia // New England Journal of Medicine, 292, 78—80.
Rachels J. (2000). Naturalism // H. LaFollette (Ed.), The Blackwell Guide to Ethical Theory (p. 74—91). Maiden, NJ: Blackwell Publishing.
Rachels J. (2003). The Elements of Moral Philosophy. Boston: McGraw Hill.
Rachlin H. (2000). The Science of Self-Control. Cambridge, MA: Harvard University Press.
RaineA.y Ishikawa S. S., Arce £., Lencz Г., Knuth K. //., Bihrle S., LaCasse L. & Colletti P (2004). Hippocampal structural asymmetry in unsuccessful psychopaths // Biological Psychiatry, 55, 185—191.
Rakison D, H. & Poulin-Duhois D. (2001). Developmental origins of the animateinanimate distinction // Psychological Bulletin, /27, 209—228.
Ratnieks E L. W. & Visscher P K. (1989). Worker policing in the honeybee 11 Nature, 342, 796—797.
Ratnieks F L. W. & Wenseleers T (2005). Policing insect societies // Science, 7, 54— 56.
Rawls J. (1950). A study in the grounds of ethical knowledge: Considered with reference to judgments on the moral worth of character. Unpublished Ph. D., Princeton University, Princeton, NJ.
Rawls J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Rawls J. (2001). Justice as Fairness. Cambridge, MA: Belknap, Harvard University Press.
Reynolds B. & Schiffhauer R. (2004). Measuring state changes in human delay discounting: an experimental discounting task // Behavioural Processes, 67, 343— 356.
Richerson P J. & Boyd R. (2005). Not by Genes Alone: How culture transformed human evolution. Chicago: University of Chicago Press.
Ridley M. (1996). The Origins of Virtue. New York: Viking Press/Penguin Books.
Riling J., Gutman Z)., Zeh Г, Pagnoni G., Berns G. & Kilts C. (2002). A neural basis for social cooperation // Neuron, 35, 395—405.
Ristau C. (1991). Aspects of the cognitive ethlogy of an injury-feigning bird, the piping plover // C. Ristau (Ed.), Cognitive ethobgy: the minds of other animals (p. 91—126). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Rizzolatti G., Fadiga L., Fogassi L. & Gallese V (1999). Resonance behaviors and mirror neurons // Archives Italiennes de Biologie, /37, 83—99.
Rizzolatti G., Fadiga L., Matelli M., Bettinardi V, Perani D. & Fazio F. (1996). Localization of grasp representation in humans by positron emission tomography: 1. Observation versus execution // Experimental Brain Research, ///, 246—252.
Rochat P & Striano T (1999). Emerging self-exploration by 2-month-old infants // Developmental Science, 2, 206—218.
Rogers A. R. (1994). Evolution of time preference by natural selection // American Economics Review, 84, 460—481.
Rogers A. R. (1997). The evolutionary theory of time preference // G. Bock & G. Cardew (Eds.), Characterizing Human Psychological Adapatations (p. 231— 252). London: Wiley.
Rolls E. T (1999). Brain and Emotion. Oxford: Oxford University Press.
Rorty R. (1998). Truth and Progress: Philosophical Papers, Volume 3. Cambridge: Cambridge University Press.
RosatiA. (2005). Discounting in tamarins and marmosets. Unpublished Undergraduate Honors Thesis, Harvard University, Cambridge, MA.
Roskies A. (2003). Are ethical judgments intrinsically motivational? Lessons from “acquired sociopathy” // Philosophical Psychology, 16, 51—66.
Rozin P. (1997). Moralization // A. Brandt & P Rozin (Eds.), Morality and Health (p. 379—401). New York: Routledge.
Rozin P & Fallon A. E. (1987). A perspective on disgust // Psychological Review, 94, 23—41.
Rozin P, Haidt J. & McCauley C. R. (2000). Disgust // M. Lewis & J. M. HavilandJones (Eds.), Handbook of Emotions, 2nd Edition (p. 637—653). New York: Guilford Press.
Rozin P, Millman L. & Nemeroff C. (1986). Operation of the laws of sympathetic magic in disgust and other domains // Journal of Personality and Social Psychology, 50, 703—712.
Rozin P, Nemeroff C, Wane M. & Sherrod A. (1989). Operation of the sympathetic magical law of contagion in interpersonal attitudes among Americans // Bulletin of the Psychonomic Society, 27, 367—370.
Rubin D. (2002). Darwinian Politics: The evolutionary origins of freedom. Newark, NJ: Rutgers University Press.
Rubin P (2002). Darwinian Politics. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
Ruffman T, Garnham W., Import A. & Connolly D. (2001). Does eye gaze indicate implicit knowledge of false belief? Charting transitions in knowledge //Journal of Experimental Child Psychology, 80, 201—224.
Ruffman T.y Olson D. R.y Ash T & Keenan T (1993). The ABCs of deception: do young children understand deception in the same way as adults? // Developmental Psychology, 29, 74—87.
Russell E. (1965). Scapegoating and social control //Journal of Psychology, 61, 203— 209.
Russell J. (1997). How executive disorders can bring about an inadequate ‘theory of mind* // J. Russell (Ed.), Autism as an Executive Disorder (p. 256—304). Oxford: Oxford University Press.
Russell J.y]arrold C. & Potel D. (1994). What makes strategic deception difficult for children—the deception or the strategy? // British Journal of Developmental Psychology, 12, 301—314.
Sachs J. L.y Mueller U. G., Wilcox T P & Bull J. J. (2004). The evolution of cooperation // Quarterly Review of Biology, 79, 135—160.
Saffran J., Johnson E.,Aslin R. N. & Newport E. (1999). Statistical learning of tone sequences by human infants and adults // Cognition, 70, 27—52.
Saffran J. R.,Aslin R. N. & Newport E. L. (1996). Statistical learning by 8-month-old infants // Science, 274, 1926—1928.
Sanfey A. G., Rilling J. K., Aronson J. A., Nystrom L. E. & Cohen J. D. (2003). The neural basis of economic decision making in the ultimatum game // Science, 300, 1755—1758.
Santos I., Flombaum J. & Hauser M. D. (in prep). Rhesus monkey expectations about object motion. Unpublished manuscript, Cambridge, MA.
Santos L. R. & Hauser M. D. (1999). How monkeys see the eyes: cotton-top tamarins’ reaction to changes in visual attention and action // Animal Cognition, 2, 131—139.
Sapolsky R. (1994). Individual differences and the stress response // Seminars in Neurosciences, 6, 261—269.
Sapolsky R. (1998). The Trouble with Testosterone. New York: Scribner.
Sapolsky R. (2001). A Primate’s Memoir. New York: Scribner.
Sapolsky R. & Share L. (2004). A pacific culture among mid baboons: Its emergence and transmission. Public Library of Science Biology, 2: el06. doi: 10.1371/journal.pbio.0020106 [2.
Saporta S. (1978). An interview with Noam Chomsky // Linguistic Analysis, 4 [4], 301—319.
Scheel D. & Packer C. (1991). Group hunting behaviour of lions: a search for cooperation // Animal Behaviour, 41, 697—709.
Sckelling T (1960). The Strategy of Conflict. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Schlottmann A., Alien D., Linderoth C. & Hesketh S. (2002). Perceptual causality in children // Child Development, 73, 1656—1677.
Schlottmann A. & Surian L. (1999). Do 9-month-olds perceive causation-at-a-distance? // Perception, 28, 1105—1113.
Scholl B. J. & Nakayama K. (2002). Causal capture: contextual effects on the perception of collision events // Psychological Science, 13, 493—498.
Scholl B. J. & Tremoulet P. (2000). Perceptual causality and animacy // Trends in Cognitive Science, 4, 299—309.
Schultz W., Dayan P & Montague P R. (1997). A neural substrate of prediction and reward // Science, 275, 1593—1599.
Schultz W. & Dickinson A. (2000). Neuronal coding of prediction errors // Annual Review of Neuroscience, 23, 473—500.
Sethi A. у Mischel W.y Aher J. L., Shoda Y & Rodriguez M. L. (2000). The role of strategic attention deployment in development of self-regulation: predicting preschoolers’ delay of gratification from mother-toddler interactions // Developmental Psychology, 36, 767—777.
Seyfarth R. M. & Cheney D. (2003). Hierarchical social knowledge of monkeys // F. В. M. d. Waal & P L. Tyack (Eds.), Animal Social Complexity: Intelligence, Culture, and Individualized Societies (p. 207—229). Cambridge, MA: Harvard University Press.
Seyfarth R. M. & Cheney, D. L. (1984). Grooming alliances and reciprocal altruism in vervet monkeys // Nature, 308, 541—543.
Shakespeare W. (1914). Macbeth. London: Oxford University Press.
Shallice T (1988). From Neuropsychology to Mental Structure. Cambridge: Cambridge University Press.
Shaw G. B. (1916). Pygmalion. Bartleby. Available: /.
Shepher J. (1971). Mate selection among second generation kibbutz adolescents and adults: incest avoidance and negative imprinting // Archives of Sexual Behaviour, 1, 293—307.
Sherman N. (1989). The Fabric of Character: Aristotle’s Theory of Virtue. New York: Oxford University Press.
Shimizu Y. A. dc Johnson S. C. (2004). Infants’ attribution of a goal to a morphologically unfamiliar agent // Developmental Science, 7, 425—430.
Siegal M. & Peterson С. C. (1998). Preschoolers’ understanding of lies and innocent and negligent mistakes // Developmental Psychology, 34, 332—341.
Sih A. & Mateo J. (2001). Punishment and persistence pay: a new model of territory establishment and space use // Trends in Ecology and Evolution, 16, 477—479.
Silk J. (2002a). The form and function of reconciliation in primates // Annual Review of Anthropology, 31, 21—44.
Silk J. (2002b). Practice random acts of aggression and senseless acts of intimidation: the logic of status contests in social groups // Evolutionary Anthropology, 11, 221—225.
Silk J. B. (2003). Cooperation without counting: the puzzle of friendship // P Hammerstein (Ed.), Genetic and Cultural Evolution of Cooperation (p. 37—54). Cambridge, MA: MIT Press.
Simon H. A. (1990). Invariants of human behavior // Annual Review of Psychology, 41, 1—19.
Singer P (1972). Famine, affluence, and morality // Philosophy and Public Affairs, 1/3, 229—243.
Singer P (1993). Practical Ethics. Cambridge: Cambridge University Press.
Singer P (2000). A Darwinian Left. New Haven, CT: Yale University Press.
Smetana J. (1995). Morality in context: abstractions, ambiguities and applications // Annals of Child Development, 10, 83—130.
Smetana J. (2005). Social-cognitive domain theory: consistencies and variations in children’s moral and social judgments // M. Killen & J. G. Smetana (Eds.), Handbook of Moral Development. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Publishers.
Smuts В. B. (1987). Gender, aggession, and influence // В. B. Smuts & T. S. Struhsaker & R. Seyfarth & D. Cheney & R. W Wrangham (Eds.), Primate Societies (p. 400—412). Chicago: University of Chicago Press.
Sober E. (1994). From a Biological Point of View. Cambridge: Cambridge University Press.
Sober E. & Wilson D. S. (1998). Unto Others. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Sodian B., Taylor C, Harris P L. & Pemer J. (1991). Early deception and the child’s theory of mind: false trains and genuine markers // Child Development, 62, 468—483.
Solomon R. C. (2002). Back to basics: on the very idea of “basic emotions” // Journal for the Theory of Social Behavior, 32, 115—144.
Sorensen R. (1991). Thought experiments // American Scientist, May—June, 250— 263.
Spelke E. (2000). Core knowledge // American Psychologist, 55, 1233—1243.
Spelke E. S. (1994). Initial knowledge: six suggestions // Cognition, 50, 431—445.
Sperber D. & Girotto V. (in press). Does the selection task detect cheater-detection? //J. Fitness & K. Sterelny (Eds.), New Directions in Evolutionary Psychology. Abingdon, UK: Taylor & Francis.
Spikka M., Newberry R. C. & BekoffM. (2001). Mammalian pay: training for the unexpected // Quarterly Review of Biology, 76, 141—168.
Sprengelmeyer R., Young A. W., Calder A. J., Kamat A., Lange H., Homberg V, Perrett D. I. & Rowland D. (1996). Loss of disgust: perception of faces and emotions in Huntington’s disease // Brain, 119, 1647—1665.
Sprengelmeyer R., Young A. W., Pundt /., Sprengelmeyer A., Calder A. J., Berrios G., Wingkel R., Vollmoeller W., Kuhn W., Sartory G. & Przuntek H. (1997). Disgust implicated in obsessive-compulsive disorder // Proceedings of the Royal Society of London, В, B264, 1767—1773.
Stammbach E. (1988). Group responses to specially skilled individuals in a Macaca fascicularis // Behaviour, 107, 241—266.
Stamps J. A. & Krishnan V. V. (1999). A learning-based model of territory establishment // Quarterly Review of Biology, 74, 291—318.
Stephens D. W., McLinn С. M. & Stevens J. R. (2002). Discounting and reciprocity in an iterated prisoner’s dilemma // Science, 298, 2216—2218.
Stevens D., Chairman T & Blair R. J. R. (2001). Recognition of emotion in facial expressions and vocal tones in children with psychopathic tendencies // Journal of Genetic Psychology, 162, 201—211.
Stevens J. R. (2004). The selfish nature of generosity: harassment and food sharing in primates // Proceedings of the Royal Society, London, B, 271, 451—456.
Stevens J. R., Cushman F A. & Hauser M. D. (2005). Evolving the psychological mechanisms for cooperation // Annual Review of Ecology and Systematics, 36, 499—518.
Stevens J. R., Hallinan E. V. & Hauser M. D. (2005). The ecology and evolution of patience in two New World primates // Biology Letters, 1, 223—226.
Stevenson-Hinde J., Stillwel-Barnes R. & Zunz M. (1980). Subjective assessment of rhesus monkeys over four sucessive years // Primates, 21, 223—233.
Stingl M. & Colier J. (2005). Reasonable partiality from a biological point of view // Ethical Theory and Moral Practice, 8, 11—24.
Stone V. E., Cosmides L., Toohy J., Kroll N. & Knight R. T. (2002). Selective impairment of reasoning about social exchange in a patient with bilateral limbic system damage // Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 99, 11531— 11536.
Sunstein C. R., Hastie R., Payne J. W., Schkade D. A. & Viscusi W. К (2002). Punitive Damages. How Juries Decide. Chicago: University of Chicago Press.
Sweetser E. (1987). The definition of “lie”: an examination of the folk models underlying a semantic prototype // D. Hollard & N. Quinn (Eds.), Cultural Models in Language and Thought. New York: Cambridge University Press.
Talwar V & Lee K. (2002). Development of lying to conceal a transgression: children’s control of expressive behaviour during verbal deception // International Journal of Behavioral Development, 26, 436—444.
Talwar V, Lee K, Bala N. & Lindsay R. C. L. (2002). Children’s conceptual knowledge of lying and its relation to their actual behaviors: implications for court competence examinations // Law and Human Behavior, 26, 395—415.
Tarr M. J. & Gauthier I. (2000). FFA: A flexible fusiform area for subordinate-level visual processing automatized by expertise 11 Nature Neuroscience, 3, 764—769.
Tetlock P. E. (2003). Thinking the unthinkable: sacred values and taboo cognitions // Trends in Cognitive Science, 7, 320—324.
Tetlock P. E., Kristel О. V, Elson S. B. & Lemer J. S. (2000). The psychology of the unthinkable: taboo trade-offs, forbidden base rates, and heretical counterfactuals // Journal of Personality and Social Psychology, 78, 853—870.
Thompson С, Barresi J. & Moore С. (1997). The development of future-oriented prudence and altruism in preschoolers // Cognitive Development, /2, 199—212.
Thomson J.J. (1970). Individuating actions //Journal of Philosophy, 68, 774—781.
Thomson J. J. (1971). A defense of abortion // Philosophy and Public Affairs, /, 47—66.
Tinkelpaugh O. L. (1928). An experimental study of representative factors in monkeys //Journal of Comparative Psychology, 8> 197—236.
Tinkelpaugh O. L. (1932). Multiple delayed reaction with chimpanzees and monkeys // Journal of Comparative Physiological Psychology, 13, 207—224.
Tobin //., Longue A. W., Chelonis J. J. & Ackerman К. T (1996). Self-control in the monkey Macaca fascicularis // Animal Learning and Behavior, 24, 168—174.
Todd P. M. & Gigerenzer G. (2003). Bounding rationality to the world // Journal of Economic Psychology, 24, 143—165.
Tomasello M. & G*// /. (1997). Primate Cognition. Oxford: Oxford University Press.
Tomasello M.y Call J. & Hare B. (2003). Chimpanzees understand psychological states — the question is which ones and to what extent // Trends in Cognitive Science, 7, 153—156.
Tomasello M.y Carpenter M.y Call/., Behne T & Moll H. (2005). Understanding and sharing intentions: the origins of cultural cognition // Behavioral and Brain Research, 28, 795—855.
Tooby J. & Cosimdes L. (1998). Friendship and the Banker’s Paradox: Other pathways to the evolution of adapations for altruism // W G. Runciman & J. M. Smith & R. I. M. Dunbar (Eds.), Evolution of Social Behaviour Patterns in Primates and Man (p. 299—323). Oxford: Oxford University Press.
Tranel Z)., BecharaA. & Damasio A. (2000). Decision making and the somatic marker hypothesis // M. Gazzaniga (Ed.), The New Cognitive Neurosciences (p. 1047—1061). Cambridge, MA: MIT Press.
Tranel D. & Damasio A. R. (1985). Knowledge without awareness: An autonomic index of recognition of prosapagnosics // Science, 228, 1453—1454.
Tranel D. & Damasio A. R. (1993). The covert learning of affective valence does not require structures in hippocampal system of amygdala // Journal of Cognitive Neuroscience, 5, 79—88.
Tranel Z)., Damasio A. R. & Damasio H. (1988). Intact recognition of facial expression, gender, and age in patients with impaired recognition efface identity // Neurology, 38, 690—696.
Tranel Z)., Damasio H. & Damasio A. (1995). Double dissociation between overt and-covert recognition // Journal of Cognitive Neuroscience, 7, 425—532.
Tremblay L. & Schultz W. (1999). Relative reward preference in primate orbito-frontal cortex // Nature, 398, 704—708.
Trivers R. L. (1972). Parental investment and sexual selection // B. Campbell (Ed.), Sexual Selection and the Descent of Man (p. 136—179). Chicago: Aldine Press.
Trivers R. L. (1974). Parent-offspring conflict // American Zoologist, /4, 249—264.
Trut L. N. (1999). Early canid domestication: the farm-fox experiment // American Scientist, 87, 160—169.
Tunel E. (1983). The Development of Social Knowledge: Morality and Convention. Cambridge: Cambridge University Press.
Turiel Е. (1998). The development of morality // W Damon (Ed.), Handbook of Child Psychology (p. 863—932). New York: Wiley Press.
Turiel E. (2005). Thought, emotions, and social interactional processes in moral development // M. Killen & J. G. Smetana (Eds.), Handbook of Moral Development. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Publishers.
Uller C. (2004). Disposition to recognize goals in infant chimpanzees // Animal Cognition, 7, 154—161.
Unger P. K. (1996). Living High and Letting Die. New York: Oxford University Press.
van den Berghe P. L. (1983). Human inbreeding avoidance: culture in naturee // Behavioral and Brain Sciences, 6, 91— 123.
Vandello J. A. & Cohen D. (2004). When believing is seeing: sustaining norms of violence in cultures of honor // M. Schaller & C. Crandall (Eds.), Psychological Foundations of Culture. Mawhah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Wainryh C. (2004). “Is” and “Ought”: moral judgments about the world as understood // New Directions for Child and Adolescent Development, 103, 3—18.
Walzer M. (2000). Just and Unjust Wars: a moral argument with historical illustrations. New York: Basic Books.
Watanabe M. (1996). Reward expectancy in primate prefrontal neurons // Nature, 382, 629—632.
Wattles J. (1996). The Golden Rule. Oxford: Oxford University Press.
Wedekind C. & Milinski M. (2000). Cooperation through image scoring in humans // Science, 288, 850—852.
Wegner D. (2002). The Illusion of Conscious Will. Cambridge, MA: MIT Press.
Weinberg S. (1976). The forces of nature // Bulletin of the American Society of Arts and Sciences, 29, 28—29.
Wells J. С. K. (2003). Parent-offspring conflict theory, signaling of need, and weight gain in early life // Quarterly Review of Biology, 78, 169—202.
West M. D. (2003). Losers: recovering lost property in Japan and the United States. Ann Arbor, MI: University of Michigan School of Law.
Westermark E. (1891). The History of Human Marriage. London: Macmillan.
White P. A. (1995). The Under standing of Causation and the Production of Action. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Whitehead H. & Connor R. C. (2005). Alliances. I. How large should alliances be? // Animal Behaviour, 69, 117—126.
Whiten A. & Byrne R. W. (1988). Tactical deception in primates // Behavioral and Brain Sciences, 11, 233—273.
Whitman J. Q. (1998). What is wrong with inflicting shame sanctions? // Yale Law Journal, 107, 1055—1092.
Whitman J. Q. (2003). Harsh Justice. New York: Oxford University Press.
Wilson D. S. (2002a). Darwin’s Cathedral. Chicago: University of Chicago Press.
Wilson D. S. (2002b). Group selection // M. Pagel (Ed.), Oxford Encyclopedia of Evolution (p. 450—454). Oxford: Oxford University Press.
Wilson D. S., Diertrich E. & Clark A. B. (2003). On the inappropriate use of the naturalistic fallacy in evolutionary psychology // Biology and Philosophy, 18, 669— 682.
Wilson E. O. (1998). The biological basis of morality 11 The Atlantic Monthly, April, 53—70.
Wilson J. Q. (1997). The Moral Sense. New York: Free Press.
Wilson J. Q. & Herrnstein R. J. (1985). Crime and Human Nature. New York: Free Press.
Wilson M., Daly M. & Pound N. (2002). An evolutionary psychological perspective on the modulation of competitive confrontation and risk-taking // Hormones and Behavior, 5, 381—408.
Wimmer H. & Perner J. (1983). Beliefs about beliefs: Representation and constraining function of wrong beliefs in young children’s understanding of deception // Cognition, 13, 103—128.
Wolf A. P (1995). Sexual Attraction and Childhood Associations. Stanford, CA: Stanford University Press.
Woodward A. L., Sommerville J. A. & Guajardo J. J. (2001). How infants make sense of intentional action // B. F. Malle & L. J. Moses & D. A. Baldwin (Eds.), Intentions and Intentionality: Foundations of Social Cognition (p. 149—171). Cambridge, MA: MIT Press.
Wrangham R. W. & Peterson D. (1996). Demonic Males: Apes and the Origins of Human Violence. Boston: Houghton Mifflin.
Wrangham R. W., Pilbeam D. & Hare B. (in press). Convergent cranial paedomorphosis in bonobos, domesticated animals and humans? The role of selection for reduced aggression // Evolutionary Anthropology, still in press.
Wright R. (1995). The Moral Animal. New York: Vintage.
Yang C. D. (2004). Universal Grammar, statistics or both? // Trends in Cognitive Sciences, 8(10), 451—456.
Young A. W & DeHaan E. H. F. (1988). Boundaries of covert recognition in prosopagnosia // Cognitive Neuropsychology, 5, 317—336.
Zacks J. M., Braver T S., Sheridan M. A, Donaldson D. /., Snyder A. Z, Ollinger J. M., Buckner R. & Raichle M. E. (2001). Human brain activity time-locked to perceptual event boundaries // Nature Neuroscience, 4, 651—655.
Zacks J. M. & Tversky B. (2001). Event structure in perception and conception // Psychological Bulletin, 727, 3—21.
ZahaviA. (1975). Mate selection: a selection for a handicap //Journal of Theoretical Biology, 53, 205—214.
Zahavi A. (1987). The theory of signal selection and some of its implications // V. P Delfino (Ed.), International Symposium of Biological Evolution (p. 305— 327). Bari, Italy: Adriatica Editrice.
Zak P Kurzban R. & Matzner W. T (2003). The neurobiology of trust // Working Paper, Center for Neuroeconomic Studies.
Zelazo P D. & Frye D. (1997). Cognitive complexity and control: a theory of the development of deliberate reasoning and intentional action // M. Stamenov (Ed.), Language Structure, Discourse, and the Access to Consciousness (p. 113—153). Amsterdam: John Benjamins.
Notes
1
См.: Абелев Г. И. Очерки научной жизни. М.: Научный мир, 2006.
(обратно)2
См.: DamasioA. R. Descartes’ Error. Emotion, Reason, and the Human Brain. New York: Grosset/Putnam Book, 1994.
(обратно)3
См.: Доукинз P. Эгоистичный ген. M.: Мир, 1993.
(обратно)4
См.: Rorty R. Born to be good // The New York Times Book Review. 2006. August, 27.
(обратно)5
См.: Хомский Н. О природе и языке. М.: УРСС, 2005.
(обратно)6
См., например: Koblberg L. Moral development // The cognitive-developmental psychology of James Mark Baldwin: Current theory and research in genetic epistemology / Eds. J. M. Broughton, D. J. Freeman-Moir. Norwood, New Jersey: Albex Publishing Corporation, 1982. P 277—325.
(обратно)7
См.: Эфроимсон В. П. Родословная альтруизма // Новый мир, 1961. №10. С. 193—214.
(обратно)8
См.: Шанже Ж.-П., КоннА. Материя и мышление. М.; Ижевск: Институт компьютерных исследований, НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2004.
(обратно)9
См.: Пинкер С. Язык как инстинкт. М.: УРСС, 2004.
(обратно)10
См.: Мечников И. И. Этюды оптимизма. М.: Наука, 1988.
(обратно)11
См.: Юнг К. Г. Психология бессознательного. М.: Канон, 1994.
(обратно)12
Выготский Л. С. Педагогическая психология. М.: ACT; Астрель; Люкс, 2005. С. 269
(обратно)13
См.: Анохин П. К. Философские аспекты теории функциональных систем. М.: Наука,1976; Александр ов Ю. И., Александрова Н. Л. Субъективный опыт и культура: Структура и динамика // Психология: журнал Высшей школы экономики, 2007. Т. 4. №1. С. 3—46.
(обратно)14
См.: Samuels R. Innateness in cognitive science 11 Trends in Cognitive Sciences, 2004. №8.
(обратно)15
Там же. С. 136—137.
(обратно)16
Рассел Б. Почему я не христианин. М.: Изд-во политической литературы, 1987.
(обратно)17
Моссе Дж. Нацизм и культура: Идеология и культура национал-социализма. М.: Центрполиграф, 2003.
(обратно)18
Хайек фон Ф. А. Контрреволюция науки: Этюды о злоупотреблениях разумом. М.: ОГИ, 2003.
(обратно)19
Таннеровские лекции — циклы лекций по проблемам гуманитарных ценностей, ежегодно проводятся в одном из девяти известных университетов США по выбору Гуманитарного центра (университет штата Юта). Центр основан в 1988 году О. Таннером. (Здесь и далее в постраничных сносках даны примечания переводчика.)
(обратно)20
Работы Хомского, посвященные изучению языка: 1957, 1965, 1986, 1988, 1995,2000.
(обратно)21
Универсальная грамматика — присущая человеку от рождения система грамматических правил, обеспечивающая возможность построения правильных предложений. Эта система имеется у всех людей, независимо от этнических и лингвистических различий. Конкретные языки формируются на основе универсальной грамматики, но в пределах допускаемой ею вариативности
(обратно)22
Хотя Соединенные Штаты в целом придерживаются подхода, установленного Американской медицинской ассоциацией (АМА), в ряде штатов в законодательство были внесены определенные изменения. 1 июня 2004 г. в New York Times появилось сообщение]. Schwartz и J. Estrin, что в Орегоне имеет место неуклонное увеличение числа выписанных врачами рецептов, позволяющих неизлечимым пациентам взять под контроль окончание своей жизни с помощью передозировки лекарств. С 1998 по 2003 г. число пациентов, умерших в результате передозировки, возросло втрое.
(обратно)23
Цитируется по: .
(обратно)24
Rachels, 2003, р. 12.
(обратно)25
Утилитаризм (лат. utilitas — польза) — этическая теория, признающая полезность поступка критерием его нравственности. Основатель утилитаризма И. Бентам определял его основной принцип как «обеспечение наибольшего счастья для наибольшего числа людей» посредством удовлетворения их частных интересов. При этом нравственность поступка — это некий баланс между удовольствиями и страданиями.
(обратно)26
Натуралистическое заблуждение состоит в приравнивании того, что есть (эмпирическая гипотеза), к тому, что должно быть (нормативное требование). В этом приравнивании отражается присущая философии естественного права идентификация «природного», «естественного» с этически «правильным», «хорошим».
(обратно)27
Намек на связь между понятиями ЕСТЬ и ДОЛЖНО БЫТЬ см. в работах: May, Friedman & Clark, 1996; Moore, 1903; Sober, 1994; Wilson, Diertrich & Clark, 2003. Хотя Мур был ответствен за это разделение, он использовал его, чтобы критиковать некоторые аспекты теории добродетели, и в особенности идею о том, что понятие добродетельного может быть сведено к набору определенных черт. Согласно Муру, нельзя путать добродетель как понятие с набором объектов или событий, которые являются добродетельными или входят в состав вещей, которые нам хочется получить, потому что они несут добро.
(обратно)28
Rachels, 2000.
(обратно)29
Обсуждение натуралистического заблуждения см.: Greene, 2003; Wilson et al., 2003; обсуждение отношений между теорией морали и биологическими науками см.: Ridley, 1996; Singer, 2000; Sober & Wilson, 1998; Wilson, 1998.
(обратно)30
В работе Филиппа Китчера (Kitcher, 1985) дан острый критический анализ некоторых из ранних двусмысленностей, связанных с революцией социобиологии и ее прогнозами в отношении теории этики.
(обратно)31
Рискованный, сложный, интригующий, стимулирующий мир моральных дилемм (Greenspan, 1995; Kamm, 1998, 2001а; Mason, 1996; Singer, 1993; Unger, 1996). Параллельный ряд дискуссий возник в психологии и, в частности, в изящной работе Эллиота Тьюриела (Turiel, 1983), установившей различие между насилием, которое нарушает социальные соглашения, и моральными правилами. В отличие от нарушений социальных соглашениий, нарушения моральных правил более серьезны, независимы от полномочий власти и разделяются другими людьми, живущими в различных культурах; например, тянуть кого-либо за волосы для забавы неправильно всюду, даже если ваши родители или Бог говорят, что это хорошо. Я возвращусь к этому различию позже, но, как указывал ряд авторов и наиболее активно среди них Шон Николз (Nichols, 2004), концептуальная разделительная линия между этими двумя формами социальных норм не всегда четко обозначена.
(обратно)32
Unger, 1996
(обратно)33
Руководство Бэрона по слепоте интуиции (Baron, 1994; 1998).
(обратно)34
Я настойчиво подчеркиваю, что в прошлом философы-моралисты, как представители мыслящего человечества, в значительной степени игнорировали или принижали потенциальную важность эмпирических научных данных, которые необходимы для понимания происхождения моральных суждений. За последние десять лет появилось новое поколение философов, изучающих проблемы морали. Они хорошо ориентируются в науках о психике и мозге. В своих работах эти философы, как и их предшественники, излагают логику аргументов и интуитивных представлений, часто используют яркие примеры. Однако затем, в отличие от предшественников, они представляют результаты экспериментальных исследований, так или иначе связанных с проблемами морали. Это новое поколение эмпирически ориентированных философов-моралистов включает Джошуа Грина, Джошуа Ноуба и Шона Николза.
(обратно)35
«Потерянный Рай». Книга 2, строка 910.
(обратно)36
Hobbes, 1651/1968 (часть I, глава 13).
(обратно)37
Размышление И. Канта по поводу морали (1785/1959; 2001).
(обратно)38
Последователи Канта обсуждают, должны ли мы думать о категорическом императиве как о методе, который стимулирует процедуру решения, или как о специфическом испытании принципов. Для тех, кто воспринимает это как испытание, проблема не столько в том, можно ли вообразить мир, в котором обещания нарушаются, но является ли он рационально объясняемым миром. Я благодарю Сьюзан Двайэр за помощь в разъяснении мне этого пункта.
(обратно)39
Kohlberg, 1981; Piaget, 1932/1965, 1954.
(обратно)40
Kohlberg, 1981, р. 181.
(обратно)41
Позвольте мне здесь отметить, что в ходе разработки своей теоретической структуры Колберг ослабил некоторые из более строгих аспектов заключительной стадии моральной зрелости и ее опоры на кантианскую архитектуру. Хотя его последняя формулировка стадий морального развития не включала первичные принципы Канта, Колберг придерживался строго рационалистического взгляда на моральное развитие. Таким образом, по многим позициям Колберг превзошел Канта, особенно в том, что касается уверенности относительно роли сознательного рассуждения.
(обратно)42
Проблемы, проблемы и все больше проблем для теории стадий морального развития (Gibbs, 2003; Macnamara, 1990).
(обратно)43
Музыкальные стулья — метафорический способ описания активности, когда люди или предметы повторно и обычно бесцельно перетасовываются по разным местам.
(обратно)44
Эти случаи взяты из работы социального психолога Джонатана Хайдта (Haidt, 2001; 2003), чьи наблюдения за поведением, шокирующим моральные устои, и эмоциями, сопутствующими этому, упоминаются в данном разделе.
(обратно)45
По поводу двух из самых недавних использований работ Юма, одного в психологии и одного в философии, см.: Haidt (2001) и Nichols (2004).
(обратно)46
Hume, 1739/1978, р. 474, 500.
(обратно)47
Rachels, 2003, р. 12.
(обратно)48
Hoffman, 2000, р. 3. Юм использовал термин «симпатия», тогда как Хоффман использует слово «эмпатия». Некоторые авторы делают различие между этими двумя терминами, полагая, что симпатия связана с беспокойством о других без необходимого чувства того, что чувствуют другие. Тогда как эмпатия явно сосредоточивается на том, чтобы вообразить, каково это — влезть «в шкуру другого». При обсуждении я буду использовать эти термины попеременно, придерживаясь в большей степени термина «эмпатия».
(обратно)49
Эффект хамелеона, как и наше восприятие социальных действий, рефлексивно включает эмпатию, альтруизм и даже нежелательное поведение; см.: Ferguson & Bargh, 2004.
(обратно)50
Там же. С. 48.
(обратно)51
http: // moral.wjh.harvard.edu.
(обратно)52
См. множество дискуссий по поводу проблем, возникающих в примерах с трамваем и им подобных, разработанных Foot и Thomson (Fischer & Ra- vizza, 1992; Mikhail, 2000).
(обратно)53
CliffsNotes — краткие учебные пособия, излагающие содержание наиболее известных философских и литературно-художественных произведений.
(обратно)54
Hare, 1981, p. 139.
(обратно)55
Франциска Камм (1992; 1998) убедительно развивает эту точку зрения в двух своих книгах: «Созидание и разрушение» и «Этика и смертность».
(обратно)56
Ярмарка тщеславия. 2005, ноябрь. С. 377.
(обратно)57
Кросскультурное сходство моральных интуиций см.: Mikhail, 2000; O’Neill & Petrinovich, 1998; Petrinovich & O’Neill, 1996.
(обратно)58
Chomsky, 1968; Chomsky, 1988; Hume, 1739/1978; Hume, 1741/1875; Hume, 1748/1975; Rawls, 1950; Rawls, 1951; Rawls, 1971; Sidgwick, 1907; Harman, 1999; Mikhail, 2000; Dwyer, 1999; Dwyer, 2004; Jackendoff, 2005.
(обратно)59
Психические системы неосознаваемого знания см.: Dehaene, 1997; Lerdahl & Jackendoff, 1996; Mikhail, 2000; Rawls, 1971; Spelke, 1994.
(обратно)60
Некоторые лингвисты, которые придерживаются концепции «принципов и параметров», думают, что возможно ошибочное установление некоторых параметров в течение эмбрионального развития, но они сохраняют пластичность и могут изменяться после рождения.
(обратно)61
От is до’s (Anderson & Lightfoot, 2000).
(обратно)62
Rawls, 1971, p. 46—47.
(обратно)63
Возможно, здесь стоит отметить, что Кант оценил значение взаимосвязи между моральными суждениями и восприятием действия: «Когда рассматривается моральная ценность, это не вопрос действий, которые видны, но их внутренних принципов, которых не видно» (с. 23).
(обратно)64
Как будет сказано ниже, мой комментарий здесь по поводу недостатка информации об акте восприятия имеет отношение к области морали. Социальные психологи и наука о зрительном восприятии обеспечили много информации относительно того, как мы воспринимаем действия и события (Heider & Simmel, 1944; Scholl & Nakayama, 2002; Scholl & Tremoulet, 2000; Wegner, 2002; Zacks et al., 2001; Zacks & Tversky, 2001).
(обратно)65
«Псих» — Mad magazine — популярный американский юмористический журнал.
(обратно)66
Философ Бернард Джерр (Gert, 1998, 2004) разработал одно из самых полных объяснений этих правил, так же как некоторых исключений, которые следуют из них.
(обратно)67
Knobe, 2003а, 2003b; Leslie, Knobe & Cohen, в печати; Mele, 2001.
(обратно)68
Что такое вина? (Baumeister, Stillwel & Heatherton, 1994; Haidt, 2003).
(обратно)69
+%2F+Good+%2F + Evil & child =Justice.
(обратно)70
Гексли нанес поражение Вилберфорсу: http://www. uta.edu/english/danahay/ debate.html.
(обратно)71
Доукинз использует термин «кин-отбор» (родственный отбор), чтобы отличать этот тип естественного отбора от группового отбора (дифференциальное выживание групп) и индивидуального отбора (дифференциальное выживание индивидуумов). Кин-отбор ответствен за внутрисемейный альтруизм; он направлен на сохранение признаков, благоприятствующих выживанию близких родственников индивида.
(обратно)72
Dawkins, 1976, р. 205.
(обратно)73
Jefferson, 1787/1955, ME 6 : 257, paper 12 : 15.
(обратно)74
Это модификация принципа Питера Сингера (Singer, 1993, р. 230).
(обратно)75
Большинство дискуссий, которые за этим последовали, основывались на работе Джона Микайла, который пытался воскресить лингвистическую аналогию Ролза и внедрить ее в современную когнитивную науку (Mikhail, 2000, 2002; Mikhail, Sorrentino & Spelke, 2002).
(обратно)76
Как уже говорилось, существует обширная литература, посвященная принципам, специфическим для приобретения знаний. Эти принципы начали оформляться с работ Хомского по лингвистике и продолжают развиваться в настоящее время в областях, включающих знание археологии, социальных связей и математики (Caramazza, 1998; Chomsky, 1957, 1986, 2000; Cosmides & Tooby, 1994; Dehaene, 1997; Gelman, 2003; Pinker, 1997).
(обратно)77
Контрактарианизм — теория о происхождении и законности содержания моральных норм. Согласно этой теории, моральные нормы приобретают законную силу на основе идеи договора или общего соглашения.
(обратно)78
Chomsky, 1965, p. 8—9.
(обратно)79
Rawls, 1950, p. 45—46.
(обратно)80
Второй принцип Ролза — принцип распределения — проблематичен, потому что создает неравенство среди населения, хотя и улучшает условия существования для тех, кому хуже всего. Представьте один штат, где третья часть — наиболее богатые жители — зарабатывает 100 $ в месяц, средний класс — 80 $ и наиболее бедная часть — 61 $. Во втором штате уровень жизни наиболее богатых достигает 100 $, средний класс имеет 61 $, а наиболее бедные также имеют 61 $. Согласно второму принципу Ролза, жители должны одобрять действия властей второго штата, которые стараются улучшить жизнь беднейших. Логика соблюдена, но неравенство между богатой третью жителей и всеми остальными здесь гораздо больше, чем в первом штате.
(обратно)81
В удивительно простой и ясной книге Бейкера (Baker, 2001) излагается взгляд на язык с точки зрения подхода, ориентированного на выделение принципов и параметров, позиция изначально развитая Хомским (Chomsky, 1981). Мой интерес в данном случае не означает поддержки этого подхода. Я полностью признаю многие важные альтернативы, сравнительно недавно проанализированные Джекендофом (Jackendoff, 2002). Скорее я полагаю, что этот подход дает возможность простым способом описать некоторые из релевантных вопросов в изучении языка и, что важно, обеспечивает простой путь подбора аргументов в пользу моральной способности.
(обратно)82
Лингвистические концепции справедливости (Lakoff, 1996); об интеграции этих идей в дарвиновскую политическую схему см. работы Рубина (R Rubin, 2002).
(обратно)83
Bowles & Gintis, 1999; D. Rubin, 2002.
(обратно)84
В нашем прокате «Медвежатник».
(обратно)85
Игры, в которые играют экономисты (Kagel & Roth, 1995).
(обратно)86
Nowak & Sigmund, 2000, p. 819.
(обратно)87
Справедливая игра и репутация (Kagel & Roth, 1995; Nowak, Page & Sigmund, 2000).
(обратно)88
Почти вся литература по экспериментальной экономике и эволюционной биологии, фокусируясь на таких играх, как «Ультиматум» и «Диктатор», указывает, что связанные с ними вопросы психологии касаются справедливости. Почему справедливость так отделяется от щедрости? Рассмотрим следующий пример. Мать дает своему старшему сыну Билли коробку с десятью шоколадками и просит его поделиться с младшим братом Джои. Билли говорит Джои: «Ты можешь взять одну шоколадку». Было бы странным услышать от Джои такой ответ: «Нет, это несправедливо. У тебя полная коробка, я должен взять, по крайней мере, три шоколадки». Джои может подумать, что Билли недостаточно щедр, но никак не несправедлив. Справедливость довольно часто оказывается связанной с вопросами, касающимися законности. Например, в элегантной монографии, озаглавленной «Справедливость против благосостояния», юристы Луис Кэплоу и Стивен Шейвелл констатируют: «Понятие справедливости включает идеи законности, права и связанные с ними другие понятия, которые обеспечивают судопроизводство и категориальный аппарат для законных политических решений». Например, если кого-то сбила машина и человек серьезно пострадал, справедливый суд рассмотрит это дело таким образом, что жертва получит компенсацию за неосторожный поступок водителя. Психология щедрости в этом случае может оказаться более подходящим предметом исследования в этих экспериментах, чем психология честности.
(обратно)89
Трагедия общин, или соблазн злоупотребления общественной собственностью (Hardin, 1968).
(обратно)90
Dunkan, 1993.
(обратно)91
Понятие косвенной взаимности было впервые введено в прекрасной и в определенном смысле опередившей свое время книге Ричарда Александера (Alexander, 1987), озаглавленной «Биология морали».
(обратно)92
Наказание и репутация представляют главные составляющие стабильной кооперации среди людей (Fehr & Gachter, 2002; Milinski, Semmann & Kram- beck, 2002; Wedekind & Milinski, 2000).
(обратно)93
Прочная взаимность — это чистый альтруизм и уникально человеческое явление (Fehr & Fishbacher, 2003; Fehr & Henrich, 2003; Gintis, 2000; Gintis, Bowels, Boyd & Fehr, 2003).
(обратно)94
Бонго-Бонго — название вымышленной африканской страны. Британский политик-консерватор Алан Кларк в речи, посвященной британской иммиграции, заявил, что «иммигрантов следует выслать назад, в страну Бонго-Бонго».
(обратно)95
Различные вознаграждения для разных народностей (Henrich et al., 2001; Henrich et al., в печати).
(обратно)96
Binmore, 1998; Boehm, 1999.
(обратно)97
Индейцы Ачи из Парагвая и система распределения (Hill, 2002).
(обратно)98
Включение философии Ролза в экспериментальную схему (Frohlich & Орpenheimer, 1993).
(обратно)99
Личное сообщение Нормана Фролича, 21 октября 2003 г.
(обратно)100
Канеман, конечно, был не один, осуществляя такие попытки (Gilovich, Griffin & Kahneman, 2002).
(обратно)101
Хотя большинство специалистов в области политической философии интерпретировали исходные тезисы Ролза как обеспечивающие универсальное объяснение справедливого распределения, впоследствии он прояснил свою позицию, предположив, что они могут быть применимы только к западным демократиям.
(обратно)102
Велфаризм — экономическое учение, ориентированное на создание государства всеобщего благосостояния.
(обратно)103
Kaplow & Shavell, 2002.
(обратно)104
Развитие норм см.: Axelrod, 1984; Kameda, Takezawa & Hastie, 2003; Kaplow & Shavell, 2002; McElreath, Boyd & Richerson, 2003.
(обратно)105
Posner, 2000, p. 3.
(обратно)106
Исследования активности мозга методом визуализации, проведенные недавно Эрнстом Фером, показали, что во время игр с заключением сделок области мозга, активируемые при вознаграждении, также активируются при наказании других участников. Наказание воспринимается позитивно как вознаграждение.
(обратно)107
Теоретические модели наказания см.: Bowles & Gintis, 2003; Boyd, Gintis, Bowles & Richerson, 2003.
(обратно)108
Контроль через объявление «козлом отпущения» см.: Russell, 1965.
(обратно)109
Хадза думают, что лучше получать, чем отдавать (Marlowe, 2004).
(обратно)110
Эффект гипотетической «зеленой бороды» допускает существование генов, обеспечивающих взаимный альтруизм.
Речь идет о знаменитом готическом романе Н. Готорна «Алая буква», героиня которого была обречена носить знак — алую букву — как свидетельство позора за рождение внебрачного ребенка.
(обратно)111
Наказание алой буквой на подъеме (Garvey, 1998; Litowitz, 1997; Whitman, 1998).
(обратно)112
Simon, 1990, p. 7; для дальнейшего знакомства с ранними представлениями Саймона см.: Todd & Gigerenzer, 2003.
(обратно)113
Whitman, 2003.
(обратно)114
Свод законов вавилонского царя Хаммурапи.
(обратно)115
Goldman, 1979, p. 54.
(обратно)116
Что наши судебные системы полагают по поводу осуществления мер наказания и что решают суды присяжных (Sunstein, Hastie, Payne, Schkade & Viscusi, 2002).
(обратно)117
В 1925 г. в штате Теннесси учитель Джон Скоупс был отдан под суд за преподавание теории эволюции Дарвина.
(обратно)118
Daly & Wilson, 1988, p. 251.
(обратно)119
Kaplow & Shavell, 2002, p. 328.
(обратно)120
Exodus, 22:1.
(обратно)121
Dolinko, 1992, p. 1656.
(обратно)122
.
(обратно)123
Задачи с трамвайными вагонами, разработанные Фут, и их альтернативные воплощения см.: Fisher & Ravizza, 1992; Foot, 1967; Thomson, 19/0-
(обратно)124
Консиквентализм характерен для тех теорий морали, согласно которым следствия некоторого специфического действия формируют основу любого надежного морального суждения по поводу этого действия. Таким образом, консиквенталист объясняет, что правильное действие — это действие, которое влечет за собой хорошие последствия.
(обратно)125
Fisher & Ravizza, 1992; Kamm, 1998, 2001.
(обратно)126
O’Neill & Petrinovich, 1998; Petrinovich & O’Neill, 1996; Petrinovich* O’Neill & Jorgensen, 1993.
(обратно)127
O’Neill & Petrinovich, 1998, p. 364.
(обратно)128
Mikhail, 2000; Mikhail et al., 2002.
(обратно)129
Принцип запрета преднамеренного физического насилия — это запрет на неразрешенный, непривилегированный телесный контакт с нанесением физического вреда.
Принцип двойного эффекта — это традиционный моральный и правовой принцип, в соответствии с которым запрещенные действия можно оправдать, если вред, который ими наносится, не является преднамеренным, а предвидимые и умышленные положительные последствия превосходят предвидимые отрицательные последствия.
(обратно)130
Универсалии насилия см.: Daly & Wilson, 1988, 1998; Hirschi & Gottfredson, 1983; Wilson, Daly & Pound, 2002.
(обратно)131
Благодарю Ричарда Рангхэма за то, что он привлек мое внимание к этим вопросам.
(обратно)132
Wilson et al., 2002, p. 289.
(обратно)133
Происхождение и культурная эволюция пристрастий см.: Stingl & Colier, 2005.
(обратно)134
Культура мачо (Nisbett & Cohen, 1996).
(обратно)135
исс Мэннэрс — литературный псевдоним Джудит Мартин, американской журналистки и специалиста по этикету, известной своими многочисленными выступлениями и советами в этой сфере.
(обратно)136
Названия городов отражают психологию насилия (Kelly, 1999).
(обратно)137
Широкое использование скидок см.: Ainslie, 2000; Daly & Wilson, 1988; Elster, 1979, 2000; Rogers, 1994, 1997; Wilson & Herrnstein, 1985; Wilson et al., 2002.
(обратно)138
Шокирующие эксперименты Милгрэма см.: Milgram, 1974.
(обратно)139
Культуры чести и разделение понятий «есть» и «должно быть» см.: Vandello & Cohen, 2004.
(обратно)140
Vandello & Cohen, 2004.
(обратно)141
Gordon, 2001.
(обратно)142
Убийство за честь (Emery, 2003; Kulwicki, 2002; Mayell, 2002).
(обратно)143
Международная амнистия в Пакистане: убийства чести: - ty.org/library/Index/engASA330062002? OpenDocument.
(обратно)144
Цит. по: Vandello, Cohen, 2003, р. 998.
(обратно)145
Психология и право в преступлениях страсти (Abu-Odeh, 1997; Engel, 2002; Milgate, 1998).
(обратно)146
Kundera, 1985, p. 34.
(обратно)147
Nourse, 1997, p. 1340—1342.
(обратно)148
Horder, 1991, p. 20.
(обратно)149
Harris, 1989.
(обратно)150
Horder, 1992, p. 70.
(обратно)151
Hobbs, 1642/1962, p. 25 (цит. по Хордеру, см. выше).
(обратно)152
Horder, 1992, p. 98.
(обратно)153
Микайл (Mikhail, 2000) представляет более формальный анализ этой и других проблем, в то же время Камм (Kamm, 2000) обеспечивает многие из наиболее важных выводов, указывая на ограничения принципа двойного эффекта.
(обратно)154
Предисловие (Hutcheson, 1728/1971).
(обратно)155
Книга I, глава ii (Leibniz, 1704/1966).
(обратно)156
Darvin, 1958, p. 94.
(обратно)157
Блискет-детектор — игровое устройство, включающее два контейнера и подставку; если вставить специальный ключ в контейнер, а затем поместить его на подставку, включится свет и заиграет музыка. Это устройство применяют для изучения особенностей мышления детей раннего возраста.
(обратно)158
Критика взглядов нативистов на психологию морали (Prinz, в печати).
(обратно)159
Общая дискуссия о роли ожиданий в философии действия и возрастной психологии см.: Kagan, 2002b; Oison et al., 1996; White, 1995.
(обратно)160
В азартной игре в кости «глаза змеи» — результат вбрасывания двух кубиков, при котором на каждом выпадает сторона с одним очком. Оказавшись рядом, кубики производят впечатление пары змеиных глаз. Этот термин используется в широком смысле как свидетельство невезения.
(обратно)161
Ряд возрастных психологов обсуждали важность проблемы ожидания в изучении психики младенцев, проводя параллели с аналогичными процессами у животных (Kagan, 2002b).
(обратно)162
Обучение простому правилу: выбери В, а не A (Baillargeon et al., 1990; Diamond et al., 1994; Diamond & Gilbert, 1989; Harris, 1986; Marcovitch & Zelazo, 1999; Munakata, 1997; Piaget, 1954; Smith et al., 1999; Wellman et al., 1986; Zelazo et al., 1998).
(обратно)163
Разглядывание и стремление дотянуться до скрытых объектов (Baillargeon, 1995; Baillargeon & DeVos, 1991; Baillargeon et al., 1985; Bogartz et al., 1997).
(обратно)164
Самоуправляемое движение как признак одушевленных объектов (Gelman, 1990; Leslie, 1994; Premack, 1990; Schlottmann & Surian, 1999).
(обратно)165
Определение целей по особенностям действия (Johnson, 2003; Santos & Hauser, 1999; Woodward et al., 2001). Джонсон показывает, что даже «аморфная капля», которая лепечет что-то не похожее на звуки речи, обращаясь к человеку, может иметь цели.
(обратно)166
По теоретическим вопросам ожидания см.: Gergely & Csibra, 2003; Leslie, 1994; Premack, 1990; Premack & Premack, 1995, 1997; теорию и особенно хорошие экспериментальные задания см.: Csibra & Gergely, 1998; Csibra et al., 1999; Gergely et al., 1995.
(обратно)167
Bassili, 1976; Heider & Simmel, 1994; Shimizu & Johnson, 2004.
(обратно)168
Johnson, 2000, 2003.
(обратно)169
Действие и эмоции (Kuhlmeier et al., 2003; Premack & Premack, 1997).
(обратно)170
Abell et al., 2000; Kuhlmeier et al., 2003.
(обратно)171
Супербоул — финал первенства Национальной лиги американского футбола.
(обратно)172
Философия действий и событий (Casati & Varzi, 1996).
(обратно)173
Goldman, 1971.
(обратно)174
«Конечная зона», «тачдаун» — термины американского футбола.
(обратно)175
Единицы восприятия событий, от поведения к мозгу (Newtson, 1973; New- tson et al., 1977; Newtson et al., 1987; Zacks et al., 2001; Zacks & Tversky, 2001).
(обратно)176
Как дети разделяют события на отдельные действия (Baldwin & Baird, 2001).
(обратно)177
Идентичными, или монозиготными, называют близнецов, появившихся в результате деления одной оплодотворенной яйцеклетки, такие близнецы имеют полностью совпадающие генотипы. Принимается, что все различия между членами одной пары таких близнецов определяются влияниями среды.
(обратно)178
Исключительный мир идентичных близнецов, воспитанных порознь (Bouchard et al., 1990; Deary, 2001; McClearn, 1997; Pinker, 2002).
(обратно)179
Самосознание личности в культуре (Boehm, 1999; Haidt, 2003; Markus & Ki- tayama, 1991).
(обратно)180
Flanagan, 1996.
(обратно)181
Появление самосознания и чувства «я» (Kalnins & Bruner, 1973; Lewis et al., 1985; Rochat & Striano, 1999).
(обратно)182
Здесь важно отметить, что, прежде чем возникает способность к рефлексии, обращенной на себя, и к самосознанию, дети получают много информации о том, что происходит в их собственном теле. Эта крайне обширная информация связана с деятельностью внутренних механизмов и систем, обеспечивающих управление положением тела, температурой тела, работой сердца и органами чувств (осязанием, зрением и слухом) и так далее. Дамасио (Da- masio, 2000) четко определил эту совокупность разнообразных ощущений как прото-самость, или прото-я, — образование, которое в эволюции или индивидуальном развитии предшествует саморефлексии и самосознанию.
(обратно)183
«Модель психического» — понятие, которое отражает присущие детям на ранних этапах развития представления о себе и окружающем мире.
(обратно)184
Нарушенное самопознание при сохранном самосознании (Ellis & Lewis, 2001).
(обратно)185
Скрытые знания при прозопрагнозии (Tranel & Damasio, 1985, 1993; Tranel et al., 1988; Tranel et al., 1995; Young & DeHaan, 1988).
(обратно)186
Капграс и ложная иллюзия (Ellis & Lewis, 2001).
(обратно)187
Рабы не имеют социальной жизни (Patterson, 1982).
(обратно)188
Варианты эмоций (Fessier, 1999; Fessier & Haley, 2003; Haidt, 2003).
(обратно)189
Bentham 1789/1948, p. 1; Сократ цитируется по работе Платона «Phaedo», раздел 68с—69d.
(обратно)190
Книга Принза (Prinz, 2004) представляет четкий анализ современных теоретических исследований по природе эмоций. В ней обсуждаются различные актуальные проблемы эмоций, а также то, каким образом психологи и нейрофизиологи выявляют причины возникновения и последствия влияния эмоций на наше поведение.
(обратно)191
Многие дискуссионные аспекты проблемы эмоций, из числа обсуждавшихся в этой книге, заимствованы мной из следующих прекрасных текстов: Damasio, 1994, 2000; Davidson et al., 2003; Eisenberg et al., 2003; Ekman, 1992;
Fessier & Haley, 2003; Fiske, 2002; Frank, 1988; Griffiths, 1997; Haidt, 2001; Haidt & Joseph, 2004; LeDoux, 1996; Nesse, 2001; Prinz, 2004.
(обратно)192
Eisenberg et al., 2003, p. 789; детальное и проникновенное обсуждение эмпатии, включая ее эволюционное и онтогенетическое происхождение, см.: Preston & de Waal, 2002. Более традиционное описание дано в работах: Gibbs, 2003; Hoffman, 2000.
(обратно)193
Я, мое понимание, моя скука и моя помощь (Gallup, 1991; Platek et al., 2003).
(обратно)194
Мозговые центры, ответственные за чувство отвращения (Moll et al., 2005; Sprengelmeyer et al., 1996; Sprengelmeyer et al., 1997).
(обратно)195
Отвращение с позиции Дарвина (Darwin, 1872, p. 253).
(обратно)196
Проблема отвращения за пределами позиции Дарвина (Fessier, в печати; Haidt et al., 1994; Rozin, 1997; Rozin 6c Fallon, 1987; Rozin et al.,2000; Rozin et al., 1986; Rozin et al., 1989).
(обратно)197
Проблема «курицы и яйца» применительно к отвращению и моральным убеждениям (Fessier, в печати).
(обратно)198
Аушвиц-Биркенау был крупнейшим комплексом нацистских концентрационных лагерей, в котором погибли от 1,1 до 1,6 млн человек, 90% из них — евреи из стран Европы; Абу-Грейб — тюремный комплекс, расположенный приблизительно в 20 милях к западу от Багдада, используемый силами коалиции. С апреля 2004 г. в тюрьме содержались около 5 тыс. человек. В конце апреля 2004 г. в СМИ появилась шокирующая информация о пытках, которым американские военные подвергали иракских заключенных.
(обратно)199
Запрет инцеста как универсальный закон (Brown, 1991; van den Berghe, 1983).
(обратно)200
Westermark, 1891.
(обратно)201
От близости к отвращению (Leiberman et al., в печати; Shepher, 1971; Wolf, 1995).
(обратно)202
Frazer, 1910.
(обратно)203
Воля к действию (Dennett, 2003; Wegner, 2002).
(обратно)204
Панч и Джуди — традиционные действующие лица ярмарочного балагана.
(обратно)205
Выделение в социальном интеллекте отдельных компонентов, возможно, впервые обсуждалось когнитивным психологом Аланом Лесли (Leslie, 1994, 2000; Leslie & Keeble, 1987), в первую очередь в категориях отдельных способностей. Бэрон-Коэн (Baron-Cohen, 1995), Кармилофф-Смит (Karmiloff- Smith, 1992) и многие другие впоследствии представили дополнительные материалы, что изменило его ранние взгляды.
(обратно)206
Хотя слепые дети, по-видимому, способны воспринимать состояние другого человека, некоторые авторы полагают, что у них имеет место задержка развития этой способности, что обнаруживается при выполнении заданий, требующих понимания ложных представлений. Есть точка зрения, что слепые вообще не способны к овладению такими знаниями (Hobson, 2002; McAlpine & Moore, 1995; Minter et al., 1998). Однако, поскольку некоторые слепые дети все-таки осваивают понимание ложных представлений, становится ясно, что участие зрения не является необходимым условием для овладения этим умением.
(обратно)207
Связь игры и психического развития ребенка (Harris, 2000; Leslie, 1987).
(обратно)208
Джимми Стюарт — известный американский актер. В фильме «Харви» (1950) у его героя был друг — невидимый кролик, который создавал ему множество проблем.
(обратно)209
В отличие от Пиаже и Колберга, которые полагали, что понимание ребенком намерений других людей развивается поздно, только к девяти годам, целый ряд исследований, в том числе самые последние Лесли (Leslie et al., в печати) и Сейгел (Siegal & Peterson, 1998), указывает на более раннее возникновение оценок такого рода. Имеются в виду оценки взаимосвязи между намерением и последствиями — как вредными, так и полезными; а также способности различать ложь, случайный инцидент и ошибки беспечности.
(обратно)210
Литература по развитию модели психического и моральным суждениям обширна и представляет автономные области исследований. Только недавно эти два направления обнаружили отчетливую тенденцию к сближению (Baird & Astington, 2004; Chandler et al., 2000; Kahn, 2004; Moore & Macgillivray, 2004; Wainryb, 2004).
(обратно)211
«Салли—Энн» и овладение ложными представлениями. Как рассказывал Алан Лесли, исходная версия этой задачи была разработана Виммером и Пернером (Wimmer & Perner, 1983). В ней участвовали мальчик по имени Макси и его мать. С этой версией задачи, ввиду ее сложности, не могли справиться все трехлетние дети и половина четырехлетних. Только шестилетние дети могли ее решить. По этой причине Бэрон-Коэн, Лесли и Фрич (Baron-Cohen, Leslie, Frith, 1985) упростили задачу, и на свет появились Салли и Энн. Эту задачу трехлетние дети также не могут решить, но большинству четырехлетних она по силам.
(обратно)212
Концептуальная революция в науке и младенчестве (Carey, 1985; Kuhn, 1970).
(обратно)213
Исследование, проведенное методом фиксации направления взгляда в ситуации нарушения ожиданий, дает основания считать, что дети в возрасте одного года и трех месяцев уже способны приписывать другим определенные психические состояния (Onishi & Baillargeon, 2005).
(обратно)214
1) землетрясением, в результате которого камни падают с горы и убивают человека;
2) собакой, сдвинувшей камень с холма, который, покатившись вниз, убивает человека;
3) шимпанзе, бросившим камень в человека и убившим его;
4) женщиной, бросившей камень в человека и убившей его.
(обратно)215
Я буду обсуждать тему намерений в поведении животных в главах 6 и 7, включая описание некоторых работ, выполненных на собаках и шимпанзе.
(обратно)216
Синдром Вильямса и примитивные биологические знания (Johnson & Carey, 1998).
(обратно)217
Раса в сознании (Hirschfeld, 1996): http:.
(обратно)218
Скверные склонности (Allport, 1954; Dovidio et al., 2005; Fiske, 1998).
(обратно)219
Miller y. California, 413 U.S. 15. 93 S.Ct. 2607 (1973); цит. no Nussbaum (2004, p•2)•
(обратно)220
Неосознаваемые установки по отношению к l’autre (Banaji, 2001; Cunningham et al., 2005; Phelps et al., 2000).
(обратно)221
Сексизм — предвзятое отношение к человеку в зависимости от его пола; эйджизм — то же самое в зависимости от возраста.
(обратно)222
Hazlitt, 1805/1969, p. 3.
(обратно)223
Получить один зефир сейчас или пять позже (Ayduk et al., 2000; Metcalfe & Mischei, 1999; Mischei, 1966, 1974; Mischei et al., 1989; Mischei et al., 1974; Peake et al., 2002; Sethi et al., 2000). Эта исключительная подборка работ прекрасно сочетается с другой, посвященной исследованиям темперамента, проведенным приблизительно в то же время моим коллегой и другом Джеромом Каганом (Kagan, 2002а; Kagan et al., 1988). Работы Кагана представляют блестящий образец того, как детальное лонгитюдное изучение детей помогает обнаружить мощное влияние биологических механизмов, обусловливающих реакции ребенка на окружающую среду.
(обратно)224
Kochanskaet al., 1996.
(обратно)225
Ожидание награды и контроль насилия (Ayduk et al., 1999; Ayduk et al., 2000; Downey & Feldman, 1996; Downey et al., 2000).
(обратно)226
Благоразумие и альтруизм (Moore & Macgillivray, 2004; Thompson et al., 1997).
(обратно)227
Этика добродетели (Hursthouse, 1999; Sherman, 1989).
(обратно)228
Иногда стоит не оттягивать (Kacelnik, 1997, 2003; Rogers, 1994, 1997; Wilson et al., 2002).
(обратно)229
Оскар Уайльд: «The Critic as Artist», part I, «Intentions», 1891.
(обратно)230
Ваш мозг в сетях проблемы трамвайного вагона (Greene et al., 2004; Greene et al., 2001).
(обратно)231
Я хочу отметить, что Грин не ставит своей целью подтвердить взгляды Канта, описанные ранее. С его точки зрения, которую я считаю совершенно неортодоксальной по отношению к творчеству Канта и его последователей, философская система Канта в своей основе опосредуется эмоциями, которые затем рационализируются путем произвольного рассуждения. Для Грина, следовательно, деонтологические принципы Канта гораздо больше связаны с эмоциями, чем с размышлением. Хотя мы, конечно, имеем эмоции, связанные с деонтологическими принципами, например такими, как «убийство — зло», но, возможно, наши эмоции возникают на основе абстрактных и лишенных эмоционального сопровождения правил. В целях экспозиции и в поддержку более традиционных взглядов на творчество Канта я подтверждаю мою характеристику кантианского создания.
(обратно)232
Внутри нашего «заводного апельсина» (Berthoz et al., 2002; Moll et al., 2001; Moll, Oliveira-Souza et al., 2002; Moll et al., 2005; Moll, Oliveira-Souza et al., 2002; Oliveira-Souza & Moll, 2000).
(обратно)233
Подражание и система зеркальных нейронов (Gallese & Goldman, 1998: Gallese et al., 2004; Goldman, 1989, 1992; Gordon, 1986; Rizzolatti et al., 1999; Rizzolatti et al., 1996).
(обратно)234
Поражение лобных долей, контроль, эмоции и моральное поведение (Adolphs, 2003; Damasio, 1994, 2000; Fuster, 1997; Goldberg, 2001; Shallice, 1988).
(обратно)235
Принято считать, что лобные доли выполняют функции программирования, регуляции и контроля поведения.
(обратно)236
Разрушение социального разума (Adolphs, 2003; Adolphs et al., 1998; Anderson et ai., 1999; Damasio, 1994).
(обратно)237
Игромания, нарушения функций префронтальных долей мозга и неспособность включать эмоции в обеспечение процесса принятия разумных решений на будущее (Bechara et al., 1994; Bechara et al., 1997; Damasio, 2000; Tranel et al., 2000).
(обратно)238
Пациенты с поражением мозга, проблема снижения соблазна и контроль (Ainslie, 2000; Elster, 1979, 2000).
(обратно)239
Впечатляющая работа философа Адины Роскиес (Roskies, 2003) утверждает, что данные Дамасио, полученные на пациентах, наносят удар по классической этике, согласно которой наше моральное знание имеет сложные связи с мотивационной сферой. Иными словами, моральные убеждения в этом контексте — просто мотивационные состояния. Если человек верит, что некоторое действие морально оправдано, он имеет мотивацию к его обязательному выполнению. Роскиес считает, что результаты исследования больных с поражением лобных долей дают основание для опровержения этого положения. Хотя у этих больных нарушена система, отвечающая за мотивацию, их моральные убеждения не отличаются от нормы. Проблема Роскиес в том, что при таком нарушении страдает не мотивация к действию, а эмотив- ная система, которая регулирует действие. Нет доказательств, что эти пациенты не имеют должной мотивации к совершению правильных поступков. Но так или иначе эта мотивация не проходит проверку со стороны нормального комплекта эмоций, которые либо стимулируют, либо тормозят конкретные моральные действия. Эта позиция касается исполнительных механизмов морали и не затрагивает вопросы моральной компетентности.
(обратно)240
Поражение орбитофронтальной коры в младенчестве блокирует формирование морального чувства, не затрагивая при этом других высших когнитивных функций: речь, способности к рассуждению и планированию (Anderson et al., 1999; Driscoll et al., 2004).
(обратно)241
Лобный синдром — совокупность изменений психики и поведения, возникающих в результате поражения лобных долей мозга.
(обратно)242
Эволюционные истоки нашего насилия (Wrangham & Peterson, 1996).
(обратно)243
Агрессия, вышедшая из-под контроля (Hare, 1993; Hollander & Stein, 1995).
(обратно)244
Клиническое руководство по психопатии (Hare, 1993).
(обратно)245
Эмоциональный профиль психопата (Blair, 1995, 1997; Blair & Cipolotti, 2000; Blair et al., 1999; Blair et al., 1995; Stevens et al., 2001). Хотя работа Блэра показывает, что за психопатию «ответствен» определенный эмоциональный дефект, психопаты не способны устанавливать связь между эмоциями и нормативными представлениями, почему одни действия правильны, а другие — нет. Это замечание было сделано философом Шоном Николзом (Nichols,2002) . После этого Блэр отказался от жесткого варианта своего утверждения и заявил, что, кроме неспособности опознавать признаки страдания, психопаты испытывают трудности при выборе подходящего варианта ответов. Этот факт говорит о том, что ключевая связь между эмоциями и принятием решения нарушена.
(обратно)246
Мозг психопата (Intrator et al., 1997; Kiehl et al., 1999; Kiehl et al., 2001; Muller et al., 2003; Raine et al., 2004).
(обратно)247
Накал морального преступления и холод обычного насилия (Nichols, 2002, 2004; Nucci, 2001; Smetana, 2005; Turiel, 2005).
(обратно)248
Molière, 1673, акт 1, сцена 1.
(обратно)249
Аттрактор — особенность индивидуума, вызывающая у других чувство симпатии к нему.
(обратно)250
Barry, 1995, р. 44.
(обратно)251
Жизнь за пределами гестационного рая (Hrdy, 1999, р. 440).
(обратно)252
Сигналы как «препятствия» в теории Захави (Zahavi, 1975, 1987).
(обратно)253
Baird & Rosenbaum, 2001; Dworkin, 1993.
(обратно)254
Размышления об аборте в общем контексте принципов причинения вреда (Kamm, 1992; Thompson, 1971).
(обратно)255
Я говорю о предвидении Ролза, потому что он написал этот текст (с. 503— 504) раньше, чем Доукинз и Уилсон опубликовали свои основополагающие работы в области социобиологии. По крайней мере, некоторые из его предвосхищающих идей были почерпнуты из разговоров с Робертом Тривер- сом. В то время Триверс только окончил Гарвардский университет, но уже много достиг, формируя собственный вклад в изучение морали, который, в первую очередь, проявился в изложенной им теории взаимного альтруизма (она была опубликована в том же году, что и «Теория справедливости» Ролза).
(обратно)256
От Homo economicus к Homo reciprocans (Bowles & Gintis, 1998).
(обратно)257
Эволюция и онтогенез восприятия числа. Эта обширная литература детально анализируется и обобщается в следующих работах: Butterworth, 1999; Dehaene, 1997; Gallistel & Gelman, 2000; Hauser, 2000; Hauser & Spelke, 2004.
(обратно)258
Как разум вычисляет числа без использования языка (Dehaene, 1997; Gallistel & Gelman, 2000; Gordon, 2004; Hauser, 2000; Hauser & Carey, 1998; Pica et al., 2004; Pylyshyn & Storm, 1998).
(обратно)259
Как дети определяют справедливую долю (Huntsman, 1984).
(обратно)260
Косвенная взаимность (Alexander, 1987, р. 85).
(обратно)261
Игры, в которые играют дети (Harbaugh, Krause & Liday, 2001; Harbaugh et al., 2003; Harbaugh, Krause & Vesterlund, 2001; Keil, 1986; Murninghan & Saxon, 1998).
(обратно)262
Когда дети играют в игры (Harbaugh, Krause & Liday, 2001).
(обратно)263
Хотя литература, посвященная роли обмана в психическом развитии ребенка, практически не связана с исследованиями по психологии морали, создается впечатление, что склонность к действию или к бездействию, которая возникает в развитии очень рано, может играть существенную роль в проявлениях лжи и обмана (Baron, 1998; Baron et al., 1993).
(обратно)264
Небольшая безобидная ложь (Вок, 1978; Sweetser, 1987).
(обратно)265
Russell et al., 1994, p. 301.
(обратно)266
Как организовать наблюдение, соответствующее намерениям и целям (То- masello et al., 2005).
(обратно)267
Как развивается ум, склонный к обману (Carlson et al., 1998b; Chandler et al., 1989; DePaulo et al., 1982; Freire et al., 2004; Hala et al., 1991; Lee et al., 2002; Polak & Harris, 1999; Ruffman et al., 1993; Sodian et al., 1991; Talwar & Lee, 2002; Talwar et al., 2002). В настоящее время среди возрастных психологов ведется немало споров по поводу того, когда у детей появляется компетентность в обмане и какие способности должны быть у ребенка, чтобы обеспечить эту компетентность. Из этих дискуссий я выделю две простые позиции. Во-первых, компетентность, позволяющая обманывать, появляется довольно рано, во всяком случае до того момента, когда дети приобретают способность объяснять или оправдывать свое поведение. Во-вторых, эта компетентность, по-видимому, возникает у всех детей приблизительно в одном и том же возрасте, независимо от культуры или особенностей воспитания и взаимодействия с родителями, сиблингами и сверстниками.
(обратно)268
Austen, 1814.
(обратно)269
Вальдо — подросток, популярный комический персонаж поп-культуры США начала 1990-х годов.
(обратно)270
Различные интерпретации задачи выбора Уэйсона (Almor & Sloman, 1996; Cheng & Holyoak, 1985, 1989; Fiddick et al., 2000; Lieberman & Klahr, 1996; Sperber & Girotto, в печати).
(обратно)271
Пациент, который, понимая необходимость предосторожности, не понимает сущности социальных контрактов (Stone et al., 2002).
(обратно)272
Во многих случаях правила, предусматривающие разрешение, включают социальный контракт и требование предосторожности, но возможны варианты, когда такие правила не связаны с социальным контрактом или с предосторожностью. В ранних дискуссиях по работам Космидес, выполненных на задаче Уэйсона, исследователи Ченг и Холёак утверждали, что результатов Космидес недостаточно, чтобы говорить об эволюции модуля для выделения обманщиков. Скорее они относятся к более общему (и не такому новому) утверждению о том, что на успешность деятельности может влиять контекст, особенно когда в оформление социальных правил, несущих разрешение, включается логика (Cheng & Holyoak, 1985, 1989; Cosmides & Tooby, 2000).
(обратно)273
Логические умозаключения у детей (Harris & Nunez, 1996; Nunez & Harris, 1998).
(обратно)274
Цит. no J. Epstein (2003, p. 7), наука о зависти (Fessier & Haley, 2003).
(обратно)275
Epstein (2003; p. xix); Gaylin (2003, p. 64).
(обратно)276
Оскар Уайльд «Веер леди Уиндермиер», акт 3.
(обратно)277
Эмоции и проблема обязательств (Fessier & Haley, 2003; Frank, 1998; Nesse, 2001; Schelling, 1960).
(обратно)278
Доверяйте тому, кто похож на вас (DeBruine, 2002).
(обратно)279
Навязчивость вины (Trivers, 1971; Fessier & Haley, 2003; Ketelaar & Au, 2003) .
(обратно)280
Что происходит в мозге при сотрудничестве? (McCabe et al., 2001; Riling et al., 2002; Sanfey et al., 2003; Zak et al., 2003).
(обратно)281
Наказание усиливает электрическую активность мозга (de Quervain et al.,2004) .
(обратно)282
Возврат бумажников (West, 2003).
(обратно)283
Herman Melville «The Writings of Herman Melville» vol. 7. eds. Harrison Hay- ford, Hershel Parker, G. Thomas Tanselle (1971); http:// / 2V38921.html.
(обратно)284
Нормы ответственности и взаимности (Berkowitz & Daniels, 1964; Durkin 1961; Peterson et al., 1977).
(обратно)285
Разнообразие разрешающих правил (Fiddick, 2004).
(обратно)286
Различные правила для разных проблем (Smetana, 1995,2005; Turiel, 1998, 2005).
(обратно)287
Как эмпирические данные могут быть использованы в дебатах между этическим объективизмом и релятивизмом или, в восприятии некоторых, между зависимостью и независимостью ответов (Darwall, 1998; Mackie, 1977; Nichols & Folds-Bennett, 2003; Nucci, 2001).
(обратно)288
Этот пассаж из работы Антиповой Пиаже цитировал (1932/1954; с. 228) в своей дискуссионной работе, посвященной моральному развитию ребенка. Чтобы быть абсолютно справедливым по отношению к Пиаже, надо отметить: он никогда не утверждал, что ребенок входит в мир, будучи «чистой доской», на которую социальный опыт наносит свою гравировку. Согласно его представлениям, младенцу присущи инстинктивные тенденции, «необходимые, но недостаточные условия для формирования морали» (с. 344), и далее: «поведение ребенка по отношению к людям с самого начала обнаруживает признаки первых проявлений симпатии и аффективных ответов, в которых любой может увидеть «сырой материал» всех последующих форм морального поведения. Но умственный акт может быть назван логическим, а добросердечный импульс этическим с того момента, когда конкретные нормы придадут этому материалу заданную структуру и правила равновесия» (с. 405). Тем не менее он посвятил большинство своих работ выяснению деталей переживаний ребенка и его развитию вплоть до нравственной зрелости.
(обратно)289
Hume, 1973/1978, р. 500.
(обратно)290
Этот раздел в значительной степени обязан своим содержанием работам философа Джесси Принза (в печати), который представил наиболее детальную за последнее время критику позиции нативизма. Большинство моих ответных высказываний поэтому адресованы его идеям, но многие из обсуждаемых вопросов поднимались и ранее.
(обратно)291
Термин используется для обозначения неограниченного эгоистичного и нецивилизованного соперничества; происхождение термина связано с именем Томаса Гоббса и его книгой «Левиафан», в которой дано описание такого рода соперничества.
(обратно)292
Марк Твен «Что такое человек?» .
(обратно)293
Руссо о происхождении морали. .
(обратно)294
Т. Г. Гексли «Эволюция и этика», 1893. /E-E.html.
(обратно)295
Эрнст Майер, Франс де Ваал и другие обсуждали эту проблему, критикуя недавние попытки Уильямса, Доукинза и Райта объяснить эволюцию морали смещением акцентов на «темные стороны» натуры человека.
(обратно)296
Darwin, 1871, р. 163.
(обратно)297
Обсуждение широкого круга проблем, связанных с эволюцией культуры, и особенно вопросов, касающихся социальных норм (Boyd & Richerson, 2005; Richerson & Boyd, 2005).
(обратно)298
Как ожидание отражается в работе мозга (Hassani & Cromwell, 2001; Schultz & Dickinson, 2000; Tinkelpaugh, 1928, 1932; Tremblay & Schultz, 1999; Wa- tanabe, 1996; Schultz et al., 1997).
(обратно)299
Ожидание: куда может двинуться объект? (Hauser, 1998; Santos et al., в печати).
(обратно)300
Использование направленности внимания как указателя целей (Santos & Hauser, 1999).
(обратно)301
Как шимпанзе выделяют цели? (Uller, 2004).
(обратно)302
Груминг — уход за телом, в том числе процедура взаимного «обыскивания», принятая у некоторых животных, включая приматов.
(обратно)303
De Waal, 1989а, 2000а; de Waal & Berger, 2000; Hauser et al., 2003; Milinski, 1981; Stephens et al., 2002.
(обратно)304
Как шимпанзе угадывает цели человека (Call et al., 2004b; Premack, 1976; Premack & Premack, 1983,2002).
(обратно)305
Видеоклип с самкой, рассматривающей себя в ручном зеркале, см. http:// /~mnkylab/media/mirror.html.
(обратно)306
Зеркало на стене и личность, которая поставила эту красную метку на моем ухе (Gallup, 1970, 1991; Hauser, 2000; Povinelli et al., 1993; Tomasello & Call, 1997).
(обратно)307
Резусы знают, что они знают (Hampton, 2001; Hampton et al., 2005).
(обратно)308
Mead, 1912.
(обратно)309
Пародия на Нобелевскую премию Ig Nobel Prize вручается ежегодно в Гарварде десяти претендентам за научные «достижения, которые не могут или не должны воспроизводиться».
(обратно)310
Bekoff, 2001a; Darwin, 1872; de Waal, 1996; Haidt, 2001; Hauser, 2000; Kagan, 1998; LeDoux, 1996).
(обратно)311
Что такое страх? (Kagan, 1998; LeDoux, 1996).
(обратно)312
Ненависть к змеям: психологическая готовность (Mineka et al., 1984; Mineka et al., 1980; Ohman et al., 2001).
(обратно)313
Kagan, 1998, p. 20.
(обратно)314
Животные-миролюбцы (Aureli & de Waal, 2000; de Wall, 1982, 1989b, 1996, 2000b; Silk, 2002a).
(обратно)315
Психология миролюбия (D. Cheney et al., 1995; D. L. Cheney et al., 1995; Silk, 2002a).
(обратно)316
Этология потребностей животного (Dawkins, 1983, 1990; Mason et al., 2001).
(обратно)317
Бихевиорист — представитель бихевиоризма, согласно которому во главу угла ставится доступное для экспериментального изучения поведение; менталист — сторонник менталистского подхода, согласно которому первостепенную роль играют состояние и содержание сознания.
(обратно)318
Имеют ли животные модель психического? Что обнаруживается в прошлом (D. Cheney et al., 1995; Hauser, 2000; Premack & Premack, 2002; Tomasello & Call, 1997). Модель психического у животных — последние данные (Call et al., 2004а, 2004b; Call & Tomasello, 1999; Flombaum & Santos, 2005; Hare et al., 2000; Hare et al., 2001; Heyes, 1998; Povinelly, 2000; Povinelly & Eddy, 1996; Premack & Premack, 2002; Tomasello et al., 2003).
(обратно)319
Присмотритесь к «невидящим» приматам (Cheney & Seyfarth, 1990а; Ро- vinelli & Eddy, 1996).
(обратно)320
Несмотря на специальное углубленное обучение, положительных результатов обезьяны не показали. Как справедливо указывал Давид Примак, неудачные результаты в данном случае получились, возможно, именно благодаря такому варианту обучения. До тестирования Повинелли обучал обезьян просить лакомство у одного тренера, который вступал с ними в контакт и давал вознаграждение за каждое обращение с просьбой о пище. Как установлено во многих исследованиях по обучению животных, если экспериментатор обеспечивает животному подкрепление в 100% случаев, он эффективно устраняет их способность к различению. Подкрепляя каждый раз обращение шимпанзе к внимательному тренеру, Повинелли мог свести на «нет» их способность или заинтересованность в выделении ключевых признаков, позволяющих различать, в каком направлении смотрит каждый из двух тренеров!
(обратно)321
Способности приматов к уловкам, размеры мозга и динамика взгляда (Byrne & Whiten, 1990; Byrne & Corp, 2004; Gomez, 2005; Whiten & Byrne, 1988); особенности мозга птиц и способности к уловкам посредством фиксации взгляда (Emery & Clayton, 2001; Ristau, 1991).
(обратно)322
Представления Хэйра о способностях шимпанзе «читать» чужие мысли (Call, 2001; Hare et al., 2000; Hare et al., 2001).
(обратно)323
Естественная телепатия в своем первобытном состоянии (Call et al., 2004b; Emery & Clayton, 2001; Flombaum & Santos, 2005; Hare & Tomasello, 2004; Kaminski et al., 2004; Tomasello et al., 2003).
(обратно)324
Несоответствие между кооперативным и конкурентным контекстами оценить достаточно сложно, поскольку методы диагностики того и другого не поддаются прямому сопоставлению.
(обратно)325
Интеллект как лазерный луч, или влияние контекста на мышление (Hurley, 2003).
(обратно)326
Обесценивание вознаграждения и экономика выбора у животных (Ainslie, 2000; Kacelnik, 2003; Rachlin, 2000). Хотя большинство ранних исследований было проведено на крысах и голубях, впоследствии круг изучаемых видов расширился (Bateson & Kacelnik, 1997; Gibbon et al., 1988; Mazur, 1987; Rosati, 2005; Stevens et al., 2005; Tobin et al., 1996). В этих работах в большинстве случаев выделяются три типа моделей обесценивания награды: экспоненциальная, гиперболическая и скорости максимизации. В целях упрощения я объединил две последние, поскольку они дают похожие предсказания. Более детальное описание этих проблем можно найти в работах: Rachlin & Kacelnik.
(обратно)327
В потоке работ, сравнивающих человека и животных, моя самонадеянность в притязаниях на победу может и не удержаться. Исследования, в которых пытаются имитировать опыты на животных, используя такие продукты потребления, как пища и вода, в противоположность денежному вознаграждению, по-видимому, показывают преувеличенный эффект обесценивания вознаграждения при его отсрочке (Reynolds & Schiffbauer, 2004). Когда надо оценить средства, которые используются для проникновения в нашу сущность, в сложившуюся в эволюции мотивационную систему, наша унаследованная склонность к ренегатству может остаться незамеченной.
(обратно)328
Экономика нетерпения (Fehr, 2002).
(обратно)329
Социальная импульсивность и серотонин (Fairbanks et al., 2001; Higley et al., 1996; Kaplan et al., 1995; Mehlman et al., 1994; Mehlman et al., 1995).
(обратно)330
Склонность к риску, тестостерон и серотонин (Mehlman et al., 1994; Mehlman et al., 1995).
(обратно)331
Тестостерон: негативные аспекты действия (Sapolsky, 1998).
(обратно)332
Доместикация агрессивных импульсов (Belyaev, 1979; Hare et al., 2005; Krus- ka, 1988; Leach, 2003; Nikulina, 1991; Trut, 1999; Wrangham et al., в печати).
(обратно)333
Педоморфоз — эволюционный путь развития, при котором утрачена его взрослая стадия.
(обратно)334
Плио-плейстоцен — археологический термин, иногда использующийся для обозначения временной границы между плиоценом и плейстоценом, его связывают с развитием позвоночных, и особенно гоминид.
(обратно)335
Когда шимпанзе зевают? (Anderson et al., 2004).
(обратно)336
Крысы питаются сообща (Galef, 1996).
(обратно)337
Широкий взгляд на эмпатию (Preston & de Waal, 2002).
(обратно)338
Chomsky, 1979.
(обратно)339
Золотое правило в культуре и времени (Ebbesen, 2002; Капе, 1998; Wattles, 1996).
(обратно)340
Многие биологи-эволюционисты, направляемые в значительной степени работами Дэвида Слоана Уилсона (Sober & Wilson, 1998; Wilson, 2002b), предложили другой взгляд на групповой отбор, который был обозначен как «многоуровневая теория отбора». Главная идея здесь состоит в том, что групповой отбор связан с различными преимуществами одной группы над другой, благодаря разнице в пропорции альтруистов или кооператоров. Эта позиция не отрицает значимости эгоистичного поведения, но утверждает, что, когда распределение генов внутри группы обеспечивает действия, которые являются благоприятными для всех или для большинства членов, тогда эти гены будут распространяться с большей вероятностью, в конечном счете приводя к межгрупповым различиям в степени приспособленности. Этот взгляд отличается от идей, представленных в работах других авторов в 1970 г. (Dawkins, Hamilton, Maynard Smith, Trivers, Williams).
(обратно)341
Золотое правило Гамильтона (Hamilton, 1964a, 1964b).
(обратно)342
Хотя этот подход и не является радикально новым, тем не менее, с моей точки зрения, те, кто поддерживает идею, что мы должны искать множественные причины альтруизма (Cosmides & Tooby, 1992; Fehr & Fischbacher, 2003; Pinker, 1997; Sober & Wilson, 1998; Tooby & Cosmides, 1998; Wilson, 2002a; Wilson, 1998), недостаточно широко распространили свои идеи.
(обратно)343
Это описания закономерностей, полученных в большинстве случаев эмпирическим путем, которые определяют поведение животных. Они обходят вопросы о том, что животные думают о своих действиях и правилах, которые ими управляют. Это правила, которые оформились в эволюции, для того чтобы решать специфические проблемы, связанные с жизнью в группе. Когда правила вариативны, вариативность усваивается представителями вида. Правила, которые установились в результате естественного отбора, определяют ожидания относительно типичных реакций отдельных особей в конкретных ситуациях. Неожиданные действия при условии, что правила существуют, должны рассматриваться как проявления насилия. Мы увидим, является ли эта характеристика приблизительной и ведет ли она к новым открытиям. Важный аспект для данной главы в том, чтобы воспринимать эти правила как описательные характеристики действий животного.
(обратно)344
Захватывающее и ясное обсуждение «родительства», особенно эволюции материнского поведения, представлено в увлекательной книге «Мать-природа» (Sarah Hrdy).
(обратно)345
Большая часть содержания этого раздела извлечена из оригинальных теоретических статей Роберта Триверса (Trivers, 1972, 1974), детального обобщения исследований родительской опеки, данного Тимом Клаттон-Броком (Clutton-Brock, 1991), и замечательно четкого синтеза сложностей семейной динамики, представленного в работе Дага Мока (Mock, 2004).
(обратно)346
Цитируется по работе Мока (Mock, 2004, р. 24—25).
(обратно)347
Полигиничный вид — вид, у которого самцы имеют нескольких самок.
(обратно)348
Для большей ясности укажем, что понятие инклюзивной пригодности, описанное здесь, предусматривает один важный аспект. В частности, надо учитывать не только число отпрысков, которых производит особь А и помогает произвести своим сородичам, но и ту помощь, которую получает особь А при взращивании ею ее же потомства.
(обратно)349
Что делают бабушки ради наших генов (Hawkes, 2003; Hrdy, 1999). Ведутся длительные дебаты по поводу того, являемся ли мы единственным видом, продолжительность жизни которого намного превосходит репродуктивный период. Аналогичный пример с китом Globicephala macrorhynchus приводит Ричард Коннор (Connor). Что очевидно, так это то, что мы живем десятилетиями после наших последних родов. И это загадка, которую необходимо решить. Я полагаю, что некоторое разъяснение этого противоречия можно найти в следующей работе (Hrdy, 1999).
(обратно)350
Собственники, захватчики, победители и проигравшие (Sih & Mateo, 2001; Stamps & Krishnan, 1999).
(обратно)351
Kummer & Cords, 1922.
(обратно)352
Доминирование в мире животных (Lewis, 2002; Packer & Pusey, 1985; Preus- choft, 1999; Smurts, 1987).
(обратно)353
Политические трюки в среде наших родственников шимпанзе (de Waal, 1982,1989b, 1996).
(обратно)354
Когда сообразительность повышает ранг (Stammbach, 1988).
(обратно)355
Как узнать свой ранг в группе (Bergman et al., 2003; D. L. Cheney et al., 1995; Seyfarth & Cheney, 2003; Silk, 2002b).
(обратно)356
Бабуины распознают нарушения статуса (D. L. Cheney et al., 1995).
(обратно)357
Когда и почему животные благожелательны друг к другу (Axelrod, 1984; Dugatkin, 1997; Sachs et al., 2004; Stevens et al., 2006). Я не включил в обсуждение многие поразительные случаи кооперации между видами. Такие, например, как взаимодействие рыбы-чистильщика и ее хозяев, а также африканскую птицу из вида Indicator indicator. У этой птицы в процессе эволюции сформировались взаимно-благосклонные отношения с человеком, она сначала приводит человека к месту, где расположены ульи диких пчел, а затем потребляет заслуженные трофеи после разрушения ульев.
(обратно)358
Кооперация в саванне и на море: как львы и дельфины это делают (Connor et al., 1999, 2000; Connor et al., 1992a, 1992b; Packer & Ruttan, 1988; Scheel & Packer, 1991).
(обратно)359
Моделирование динамики альянса: с какой целью, когда и как (Johnstone & Dugatkin, 2000; Whitehead & Connor, 2005).
(обратно)360
Сойки играют в игры (Clements & Stephens, 1995; Stephens et al., 2002).
(обратно)361
Эбола-вирус — общее название, используемое для описания группы вирусов Ebolavirus, семейства Filoviridae. Эти вирусы вызывают заболевания с общим названием «геморрагическая лихорадка эбола», с возможным смертельным исходом.
(обратно)362
Chalmeau et al., 1997; de Waal, 2000a; de Waal & Berger, 2000; Mendres & de Waal, 2000.
(обратно)363
Обмен пищей у игрунков (Hauser et al., 2003; McGrew & Feistner, 1992).
(обратно)364
Варианты взаимного обмена (Barrett & Henzi, 2001; Bercovitch, 1988; Connor, 1996; Connor et al., 1992a; de Waal, 1989a; Hart & Hart, 1989; Heinsohn & Packer, 1995; Milinski, 1981; Noe, 1990; Noe et al., 2001; Packer, 1977; Seyfarth & Cheney, 1984).
(обратно)365
Я опускаю некоторые исследования, допускающие возможность реципрок- ного альтруизма между видами, например между рыбой-чистилыциком и ее хозяевами. В одной из работ (Bshary, 2001) представлены убедительные аргументы в пользу наличия такого альтруизма. Необходимы, однако, подтверждения, полученные на основе данных наблюдений над известными (а не «анонимными») особями в течение продолжительного времени.
(обратно)366
«Время невинности», глава 5.
(обратно)367
Игры семейства собачьих (Bekoff, 2001b, 2004; Spinka et al., 2001).
(обратно)368
Имеется обширная литература по способностям животных к количественной оценке, включая доказательства того, что птицы и млекопитающие и, возможно, рыбы и амфибии могут пользоваться аналоговой системой величин, которая описывает отношение между двумя величинами, но не их абсолютные значения (Gallistel & Gelman, 2000; Hauser, 2000).
(обратно)369
Шимпанзе и капуцины хотят правильного распределения (Brosnan & de Waal, 2003; Brosnan et al., 2005).
(обратно)370
Наказание решает проблему кооперации (Boyd & Richerson, 1992; Clutton- Brock & Parker, 1995).
(обратно)371
Животные-обманщики (Caldwell, 1986; Ducoing & Thierry, 2003; Gyger & Marier, 1988; Hauser, 1992, 1993; Munn, 1986).
(обратно)372
Обманщики встречаются нечасто (Dawkins & Krebs, 1978; Hauser, 1996; Krebs & Dawkins, 1984).
(обратно)373
Пантеон секретов, 83, цит. по статье Франка Триплета (Frank Trippen) «Публичная жизнь секретности» (Тайм, январь, 17, 1985).
(обратно)374
Опознавательные признаки честности и наказание (Clutton-Brock & Parker, 1995; Gintis, 2000; Gintis et al., 2001; Noe et al., 2001).
(обратно)375
Обзор по этой теме представлен в работах: Hauser, 1996; Searcy & Nowicki, 2005.
(обратно)376
Манипуляция и понимание умонастроений других как способ коммуникации (Dawkins & Krebs, 1978; Krebs & Dawkins, 1984).
(обратно)377
Скептики среди пчел и обезьян (Cheney & Seyfarth, 1990b; Gould, 1990).
(обратно)378
Когда петухи действуют молча (Marler et al., 1991).
(обратно)379
Чейни и Сейфарт (Cheney, Seyfarth) первыми начали исследования в этом направлении. Их результаты позволяют заключить, что самки японских макак не смотрят или не принимают в расчет, чем заняты их отпрыски, когда решают, следует ли им поднимать тревогу при появлении хищника. Эти результаты позволяют считать, что, по крайней мере, некоторые приматы не считают нужным учитывать, что знают другие, когда подают сигналы. Однако, если иметь в виду, что обезьяны резус и шимпанзе, оказавшись в ситуации соперничества, способны использовать наблюдение как источник знаний о поведении конкурента, я бы считал необходимым оставить вопрос открытым до появления новых экспериментальных данных, которые с большей очевидностью подтвердят способности животных к получению и использованию знаний в процессе общения (см. также: Hare et al., в печати).
(обратно)380
Наказание мошенников (Foster & Ratnieks, 2000; Frank, 1995; Hauser, 1992, 1997; Ratnieks & Visscher, 1989).
(обратно)381
Происхождение политики силы (Ratnieks & Visscher, 1989; Ratnieks & Wenseleers, 2005).
(обратно)382
Агрессия как недорогой путь к кооперации (Stevens, 2004).
(обратно)383
Для интересующихся: правило действительно таково — следовать за первым объектом, который движется перед глазами. Как показал Лоренц и его последователи, только что вылупившиеся цыплята будут следовать за тем, что движется у них перед глазами, даже если это красный шарик. Конечно, в большинстве случаев объект, который движется перед глазами только что вылупившихся птенцов, — это их мать. Правило действует практически всегда, когда исследователи выразят желание выяснить детали механизма научения.
(обратно)384
Отражение, осознание и чувство нормативного (Korsgaard, 1996, р. 93).
(обратно)385
Rawls, 2001, р. 6.
(обратно)386
Tetlock et al., 2000, р. 853.
(обратно)387
Письмо к М. Берковиц от 25 октября 1950 г. Архив А. Эйнштейна, 59—215.
(обратно)388
Автобиография Чарлза Дарвина. New York: Totem Books, 1958 / 2004, p. 94.
(обратно)389
Адольф Гитлер. Апрель, 26, 1933 г., из речи, произнесенной на переговорах с Ватиканом при подписании соглашения между нацистской Германией и Ватиканом в 1933 г. .
(обратно)
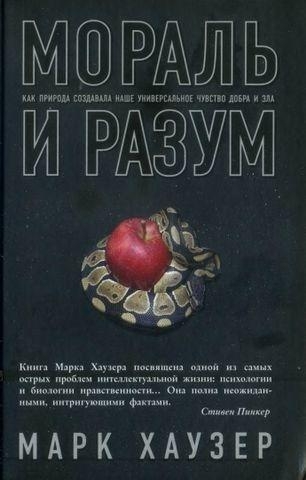




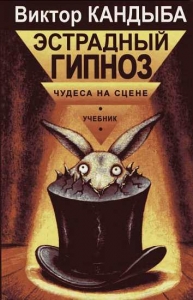


Комментарии к книге «Мораль и разум», Марк Хаузер
Всего 0 комментариев