Екатерина Мурашова. ЛЮБИТЬ ИЛИ ВОСПИТЫВАТЬ?
МОСКВА • САМОКАТ
Слишком маленький?
С какого возраста дети умеют сочувствовать, сопереживать другим людям?
Хотя нет, даже не так. Американские исследователи в последней четверти двадцатого века убедительно показали, что младенцы уверенно опознают основные эмоциональные состояния матери и реагируют на них уже через четыре часа после рождения. Спокойствие, радость, страх, тревога… Я хотела сказать не об этом. С какого возраста со-чувствие, со-переживание у ребенка может стать действенным, сознательно направленным не на изменение собственного состояния, а на другого человека?
Нередко можно слышать от родителей, жалующихся на плохое поведение, неуправляемость или даже жестокость собственных чад: «Да он же еще маленький! Он же не понимает, что папа на работе устает, дедушка тяжело болен, сестра расстроена из-за ссоры с подругой, а маме хотя бы иногда нужно побыть одной. Поэтому он и ведет себя так…»
Понимает или не понимает? Должен или не должен подстраивать свое поведение ко всем вышеназванным ситуациям? Надо ли этому учить? Если должен и надо, то с какого возраста? В два года – вроде еще рано, он еще и не говорит толком. А в пять – не поздно ли, ведь как будто бы (откуда только взялось!) уже получился законченный эгоист, которому лишь свои желания и интересны?
Я расскажу случай из реальной жизни. Признаюсь честно: если бы сама не была тому свидетелем, может, и не поверила бы.
Итак, ребенку полтора года. Он обычный малыш, говорит несколько слов вроде «мама», «папа», «дай», «гав-гав» и, конечно же, очень любит играть со своей мамой.
Помимо всех прочих развлечений, доступных полуторагодовалому ребенку и его родителям, у них есть глуповатая, но любимая игра. Когда малыш чем-нибудь расстроен или упал и ушибся (а наш ребенок очень активен и всюду лезет), мать нажимает указательным пальцем на его носик-кнопку и громко говорит:
– Би-и-ип! Би-и-ип! Би-и-ип!
Ребенок забывает про обиды и хохочет от восторга. Мать тоже смеется и объясняет происхождение игры тем, что круглая, почти лысенькая головка сына напоминает ей первый советский спутник и его позывные.
Именно в полтора года ребенок, который до этого времени казался весьма здоровым, заболел. Какая-то сильная инфекция, острое и страшное повышение температуры, фебрильные судороги, остановка дыхания…
Мать не растерялась и не впала в панику. Она, как умела, стала делать ребенку искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. Старшая дочь, проинструктированная матерью, мгновенно вызвала скорую. Скорая приехала очень быстро. Благодаря четким словам девочки врачи заранее знали, на что едут, и действовали слаженно и стремительно. Малыша накачали всем, чем можно, подключили ко всему, к чему можно, и, конечно, вместе с матерью увезли в больницу.
Уже в больнице он стал медленно приходить в себя.
Медики столпились вокруг, с тревогой и надеждой глядя на малыша. Никто не знал наверняка, чем обернется для него случившаяся трагедия. Насколько пострадал мозг? Сколько времени он был без кислорода? Какие структуры окажутся пораженными? А может быть, помощь подоспела вовремя и все вообще обойдется?
Ребенок был жив, вокруг – профессиональные медики, все, что можно, для него было уже сделано. И у матери, которая до сих пор держалась собранно и спокойно, началась разрядка. Руки и ноги дрожат, слезы и сопли размазались по лицу ровным слоем, она то хватает ребенка на руки и начинает его целовать, то снова кладет в кроватку и отворачивается, закрыв лицо руками.
Ребенок открыл глаза, оглядывает все вокруг и как будто пытается осознать, где он и что происходит. Медики радостно переглядываются: вроде бы взгляд малыша вполне осмысленный, хотя и несколько «в кучку» (что объяснимо еще и действием лекарств).
Все незнакомое – больница, кроватка, белые стены, какие-то дяди и тети вокруг. Наконец ребенок находит глазами знакомое лицо – мама! Сказать по чести, в нынешнем состоянии ее трудно узнать. Но малыш явно справляется, а медики, увидев это, облегченно выдыхают и собираются расходиться с сознанием выполненного долга.
Мать снова хватает ребенка на руки. Малыш хмурит светлые бровки, как будто напряженно, изо всех сил пытается что-то осознать, потом с таким же крайним напряжением, явно преодолевая слабость и неповиновение всех членов, поднимает ручку…
– Что? Что? – с тревогой спрашивает мать.
С третьего раза у него получается сконцентрировать взгляд и направить движение руки.
С облегченной улыбкой он нажимает пальчиком на нос матери и хрипло, но торжествующе говорит:
– Мама! Би-и-ип!
И явно ждет, что теперь-то уж мать перестанет плакать и засмеется. Ему это всегда помогало – значит, поможет и ей.
Врачи, улыбаясь, уходят из палаты, мать судорожно, почти подвывая, смеется сквозь слезы, а пожилая медсестра как-то подозрительно часто моргает.
Слишком маленький?
Сага о северной бабушке
Произошло это лет десять назад.
Уже под вечер ко мне на прием пришла молодящаяся интеллигентная дама с толстым широколицым младенцем на руках. Сонному младенцу на вид было около года, возраст дамы допускал различные варианты родства, поэтому я решила пока помолчать.
Как я и предполагала, дама сразу взяла быка за рога:
– Я – бабушка! – решительно заявила она. – Вообще-то нам, наверное, надо к психиатру. Но я не знаю, как оформить, поэтому сначала к вам.
– Помилуйте! – нешуточно удивилась я. – С таким маленьким ребенком – к психиатру?! Может быть, к невропатологу?
– Нет-нет! – дама сокрушенно покачала прической. – Здесь все серьезнее. Я и так ждала два месяца – думала, само пройдет…
– Да что случилось-то? – не выдержала я.
– Сейчас покажу, – пообещала дама, и как следует встряхнула младенца. – Олечка!
До этой секунды я полагала, что толстощекий, широкоскулый младенец – мальчик.
Услышав призыв бабушки, Олечка распахнула темные, как бы припухшие глаза и добродушно улыбнулась, обнажив мелкие, неровные, словно рассыпанные во рту зубы.
– Олечка, спой!
Дальше произошло нечто действительно странное. Девочка встрепенулась, напружинила пухлые ручки и не менее пухлые ножки, прижала подбородок к груди, широко раскрыла рот и…
Ничего подобного мне до той минуты слышать не приходилось. Низкий переливчатый звук вибрировал прямо на моих барабанных перепонках. Олечка исподлобья смотрела на меня пронзительными глазками и слегка двигала головой, модулируя свое завывание, напоминавшее то ночной вой метели, то визг неисправных тормозов. Иногда в горле ребенка раздавалось какое-то бульканье, иногда все это прерывалось низким хрипом, как будто бы Олечке не хватало воздуха.
– Все, хватит! – дама вполне неделикатно хлопнула внучку по спине.
Олечка докончила последнюю руладу и послушно замолчала.
– Господи, да что же это?! – совершенно непрофессионально воскликнула я.
– Хотела бы я знать! – вздохнула дама.
– Сколько Олечке сейчас?
– Год и два месяца. Началось три месяца назад. Сейчас лучше, потому что она стала что-то понимать. Раньше был кошмар. Она могла «запеть» в тихий час в яслях, в автобусе, на прогулке. У окружающих просто челюсти отваливались, а у меня нервный тик начинался. Вот видите, и сейчас еще веко дергается…
– Олечка что-то говорит?
– Практически нет. «Мама», «папа», «пи» – это пить или писать, «ки» – это кошка. Пожалуй, и все.
– В каких случаях она… гм… поет?
– Да в любых. Когда настроение хорошее, когда плохое, когда просто скучно. Может под телевизор запеть. Сейчас вот стала петь по просьбе.
– А так… в целом… Олечка ведет себя как обычный ребенок?
– В том-то и дело! Прекрасная девочка. Умная, спокойная, ласковая. Невропатолог нас смотрел, сказал: все бы так развивались… Так что нам – к психиатру!
– Подождите, подождите, давайте разберемся. Не может быть, чтобы не было причины… Психиатрия в семье была? Алкоголизм, наркомания? Может, у вас кто-то увлекается какой-то экзотической религией? – В ответ на каждый из моих вопросов дама отрицательно качала головой. – Рассказывайте с самого начала. Где родители ребенка?
Из дальнейшего разговора выяснилось следующее. Родители Олечки познакомились, когда дочь дамы, студентка технического вуза, была на практике на каком-то северном металлургическом комбинате. Потом два года переписывались, он приезжал в отпуск. Потом поженились. Он – ненец, вырос в интернате, по образованию тоже инженер. Семья получилась, по словам дамы, вполне гармоничная. Через два года родилась Олечка. А еще через полгода молодой маме надо было выходить на работу («там такая фирма полукоммерческая, и зарплата хорошая, и перспективы, вы ведь понимаете, как сейчас инженеру хорошую работу найти, да еще женщина с ребенком…»). В ясли Олечку по малолетству не брали («только после года!»), дама работала в библиотеке Академии наук, так что положение казалось безвыходным. И тогда на семейном совете было решено выписать из полуразвалившегося оленеводческого совхоза ненецкую бабушку, мать мужа.
Бабушка немедленно приехала. По-русски она говорила не очень хорошо, метро, троллейбусов и трамваев боялась, городских цен не понимала (в совхозе к тому времени денег не видели уже лет семь), но с внучкой сидела исправно и по дому помогала. Словом, все было вполне благополучно. Младенца Олечку бабушка почти не спускала с рук, рассказывала ей ненецкие сказки и, к удивлению семьи, к восьми месяцам приучила ее ходить на горшок. Теперь Олечка всегда была сухой, обласканной и всем довольной.
После лета обвешанная подарками бабушка отбыла на свою далекую родину, а Олечка пошла в ясли. И через две недели «запела».
– Может, она ее сглазила? – сама себя стесняясь, спросила интеллигентная сотрудница БАН. – Я прямо не знаю… Ведь очень хорошая вроде бы женщина… Хоть и необразованная…
– А отец, муж дочери? – спросила я. – Ему «пение» Олечки ничего не напоминает?
– Нет, – удивилась дама. – А что оно должно напоминать?
– Ах да, он же вырос в интернате! – вспомнила я. – Срочно раздобудьте ненецкие народные мелодии. Точнее, даже не мелодии, а песни!
– Вы думаете?.. – просветлела дама. – Вы думаете, это она и вправду поет?!
– Почти уверена! – решилась я (надо же было как-то оградить Олечку от психиатра с его непременными таблетками). – Я когда-то читала, что у северных народов есть очень странная манера пения, шокирующая европейцев…
– Господи, пусть это будет так! – истово воскликнула дама. И тут же засомневалась: – Но ведь при нас она, мать Вити, никогда не пела…
– Стеснялась, наверное, – предположила я. – Да вы же все целый день на работе…
– Да-да, конечно, наверное так… – утопающий, как известно, хватается за соломинку. – Спасибо, мы пойдем, – дама подхватила окончательно сомлевшую Олечку и выбежала из кабинета.
В следующий раз я увидела их в коридоре поликлиники спустя год. Олечка очень вытянулась и похудела. Однако ее широкая мордашка лучилась все той же добродушной улыбкой.
– Ну как песни? – спросила я.
– Ой, спасибо вам, – засуетилась бабушка. – Мы все собирались зайти, собирались… Искали мы тогда, искали… Потом зять чуть ли не в представительстве их, северном, какой-то фильм разыскал. Вот там они стоят и поют… Это же ужас какой-то! Он потом вспомнил, что и сам в детстве слышал. Но это же взрослые, а здесь – ребенок…
– А сейчас-то Олечка поет?
– Нет, разучилась почти. Но вот та бабушка просит привезти ее летом на месяц. Дед совсем плохой, хочет внучку перед смертью увидеть. Зять говорит, надо ехать. Думаем…
Воспитать правильно
Этот визит не заладился с самого начала. Не слишком молодые, хорошо одетые и тщательно причесанные мужчина и женщина друг за другом вошли в мой кабинет, внимательно огляделись (я заметила, что им очень не понравилась протечка на потолке) и аккуратно уселись рядом на стульях. Ребенка с ними не было.
Я еще не успела произнести свое традиционное «слушаю вас», как мужчина заговорил сам – веско и внушительно:
– Мы хотим, чтобы вы сразу поняли: родительство для нас – это не случайность, как для большинства современных молодых людей, а важнейший, глубоко осознанный акт.
Мне вдруг показалось, что сейчас он предъявит какую-то важную бумагу, заверенную здоровенной печатью. Акт родительства.
– Да, конечно, – сказала я, погасив улыбку, и стала ждать, что будет дальше.
– Поскольку мы серьезно подходим к этому вопросу, мы еще до рождения ребенка много читали – и книг, и в интернете – и столкнулись с прискорбным фактом: сведения о воспитании детей, которые там даются, удивительно противоречивы.
Я согласно закивала: конечно, конечно.
– Это касалось даже самых важных, можно сказать, базовых тем воспитания, – женщина продолжила мысль мужа. – Как кормить, как наказывать, как развлекать, развивать и образовывать ребенка, на какой основе организовывать его общение с другими детьми. И каждая из позиций – подчас противоположных – выглядела вполне аргументированной, подкреплялась мнениями врачей, психологов, педагогов…
Меня немного напрягло, что наказание она назвала вторым важным пунктом, сразу после кормежки. Что-то в этом было от цирковой дрессировки – кнут и пряник. Но я, конечно, продолжала слушать. Интересно, сколько лет их ребенку? Если они пришли ко мне, стало быть, где-то в осознанном родительстве их уже настигла неудача… Значит, сейчас ее и обсудим.
– Мы, естественно, задумались: где же выход? Ведь у нас всего один ребенок, мы не можем себе позволить экспериментировать на нем в угоду различно мыслящим специалистам…
– Очень, очень разумно, – кивнула я.
– И вот мы решили: надо выбрать какую-то одну систему, которая кажется нам здравой, и в дальнейшем ее и придерживаться. Тут нам в руки попала ваша книга «Непонятный ребенок», и очень многое в ней показалось разумным, без крайностей. Важно и то, что вы живете с нами в одном городе, следовательно, всегда можно будет проконсультироваться лично. Короче, мы выбрали вас.
Лица обоих оставались совершенно серьезными, а у меня в голове моментально всплыла дразнилка из детства – из незабвенного французского ужастика: «Мне нужен труп. Я выбрал вас. До скорой встречи. Фантомас».
Я не удержалась и фыркнула. Они посмотрели удивленно и укоризненно.
– Сколько лет вашему ребенку?
– Одиннадцать месяцев.
Я вздохнула и заговорила, стараясь сохранять серьезную мину.
– Понимаете, мир, в который приходит ребенок, может быть очень разным. Городская квартира и деревенский дом, дворец и юрта в степи, одинокая молчаливая скандинавская мать и огромная крикливая родоплеменная семья африканских негров. Ребенок не знает, куда он попал, и у него есть врожденная способность адаптироваться ко всему вышеперечисленному. Уже к году он может есть протертый шпинат, упакованный в стерильные баночки, и прожеванную матерью ореховую кашку, хрустеть специальным детским печеньем и поджаренными на костре личинками жуков, строить пирамидки из деревянных кубиков, выкрашенных экологически чистыми красками, и из лепешек сушеного дерьма, которое используется родителями в качестве топлива, спать в специально оборудованной кроватке, на сундуке или в гамаке, подвешенном к потолку…
Родители смотрели на меня с ужасом, округлив глаза, – должно быть, живо представляли, как их ребенок закусывает личинками, складывая в пирамидки сушеное дерьмо.
– И все это по-своему правильно…
– Ради бога! – воскликнул отец. – Наш ребенок не живет и никогда не будет жить в юрте или вигваме! Нас интересуют конкретные реалии нашей, нормальной цивилизации: что можно давать в качестве игрушек, в какие игры полезно играть, с какого возраста лучше отдавать в садик, можно ли включать мультики по телевизору, в дальнейшем – с какого возраста надо начинать учить буквы, когда рекомендуется первое приобщение к компьютеру…
– Хорошо, попробую по-другому, – сказала я. – Любому ребенку действительно нужны правила. Это необходимо для устойчивости его мира. Эти конкретные, уникальные для вашей семьи правила определяете вы – мама и папа, предварительно договорившись между собой. А потом сообщаете их ребенку в доступной для него форме.
– Да, но на что мы при этом должны опираться? Как учесть интересы ребенка и не избаловать его?
– Вы опираетесь на то, что вам удобно. А ребенок подстраивается к правилам жизни в вашем доме, как подстроился бы к жизни в юрте или в королевском дворце. Ни в коем случае не наоборот: когда взрослые подстраиваются к интересам ребенка, это непосильная нагрузка на его нервную систему и ведет это прямо к неврозу, так как у ребенка возникает иллюзия, что он может управлять взрослыми людьми. А он не может, ему не отпущено на это сил. Только приспосабливаться.
– То есть мы должны жить как нам удобно, и тогда все будет правильно?
– Именно!
– Ладно, это по быту. А как же интеллектуальное, в конце концов, духовное развитие ребенка?! Как это правильно формировать?
«В конце концов, духовное развитие» меня доконало.
– Товарищи, пока вы не поймете, что дать вместе с ребенком корм поросятам так же важно, увлекательно и духоподъемно, как сходить в театр на «Аиду» или в этнографический музей, просветление вас не настигнет. И еще важно: никто не требует от вас, чтобы, живя в переулке у Театральной площади, вы непременно завели на балконе поросят, а живя на ферме под Тихвином, каждую неделю таскали ребенка в Мариинку.
– Спасибо, – они поднялись так же согласно, как вошли в мой кабинет. – Мы поняли вашу точку зрения. Пожалуй, мы поищем другого специалиста, который даст нам более конкретные рекомендации по интересующим нас вопросам.
– Удачи. Вы, конечно, найдете, – пообещала я. – Но помните на всякий случай и то, о чем мы сегодня говорили.
– Мы, безусловно, не забудем, – они многозначительно переглянулись, и в их глазах я отчетливо увидела прочно запечатлевшийся образ грызущего личинки младенца.
«Ну хоть что-то», – уныло подумала я, провожая их взглядом.
Это, несомненно, была моя неудача.
Чего бы вы хотели для своих детей
Я уже писала про «модели потребного будущего», создаваемые моими клиентами-подростками в рамках профориентации. Это спокойная, позитивная, иногда удивительным образом срабатывающая методика. Между тем такие модели строят не только подростки, но и родители для своих детей, иногда даже для совсем маленьких. Причем делают они это не всегда сознательно. И здесь довольно часто спрятаны корни проблем в детско-родительских отношениях, да и проблем самих выросших детей.
– Я должен (должна) его (ее) воспитывать! – императивное родительское утверждение, с которым не поспоришь.
– А что вы видите, так сказать, на выходе? – мой осторожный вопрос. – Ну когда уже воспитаете?
Недоумение.
– Чего бы вы непременно хотели для своего ребенка? Когда он уже вырос, то он должен… – уточняю я.
Некоторые – самые робкие или конформисты по природе – сразу идут на попятный:
– Да ничего особенного. Ничего не должен, лишь бы здоровенький был. И счастливый.
– А что такое это счастье, по-вашему? – не отпускаю я. – Ведь его все понимают по-разному. Для кого-то это материальный достаток и возможность утолять свои прихоти, для кого-то религиозный подвиг, для кого-то любимая работа…
– Семья чтобы была! – твердо заявляют мои посетители из этой категории (часто матери-одиночки), решительно отметая непонятные религиозные подвиги и творческий экстаз. – И здоровье!
– Этого достаточно, чтобы стать счастливым?
– Да!
Я никак не комментирую, так как проблема находится за рамками моей временнóй компетенции, но понимаю, что если дочь или сын в будущем не поторопится создать нормальную (с точки зрения матери) семью, то мать будет жалостливо или, наоборот, агрессивно проецировать: «Несчастный ты мой, не повезло тебе…»
Некоторые пожелания лежат существенно ближе ко времени моего общения с семьей.
– У нормального человека обязательно должно быть образование. Высшее. И языки. Без этого в наше время никуда! – и напористо ко мне: – Ведь вы согласны?
– А если этого нет? Не получилось вообще или пока не получается? Несчастный неудачник?
– Безусловно! Но я понимаю, куда вы клоните. В нашем случае ему создаются все условия, а он просто ни черта не хочет делать. Учителя так и говорят: способностей достаточно, но лентяй.
Как бы так объяснить родительской и педагогической общественности, что «просто лени» не существует?! Она всегда что-то обозначает. В наше время очень часто ребенок или подросток «ленится» из-за того, что попросту не справляется с выливающимся на него колоссальным информационным потоком – и начинает защищаться, уходя из реальности.
Собеседник явно сам получил все компоненты счастья (образование, языки), и я с надеждой начинаю говорить про модели.
– У него одна модель – сидеть у компьютера, шляться с приятелями или валяться на диване и слушать музыку! Я такой модели не понимаю и никогда принять не смогу, что бы там ваша психология ни говорила!
– А чем вы сами занимаетесь?
– Я руководитель проекта.
– И для сына видите что-то подобное?
– Ну разумеется. У меня интересная, хорошо оплачиваемая работа. Чем это плохо, по-вашему?
Да ничем, безусловно. Только его сын – это другой человек, а властный отец, убежденный: кто не добился того, что есть у него (не стал руководителем, не выучил языки), тот неудачник, – легко и надолго снижает самооценку спокойному медлительному подростку-наблюдателю, из которого получился бы вдумчивый архивариус или, быть может, интересный преподаватель.
Еще одна позиция: «Мы из кожи вон лезем, чтобы он (она, они)…» Здесь модель строится вполне сознательно и от противного: дети должны получить или совершить все то, чего не смогли получить или совершить родители.
Именно эту модель обычно ругают во всяких популярных статьях по психологии и педагогике. Зря, кстати, потому что именно она сравнительно безобидна. Здесь все снаружи, все неоднократно проговаривается вслух, и уже довольно маленький ребенок – лет десяти-одиннадцати – может сказать свое решительное «нет»: «Нет, папа, я не буду ходить в хоккейную школу только потому, что ты когда-то не стал великим хоккеистом. Мне больше нравится заниматься судомоделированием»; «Нет, мама, я не буду учить три иностранных языка из-за того, что тебе не удалось выучить даже один!» Или, наоборот, вполне сознательно согласиться с доводами родителей и таким образом принять на себя долю ответственности за происходящее с ним: «Я же хочу в будущем путешествовать и чувствовать себя свободно в других странах, значит, нужно как-то этот английский язык учить…»
Единственное возражение от психолога для родителей: стройте модели на здоровье, продолжайте в детях свои свершения (если они согласятся, конечно), но не надо уж очень лезть из кожи вон. Потому что потом велик будет соблазн припомнить: «Мы ради тебя… а ты, неблагодарный…» Помните: вас никто не просил, это вы сами так решили, для собственного удовольствия.
Самая опасная модель… Не знаю, как ее назвать, – может быть, синтетическая? Ее обычно не формулируют даже по просьбе психолога. Она существует на уровне эмоций: «Я должен (должна) дать своим детям все…» Что «все»? А что получится и что подвернется: пеленки – фирменные, садик (а еще лучше няню) – с тремя языками, школу – самую лучшую из возможных, елку – кремлевскую, прочие развлечения – по высшему доступному классу… В чем опасность? Разумеется, ничего плохого нет ни в трех языках, ни в симпатичных и дорогих игрушках. Опасность в том, что эта модель часто не проговаривается до конца. Помните, я спрашивала в начале: а что вы, собственно, хотите получить на выходе? К сожалению, в этой модели на выходе часто получаются потребители всего вышеперечисленного, так как в процессе реализации родительской программы детям не совсем понятно, когда и куда следует сделать шаг самим. Да и не очень хочется, ведь и так все вокруг хорошо…
Есть модели «красивые». Они встречаются не так часто, но зато запоминаются.
«Я хочу воспитать своего ребенка настоящим гражданином великой России».
«Главное, что должен родитель, – это воспитать в детях смирение: ведь все мы в воле Господней».
«Мои дети должны быть внутренне свободны – это моя главная цель!»
«Только творческая жизнь, только художник угоден богам, все остальное – прозябание! Так я всегда ему и говорю».
«Человек должен много бабла зарабатывать. Потратить потом – кому ума недоставало? Если у человека денег нет, значит, он и сам ничего не стоит».
Честное слово, все это я не придумала, а действительно слышала в стенах своего кабинета. Не нужно быть психологом, чтобы догадаться, как подобные установки могут отразиться на взрослеющих детях и на их взаимоотношениях с проповедующим родителем.
Кусок хлеба для блокадной бабушки
Молодые родители сидели рядышком и смотрели смущенно. Ребятенок лет полутора деловито покопался в ящике с игрушками, извлек оттуда большого резинового динозавра самого свирепого вида и ткнул пальчиком в его морду, призывая меня к совместному восхищению:
– Зюбки!
Я улыбнулась малышу и перевела взгляд на его родителей.
– Слушаю вас.
– Понимаете, он крошит хлеб, – словно за что-то извиняясь, сказал молодой папа.
– Крошит, – отзеркалила я. – И что?
– Мы не знаем, что делать! – энергично вступила молодая мама, нащупав руку супруга.
– А надо? – уточнила я.
Современное поколение молодых людей психологически грамотнее своих родителей – это однозначно. Но иногда начитаются рекомендаций в глянцевых журналах или на форумах в интернете и начинают делать такое… Я не видела ничего ужасного в крошении хлеба полуторагодовалым ребенком.
– Надо! – хором сказали молодые люди.
– Тогда рассказывайте подробно, – велела я.
История оказалась достаточно необычной. В большой по мегаполисным меркам семье имелись: родительская пара средних лет, их дочь со своей дочерью, их сын с женой и сыном (именно они пришли ко мне на прием), незамужняя сестра отца и еще совсем старенькая то ли бабушка, то ли прабабушка. В душевном комфорте последней и заключалась проблема. Пожилая женщина когда-то пережила ленинградскую блокаду и потеряла в ней всех своих близких. Младшему поколению семьи она никогда специально не рассказывала о пережитых ужасах, но кое-какие ее привычки явно имели блокадное происхождение и были хорошо известны всем многочисленным домочадцам. В том числе и чрезвычайно щепетильное отношение к хлебу. Хлеб в семье никогда не выбрасывался и не плесневел: сушили сухари, которые потом использовали в хозяйстве или, на крайний случай, холодной зимой скармливали птицам. И надо же так случиться, что младшему ребенку, которому тетка показала, как кормят птичек, необычайно понравилось крошить в пальчиках хлеб. «Гули-гули!» – кричал он за столом в кухне и крошил на пол выделенный ему к обеду кусочек. Пытались запрещать. Ребенок, который как раз находился в возрасте, в котором дети устанавливают границы, позабыл о первоначальном чувственном удовольствии и удвоил усилия в направлении: «Нельзя? А вот я сейчас вам…» Заметив, что больше всех нервничает и кипятится старенькая бабушка, стал крошить хлеб демонстративно и нарочно в ее присутствии.
– Можно, конечно, вообще не давать ему ни хлеб, ни булку, – рассуждал отец. – Но, во-первых, он их любит и просит – ведь мы по традиции обедаем все вместе и хлеба у нас едят много, а во-вторых, он позавчера начал крошить печенье… С другой стороны, можно просто бить по рукам (именно это нам посоветовали на одном психологическом форуме) – но нам с женой не хочется начинать воспитание сына с такого шага. Должен же быть какой-то внутренний нравственный закон…
– Да-да, – подхватила я. – Тот самый, который так поражал старика Канта…
К этому времени я уже знала, что папа недавно окончил философский факультет Санкт-Петербургского университета и теперь учится в аспирантуре и работает учителем в гимназии.
– Да он же еще и не поймет, за что его наказали, – быстро добавила мама малыша, трогательно ограждая мужа-философа от моих возможных насмешек. – Ведь они до этого вместе с теткой крошили на улице хлеб голубям. И ничего нельзя ему объяснить – он просто по возрасту не может понять ни про блокаду, ни про хлеб. И бабушку жалко – она потом таблетки глотает, и у нее давление скачет! Мы просто не знаем, что делать…
Малыш и его большая семья мне нравились. Они стояли друг за друга и заботились о бабушкином душевном комфорте. И эта традиция совместных обедов… Хотелось им помочь.
– В полтора года ребенку действительно еще нельзя практически ничего объяснить рационально и тем добиться изменения в его поведении, – согласилась я. – Но вот эмоциональный отклик у младенцев есть уже в первые часы жизни. Эмоции дети читают прекрасно. На них и попробуем опереться. Сейчас я расскажу вам, что надо сделать, а вы уговорите бабушку…
Очередной обед малыша оказался приватным – только он и бабушка. Родители спрятались за кухонной дверью. Получив в свое распоряжение кусочек черного хлеба, мальчишка хитро взглянул на бабушку и занес ручку над полом. Бабушка присела рядом на табуретку и начала рассказывать… Зная, что правнук ее все равно не понимает, она говорила о том, о чем не позволяла себе вспоминать уже много лет. Снова падали фашистские бомбы, снова гибли под развалинами и падали от голода на улицах люди… Вот кто-то вырвал полученную в очереди вожделенную пайку хлеба – и мать пришла домой к голодным детям с пустыми руками… «Уходи! – крикнул ей истощенный до последней крайности сын. – Где наш хлеб? Ты, наверное, сама его по дороге съела!»
Голос бабушки дрожал и прерывался. Она держала в высохшей руке кусочек хлеба-кирпичика, и редкие старческие слезы падали на него. Замер малыш. Зажимая себе рот рукой, беззвучно рыдала за дверью молодая мама, с ужасом представляя себя на месте той блокадной женщины…
Неделю после этой сцены ребенок, которому протягивали кусок хлеба, прятал ручки за спину. Потом потихоньку стал есть хлеб и булку, но никогда больше не бросал их на пол…
– Здравствуйте! Я как раз недавно вас вспоминала! – миловидная полная женщина подошла ко мне в коридоре. На руках у нее дружелюбно булькала щекастая, приблизительно годовалая девочка. – Вы нас помните?
– Простите… – я не помнила.
– Крошеный хлеб и блокадная бабушка…
– А, да-да, конечно! – я тут же вспомнила. – Как мальчик?
– В этом году в школу пойдем, – с гордостью сказала мама. – Вот сестренка родилась, он с ней так хорошо возится…
– А бабушка?
– Бабушка умерла. Уже три года. Он ее и не помнит почти… А в начале этого года мне воспитательница в саду как-то и говорит: знаете, у вашего сына по занятиям и с детьми все хорошо, но вот я обратила внимание – он как-то странно к хлебу относится. Другие дети и не едят его почти, откусят и бросят, а он не только сам крошки не уронит, но и если с чужого столика упадет, обязательно вскочит и поднимет. Да еще и говорит: нельзя, нельзя! Тут-то я все и вспомнила. И вас, и бабушку нашу, и блокаду. Поплакала даже. И мужу рассказала…
– Да, это он, – больше себе, чем женщине, сказала я. – Тот самый внутренний закон, о котором говорил когда-то ваш муж. Если вашему сыну никто не расскажет историю с хлебом и бабушкой, он так никогда и не узнает, откуда идет его уверенность в непреходящей ценности хлеба и необходимости бережного к нему отношения. Но навсегда сохранит его и когда-нибудь постарается передать своим детям…
Свобода есть
– Как тебе не стыдно?! Подумай о том, что в Африке миллионы детей голодают! Они были бы счастливы съесть этот кусок, а ты…
Так говорил мой дедушка, когда я в детстве за обедом пыталась оставить на тарелке хоть что-нибудь или припрятать под ободок тарелки недоеденную корку. Дедушкин довод обычно действовал на меня безотказно. Голодные негритята вставали перед моим внутренним взором и укоризненно качали курчавыми головами. Бабушка вступала в дискуссию только в самых тяжелых случаях (в семье считалось, что свежеприготовленная еда из качественных продуктов не может быть невкусной, но я, как любой ребенок, что-то, естественно, просто не любила).
– У нас в Ленинграде во время блокады… – говорила бабушка, в феврале сорок второго вывезенная вместе с двумя детьми-дистрофиками по льду «Дороги жизни» (дедушка в это время был на фронте), и я, давясь, быстро доедала все до крошки и даже вытирала кусочком хлеба подливу, зная, что это запрещено и бабушка (из дворян) данное действие категорически осуждает. Впрочем, дедушке (из саратовских пролетариев) вытирать мякишем тарелку разрешалось – здесь уже вступали в силу иерархические соображения. Мама в процесс моего кормления не вмешивалась, но явно одобряла все предпринимаемое ее родителями.
Годам к десяти я уже четко осознавала, что принятие пищи – процесс насквозь ритуализированный, вроде отчетно-выборного пионерского собрания у нас в школе. Терять время и размышлять о смысле ритуалов не стоит, им надо просто подчиняться.
Много позже, не обнаружив в себе и своих сверстниках массового желания любой ценой накормить собственных детей до тошноты, я подумала о том, что нас воспитывали поколения, пережившие голод двух войн и послевоенные лишения. Может быть, поэтому в то время качество летнего отдыха детей в пионерских лагерях вполне официально оценивали по увеличению живого веса (детей взвешивали в начале и в конце смены, и отчетные цифры должны были увеличиваться)?
И не в те ли незабвенные годы возникла обширная популяция детей, которые «плохо едят» и которых нужно всячески уговаривать, упрашивать или заставлять съесть то, что «нужно»?
А там, где уговоры и упрашивания, неизбежно появляется и манипуляция.
Но чем же все это отзывается впоследствии, когда дети вырастают? Неужели проходит без следа?
Недавно, когда ко мне на прием пришла очередная семья с «плохо едящим» ребенком и с вопросом: «Педиатр говорит, что у него дефицит веса, но как же нам его заставить?» – я вдруг вспомнила о «голодающих негритятах». На земле шесть миллиардов людей. Сколько же из них сейчас действительно голодают или, во всяком случае, не едят вдоволь? Гугл со ссылкой на Welthungerhilfe (организации помощи голодающим мира) дает жутковатую статистику – недоедает каждый шестой житель планеты, – отсылая в такие страны, как Конго, Бурунди, Сьерра-Леоне, Чад и Эфиопия.
Я подумала об этом еще немножко – и вдруг осознала поразительную вещь. Какие там негритята, если голодают абсолютное большинство моих подруг и просто знакомых женщин и некоторая (увеличивающаяся с каждым годом) часть мужчин! Кто-то не ест белковой пищи, кто-то маниакально считает калории, кто-то перестает есть после шести вечера, кто-то по утрам выпивает два стакана воды и съедает горсть проросшей пшеницы, кто-то вообще не ест по пятницам, кто-то питается только мясом и рыбой, а кто-то вдруг осознал себя травоядным и перешел на сыроедение… И фактически ни у кого нет нормальных отношений с едой, вроде бы доставшихся нам от природы вместе с телом и мозгами: голоден – поел чего хочется из того, что в наличии, не голоден – не поел. Подруга, которая не ест после шести, голодными глазами смотрит в гостях на мой пирожок. «Съешь, не мучайся, – говорю я. – Это же даже не религиозная заповедь, так, фигня на палке». – «Нет, не буду, шлаки образуются». Другая (с недавних пор сыроедка, а прежде – сторонница «кремлевской диеты») облизывается на сочный шашлык, ест его глазами. «Слушай, но ведь просто так выделяющийся желудочный сок – это тоже вредно». – «Нет-нет, шашлык – это же труп, как ты не понимаешь!»
Родителям маленьких детей, обратившимся ко мне с этой проблемой, я говорю:
– Представьте себе здорового лисенка в лесу, полном мышей, или олененка на поляне с сочной травой. Может ли лисенок стать тощим от голода, а олененок – раскормиться до безобразной полноты?
– Конечно, нет, – отвечают мне.
– А почему? Да потому что природой вмонтирован нам в мозги регулятор этого процесса. Как и у всех других млекопитающих, наш организм, наш мозг врожденно знает, сколько и чего из предложенного миром ему нужно съесть для полноценного функционирования в тех или иных условиях. И для того чтобы при достаточном количестве удовлетворительной по качеству жратвы по улицам наших городов ходили толстяки или анорексички, этот механизм нужно сломать. Кто и когда, по-вашему, его ломает?
– Современная цивилизация… чипсы… кока-кола… каноны красоты у супермоделей… – хором затягивают родители.
– Не смешите мои тапки! – отвечаю я. – Трехлетний ребенок не может купить себе кока-колы и ему наплевать на моделей. Но если ему позволят, он уже может расширить функции еды: она становится не только источником жиров-белков-углеводов, но и средством управления, причем в обе стороны. Ребенок управляет родителями («Не буду есть кашу, если мультики не включите»), родители управляют ребенком («Куплю чупа-чупс, если постоишь спокойно, пока я с тетей Машей поговорю»). Чему же удивляться, если потом этот выросший ребенок не имеет никакого представления о том, что он действительно хочет съесть, но при этом прекрасно понимает, что его отношения с едой далеки от естественных и здоровых, и готов покупаться на любые, самые дикие спекуляции желающих заработать на этой проблеме «специалистов». Фактически им, уже взрослым человеком, опять управляют с помощью еды, и он на это соглашается, не видя другого выхода.
– А можно ли восстановить этот механизм, если он уже сломан? – заинтересованно спрашивает мать, не всегда думая при этом только о своем ребенке.
Диетологи единодушно отвечают: конечно! Обратитесь к нам, и мы вам за умеренную цену…
А я, честно, не знаю. Но вот механизм биологических часов (способность определять время с точностью до пяти минут) можно запустить, даже если он до этого много лет не использовался. Может быть, и с едой аналогично?
Но, конечно, намного лучше бережно отнестись к тому, что нам досталось в наследство от животных предков, и, по крайней мере, не ломать этот механизм у своих детей.
Я никогда в жизни не сидела ни на каких диетах и, если хочу есть, в любое время дня и ночи ем все, что не приколочено. Но я помню о голодающих негритятах, соблюдаю некоторые пищевые ритуалы, и я зачем-то написала этот текст – стало быть, мои отношения с едой тоже далеки от свободных…
Маменькины сынки
– У меня со свекровью хорошие отношения! Она умный и достойный человек. И сыновей своих хорошо воспитала. И выглядит дай бог каждому в ее возрасте, и в бассейн ходит, и интересуется всеми книжными новинками, и нам советует…
– Помилуйте! – не выдержала я. – Я же ни одного дурного слова не сказала о вашей свекрови. Я ее вообще никогда не видела! Что, собственно, вы мне сейчас доказываете? Может быть, сначала огласите сам тезис?
– Да, действительно… – обескураженно огляделась молодая женщина. – Я ведь вообще-то хотела вас спросить, как с дочкой играть… И с чего же это перешло-то?
Двухгодовалая Карина сидела на ковре у ног матери и, сосредоточенно сопя, раздевала моих кукол. Уже раздетых кукол она складывала в ряд, а одежду кучковала отдельно. Голые куклы были похожи на дрова. Все вместе вызывало какие-то неотчетливые, но явно неприятные ассоциации.
– Господи, Карина, что ты делаешь? Прекрати! – раздраженно вскрикнула мать, по-видимому, только что заметив или как-то по-новому оценив ее действия с куклами. Девочка взглянула на мать с удивлением и послушно отложила полураздетого Кена.
– Мы с вами говорили о том, что на третьем году жизни ребенка самым продуктивным и естественным методом развития его общего интеллекта являются ролевые игры, – напомнила я. – Вы жаловались, что не умеете играть в эти игры, я посоветовала вам попробовать привлечь к этому делу отца Карины: мужчины, если начинают-таки играть с детьми, часто оказываются в играх значительнее креативнее женщин…
– Да, я вспомнила, спасибо, – кивнула мама Карины. – И поняла, почему… Понимаете, наш папа… я сама ни к чему не могу его привлечь, потому что его как будто с нами и нету…
– Он много работает? Часто бывает в командировках?
– Нет. Нет. Но он иногда вообще с таким удивлением на нас с дочкой смотрит – дескать, откуда это мы взялись?
– Простите… не поняла… («Папа с психиатрией? Или она женила парня на себе насильно, шантажируя беременностью?») Вы поженились… по любви?
– Да, конечно. Ребенка он, правда, вначале не хотел, говорил, что когда-нибудь потом. Но когда его мама сказала, что об аборте и думать нельзя, а ребенок даже хорошо, если рано, он сразу согласился…
– Вы живете вместе со свекровью?
– Нет, в том-то и дело! – с жаром воскликнула молодая женщина. – Мы с самого начала живем отдельно, но иногда у меня возникает такое ощущение, что она не только с нами живет, но и спит с нами в одной постели!
– Объясните подробней. Свекровь часто приезжает к вам? Вмешивается в вашу жизнь? Учит вас вести хозяйство?
– Никогда! Все, что я вам вначале сказала, правда. Она милая интеллигентная женщина и никогда не позволит себе… И я честно не понимаю, почему… – мама Карины заплакала.
Девочка тут же забралась к ней на колени и как-то очень сноровисто начала вытирать мамины слезы ладошками. Привычная сцена?
Да что там у них происходит-то?!
– Люба, – обратилась я к молодой женщине. – Объясните мне: отчего вы сейчас плачете? Чего опасаетесь? И к кому у вас, в конце концов, претензии: к мужу или к интеллигентной свекрови, исполненной всяческих добродетелей?
– У мужа есть старший брат, – умывшись у раковины, сказала Люба. – Они с женой развелись полтора года назад и сейчас не общаются. Но я ее еще застала. Она мне сказала: не суйся сюда, тебя здесь не надо. Моему как бы мужу двадцать семь лет, мы шесть лет вместе прожили, у меня иногда такое ощущение, что я с немолодой теткой живу, а иногда – что школьника соблазнила. Тогда я подумала, что это она по злобе сказала, а теперь ох как понимаю ее… Вам непонятно, наверное. Но вот насчет ролевых игр: папа наш сам не будет, конечно, но я могу его заставить с Кариной играть. Что я для этого должна сделать? Описываю по пунктам: сначала рассказываю Клавдии Николаевне (это свекровь) о своем визите к психологу, о пользе ролевых игр и о ваших советах относительно участия ее сына. Потом она, скорее всего, приходит к вам и из первых рук выясняет подробности, чтобы все сделать правильно (причем мне о своем визите к вам она не скажет, чтобы не показалось, что она вмешивается в нашу жизнь). Потом она проводит беседу со своим сыном о ролевых играх и его роли в воспитании Карины. Потом – с нами обоими о том же (чтобы я не обиделась, что за моей спиной). И, наконец, апофеоз: Олег играет с Кариной в больницу или автомастерскую… Я устала так жить. Я никогда не солю гречневую кашу. А у них в семье все очень соленое. Чтобы Олег на втором году нашей совместной жизни согласился с тем, что кашу можно посолить и в тарелке, понадобилось опять же осторожное вмешательство Клавдии Николаевны… Знаете, бывает, детей на таких шлеечках аккуратно водят?
– Знаю. Все серьезно, – согласилась я. – Но пока мы сделаем так, как вы сказали. Пусть Клавдия Николаевна приходит выяснять про ролевые игры. По возможности даже подтолкните ее.
«Милая, интеллигентная женщина», – полностью согласилась я с Любиной характеристикой Клавдии Николаевны после беседы о ролевых играх.
– Клавдия Николаевна, а как насчет того, чтобы отпустить сыновей? Они ведь уже взрослые дяденьки…
– Понимаю вполне, – с грустной улыбкой кивнула женщина. – Это проблема. Любочка жаловалась, да? А если бы вы еще мою бывшую невестку послушали… Иногда смотрю на себя в зеркало и думаю: неужто я правда монстр?
– Но почему же…
– Я думала сто раз, читала. Может, все дело в том, что очень много всего накоплено – мысли, опыт, полезные какие-то вещи, и очень хочется отдать. А кому же, как не детям… Вы знаете, парадокс в том, что я в детстве их совершенно не опекала. Отпускала в лагеря, в походы, на все их подростковые просьбы отвечала: конечно, давай пробуй! Может быть, поэтому у них никогда не было ничего похожего на подростковый кризис, как его в книжках описывают. («Конечно, не было! – подумала я. – Потому что они его, этот кризис, так до сих пор и не прошли. Чтобы инициация состоялась, должно быть сопротивление материала».) Мы с мужем даже удивлялись: парням уже по шестнадцать – восемнадцать лет, а они по-прежнему с нами всем делятся, обо всем советуются. Старались их никогда не отталкивать, поддерживать во всем…
– Клавдия Николаевна, как вы думаете, в чем эволюционный смысл того, что однажды родители перестают понимать своего ребенка, сука рычит на своих подросших щенков, а медведица прогоняет выросшего пестуна за границы семейного участка? Ведь если это так повсеместно в природе закрепилось, значит, это для чего-то ужасно важно?
– Ну я понимаю, что вы хотите сказать… чтобы они ушли и жили своей жизнью… Но мы-то все-таки не собаки и не медведи…
– Но сказка про Золушку и мачехиных родных дочек есть и у нас, – напомнила я. – А аналогичной сказки про маменькиных сынков нет просто потому, что исторически у женщины не было возможности долго пестовать своих подросших сыновей, они быстро переходили в ведомство «мужского мира», а там действовали жесткие законы конкуренции. Теперь все изменилось – и вот только ленивый не жалуется на изнеженность, вялость и несамостоятельность современных молодых мужчин.
– Послушайте, но даже в угоду вашим законам эволюции я не могу выбросить своих детей из головы и из сердца, как это делает сука или медведица!.. Кстати, я пыталась отвлечься, заниматься собой: хожу в бассейн, записалась на курсы компьютерного дизайна, много читаю – наверстываю то, что не успела прочесть в юности…
– Но ведь никто не говорит, что родители «непонятых» подростков расстаются с ними навсегда, – напомнила я. – После периода семейного «непонимания» и социальных поисков в благополучном случае наступает следующий период – период дружеского общения взрослых, родных людей.
Клавдия Николаевна долго молчала, глядя перед собой.
– Я не смогу, – наконец сказала она. – Я сто раз обещала себе не вмешиваться, но когда они сами приходят и спрашивают, а я вижу, что нужно сделать… Особенно теперь, после смерти мужа… Что у меня осталось? Вы правы, скорее всего, но я не смогу…
– Кто вы по специальности?
– Я акушер-гинеколог. Очень люблю свою работу, но… сами понимаете, там, в родилке, я тоже привыкла брать ответственность на себя, те же двадцать пять лет…
– Вы что-нибудь придумаете! – уверенно сказала я.
В шесть лет они пришли ко мне тестироваться перед школой, и Люба сама напомнила мне о прошлом визите. В памяти на удивление легко всплыла несоленая гречневая каша, и я спросила:
– Как там свекровь?
– Все чудесно! – улыбнулась Люба. – Она тогда почти сразу уехала на полтора года в Конго, по специальности, с какой-то гуманитарной миссией, нам сказала: обновить свой французский язык. Я, конечно, прыгала от радости, но вы бы видели, как обиделись на нее эти великовозрастные балбесы: как же, мамочка нас бросает! Потом, конечно, все устаканилось, муж начал как-то сам принимать решения, а когда она вернулась, все и вовсе стало хорошо, моя мама нам столько не помогает, сколько свекровь. Теперь вот согласилась Карину в музыкальную школу возить… Только холостой старший брат все еще на всех в обиде и моему говорит: жаль, что мама раньше в джунгли не уехала, когда мы еще с Ленкой жили. А теперь уже поезд ушел – у Ленки новый муж и от него ребенок…
Как утопить «Титаник»
– Я чувствую себя идиотом, вы понимаете или нет?! Я не могу…
– В каком именно случае вы чувствуете себя идиотом? – уточнила я.
– А вот когда жена заставляет меня с ними играть. В мячик или в машинки – больше ни мне, ни ей в голову ничего не приходит. После пяти минут пинания мячика туда-сюда или делания «ж-ж-ж» машинками я чувствую, что сатанею…
Двое симпатичных русоголовых мальчишек (два с половиной и четыре года) ползали по ковру у моих ног и согласно делали то самое «ж-ж-ж» моими многочисленными машинками.
Папа поправлял очки.
Женщина сначала сидела, обиженно поджав губы, а потом перешла в наступление:
– Да уж, конечно, куда проще им мультики включить, а самому – к компьютеру…
– Стоп, стоп, стоп! – весь ее дальнейший монолог, до последней запятой, я легко могла проговорить сама. – Ролевые игры! – энергично предложила я. – Это прекрасный, естественный и, в общем-то, единственный способ развития общего интеллекта ребенка-дошкольника. Конечно, природа запрограммировала его развертывание в разновозрастных группах детенышей, но с ними сегодня некоторые проблемы, поэтому родители должны компенсировать… Впрочем, вам повезло: у вас двое близких по возрасту детей…
– Погодите, погодите, – прервал мое оптимистичное чирикание папа. – О чем вы вообще говорите? Что это такое? Домашний театр, что ли?
– Гораздо проще, – ответила я. – Игры с ролями. Всегда были. Вспомните свое детство. «Я буду пограничник, а ты будешь собака пограничника. Вон там – нарушитель границы. Говори: гав-гав-гав – и хватай его!»
– Гав-гав-гав! – охотно сказал младший мальчик и вежливо укусил папу за брючину. Мужчина опасливо отодвинулся.
– Понимаете, это одновременно и игра, и такой способ освоения действительности. Вот глядите: двести лет назад родился в русской крестьянской семье ребенок. До года лежал в люльке под снотворным, сосал тряпочку с маковым жмыхом. Потом его оттуда вынули и отдали старшим братьям-сестрам. Они его сразу взяли в игру. Назначили для начала тем, кто он и есть: младенцем в игре «в семью». Вот мама, вот папа, они на работу в поле ходят, а потом его как будто кормят тюрей с листа лопуха. Прошел год. Ребенок подрос, и его назначили собачкой пастуха. Объяснили: если вот оттуда высунется Ванька (он – волк!), кричи «гав-гав-гав»! Прошел еще год. Теперь наш ребенок – пастух или волк, у него есть своя собачка, и все они пасут коровок, сделанных из полешек. Еще год. Наш ребенок – отец (или мать) семейства – пашет игрушечным плугом, печет игрушечные пироги в игрушечной печи, ездит на ярмарку, ругает новонародившихся «деток». Еще год. И вот уже шестилетний ребенок – организатор все той же игры «в жизнь», он сам распределяет роли. Еще год. Крестьянское детство коротко – семилетка уходит работать, пасти настоящих гусей. Но игра уже подготовила его практически ко всему, с чем он встретится в жизни… Понимаете теперь?
– Э-э-э, – субтильный интеллигентный папа взглянул на меня в некотором ошеломлении – жизнь крестьянской общины двухсотлетней давности явно была слишком далека от него. – Но я, видите ли, инженер… Эти ваши игры…
– Есть целый набор стандартных, вполне современных ролевых игр, – поспешила уверить я. – Детский сад, школа, поликлиника или больница, магазин или автолавка, стройка, гости, авторемонтная мастерская…
– Но это ж сколько всяких игрушек надо, если во все это играть… – задумалась мама.
– Нисколько! – возразила я. – Миры создаются прямо из подручных материалов, в этом самая соль. Ребенок, который может поскакать на палочке, покормить ее сеном, поставить в стойло, потом из этой же палочки сделать ружье, потом из нее же – границу, лопату, меч, – такой ребенок гораздо более развит интеллектуально, чем тот, которому для игры все эти предметы нужны по отдельности и в максимальном правдоподобии.
В доказательство своих слов я из чеков хозрасчетного отделения, пригоршни желудей, двух ракушек и машинки без одного колеса быстренько создала у себя на столе приемный покой больницы скорой помощи.
Мальчишки бросили возить («ж-ж-ж») машинки и внимательно наблюдали за рождением мира. Когда я отвернулась, старший согнул из чеков еще пару «коек» и разместил на них откатившиеся под кресло желуди.
– Любую развивающую программу можно запихать в любую игру, – сказала я. – И главное, все это будет не просто так, от родительской балды, а по делу. Вот глядите: моя больница. Писать истории болезней, изготавливать лекарства, рисовать температурные графики…
– А что же выбрать для начала? – деловито спросила мама. – Больницу как-то не хочется…
– Только то, что вам самой нравится, – уверила я. – Главное – это удовольствие от создания мира. А дети подстроятся! Кстати, мужчины обычно в таких играх креативнее женщин и часто даже детей оттесняют от происходящего, все сами придумывают и воплощают.
– Может быть, в детстве недоиграли, – предположил папа. – Что ж, я в принципе не против… Но что бы мне такое… Как-то ваш стандартный набор мне не очень близок…
– Авторская программа! – бодро предложила я. – Например, игры с водой в ванной, их все дети любят. У вас два мальчика, им наверняка понравятся «катастрофические» игры. Вы могли бы топить в ванне «Титаник»… (В то время как раз вышел на экраны кэмероновский фильм.)
– Простите?..
– Ну что может быть проще? Льдину морозим в холодильнике, «Титаник» – кусок доски или пенопласта – приносим с помойки, люди – желуди – спасаются в мыльницах…
– Ага! – сказал папа, и в его глазах явственно заработала мысль.
Прилежная мама заглянула ко мне в кабинет через два-три месяца.
– Ну кто бы мог подумать?! – сказала она.
Мальчики, которые до этого папой не очень-то и интересовались, скачком выучили часы. К моменту прихода папы с работы ждут у двери, держа в зубах каждый по тапку. Потом старший бежит наполнять ванну, а младший контролирует, как мама кормит папу (чтобы не отвлекались на пустяки). Отец снова, как в далеком детстве, с интересом проходит мимо помоек. Льдины были цветные и еще всякие. На «Титанике» начинался пожар, его тушили с вертолета (мамин флакон из-под шампуня). Довольно быстро папа-инженер сконструировал батискаф (дуешь в трубочку – всплывает, откачиваешь воздух – тонет). Последнее достижение – совместно с сыновьями вывели закон Архимеда (топили разные вещи, отмечали маркером уровень воды, мерили рулеткой ванну, высчитывали объем).
Старшему недавно исполнилось пять лет. Отец спросил: что тебе подарить? Сын ответил: поиграй со мной!
Серая мышка
Как же я ее недооценила при нашей первой встрече!
Внешность, про которую обычно со смесью сожаления и насмешки говорят: ни рожи, ни кожи. Девять классов школы без малейших успехов в одном из поселков Ленинградской области и после – даже никакого ПТУ, просто работала кассиром в магазине. Семья – двое маленьких сыновей (почти погодки), муж-пролетарий (крановщик или экскаваторщик, не помню) и еще отец мужа – крепко выпивающий дед, слесарь на Ижорском заводе.
Не помню я и того, с чем она обратилась ко мне в первый раз. Кажется, что-то вполне неврологическое у младшего мальчика – ходил на цыпочках и тряс подбородком, когда пугался. Я просмотрела карточку, не увидела ничего страшного, ребенок в целом развивался вроде бы по возрасту. Из анамнеза поняла, что невропатолог из-за отсутствия времени (и желания?) направил ее ко мне просто «поговорить». Как могла, успокоила встревоженную мать, попробовала объяснить про необходимость ролевых игр для развития детей. Обсудили и еще один животрепещущий вопрос: что делать с тем, что сыновья бешено, по любому поводу соперничают и дерутся друг с другом.
– Я пытаюсь и одному и другому поровну дать, а они все равно ревут и недовольны, – посетовала женщина.
– Они близки по возрасту и одного пола, – сказала я. – Поэтому конкурируют за все, в том числе – и едва ли не в первую очередь – за ваше внимание. Этого нельзя отменить, но это можно использовать. В какой-то степени ваше материнское и вообще женское внимание – дефицитный товар у вас в семье, как бы странно и даже аморально это ни звучало…
Она работала в магазине, я пыталась говорить понятно для нее, но если сказать честно, ни на что особенно не надеялась.
«Эх, бедная маленькая мышка, – сочувственно думала я. – Ведь раскатают тебя эти четыре мужика в блинчик! Будешь ближайшие пятнадцать – двадцать лет крутиться, обслуживать их по-всякому, а помощи никакой, да еще они будут всем недовольны, потому что на всех всего все равно никогда не хватает… А сыновья-то будут брать пример со старших мужчин…»
Но как показало дальнейшее, меньше всего эта женщина нуждалась в моем покровительственном сочувствии.
Звали ее красиво – Маргарита.
И вот что она сделала после нашей с ней первой встречи (в последующие годы мы встречались еще несколько раз по разным поводам, и я, со все возрастающим удивлением и уважением, могла отследить весь процесс).
Товар? Дефицитный? Очень хорошо, решила Маргарита. Товаром надо торговать.
– Что-то я устала сегодня, – говорила она катающимся в конкурентной схватке за какую-то игрушку сыновьям (одному два с половиной, другому четыре года). – Разнимать вас мне недосуг. Прилягу я. А вот кто бы мне тапочки принес – не вижу их что-то?
Явно проигрывающий в схватке со старшим, более сильным братом двухлетка понял, что ему предоставляют возможность почетного отступления. Грузовик достался старшему, тапочки матери разысканы и принесены.
– Ах ты моя ласточка, вот мать-то уважил, мне самой под кровать лезть несподручно…
Старший моментально почувствовал, что призовой грузовик потерял все свои краски. Попытался силой оттеснить младшего от матери.
– Не трожь помощничка моего, – рыкнула мать. – А хочешь добро сделать, так пойди на кухню, достань из холодильника кастрюлю с супом и миску с котлетами, хлеб, да капусту квашеную в салатнике, да вилки-ложки, да все это на плите, на столе по порядку расставь. Скоро отец с работы придет, мне его кормить надо будет.
Старший вихрем уносится на кухню. Младший тянется за ним – он вошел во вкус, ему хочется и отцу помочь. Старший, конечно, встречает его на пороге кухни с кулаками.
– Эй, эй! – с дивана кричит мать младшему. – Не лезь. Подумай, чего там вдвоем суетиться? А вот кто отцу тапки в коридоре приготовит, свет в ванной зажжет, полотенце подаст? Ему ж прежде, чем есть, помыться надо будет…
Младший, топоча маленькими пятками, бежит в коридор. Мать лежит на диване, смотрит сериал про «Просто Марию», ее глаза увлажняются от жалости к страданиям героини.
Потом пришедшему с работы экскаваторщику она рассказывает, как сыновья помогали матери, готовились к его встрече. Мужику приятно. Назавтра оба бегут уже без просьбы, только старший спрашивает: «Мам, чего папа сегодня есть будет? Чего доставать?»
Пошли в детский сад. Все поделки, конечно, приносят матери. Ей собирают трогательные весенние букетики мать-и-мачехи, каждое ее слово и желание ловят на лету. Мать не нахвалится сыновьями – на скамейке с бабками, на работе, дома… Причем хвалит не попусту, а только за уже сделанное дело и (интуитивно, никто не учил) в форме «я-посланий»: «Уж как я обрадовалась-то и удивилась – такое он выдумал…»
Постепенно муж почувствовал себя ущемленным – его кормят, за ним ухаживают, но что-то все-таки не то… Напряг имеющиеся извилины и сообразил: да у него же перед сыновьями есть отличное конкурентное преимущество – он-то деньги зарабатывает, ему не надо мать-и-мачеху под забором собирать и домики на картонке клеить!
Придумав какой-то повод, принес жене огромный букет-веник из цветочного магазина. Маргарита зарделась: как приятно, девчонкам в магазине расскажу – обзавидуются, что у меня такой муж! А вот говорят еще, в Питере театры красивые, я-то из деревни, не видала толком, а ты-то городской, знаешь все… С трудом разжимая сведенные судорогой челюсти, экскаваторщик попросил в театральной кассе билет на «Лебединое озеро».
Для сыновей настало время кружков. Как обычно поступают, когда в семье два мальчика, близких по возрасту? Правильно: отдают в один и тот же кружок, водить и забирать проще, и вообще. Маргарита и тут пошла своим путем.
Старшего, бесстрашного и агрессивного, отдала на гандбол. Младшего, более спокойного и трусоватого, «пустила по художественной части» (выражение самой Маргариты).
В результате мальчишки перестали конкурировать на одном поле и даже получили возможность рассматривать успехи брата как свой собственный ресурс. «Вот мой брат придет и так тебе насует! – пугает обидчика младший. – У него, между прочим, уже второй юношеский разряд…» – «А мой младший братишка отлично рисует, – хвастается симпатичной ему девочке старший. – Его картину даже на детской выставке в Эрмитаже выставляли. Вот ты мне дай свою фотку, и он с нее твой портрет нарисует, увидишь, как похоже будет!»
А куда братья несут все эти грамоты, кубки, дипломы? Конечно, к ногам матери, гордой и счастливой их успехами Маргариты.
Пьянчужка-дед между тем вышел на пенсию и затосковал: нет ему места на этом празднике жизни. Ушел было в длительный запой…
– Господи, как нам повезло-то! – воскликнула Маргарита. – Я уж с ног сбилась, по кружкам-то их таская…
– Ну я, в принципе, мог бы иногда… – проворчал дед.
Забирать внуков из кружков выпивши не позволяла рабочая честь: что культурные люди скажут? А кружки-то у двоих мальчишек почти каждый день…
Высвободившееся от выпивки время старый рукастый слесарь теперь посвящал домашним делам:
– Ритка, ты отдохни пока, я посуду-то помою и кран заодно налажу – капает ведь, зараза…
Счастье невестки было обильно и неподдельно.
И знаете, какая удивительная вещь: с годами Маргарита не старилась, а становилась все красивее и красивее! И когда я видела ее в последний раз (профориентация, выбирали колледж для старшего сына), она была совсем-совсем не похожа на серую мышку.
Стихи для няни
– У меня двое детей. С ними все абсолютно в порядке – нормальные, здоровые – тьфу-тьфу-тьфу! – дети. У меня тоже все в порядке. Но я пришла к вам проконсультироваться, на всякий случай. Вы понимаете?
Я ничего не поняла, но на всякий случай кивнула. Я соглашатель по природе, да и в университете меня учили: если не происходит ничего экстраординарного – соглашаться с клиентом, это очень терапевтично.
Сидящая передо мной женщина действительно выглядела вполне благополучной. У нее были неправильные черты лица, но при этом пышные, красиво уложенные волосы, очень ухоженная кожа и подтянутая сухощавая фигура, явно доставшаяся ей не от природы, а в результате диет и усиленных, направленных тренировок, скорее всего с персональным тренером. В руках она держала ключи от машины и время от времени ловко и забавно крутила на пальце брелок с каким-то полудрагоценным камнем.
– Моему сыну семнадцать лет. Он учится в Англии, в очень хорошей школе. Вполне успешен и вроде бы всем доволен, много занимается спортом. Дочке скоро будет два года.
– Дети от одного отца? – уточнила я, предвидя ответ.
– Да, конечно, от одного, – женщина легко опровергла мои ожидания. – Мы двадцать лет женаты, у нас хороший брак. У меня большой бизнес из сферы обслуживания. Почти полторы сотни человек. Муж тоже мне помогает. Но вообще-то он музыкант.
Я промолчала. Она, кажется, это оценила.
– Я хотела поговорить с вами о детях. То есть сын, конечно, уже почти вырос, там что сделано, то сделано. А вот дочка еще маленькая, и тут вроде бы возможны варианты. Она у меня, естественно, сидит с няней. Точнее, с двумя, потому что у них должны же быть выходные. Няни, к сожалению, часто меняются. Вы же знаете, как трудно сейчас найти хорошую няню…
Я не знала, но на всякий случай опять кивнула: наверное, действительно трудно.
– И вот я тут подумала: а не вредно ли ребенку практически все время находиться не с матерью, а с другими, чужими, в сущности, людьми? Может быть, я совершаю фатальную ошибку? Может быть, у дочки от этого развивается стресс и еще какие-нибудь нарушения личности? И сын так далеко от меня… Он уже совсем англичанином стал: когда я спрашиваю у него, как дела, отделывается явно формальными ответами и описывает погоду в стиле телевизионных комментаторов. Хотя, конечно, у него еще такой возраст, я понимаю… И вот мне захотелось узнать мнение специалиста…
– Здесь возможны два варианта, – подумав, сказала я (женщина на удивление легко держала паузу – видимо, сказывался большой опыт руководящей работы). – Первый: вас совершенно устраивает тот образ жизни, который вы себе выстроили, но из внешней среды, от значимых для вас людей или непосредственно от ваших детей поступила некая информация, которая маркирует какую-то проблему. Тогда мы ее и будем решать. Второй вариант: вы устали или вам просто по возрасту надоело бегать электровеником, и вы видите в непосредственном уходе за подрастающей дочерью (заручившись при этом рекомендацией психолога) возможность изменить ваш образ жизни. Но это ваша жизнь, и, желая ее как-либо изменить, вы совершенно не обязаны искать для этого предлог или обстоятельства непреодолимой силы. Вы – свободный человек.
Теперь думала моя посетительница. Я ждала.
– Вроде никаких существенных проблем не было, – наконец сказала она. – По мелочи не считается, потому что это нормально. Стало быть, второй вариант? Насчет моей свободы… Но ведь вы должны понимать, что я отвечаю за людей!
– Вы наверняка не используете детский труд, – улыбнулась я. – Это все взрослые люди, следовательно, они сами за себя отвечают.
– Верно, – она улыбнулась в ответ. – Поймали. Отговорка.
– К тому же ваш муж…
– Ах… – брелок на пальце завертелся просто-таки с бешеной скоростью, сливаясь в мерцающее кольцо. – Он без меня не сможет. Он слишком мягкий человек, чтобы… Знаете, если говорить честно, то я, наверное, уже привыкла к определенному уровню доходов, комфорта, возможностей. Именно это, если хотите, дает и одновременно ограничивает мою свободу… Диалектика из институтской программы! Вот где она, оказывается, вылезает, кто бы мог подумать… – с искренним удивлением добавила она.
Мне почему-то стало весело.
– Да бросьте! – сказала я. – Вы родились и выросли…
– Вот тут, недалеко от вашей поликлиники, в двухкомнатной хрущевке на пятерых, – легко подхватила она. – Отец пил, дедушка двенадцать лет болел раком… А мне всегда хотелось жить богато…
Я представила себе, как она, цепляясь зубами и всеми четырьмя конечностями, добиралась от этой хрущевки к своему «большому бизнесу из сферы обслуживания». И ведь никакие мужики не служили ей стартовой площадкой, наоборот – она двадцать лет замужем за своим музыкантом.
– Река времени не течет вспять, – сказала я. – Вы уже ни при каких обстоятельствах не вернетесь в ту хрущевку. Даже если бы вдруг захотели.
– Я умом-то все понимаю, – кивнула она. – Это что-то внутри меня. Не дает расслабиться. Но, в общем, мне действительно нравится насыщенная жизнь – когда вокруг много людей, событий, материальных возможностей… Стало быть, вы полагаете, что дочери никакой психической травмы сидение с няней не нанесет? Я понимаю, конечно, что надо все-таки найти постоянную…
– Я пока ни слова об этом не сказала.
– Да? И вправду, – удивилась она. – Ну, значит, это я за вас. Но все-таки – как вы-то считаете? Ведь издавна же аристократы отдавали своих детей няням, кормилицам, потом отсылали в школы, пансионы, лицеи… Так?
– Так, – согласилась я. – И если бы это как-то существенно и негативно на психику влияло, наверное, уже заметили бы.
– Но? Есть же «но»! Не может не быть, я его слышу, – требовательно сказала она. – Что происходит, если ребенка фактически растит няня? Хорошая няня?
– Да ничего плохого с ним не происходит, – я пожала плечами. – Просто если ваш ребенок вдруг окажется Пушкиным, то он напишет и посвятит много стихов своим друзьям, своей стране, своим женщинам, одно из самых проникновенных и нежных – своей няне и ни одного – матери.
Цепочка лопнула, и оторвавшийся брелок со стуком упал на пол.
– Вы правы, он не напишет, – глухо сказала женщина. – Теперь уже не напишет никогда. А ведь в детстве он действительно сочинял стихи. Мой сын… Наивные такие, но совершенно прелестные. И пел их как песенки. Говорил, что будет исполнителем романсов. Когда мы только отправили его в Англию, он сначала писал ужасно ностальгические, но лирические и красивые письма. Как будто из ссылки… Я даже испугалась и поехала туда: вдруг ему действительно так плохо? Увидела его: бодрый, впервые целеустремленный, весь в учебе, спортивных тренировках и интригах – поставил себе задачу стать капитаном какой-то команды… Теперь он не собирается возвращаться в Россию, говорит, что из-за коррупции в ней невозможно работать, а ностальгию придумали неудачники. Собирается учиться на менеджера и заниматься строительным бизнесом в странах третьего мира – там, говорит, больше прибыль…
– Я думаю, так оно и есть, – сказала я, чтобы что-то сказать (в строительном бизнесе и прибылях я, мягко скажем, разбираюсь неважно).
Она понимающе усмехнулась и встала. Осанка у нее была – впору позавидовать. Тщательно накрашенные глаза подозрительно блестели.
– Спасибо, – медленно сказала она. – Я не жалею, что пришла. Кое-что я для себя выяснила и уяснила. Буду теперь думать.
– Удачи вам! – искренне пожелала я.
На пороге она обернулась:
– Дочка тоже поет песенки. Только, няня говорит, у нее пока слов не хватает. Я хочу… – она оборвала себя резким жестом и вышла за дверь.
Я смотрела ей вслед. А потом заметила валяющийся на ковре брелок. Подняла его и положила на полку. Если она не вернется – подарю его какому-нибудь малышу, получится красивая игрушка.
Алиса как симптом и синдром
Девочке Алисе было два года и десять месяцев. Несмотря на обилие в кабинете игрушек, она ими практически не играла. Брала одну за другой и, толком не исследовав их возможности, либо бросала на пол, либо приносила и складывала матери на колени. Употребляла пару десятков простых слов типа «мама», «нет», «дай».
Проблемы в развитии ребенка были налицо. Но молодая мать почему-то о них даже не упоминала и говорила исключительно о себе.
– Я еще поняла бы, если бы это была свекровь. Ну ревность к невестке и все такое – говорят, это часто бывает… Но это же моя родная мать! У нас всегда были такие хорошие отношения, я с ней даже подростком не ссорилась. Подружки мне завидовали… И вот! Конечно, когда папа четыре года назад умер, она очень переживала, но зачем же теперь… Я же не шляюсь где-нибудь, я работаю и учусь, я предлагала Алиску в ясли отдать, она сама сказала: давай я с ней буду сидеть. А теперь…
Что собственно происходит теперь, я, признаюсь, выяснила не без труда.
Алиса ужасно капризная. Если что не по ее, кидает игрушки, падает на пол, дерется. Заниматься, строить из кубиков, учить буквы (зачем?!), рисовать, даже читать книжки не хочет совсем. Умеет есть сама, но требует, чтобы ее кормили с ложки и включали мультики во время еды. Если не включить, может перевернуть тарелку. Последнее время стала плохо спать по ночам.
Наконец-то обозначились проблемы ребенка.
Но странное дело: бабушка, а теперь вслед за ней уже и муж молодой женщины по имени Лена согласно утверждали, что все это происходит с Алисой исключительно в присутствии матери. Дескать, когда матери нет дома (а это бывает весьма часто – Лена работает и одновременно доучивается в институте), девочка ведет себя практически идеально, не капризничает и с ней никаких хлопот. Стоит появиться матери, и ребенка как будто подменяют – он превращается в маленького монстра.
– Если их послушать, получается, что лучше бы меня вообще не было, – глотая слезы обиды, говорит Лена. – Как будто я ей врежу или еще что-то такое… Но этого не может же быть, это мой ребенок, я ее люблю, хочу с ней быть… Мама, в сущности, не работала никогда, раньше ее папа содержал, теперь мы… А муж придет с работы, поест – и к телевизору или к компьютеру, ничего не хочет и как будто не хотел вовсе. А я и деньги зарабатываю, и хочу диплом получить, чтобы потом иметь возможность по специальности расти, – это что, неправильно, да? Скажите – неправильно?
– Ну почему же неправильно…
– А позавчера я с учебы пришла, Алиска мне обычно радуется, скакать вокруг начинает, а тут вдруг насупилась и говорит: уходи! Я говорю: куда же мне уходить?! А она: откудя пишла… – Лена разрыдалась. – За что? Почему они надо мной издеваются, хотят меня представить никудышной матерью? И ребенка настраивают… Родные же вроде бы люди! Зачем они мне врут, что без меня она не такая…
Я подождала, пока она выплачется, и сказала:
– Лена, ваша мама и муж говорят правду. В ваше отсутствие Алиса действительно ведет себя по-другому.
Женщина помолчала, собираясь с силами.
– Значит, я действительно плохая мать? – упавшим голосом спросила она. – И что же мне теперь делать?
– Для начала вы проведете эксперимент. Вы ведь практически не бываете с дочерью наедине. Даже когда вы дома, где-то тут же бродит ваша мама и сидит за компьютером муж. Вы можете услать их куда-нибудь или сами уехать с Алисой на пару дней?
– Могу. У нас на работе многие в пансионат ездили, со скидкой, на выходные. Я, наоборот, стремилась дома, с семьей…
– Очень хорошо. Поедете вдвоем с Алисой, маме скажете, что ей надо отдохнуть. А муж пусть на рыбалку съездит. Потом придете ко мне, расскажете…
– Вы знаете, вы были правы, – не скрывая своего удивления, сказала Лена, появившись в моем кабинете через пару недель. – Я два раза с Алиской ездила в Репино, в пансионат. Конечно, она там со мной не идеально себя вела, но намного, намного лучше. Даже книжку вечером слушала… И дома стало лучше. Не с Алисой, там она по-прежнему по вечерам свои спектакли закатывает, а мне самой. Я теперь понимаю, по крайней мере, что они мне не врут специально, чтобы меня позлить. Но что же это такое? И – вы мне еще в прошлый раз говорили, но я была своим занята – Алиска же явно тормозит. С этим же тоже надо что-то делать?
– Мне нужно, чтобы вы пришли ко мне вместе с мужем, – сказала я. – А потом еще отдельно бабушка.
В общем-то, получившаяся после всех встреч картина была вполне понятной. Лена – самая активная и с раннего возраста самостоятельная часть семейства, во многом она похожа на своего умершего от инфаркта отца. Поступила в институт, рано вышла замуж, родила ребенка, устроилась на работу, потом восстановилась на вечернем… Ее мать после смерти мужа, который всегда был центром ее мира, сначала несколько растерялась, а потом обрела новый смысл жизни во внучке. Но при этом бессознательно попыталась завладеть этим воссозданным «центром мира» полностью, то есть оттеснить Лену от дочери, что было, в общем-то, нетрудно, учитывая образ жизни молодой женщины. Муж Лены, вяловатый, неагрессивный, но достаточно амбициозный программист, выращенный матерью-одиночкой, когда-то, по закону притяжения противоположностей, пленился Лениной плещущей через край энергией и дефицитной в его мире самодостаточностью (у него тесная связь с матерью, у Лены родители всегда были в большой мере замкнуты друг на друге). Но подхватить и полностью разделить суперактивный образ жизни молодой жены у него не получилось. Она все время требовала от него роста, движения, призывала «встать с дивана» и «хоть куда-нибудь» пойти. Ему хотелось тишины, он часто уставал от «праздника, который всегда с тобой». Он не был еще готов к рождению ребенка, но Лена решила за обоих. Понятно, что при возникновении скрытого конфликта между матерью и женой молодой человек оказался на стороне тещи…
А что же Алиса? Ее маленькая жизнь, как это всегда бывает в подобных случаях, явилась наглядным выразителем симптома и синдрома семейной дисгармонии. Вы не понимаете, не слышите чувств друг друга и, хотя и любите, не хотите договариваться! – сигнализировало ее поведение взрослым членам семьи. Любой сигнал требует расхода энергии. Алиса расплачивалась за происходящее задержкой развития, нарушением сна, капризностью (естественно, что все это проявлялось особенно сильно, когда родственники собирались вместе и их взаимное непонимание актуализировалось).
Я говорила обо всем этом отдельно с молодыми родителями и отдельно с бабушкой. Лена поняла и приняла все сразу. Ага, есть отдельные недоработки, конечно, их надо исправлять. Она готова к любым подвигам, готова все сделать, извернуться со временем, пространством и т. д. – только скажите, что именно нужно. Мне было достаточно сложно объяснить ей: большая часть ее подвига должна заключаться в том, чтобы иногда кое-чего не делать. Ленин муж – бывший вундеркинд – почему-то больше всего испугался того, что Алиса несколько отстает в развитии от сверстников, и тут же вызвался работать в этом направлении, предложив подключить к процессу его собственную мать. Стоило некоторого труда выработать совместную программу действий, направленную на преодоление Алисиных когнитивных проблем.
Бабушка сначала была агрессивна («она родила ребенка и бросила!»), а потом, когда поняла, что я на нее вовсе не нападаю, призналась, что все время боится, что у нее отберут последнее – Алиску, и тогда ей останется только повеситься, и правильно вообще-то Ленка все делает, потому что вот она сама всегда была замкнута на дом, мужа, семью – и что теперь?!
Я заверила ее, что Алиску в ближайшее время никто не отберет, скорее наоборот – стоит ожидать в дальнейшем появления новых внуков, так как юная Лена с Алисой кое-что упустила в материнстве, и потом, в более зрелом возрасте, наверняка пожелает наверстать. Но при этом стоит подумать и о своей собственной жизни, довольно уже перекладывать ее смысл на кого-то другого, это, в общем-то, неэтично и чревато… Бабушка согласилась и призналась, что ей давно хотелось завести пару маленьких породистых собачек, ходить с ними гулять, в клуб, может быть, даже какую-то работу найти, с животными связанную, но муж всегда был против, а потом ребенок, вдруг ему вредно…
– Полезно! – сказала я. – Вот случай! Воспользуйтесь немедля.
Я велела им стараться изо всех сил и прийти через три недели (сразу изменить сложившуюся систему отношений почти невозможно, но я надеялась, что Алиса отреагирует на их усилия, они увидят улучшения и включится механизм обратной связи). Они честно старались, и Алиска не подвела – почти перестала капризничать и стала лучше спать.
– Дальше все зависит только от вас! – сказала я молодым родителям.
Бабушка ко мне не пришла. Она уже три недели сидела в интернете и общалась в чатах с другими любителями маленьких дрожащих собачек…
Мама и бабушка: кому воспитывать
– Вы должны меня поддержать, потому что она читает вас в интернете!
За много лет практики я привыкла к любым изгибам человеческой логики, поэтому просто кивнула:
– Ну разумеется. Только сначала хотелось бы узнать побольше о вашей семье.
Они пришли втроем. Пожилая и на свой лад красивая дама с пышно уложенной седой прической – бабушка, Лидия Васильевна. Молодая мама Вика с отчетливыми следами бывшей молодежной неформальности (готы, рокеры, еще кто-то – я в них не очень-то разбираюсь, к тому же здесь были именно следы, явная дань прошлому – там сережка, там заклепка…). И мальчик трех с половиной лет – крупный, с упрямым взглядом круглых серых глаз и ершиком коротких волос. Артем, сын и внук.
Они жили втроем. Дедушка, отец матери, умер полтора года назад. Отца ребенка, по всей видимости, не было даже на горизонте.
– Мы с ней никак не можем договориться, – объяснила Вика. – Она сказала: пойдем тогда к психологу. Я согласилась. Ведь я права. Что вы скажете?
– Я читала ваши книги и материалы, – поспешно вступила бабушка. – И вы знаете, я со всем согласна…
– Со всем?! – удивилась я. – Но этого же просто не может быть, ведь мы с вами разные люди…
– В первую очередь я согласна с вами в том, что ребенку необходимы границы, – уточнила Лидия Васильевна. – У Артема сейчас как раз такой возраст, когда он упорно изучает нас, часто агрессивно…
– Ага. «Докуда я могу вас „сделать“?» – кивнула я.
– Да-да, именно. И вы правильно пишете, что вся семья в этот момент должна выступить единым фронтом…
– Это она начиталась и вечно в семье фронт устраивает, – буркнула Вика. – Я-то вполне могу с ним договориться…
– Я устраиваю фронт?! – возмутилась Лидия Васильевна. – Да чья бы корова мычала!.. Ты вспомни, что ты сама откалывала! Мы с дедом ночей не спали… А теперь, конечно, тебе проще ему потрафить, поиграть, чем воспитанием заниматься… А что дальше будет, мальчишка без отца, об этом ты не думаешь. А ведь сейчас не прежние времена, и столько вокруг опасностей…
– Мама, большинство этих опасностей тебе просто мерещатся! Сейчас не девяностые годы…
– Брек! – сказала я, ознакомившись с приблизительным списком претензий, которые Вика, по всей видимости, выслушивала регулярно. – Что будет дальше, никто из нас не знает. И вы тоже не знаете. Может, ваша дочь еще в этом году выйдет замуж за майора, который будет пасынка строить, как его самого строили в Суворовском училище…
– За майора?.. – растерянно переспросила Лидия Васильевна.
– Ха-ха-ха! – засмеялась Вика, а вслед за ней и Артем.
– Но границы ведь нужны? – вернулась к своей теме бабушка.
– Нужны, безусловно.
– А кто должен их определять?
– Вика. Вы подстраиваетесь.
– Но почему?! Давайте разберемся, – Лидия Васильевна попыталась воззвать к моему разуму. – Я старше в два раза. Мы с мужем прожили вместе тридцать три года в любви и согласии. Мы воспитали троих детей. У старших уже давно свои семьи, вполне благополучные. Вика – наша младшенькая, ее все баловали, ей больше позволялось, и вот теперь пожинаем плоды… Впрочем, сейчас уже все вошло в какую-то колею, она окончила техникум, вышла на работу, Артем пошел в садик…
– То есть Вика вполне взрослая, дееспособная женщина, мать… – подхватила я.
– Но ведь у меня гораздо больше, чем у нее, опыта жизни в семье, в воспитании детей. И этот опыт позитивен. Вы согласны?
– Да.
– Стало быть, я лучше знаю…
– Нет.
– Но как это может быть?!
– Смотрите: у вас в серванте стояла хрустальная ваза. Вы никогда не давали своей дочери с ней играть, понятно почему – боялись, что разобьет. Свет от люстры так волшебно переливался в гранях этой вазы, и девочке много лет хотелось… Но это было нельзя. Это граница. Вы в своем праве: в вашей семье детям нельзя играть с хрустальной вазой. Точка. Все правильно. Но вот девочка выросла, вышла замуж, и та самая хрустальная ваза пошла ей – по ее просьбе – в приданое. И выросшая девочка решила: когда у меня родится ребенок, я дам ему играть с этой вазой. Пусть светит на нее лампой и ловит разноцветные зайчики на стене. Даже если он ее разобьет – пускай, я куплю другую. И она исполнила свое решение, и она тоже права, потому что это ее ребенок и ее правила. Вы с мужем воспитывали своих детей так, как считали нужным. Вика будет воспитывать Артема так, как считает нужным она. Вы, конечно же, высказываете свое мнение и обосновываете его. Вика может прислушаться и сделать так, как вы предложили, или не прислушаться и сделать наоборот. Или поступить еще каким-то, третьим образом. Ее голос решающий просто потому, что это ее ребенок. Если бы был в наличии отец, вот с ним она обязана была бы советоваться…
– Он бы насоветовал… Ха-ха! – подала голос внимательно прислушивающаяся к моим словам Вика.
– А ты пыталась? – спросила я.
– Ну-у… Он сначала сказал: делай аборт. А когда я сказала: да пошел ты! – сказал: ну тогда давай поженимся!
– А ты?! – подалась вперед Лидия Васильевна, и я поняла, что она вообще не в курсе этой истории.
– А я ему говорю: зачем ты мне такой нужен?
– А Артему?
– Ну-у, я не знаю… Он теперь звонит иногда, спрашивает, я его посылаю…
– Вика, об этом мы поговорим отдельно, в следующий раз, – быстро решила я, заметив, что Лидия Васильевна, получив новую информацию, собирается выступить со своим мнением. («Молчите! В этом у вас и опыта нет! Никакого! – прошипела я в ее сторону. – Это уж точно решать Вике и отцу ребенка. Самим».)
У Вики и Лидии Васильевны получилось далеко не сразу. Отношения матери и дочери оказались серьезно нарушенными в Викины подростковые годы. Родители требовали от нее такой же «положительности», как и от старших детей, а она никак не могла им ее предоставить, потому что была другой.
Я заставила Вику продумать и даже записать правила, в которых она хотела бы воспитывать Артема. Молодая женщина признала, что это сложнее, чем просто перечить бабушке.
Но, к удивлению Вики, с большинством написанных на бумаге правил Лидия Васильевна сразу же согласилась. И с тех пор дело пошло на лад.
Недавно Артем первый раз виделся со своим отцом. Они три часа играли в футбол и катались с горки.
– Боже мой, Вичка, какой же он здоровский! – воскликнул незадачливый папаша по истечении этого времени. – Я бы хотел ему детскую машинку подарить, в которой кататься. Можно? И я даже не думал… А ты – молодец!
– А то! – независимо сказала Вика, вздернув подбородок. – Только не ожидай, что я теперь буду с тобой советоваться. Не заслужил еще…
Агрессивный ребенок
– Вы знаете, иногда я его просто боюсь, – призналась мама.
Я внимательно посмотрела на четырехлетнего Артура и на первый взгляд не обнаружила в нем ничего ужасного. Крепкий, круглоголовый, смотрит исподлобья, самое необычное – неожиданно низкий, какой-то бархатный голос:
– Можно мне эту машину поиграть? Это бетономешалка, да?
– Да. Да, – ответила я на оба вопроса и обратила внимание на то, что Артур, который уже минут пятнадцать играл на ковре и время от времени что-нибудь говорил мне, не только словом, но даже взглядом не обращается к матери.
Мама жаловалась на агрессивность Артура. По ее словам, она одинаково проявлялась везде – в семье, в детском саду, на игровой площадке.
– Он прямо как бешеный делается. Ничем не остановить. Потом отходит постепенно. Иногда даже понять нельзя, с чего началось.
– Беременность, роды, контакты с невропатологом и его вердикты?
Артур, родившийся вроде бы здоровым, первые полгода своей жизни тяжело болел. Одна непонятная инфекция перетекала в другую, иногда даже педиатры затруднялись установить причины состояния малыша, жизнь которого буквально висела на волоске. Больницы, капельницы… В шесть месяцев мальчик поправился и с тех пор ни разу не болел ничем, кроме легкого насморка. «Проскочили, слава богу!» – вынесла свой вердикт пожилая участковая врачиха.
Развивался по возрасту. Особого внимания не требовал, всегда мог занять себя сам. В детский сад пошел хорошо, никаких истерик не устраивал. И вот примерно год назад началось…
– Он одинаково агрессивен со всеми членами семьи?
– Да.
– А что говорят отец, бабушка с дедушкой?
– Отец говорит: не обращай внимания. А бабушка с дедушкой сначала его жалели, а теперь говорят, что он «психический»…
Скажу честно: в эту встречу я так ничего и не поняла. Даже никакой гипотезы не возникло. Мальчик казался совершенно адекватным. Понимал запреты, спокойно слушал и выполнял мои инструкции. Единственное, в чем я была уверена твердо, на интуитивном уровне: этот случай – не психиатрия. Стало быть, моя епархия.
В следующий визит я сыграла с Артуром в игру: «люблю – не люблю – равнодушен». В группе «не люблю» он разместил фигурку кота и доктора в халате, в группу «люблю», поколебавшись, положил мороженое и велосипед. Все остальное (включая «маму», «папу» и детей разного возраста) мальчик горстями переложил в группу «равнодушен».
Еще через раз я наконец увидела, как выглядит агрессивность Артура. В коридоре перед приемом он как-то договорился с совсем маленьким мальчиком и взял у него поиграть жужжащий пистолет.
– Отдай мальчику! – велела мама.
– Отдам потом, – буркнул Артур, нажимая кнопки.
– Сейчас отдай, нас же уже зовут.
– Сейчас.
– Дай! – забеспокоился и сам малыш.
Две руки (матери Артура и малыша) потянулись к игрушке. И тогда Артур зарычал, отшвырнул малыша с такой силой, что тот стукнулся об стенку, бросил на пол пистолет и кинулся на мать с кулаками. Вдвоем мы с трудом затащили его в кабинет.
– Дома надо держать таких психических! К батарее привязывать! – бушевала в коридоре мать малыша.
Мать Артура бурно рыдала над раковиной. Сам Артур, когда я его отпустила, сел на корточки, прислонившись спиною к стене. Его темные глаза казались матовыми и не отражали свет. Мать взглянула на его позу и отчего-то заплакала еще горше:
– Что ж, все правильно они говорят, действительно похож…
Я не обратила внимания на множественное число местоимения и упустила очень важную подсказку.
Из последующих бесед с матерью и отцом Артура я узнала кое-что новое. Беременность была незапланированной. Артур родился, когда оба родителя были еще студентами. Молодой муж продолжал учиться, ездить на практику, общаться с прежней (общей) компанией, а жена ушла в академку, сидела дома, оказалась совершенно вырванной из привычной жизни. А тут еще прибавились постоянные непонятные болезни Артура, бессонница… Муж поддерживал жену, как мог, вставал ночью к задыхающемуся сыну, но днем и вечерами его чаще всего не было дома. Бабушка помогала вначале, в самый острый период, потом как-то отдалилась. Но ведь все постепенно наладилось: Артур пошел в сад, мама вслед за мужем защитила диплом, вышла на работу, супругам, несмотря на трудности, удалось сохранить свои отношения… Что же происходит теперь? Я все равно ничего не понимала и уже начинала злиться на собственную тупость. Ключик был где-то рядом, я это чувствовала. Был, но не давался в руки.
– Наверно, я просто плохая мать, – покаянно признала женщина. – Не надо было мне его рожать. Мама уговорила. А теперь… Да ладно сваливать на кого-то! – я сама с самого начала не могу его любить. Все время жду какого-то подвоха.
– Какого же подвоха можно ждать от четырехлетнего ребенка? – удивилась я. – Его пресловутая агрессивность весьма демонстративна. Или вы имеете в виду младенческие болезни Артура?
– Да, да… – она неопределенно помахала в воздухе пальцами. – И уж очень он на Колю похож…
– Кто это – Коля? – ухватилась я, чувствуя, что последний кусочек головоломки готов лечь на место.
Коля оказался старшим, «неудачным» сыном бабушки, одним из двух братьев матери Артура. О нем в семье не принято говорить. Коля с самого раннего детства был «трудный», потом «связался с плохой компанией», потом… В общем, сейчас Коля отбывал срок – как я поняла, уже не первый в его жизни.
Когда родился Артур, бабушка достала из шкафа семейные фотографии. На одной из них Коля был сфотографирован голопузым младенцем.
– Мне даже страшно стало, честное слово – один человек!.. Только мужу не говорите. Он Колю не видел никогда и не знает, я не хочу… что он подумает…
Последний скелет с грохотом выпал из семейного шкафа, и теперь четырехсполовинойлетняя жизнь Артура лежала передо мной как на ладони. Нежданный ребенок, с самого начала оторвавший мать от всего, что было ей на тот момент дорого. Его не хотели, он всему мешал, и базовое доверие к жизни, которое формируется у младенца на первом году жизни, натолкнулось на существенные трудности. Понятны стали и ужасные болезни Артура: организм нежеланного ребенка попросту колебался – остаться ему в этом мире или уйти за ту грань, из-за которой он только что пришел. Впрочем, его хотела бабушка, и спустя полгода было принято окончательное решение: остаюсь! Но именно в этот момент на свет были извлечены злополучные фотографии. И бабушка, всю жизнь носящая в себе историю старшего сына как открытую рану, в ужасе шарахнулась от внука: слишком похож! Она не хочет еще раз пережить такую боль… И Артур остается один. Он силен, умен, на первый взгляд самодостаточен, он развивается по возрасту, но… он маленький ребенок! С одной стороны, ему хочется тепла и ласки, с другой – он не доверяет даже самым близким ему людям. Так бесконечно тяжело жить и взрослому-то человеку. А у трехлетнего малыша самым закономерным образом истощаются адаптационные механизмы и появляются вспышки пугающей окружающих ярости…
Из всех имеющихся в наличии я выбрала отца Артура – как персонажа, наиболее далекого от семейных скелетов.
– Я не знаю, не понимаю, что с ним делать, – сразу заявил он.
– Я вам скажу, – пообещала я. – Даже напишу. Будете ставить крестики около выполненных мероприятий.
– Он просто мне подчиняется, – пожаловался папа месяца три спустя. – Я не вижу, чтобы что-то из этих ваших игр или поездок его радовало.
– Он тоже ставит крестики, – я кивнула головой. – А вы что хотели?.. Кстати, что там с агрессией?
– Ой, а вы знаете, ведь намного меньше… И в саду давно не жаловались…
Я вспомнила удивительный голос Артура.
– Между прочим, у меня есть знакомый хор мальчиков. Туда берут с четырех лет. Будете водить?
– Конечно, раз ему помогает! А вот что жене-то делать… она так смотрит, когда я с ним вдвоем ухожу или играю…
– Пусть что хочет, то и делает, – отмахнулась я. – Записывайте следующую порцию мероприятий…
Она пришла еще через год.
– Я так не согласна! – с порога заявила она.
– А в чем дело?
– Он поет. В хоре и арии из рок-опер. У него абсолютный слух. Мама сказала: Коля никогда песен не пел! И теперь она его облизывает двадцать четыре часа в сутки так, что мне даже близко не подойти. Муж увозит его на выходные на рыбалку, ходит с ним на концерты какие-то.
– Чем вы недовольны? У Артура продолжаются вспышки агрессии?
– Нет, что вы, все давно прошло. Он очень спокойный.
– И что же?
– Я же все-таки его мать!
– Да? Это стало для вас актуальным? Ну что же – стройте отношения с сыном.
– Мама меня не подпускает. Да и муж…
– Кроме вас, у него нет других матерей. Если вам действительно это нужно…
– Но вы, вы что скажете мне? Я же помню, у мужа были такие списки… Я тоже хочу! Хотя бы вначале! Я и блокнот с собой принесла, только вот ручку дома забыла…
Я тяжело вздохнула и, бормоча себе под нос: «А говорят – инстинкт, инстинкт…» – принялась искать ручку.
«Тяжелые дети» в семье
Все маленькие дети подражают животным.
– Как киска говорит?
– Мяу-мяу!
– А как собачка?
– Гав-гав!
Звукоподражание предшествует членораздельной речи.
Этот ребенок, по словам родителей, тоже умел изображать животных. Но просить его было бесполезно, на словесные просьбы он не реагировал и даже не оборачивался, если позвать по имени: «Слава!»
Славе было четыре с половиной года.
– Есть у него речь? Простые слова? «Да», «нет», «мама», «папа»?
– Нет, никакой речи. Только звукоподражание. Смотрите.
Мама достала из сумки книжку, типа энциклопедии животных для детей, раскрыла ее, поднесла к физиономии Славы (он сидел на ковре и раскачивался, держа в руках два кубика, которые подобрал на полу) и указала пальцем на крупного кота – кажется, камышового.
– Я-а-а-у-у! – немедленно взвыл Слава голосом мартовского кота.
Страницу перелистнули, палец – на небольшом песике-двор– няжке. Кабинет наполнился совершенно аутентичным на слух лаем.
– Это еще ничего, – вздохнула мама и, поискав место в книге, указала на красно-зеленого попугая-ара.
– Пиастры-пиастры-пиастры! – немедленно откликнулся Славик. – Карррамба! С якоррря сниматься!
Звук «р» ребенок выговаривал идеально.
Я знаком попросила маму закрыть книжку.
Потом мы долго разговаривали о развивающих занятиях: вот такие карточки изготовить, вот в такие ролевые игры играть рядом с ним, по возможности вовлекая, вот так, «на адреналине», можно привлечь его внимание, вот так будем выявлять и стимулировать невербальное мышление, которое у детей без речи иногда развивается опережающими, компенсирующими темпами…
Мама Славы все прилежно записывала, а уже уходя, не выдержала и спросила:
– А если мы вот все будем делать, как вы сказали, и таблетки от невропатолога пить, и массаж, и с логопедом… скажите, а когда он станет такой… ну как все обычные дети?
Я пожала плечами: дескать, ну что вы ерунду-то спрашиваете? Работать надо! Но в воздухе ощутимо повисло не произнесенное мною слово «никогда».
В нашей поликлинике (и еще в нескольких поликлиниках Петербурга) уже лет десять существует отделение абилитации младенцев для детей до трех лет. Головная организация – Институт раннего вмешательства переживает сейчас нелегкие времена, но наше отделение пока работает. Суть и одновременно лозунг деятельности этих отделений: многие нарушения в развитии ребенка сравнительно легко предотвратить на ранних этапах и очень трудно откорректировать на последующих. Правильная, на мой взгляд, постановка вопроса, гуманное решение… Сюда же, в отделение абилитации, попадают вначале и так называемые «тяжелые дети», которые живут в семьях в районе, приписанном к нашей поликлинике. Синдром Дауна, органическое поражение головного мозга, ДЦП, последствия глубокой недоношенности, аутизм и всякое другое.
Вылечить этих детей и сделать их «такими, как все» нельзя.
И это первая ступенька, которую нужно перешагнуть родителям. Это получается не сразу. Я видела семью, собиравшую деньги, чтобы отвезти слепую девочку-микроцефала к профессору Мулдашеву, который обещал сделать (или вырастить?) ей новые глаза. Видела мать, которая пять лет добивалась, чтоб ее сыну с нарушениями слуха-зрения-интеллекта (последствия глубокой недоношенности) установили ушной имплантант, и фактически упустила важнейшее время для стимуляции его психического развития.
Если нас слышат, мы стараемся помочь. Практически у любого, даже самого «тяжелого» ребенка есть возможности для позитивного контакта, а у родителей – для получения положительной обратной связи. Даунята очень эмоциональны и милы (вот недавно дауненку Свете некий специалист посоветовал жевать жвачку для разработки челюстных мышц, и каждый раз, когда мы встречаемся, Света выплевывает жвачку себе на ладонь и предлагает ее мне – тоже пожевать). Аутисты часто удивляют причудливо развитым интеллектом. Мозг «органиков», если хорошо поискать, иногда выдает самые удивительные компенсаторные проекты…
Дальше – следующая ступенька. «Общество в песочнице». Ребенок растет, и его «странности» становятся заметными на детской площадке, на улице, в магазине. По словам моих посетителей, самая распространенная реакция незнакомых родителей на детской площадке – скомандовать своему ребенку: «Не подходи к нему!» Взрослые прохожие либо сразу отводят взгляд, либо смотрят с тревожным сочувствием: «Да уж, не повезло им! Хорошо, что у нас не…»
На этом этапе родители еще редко объединяются в группы, и очень нужна поддержка понимающих и принимающих людей – специалистов и просто тех, кто готов поддержать. Критический момент в жизни семьи. Все – против, перспективы неясно-ужасны. Уход с каждым днем тяжелее (ребенок физически растет). Именно в это время часто, не выдержав, сбегают отцы. Матери остаются и порой погружаются в состояние ребенка, как в омут. Вот здесь бы, хоть иногда, дать родителям передышку, возможность немного отдохнуть, глотнуть воздуха, просто куда-то вместе сходить… Пережить. Сколько отцов «тяжелых» детей остались бы тогда в семье… малой, в сущности, кровью.
На этом этапе я родителей в основном слушаю. Говорю мало и в основном на перспективу. Они мне обычно не верят. А зря.
Потому что на следующей ступеньке действительно становится легче. Больной ребенок занимает в семье какое-то вполне определенное место. Уход налаживается и автоматизируется. Часто наблюдается улучшение состояния (совокупный результат взросления, лечения и развивающих занятий), члены семьи уже научились общаться с ребенком и приблизительно понимать его нужды. Наступает и время обучения. Программ, позволяющих обучать самых разных детей, придумана масса, педагоги в соответствующих заведениях работают зачастую просто героические… Плюс всякие некоммерческие организации для помощи детям-инвалидам, общественные организации самих родителей… В общем, жизнь обретает новые краски, и, изредка заходя ко мне в кабинет или встречая меня в коридорах поликлиники, родители в основном хвастаются: Владик выучил буквы, Света уже почти нормально говорит, Игорь получил роль в школьном спектакле…
Надо сказать, что самые тяжелые дети в этом возрасте часто просто исчезают из поля зрения психолога. Кто-то – увы! – умер, кого-то сдали в интернат, кто-то живет дома тихим «овощем», за которым ухаживают, но на его развитие махнули рукой. Я знаю нескольких таких ребят на своем участке и даже здороваюсь с их родителями. На мой стандартный вопрос: «Ну как там у вас?» – следует стандартный ответ: «Да все так же, лежит…» Эти семьи тоже приспособились. Вполне может быть, что у их детей еще есть потенциал развития. Но как технически его выявить? Надо ли это? Я не знаю.
Следующая ступенька. Самая, на мой взгляд, драматическая. Дети выросли, стали подростками, а потом – молодыми взрослыми. Обучение в спецшколе закончено. Может быть, даже получен аттестат. Организации для детей-инвалидов больше не зовут на карнавалы и бесплатные экскурсии. Работать бывшие «тяжелые дети» не могут.
Все, больше ничего не будет?
Однажды, еще в перестройку, цирковая студия, в которой обучался мой сын, организовала что-то вроде уличного спектакля на ступенях закрытого кинотеатра. Загодя развесили по микрорайону красочные плакаты: «Приходите! Приходите! Цирк! Рядом! Бесплатно!» Я, естественно, пришла смотреть на чадо. Чадо скакало в костюме арлекина. Грохотали динамики. Я оглянулась и увидела публику. Боже мой! Едва ли не треть зрителей этого немудреного уличного действа составляли пожилые женщины со взрослыми сыновьями и – реже – дочерями; несколько колясок с теми, кого в просторечии называют дебилами. Все они явно пришли из близлежащих хрущевок. Все радовались, многие хлопали в ладоши и даже подпевали. Матери улыбались усталой улыбкой… Но сколько же их!
Я знаю только одну организацию у нас в Питере, которая занимается именно выросшими «тяжелыми детьми». Она называется «Пространство радости». Там в основном аутисты. Вот ее интернет-страница: -radosti.html.
…Этот текст я собиралась писать почти два месяца. Откладывала каждую неделю, придумывала отговорки. Но все-таки собралась.
Строго по Павлову
– Скажите, как сделать так, чтобы он нас услышал?
Нервического вида молодая женщина, при этом, впрочем, вполне ухоженная. Спокойный белокурый мужчина с кудрявой бородой.
Мальчик лет пяти-шести последовательно осваивает мои обширные запасы игрушек. Мама подает ребенку множество социальных команд, не предпринимая при этом никаких действий:
– Паша, положи это! Зачем ты туда лезешь? Ты спросил у доктора разрешения? Убери сначала на место то, что взял раньше, а уже потом…
Мальчик никак на ее слова не реагирует. В конце концов он занялся большим магнитом, прилепляя к нему так и сяк мелкие монетки.
– Чтобы услышал? – переспросила я и пожала плечами. – Ну, вероятно, сказать что-нибудь интересное ему… Паша, если монеты насыпать на стол, а двумя маленькими магнитами водить под крышкой стола, то монеты будут по столу ползать. Как бы сами. Можно их даже на ребро поставить, если постараться…
– О чем вы говорите?! – буквально взвилась женщина. – Я имею в виду не развлечения, а то, что должно быть! Нужно есть, мыть руки, чистить зубы, одеваться, выполнять задания логопеда. С этим вы, надеюсь, согласны? Я начинаю его будить за полтора часа до того, как нам следует выходить в садик! А сама встаю за два, чтобы еще приготовить завтрак мужу и ему: он в садике, видите ли, не завтракает! Он не может утром встать, потому что каждый вечер у нас на два часа коррида! Чтобы он закончил смотреть телевизор или играть и пошел умываться и спать, я должна ему сказать это двадцать, сто раз – сначала спокойно, потом перехожу на крик, потом я насильно выключаю этот чертов телевизор, потом он орет и пытается драться, потом муж хватается за ремень… Когда я думаю о том, что будет в школе, я попросту близка к истерике!
Я быстренько пролистала карточку. Невропатолог с самого начала практически ничего Паше не инкриминировал, стало быть, все дело в методах семейного воспитания.
– Паша не слышит вас в первую очередь потому, что ваши слова ничего для него не означают и за ними ничего не следует, – сказала я. – Вот вы здесь и сейчас уже шесть раз (я считала) сказали: «Паша, положи на место!» – но ровным счетом ничего не сделали. Зачем же ему вас слушать?
– Правильно! – гулким басом поддержал меня мужчина. – Вот и я тоже ей говорю: чего без толку языком чесать? Надо, чтобы он просто знал…
– Так что же – сразу бить его, что ли?! – возмущенно вскричала мать. – Это же непедагогично и вообще! Везде пишут…
– Почему бить? – удивилась я. – Просто за дисциплинарной командой сразу же должно идти действие, которое ее подтверждает. А если действие немедленно предпринять невозможно, тогда молчать в тряпочку.
– Ну и как же я должна была здесь у вас правильно поступить? – с любопытством спросила мама. – Смотреть, как он все хватает, бросает на ковер, – и молчать?
– Ваш выбор. Самое разумное было бы спросить у меня, ведь здесь в кабинете я устанавливаю правила. Я бы подтвердила свою ответственность и освободила от нее вас. Но могли и взять ответственность на себя: «Паша, нужно положить это на место!» – и если он не подчинился – встали, отобрали игрушку, положили на место. Вопросы типа «Зачем ты это делаешь?» – вообще пустое сотрясание воздуха. Ребенок шестого года жизни, как правило, не может на них ответить.
– Что на шестом году! Я на четвертом десятке не всегда могу, – добродушно рассмеялся отец и уточнил: – Меня, как вы понимаете, она тоже спрашивает.
– То есть повторять не надо. Сразу делать. Хорошо… Но что? Сразу выключать телевизор? Прекращать игру? Стаскивать с кровати?
– Именно.
– Но он же будет все время орать!
– Все время – не будет. Когда поймет, что ваши слова означают именно то, что вы сказали, орать перестанет, и всем сразу станет легче. Ведь многочасовые ежедневные корриды изматывают не только вас, но и Пашу. И не забывайте про положительное подкрепление желательного поведения: если он вас все-таки сразу послушался, поблагодарите его.
– Поблагодарить?! – мамины брови взлетели вверх. – За что это?! Это же то, что человек должен…
– Да ведь для него все это – ваша прихоть, – сказала я. – Ему хочется играть, а тут вы со своим мытьем рук (чукчи их, кстати, никогда перед едой не моют). Поел, ему хочется уже бежать играть, а вы – «Тарелку в раковину!» (аристократы, между прочим, тарелки в кухню не носили, у них слуги были). В вашей семье такие правила, и для вас они верны, но ведь куда проще и приятнее устанавливать правила на позитиве. Если «условно правильное» поведение вызывает не нейтральную реакцию («так и должно быть!»), а отчетливо положительный отклик с вашей стороны, Паше будет легче ему обучиться. Вы согласны?
– В общем-то, да… Но вот насчет его крика… Я все-таки предвижу… Он же слов «нельзя» и «надо» давно не воспринимает…
– Можете придумать какую-нибудь фразу, которая обозначала бы окончание дискуссии. Это должно быть что-то, что в вашей обычной речи никогда не употребляется. Например: «Чингачгук все сказал!» или «Окончен бал, погасли свечи!» – и тому подобное. Чтобы товарищ знал: вот, это прозвучало – и все. В поддержку вашим правилам-требованиям вырабатывается что-то вроде условного рефлекса…
– Знаю – как у собак Павлова! Точно! Пашка, апорт! – снова рассмеялся веселый папа.
– Пап, мам, глядите, глядите, она на ребре стоит! – в тон ему закричал сын, которому наконец-то удалось подчинить себе упрямые монетки.
– Класс! Дай-ка я попробую! – вскочил отец.
…Уходя, отец с сыном обсуждали магнитные свойства веществ – насколько я успела услышать, дома первый обещал показать второму электромагнит. Мама ушла, качая головой и явно продолжая мысленно со мной спорить.
Спустя полгода на первом этаже поликлиники я услышала знакомый весело рокочущий бас: «Этого вы от меня не дождетесь, гражданин Гадюкин! Я не покажу вам план аэродрома!» (фраза из «Денискиных рассказов» Драгунского). Папа и сын стояли возле ларька с игрушками.
– Ну и ладно! – сказал ощутимо подросший Паша и положил на место какого-то многолапого монстра. – А на площадку с качелями зайдем?
Увидев и узнав меня, отец радостно подмигнул:
– Работает, черт возьми! И даже с женой помогает! Великий все-таки человек – Павлов!
– Точно! – строго кивнула я. – Иван Петрович Павлов – гениальный российский ученый. Удачи вам!
Свекровкины зубы
Они записались на прием заранее – за неделю с лишним до срока. Пришли раньше назначенного времени и тихо сидели в коридоре. Девочка лет восьми листала книжку с картинками, а мать просто смотрела перед собой, в голую стенку поликлинического коридора.
Я пригласила их зайти в кабинет.
– Здравствуйте, садитесь. Слушаю вас…
– Ой, я даже и не знаю, туда ли мы обратились… – у женщины было простоватое, чисто вылепленное лицо с высокими скулами и большими серыми глазами. Ее взгляд постоянно ускользал от меня.
Девочка на меня тоже не смотрела, но с интересом поглядывала на разноцветные игрушки, расставленные на полках.
– Расскажите, в чем дело, и мы с вами вместе решим – туда или не туда.
– Да, конечно… Понимаете, она всего боится…
– Как тебя зовут? – обратилась я к девочке.
– Алина.
– Ты действительно всего боишься?
Молчаливый кивок.
– Всего-всего?! – искренне изумилась я. – Трамваев? Милиционеров? Кошек? Манную кашу? – девочка неуверенно улыбнулась. – Мячиков? Игрушечных медведей? Ромашек?
– Нет, этого я не боюсь, – рассмеялась Алина и впервые взглянула прямо на меня. Глаза у нее были такие же, как у матери.
– А чего боишься?
– Темноты, – быстро сказала Алина.
– Да она даже дверь в туалет не закрывает, – вмешалась мать. – В комнату не войдет, если света нет. В квартире даже днем одна не остается, бабушке приходится ее с собой по магазинам таскать. Чтобы там заговорить с кем или спросить – об этом даже речи нет. В школе то же самое – если не поняла, ни за что к учительнице не подойдет, не спросит. И, главное, учительница-то у них – добрее некуда, просто розовый человек…
Я невольно улыбнулась найденному женщиной эпитету и перевела взгляд на Алину:
– Учительница правда добрая?
Девочка энергично закивала.
– И все равно боишься?
– Угу, – новый, покаянный кивок.
– Ну что ж, – я вздохнула. – Пришли вы, надо думать, туда. Будем разбираться.
Из дальнейшего разговора выяснилось, что страхи у Алины были всегда. Никаких неврологических заболеваний у девочки не отмечалось, и родные надеялись, что с возрастом все пройдет. Однако не проходило. Сейчас, когда Алине исполнилось уже восемь лет, ситуация стала явно ненормальной, поэтому они и пришли сначала к невропатологу, а уж от него – ко мне, психологу.
Побеседовав с Алиной и просмотрев ее медицинскую карту, я осталась в полнейшем недоумении. По всем данным, эта девочка не должна была ничего бояться. Однако же боялась.
Отправив Алину в другую комнату рисовать «самый страшный сон», я снова попыталась поймать ускользающий взгляд матери.
– Расскажите мне о вашей семье.
– Не думайте, у нас все нормально, – тут же откликнулась женщина. – Муж не пьет, никто не скандалит, Алину все любят, все хорошо.
– Ваша семья состоит из…
– Мы с мужем и Алиной, свекровь со свекром и еще младший брат мужа. Он иногда с нами живет, иногда у своей… ну, женщины.
– А ваши родители?
– Они в Псковской области живут. У нас там дом, огород, скотина.
– Расскажите, как сложилась ваша семья.
– А это зачем? Нужно?
Я решительно кивнула.
– Чего рассказывать-то?
Я молча ждала.
– Ну хорошо…
Пятнадцать лет назад юная Настя, мать Алины, отличница из малокомплектной школы деревни Старые Выселки, приехала в Ленинград поступать в сельскохозяйственный институт. По конкурсу не прошла, но в деревню не вернулась («Стыдно было родичам в глаза глядеть – надеялись они на меня, а я…»), работала сначала уборщицей, потом дворником, потом мотальщицей на фабрике «Возрождение», и все это время упорно готовилась к поступлению в институт. В конце концов поступила, но не в сельскохозяйственный, а в педагогический, на химический факультет. Химия нравилась всегда, да и учительницей быть тоже хотелось. Деревенская родня радовалась и гордилась, присылала варенья-соленья, но стипендии на жизнь все равно не хватало. По наводке подруги по общежитию статная Настя пошла подрабатывать в Мухинское училище, натурщицей. Сначала стеснялась, но потом привыкла – работа как работа. Довольно тяжелая, между прочим. Постой-ка неподвижно три часа в холодной или душной аудитории… Именно в «Мухе» Настя и познакомилась со своим будущим мужем. Валера учился на предпоследнем курсе и считался перспективным и талантливым. Настя покорила его своей строгой красотой и какой-то архаической «правильностью» и цельностью натуры. На фоне разбитной художественной богемы она выделялась, как геометрический орнамент среди разлитых красок (сравнение принадлежит Валере).
Интеллигентная семья Валеры сначала не придавала значения этому роману и относилась к Насте вежливо-равнодушно, но когда речь зашла о браке… Валере пришлось выслушать немало горьких и обидных слов о провинциальных интриганках, которые только и мечтают заарканить ленинградца, о хлопающих ушами дураках, которые в гиперсексуальном угаре готовы жениться на явной неровне… Доставалось и самой Насте. Неагрессивная по природе, она уже готова была отступиться, но Валера неожиданно для всех уперся и заявил, что уходит из дому, будет работать истопником, жить в подвале… Родители тут же пошли на попятный, стали уговаривать сына не губить талант и будущую карьеру, скрепя сердце, улыбались Насте. На свадьбу приехала радостная псковская родня с пятнадцатилитровой бутылью деревенского самогона и ведром соленых рыжиков. Валерины родные поджимали губы и уворачивались от крепких объятий новоявленных родственников. Настя тихо плакала на лестнице, Валера утешал молодую жену и уверял, что все наладится.
Самое удивительное, что Валера оказался прав – все действительно наладилось. Свекор со свекровью смирились с присутствием в доме тихой, спокойной Насти, тем более что Валера, женившись, как-то сразу остепенился, забросил шумные богемные сборища, стал больше и серьезнее работать. Младший Валерин брат, порядочный оболтус, поверял новоявленной невестке все свои секреты, зная, что она никогда не проболтается и не осудит его. С появлением Алины, которая сразу же сделалась любимицей всей семьи, ситуация стала почти идиллической.
– Ну и что – женился бы он на какой-нибудь выскочке из городских! – говорила свекровь подругам, не очень заботясь о том, слышит ли ее Настя. – Не видала я, что ли, прежних его подружек! У них только деньги на уме да развлечения. А наша-то серьезная, положительная, дочка всегда присмотрена, все чистенько, аккуратненько, и на работе ее хвалят. Чего еще-то? Валерик при ней ухоженный, спокойный, даже на Николя и то она хорошо влияет. Я уж ей и говорю: нет ли у вас там в деревне для Николя кого? Чтоб на тебя была похожа? А с лица воду не пить, да и умом-то одним нынче ничего не построишь. А так – мы все люди творческие, безалаберные, а Анастасия и за порядком следит, и готовит – пальчики оближешь…
В общем, сплошное благолепие и благорастворение воздусей. Только вот ребенок почему-то всего боится…
– Ну и зачем я вам все это рассказала?! – смущенной улыбкой Настя прикрывает некоторую резкость вопроса. – Какое все это имеет отношение?
– Самое прямое, – я тоже улыбаюсь в ответ. – Дело в том, что в Алининой жизни нет никаких причин для того, чтобы бояться. Поэтому я могу предположить, что она боится как бы не своим страхом. В жизни это случается чаще, чем можно предположить…
– Не своим страхом? – недоверчиво переспросила Настя. – А чьим же? Моим, что ли? А чего это я боюсь?
– Вот это я и пытаюсь выяснить. Иногда удается помочь детям, решая какие-то проблемы родителей. Я не говорю, что это именно ваш случай…
– Ну мне-то никто помочь не сможет, – внезапно закручинилась Настя.
– Неужели? – удивилась я. – А откуда вы знаете? Все так безнадежно?
– Абсолютно безнадежно.
После недавнего описания гармоничной семейной жизни подобное заявление выглядело, по меньшей мере, странно.
– Ну а что же вас больше всего сейчас тревожит?
– Зубы! – выпалила Настя.
– Зубы?! – изумилась я. – Почему?! – Настина улыбка была далека от голливудской, но выглядела вполне приемлемой. – Что у вас с зубами?
– У меня – ничего, – горько усмехнулась Настя.
– А о чьих же зубах идет речь?
– О свекровкиных.
– Не понимаю. Расскажите толком.
Через пять минут я находилась в том многократно описанном в литературе состоянии, когда не знаешь, плакать или смеяться. Настя рассказывала о вставной челюсти свекрови. Творческая дама носила зубной протез во всех официальных случаях, но в домашней обстановке предпочитала обходиться без него. Протез отдыхал от эксплуатации в чашке. Вот здесь и пряталась фишка: никогда нельзя было угадать, в какую именно чашку свекровь положит свою челюсть. Точно так же дама обходилась и со всеми остальными своими вещами, и это Настю совершенно не трогало, но челюсть…
– Я не знаю, почему так выходит, у нас дома чашек очень много, но если я утром перед школой беру кружку, чтобы выпить кофе, то там обязательно… это… Я как вижу – чуть ли не наизнанку выворачивает… Такая розовая, с зубами, на железке… Уже ни есть не хочу, ни пить, ни вообще жить…
– А вы не пробовали попросить?
– Да что вы! Она, во-первых, обидится смертельно, во-вторых, даже если захочет, не сможет. Она же вся такая… несобранная. Да и чего ради ей себя ломать, в шестьдесят-то лет? Это же я у них в доме живу, я и должна приспосабливаться.
– И давно вы так… приспосабливаетесь?
– Сейчас скажу… В девяносто втором она протез сделала – значит, восьмой год.
– С ума сойти! – искренне воскликнула я.
– Да я уже и сошла почти, – горько сказала Настя. – Не поверите, даже снится иногда, что она за мной гонится…
– Кто? Свекровь?
– Челюсть! – Настино лицо искривилось в некрасивой усмешке, в глазах блеснули слезы. – Видите, все зря. Я же говорила, никто мне помочь не может…
– Я могу! – решилась я.
Настин многолетний невроз нужно было ломать любой ценой, иначе рано или поздно произойдет нервный срыв, и все полетит к черту. А пока что все это будет отражаться на Алине. Разумеется, челюсть тут ни при чем. Просто это многолетнее ощущение бесправности у взрослой, сильной, умной и красивой женщины трансформировалось таким вот образом. Надо было любым способом показать Насте, что она может управлять семейной ситуацией.
– Правда?! – в серых глазах метнулась надежда.
– Элементарно! – тоном фокусника Кио произнесла я. – Значит, так. Сейчас идете в магазин и покупаете самую дорогую и красивую чашку, какую только найдете. Дальше. Как вы называете свекровь?
– Мама. Сразу после свадьбы стала. У нас в деревне так принято, я по глупости и думала, что ей приятно будет. Она сначала косилась, а теперь вроде ничего – привыкла.
– Отлично. Значит, покупаете чашку, идете к свекрови и говорите: «Мама! Самое ценное, что у нас есть, – это ваши зубы. Меня просто трясет от страха, когда я вижу, как они лежат брошенные в каком-нибудь случайном месте. Когда я думаю, что с ними может что-нибудь случиться и от этого пострадает ваш имидж, мне просто становится дурно. Поэтому разрешите вручить вам, мама, вот этот шнурок… тьфу… вот эту чашку, чтобы вы всегда знали, куда класть ваши несравненные зубы…»
– Да я не смогу так сказать… – сконфуженно пробормотала Настя.
– Сможете! – жестко возразила я. – Сможете, если не хотите еще восемь лет блевать в туалете вместо утренней чашки кофе, если не хотите, чтобы ваш любимый всеми ребенок боялся собственной тени, если…
– Хорошо, хорошо, скажу, – тут же согласилась Настя.
Похоже, она совершенно не выносила наездов.
– Отлично, тогда шагом марш за чашкой! Явка через два месяца, – скомандовала я. – Кстати, где у нас там Алина? Позовите-ка ее!
– Я здесь, – откликнулась девочка. – Вот, я нарисовала страшный сон…
Я взглянула на рисунок и совершенно неприлично расхохоталась. Настя вопросительно подняла брови. Я протянула листок ей.
В левом нижнем углу рисунка, закрыв голову руками, убегала маленькая девчоночья фигурка в короткой юбочке, а за ней… за ней гналась огромная пучеглазая челюсть на колесиках!
Через два месяца Настя пришла на прием одна, без дочери. Сначала я не могла понять, что в ней изменилось, но вскоре догадалась: серые глаза смотрели прямо на меня.
– Спасибо вам! – тихо улыбнулась Настя. – Вы знаете, я не верила, конечно, но она действительно кладет свои зубы в эту чашку. И очень довольна, что сразу может их найти. А я ей еще и сундучок подарила для кремов. А то мы вечно на них наступали…
– Как Алина?
– Засыпает все равно со светом, но уже дома одна остается, когда бабушка в магазин идет. И дверь в туалет стала закрывать…
– А вы как себя чувствуете?
– Знаете, как-то посвободнее стало. Словно сбросила с себя что-то. Неужели в этой челюсти все дело было?
– Да что вы! – рассмеялась я. – Челюсть тут совершенно ни при чем…
Эксперименты на детях
– Чево? Чево? – так четырехлетняя Ангелина реагировала буквально на каждую мою реплику.
Сначала я думала, что таким образом она выигрывает время, чтобы сформулировать ответ. Но после того как папа рассказал мне, что с рождения при любом недомогании девочку сажали в ванну с ледяной водой, мое мнение изменилось.
– Да у ребенка же снижение слуха! Хронический отит или что-то вроде того. Покажите ее ЛОРу!
– Вот еще! – фыркнул папа. – Врачи ничего не понимают. Организм сам может справиться. Ангелина лучше их разбирается в своем самочувствии – как температура поднимется, так сразу в ванну ныряет…
Я беспомощно взглянула на мать. Она безмятежно покивала головой, соглашаясь со словами мужа. Пара «медитативных художников» исповедовала какую-то эклектическую доктрину на основе причудливой смеси христианства и рериховских откровений. Ангелина призналась мне, что и не помнит вкуса мяса или колбасы.
– Но мне и не хочется! – с гордостью добавила она. – От колбасы каналы засоряются. Чево?
И что я могла?
Другая пара моих знакомых художников (уже не «медитативных», а самых обыкновенных) считала, что для пробуждения творческой личности ребенка нет возрастных ограничений. Как только чадо научалось сидеть, его сажали голым на клеенку и давали играть красками. Когда вставало на ножки – разрешали рисовать на стенах, в том числе и маслом. Раз в полгода меняли обои. Когда я в последний раз видела их детскую комнату (детям одиннадцать и восемь лет), она была разрисована до самого потолка диковинными зверями, цветами и летающими насекомыми (или роботами?). Я хорошо знала работы своих приятелей, и мне показалось, что кто-то из двух детей намного талантливее и креативнее родителей. Разумеется, родителям я ничего не сказала.
Мальчику было семь с половиной лет. Он путался в буквах (при этом хорошо считал в пределах двадцати), не знал дней недели, не отличал квадрата от треугольника, не мог обобщить предметы по признаку и составить хоть какой-нибудь рассказ по серии картинок. В анамнезе были круп и воспаление легких, но никаких претензий от невропатолога.
– Послушайте, но где вы были раньше? – раздраженно воскликнула я. – Не могли, что ли, прошлой зимой прийти?! Неужели не видите, что ребенок отстает от сверстников? Я бы вам сказала, как с ним заниматься. А сейчас… Через две недели в школу! На него же сразу повесят ярлык, от которого потом в любом случае трудно будет избавиться!
– Да он никакой не отсталый, просто не занимались с ним, правильно вы сказали! – живо возразил мужчина. – Вы бы его о другом спросили, что он умеет! Он же может трактор водить, в снегу спать… голову отрубить…
– Что?! – встревожилась я. – Что вы говорите?
Я не расслышала конца последней фразы, да и в остальном сомневалась. Так ли я поняла? Мужчина-отец выглядел грубоватым и каким-то обветренным, но вполне адекватным, без внешних признаков не то что алкоголизма, но даже бытового пьянства. И почему это семилетний ребенок должен спать в снегу?!
– Куренку голову отрубить, я говорю, – повторил мужчина. – А что раньше не пришли, так мы на ферме жили. Приехали вот как раз, чтоб он в школу пошел. Там некогда было по картинкам-то. Он со мной во всех делах, дочка с женой. Скотина, техника, огород, дрова – он уже нынче без дураков мой помощник, поверьте…
– Верю, – вздохнула я. – Но вы же теперь в город приехали и должны были понимать, что здесь вашему сыну понадобятся другие навыки, кроме вождения трактора и убийства кур…
– Теперь понимаю, – покаянно склонил голову мужчина.
– И что же, вы всегда крестьянствовали? – усомнилась я.
Он рассказал, что вообще-то они с женой городские жители. Но когда один за другим родились двое детей и в маленькой квартирке начали жутко болеть простудными и прочими болезнями, родители задумались о «возвращении к корням» и переезде «на природу». На волне перестройки влились в фермерское движение. Взяли землю. Несколько лет работали на износ, непривычное крестьянское дело требовало не только знаний, но и сноровки. На занятия с детьми не оставалось ни сил, ни времени, но сын с дочкой постоянно были с родителями и, в общем-то, не доставляли никаких хлопот. И хотя дело оказалось неприбыльным, дети совсем перестали болеть! Теперь, к школе, вернулись обратно в город.
– Пришлите ко мне жену с дочкой, – вздохнула я. – Я ей объясню, как девочку подготовить к школе и что надо быстренько сделать с сыном.
– Да, конечно, – грустно согласился мужчина. – Я и сам теперь вижу, что он у нас Маугли вырос, но что ж поделать… К тому же его все время на волю тянет. Он говорит, что в городе как в клетке, и спрашивает, когда «к себе» поедем… Конечно, после наших-то просторов…
– Ничего, привыкнет, – утешила я. – Сводите их в театр, в музеи, в цирк…
– Надеюсь, что так…
– Нет, телевизор он у нас не смотрит. Это же ужас, что там показывают! Сплошная бездуховность! Вот вы говорили: в сад, в сад! Мол, там он научится с детьми общаться. Ну мы отдали его в сад. А там все дети наклейками меняются, ругаются матом и говорят только о покемонах… Нет, надо уезжать из этой страны! Ради детей! Здесь можно воспитывать только дебилов!
– Да ради бога. Но почему вы, собственно, решили, что в Америке или, там, в Германии дети не меняются наклейками и не смотрят телевизор?
– А кто говорит про Америку?! Да оттуда вся эта дебильно-потребительская гадость к нам и ползет! Уезжать надо в Тибет… в Гималаи… там свет… Там, знаете, есть специальные колонии, нас звали…
– А-а-а…
Я видела их десятки… впрочем, теперь, пожалуй, уже и сотни. На заре своей практики застала практически все модные тогда системы воспитания – супруги Никитины, система Чарковского, рожать дома, рожать с дельфинами, ходить в одних трусах и по снегу… Встречала человека, который за очень большие деньги делал из детей вундеркиндов; у него получалось – к четырнадцати годам его «клиенты» заканчивали общеобразовательную математическую, художественную и музыкальную школы одновременно. Видела и вижу сейчас очень много родителей, которые избегают совсем уж выдающейся экзотики, но при этом изъясняются манифестами вроде:
– У нас в доме телевизора нет!
– Наш ребенок смотрит только добрые советские мультфильмы!
– Компьютерные игры вызывают зависимость. У нас они под категорическим запретом. Пусть лучше книги читает и спортом занимается.
– Вы что, не знаете, кто сейчас во дворе гуляет! Одни «черные» и дети алкоголиков, за которыми никто не следит! Моему ребенку некогда гулять – он ходит на танцы, теннис, капоэйру и еще занимается языками.
– Разумеется, родители должны регулировать общение своих детей. А кто же иначе будет этим заниматься? Приличная школа, приличные семьи друзей. Какие социальные сети?! Это же для идиотов, абсолютно пустая трата времени! У нас в семье это жестко пресекается…
Несмотря на то, что я встречаюсь со всем вышеописанным регулярно, у меня до сих пор не сформировалось однозначного отношения к этому явлению.
Люди (как правило, молодые, но не только) хотят воспитывать своих детей необычно, не совсем так или совсем не так, как принято в той страте, к которой принадлежали их родительские семьи и к которой вроде бы принадлежит и их семья.
В общем, понятно, чего они сознательно или подсознательно ожидают от своего решения:
– необычные условия приведут к тому, что дети будут намного здоровей или развитей физически;
– в результате нестандартных усилий получится необычный ребенок – вундеркинд или что-то вроде того, и его достижения в жизни тоже будут выше среднего, и родители смогут им гордиться;
– хотя бы за счет воспитания детей удастся вырваться из рутины повседневности: «Да, мы сами обычные инженеры (клерки), но вот зато дети у нас…»;
– ошибки их родителей удастся исправить и компенсировать (порой гипертрофированно): «Мама меня никогда не ласкала, а я уже два года ребенка грудью кормлю и с рук не спускаю», «Папа ни разу со мной в поход не ходил, а мы сына с трех месяцев в лес с собой берем» и т. п.;
– благодаря всему этому дети сумеют прорваться к материальным благам или даже к некой «высшей правде».
Однако минусы подобных вариантов тоже очевидны:
– у необычно воспитываемого ребенка часто затруднена адаптация в среде «обычных» сверстников;
– во всех экстремальных системах существует риск причинить вред психическому и физическому здоровью ребенка;
– любые ограничения в детстве, которых требует экзотическая система, могут потребовать в подростковом возрасте и позже гиперкомпенсации, с которой родители уже не справятся, – я видела такие случаи неоднократно.
Где же баланс? Рискнуть и, может быть, действительно получить на выходе нестандартную творческую личность? Или лучше все-таки не экспериментировать на детях и воспитывать их так, как принято в культуре, к которой выпало принадлежать, чтобы, вырастая, они не чувствовали себя в ней белыми воронами?
Белочка Фрося
– Скажите, пожалуйста, сумасшествие – заразная болезнь? Могут дети один от другого заразиться?
Я отрицательно покачала головой. При этом, разумеется, тут же вспомнила средневековые психические эпидемии с массовыми галлюцинациями и всякие, опять же массовые, церковные приколы на основе истерических неврозов. Но у нас нынче все-таки не средневековье…
– А что, собственно, случилось?
– У меня двое детей. Дочке почти семь, сыну четыре с половиной. Сначала дочка заявила, что она больше не Маша, а вовсе даже белочка Фрося. Стала прыгать, цокать и все такое. Спустя какое-то время сын тоже сказал, что он никак не Павлик, а собачка Шарик…
– О господи! – я облегченно выдохнула и скептически заулыбалась. – Ну вы бы сами себя слышали! Болезнь! Сумасшествие! Да ролевое перевоплощение в зверюшек – это же одна из самых распространенных игр у дошкольников. Причем младшие всегда подражают старшим. Да мы их и сами поощряем едва ли не с рождения младенца: как киска мяукает? Как собачка лает? И в яслях – детском саду то же самое: чуть что – покажи, как зайка прыгает! А теперь – как курочка зернышки клюет! А как мишка топает?..
Я говорила распространенными предложениями, знала, о чем говорю, и была, как мне казалось, весьма убедительна. Ох уж мне эти родители и вообще взрослые! Как все-таки быстро мы забываем мир детских фантазий, который играл такую значительную роль в нашей собственной жизни, и каких только ярлыков не готовы навесить на своих собственных детей…
– Так вы полагаете, что ничего страшного, да? – женщина несколько раз наклонила голову то в одну, то в другую сторону, как будто бы разминала затекшую шею. – Обыкновенное дело, говорите? Странно, я ничего подобного у себя и у сестер не помню. Но вы специалист, вы говорите, что часто… И все-таки я сомневаюсь почему-то…
– Но почему? – воскликнула я, искренне не понимая.
Маленькие дети играют, воображая себя зверюшками. Что может быть естественнее! Неужели ей больше понравилось бы, если бы они вообразили себя роботами, Симпсонами или какими-нибудь компьютерными кракозябрами? Или она вообще против ролевых игр?
– Все бы и ничего… Но какие-то это все-таки странные игры. Дочка передвигается прыжками (видели бы вы, как на меня в магазине смотрят!), устроила себе домик на шкафу, ест только орехи и сухофрукты, наотрез отказывается от другой еды (белочки другого не едят!), похудела на три килограмма… А Павлик в последние дни вообще не разговаривает, только рычит и лает, укусил бабушку и спит на коврике под кроватью…
Я перестала улыбаться.
– Давно все это? – спросила я.
– Скоро месяц, – женщина чутко уловила изменение моего настроения, глаза у нее снова округлились от испуга. – Сначала дочка, сын где-то через неделю. Я и подумала, что это с ней, а он уж… Ну вы говорите – заразиться он не мог. Стало быть, что же?
– Дети ходят в детский сад?
– Вот именно, ходят. Меня как раз Машина воспитательница к вам и послала…
– Она и в садике прыгает и цокает?!
– В полный рост. Воспитательницы-то сначала смеялись, даже подыгрывали ей, а теперь говорят: идите к психиатру, что-то с вашей Машей не так. Другие-то дети ей тоже подражать начали. Скоро, говорят, у нас не группа будет, а зверинец, площадка молодняка… Я-то ночами не сплю и уж думаю: ладно, Маша больна, а Павлик-то чего же? Муж говорит: давай его, пока он совсем не свихнулся и пока с Машкой и психиатром не выяснится, к моей матери в Псковскую область отправим. А я не знаю, как лучше…
Меня до глубины души поразило, как легко она «сдала» психиатрии старшую дочь. Может быть, я еще чего-то не знаю?
– У вас в семье, в роду прежде были какие-то… особые случаи?
– Да-да, меня и воспитательница тоже спрашивала. Мы с мужем вспоминали, вспоминали… Дед его от водки под забором замерз, и еще тетка с моей стороны вены себе резала от несчастной любви. Это годится?
– На что годится?! – почти с ужасом спросила я. – Давайте ко мне обоих детей. Не откладывая. Прямо завтра. Вот я с девяти принимаю, к девяти и приходите.
– А садик как же?
– Обойдется садик! – отрезала я.
Маша – тоненькая, шустрая, с живыми ореховыми глазками – прыгала и цокала у меня в кабинете по полной программе. Программа шла без сучка без задоринки и выглядела вполне обкатанной. Павлик, полный и флегматичный, потянулся было к машинкам, потом взглянул на сестру и вдруг ударил ладошками по ковру и басовито залаял.
– Как тебя зовут? – спросила я на всякий случай.
– Шарик, – ответил мальчишка и уточнил: – Собачка. Ав-ав.
– Вот видите! – всплеснула руками мать.
– Вижу, – согласилась я. – Сейчас вы возьмете вот эту машинку и этот трансформер и посидите с Шариком-Павликом в коридоре. А я пока поговорю с Машей.
– Цок-цок-цок! – агрессивно застрекотала девочка.
– Ладно, с белочкой Фросей, – вздохнула я.
– Слушай, белка, ситуация такая, – сказала я, когда мать и сын удалились. – Спектакль на нашем Бродвее идет уже месяц без малого. Ты уже месяц портишь себе желудок и нервы матери с отцом, развиваешь плюрализм в голове у братца, но цель-то, как я понимаю, так и не достигнута. Иначе белочка Фрося ушла бы обратно в лес…
– А что такое Бродвей? – спросила Маша.
– Улица в Нью-Йорке, в Америке. Там много театров. Ты талантливая актриса и сильная личность…
– Я белочка Фрося. Цок-цок-цок!
– Да ладно. Белочка так белочка. Хоть крокодил Гена пополам с Чебурашкой – сверху уши, снизу хвост…
Девочка улыбнулась в ответ на шутку, и это еще больше укрепило меня во мнении: нет тут никаких болезней, а есть манипуляция, которая закольцевалась сама на себя. Но выходить-то из ситуации как-то надо. И эта сильная личность явно не будет играть со мной ни на каком поле, кроме ее собственного…
– Что должно произойти, чтобы белочка Фрося смогла спокойно уйти в лес, оставив Машу жить с родителями?
– А чего с ними оставаться? Они все врут! Сначала обещают, а потом…
– Что обещали? – спросила я, уже начиная догадываться.
Психология учит: все симптомы говорящие, надо только научиться читать их язык.
– Собаку, вот что! – на глазах у Маши блеснули злые слезы.
Уже через полчаса картина окончательно прояснилась. Маша очень любит животных: катается в парке на любой лошади, кормит белок, голубей и синиц, готова в любой момент идти в зоопарк и целые часы проводить в ближайшем зоомагазине. Сто раз просила у мамы (которая по факту выполняет роль главы семьи) хоть кого-нибудь, но ответ всегда был один и тот же: за любым зверем уход нужен, а ты поиграешь и бросишь. Все свалится на меня, а мне и без того с вами дел хватает. Настырная девочка переключилась на отца. Однажды папа, который сам в детстве хотел собаку, находясь в благодушном настроении, пообещал дочери: вот будешь хорошо себя летом вести, осенью купим тебе щенка. Восточноевропейскую овчарку – ни больше, ни меньше. Маша онемела от восторга, горячо поцеловала папу (вообще-то она не очень ласкова) и убежала.
Все лето девочка, что называется, ходила на цыпочках, помогала маме поливать огород, собирала гусениц и без устали искала бабушкины очки, которые пожилая женщина постоянно теряла. По вечерам, оставшись в комнате с братом, играла с ним в никогда не надоедающую ей игру: «Вот когда у нас будет собака…» Было сто раз придумано и продумано все: как ее будут звать, где она будет спать, есть, каким командам ее обучат…
Осенью дочка подошла к папе и спросила:
– Когда мы поедем?
– Куда? – удивился мужчина.
– За щенком! – губы девочки тряслись от волнения.
Папа все понял правильно и за ужином поговорил с женой. Ответ, как и можно было ожидать, остался прежним:
– Ты с ума сошел? Чем ты вообще думал?! Какая овчарка?! Ты всегда на работе, дети маленькие, квартира тоже, у младшего аллергия. Весь уход опять на мне. Зачем мне это надо? Да и овчарок я не люблю, они злые и вообще не квартирные собаки. Их во дворе держать надо.
– Но как же Маша…
– А меня кто-то спросил?! – не на шутку взъярилась женщина. – Ты эту глупость Машке сказал, ты теперь и расхлебывай. И не вздумай на меня ссылаться.
У Маши, конечно, случилась истерика. Она каталась по полу и стучала ногами. Павлик от испуга забился за шкаф. Мать вылила на дочь ведро воды. Папа демонстративно сосал валидол на кухне. Потом все вроде успокоилось.
А через три недели в квартире появилась белочка Фрося. Еще через неделю явился Шарик…
– И что же мне теперь делать? – спросила женщина.
– Не знаю, – пожала плечами я. – Девица сильная, черт знает, до чего она может дойти. Наверное, придется все-таки завести кого-нибудь. Не любите овчарок – заведите йоркширского терьера. С ним, говорят, даже гулять не обязательно. Думаю, Маша согласится.
– Послушайте, вы же психолог, что это вы мне советуете? – она взглянула на меня со знакомой уже подозрительностью, как и тогда, когда я рассказывала ей про ролевые игры. – Если я сейчас, когда ей семи нет, пойду у нее на поводу, поддамся и все ее желания исполню, то что же дальше будет? Когда ей тринадцать исполнится или шестнадцать? Она же мне еще не такие спектакли сыграет, будет мной как хочет крутить и брата, как пить дать, подучит…
– В том, что вы говорите, несомненно, есть логика, – согласилась я.
– И зачем мне это зверье? Они же маленькие еще – ни за собакой, ни за кошкой, ни даже за хомяками какими-нибудь как следует ухаживать не сумеют. Либо те сдохнут, либо опять же вся ответственность на мне. Мне мало, что ли?
– Вы правы, – снова подтвердила я. – Дел у вас наверняка и без хомячков хватает.
– Да что вы заладили: правы, правы, – разозлилась женщина. – Я вас спрашиваю: заводить мне теперь живность или не заводить? Что вы молчите?
Я молчала, потому что не знала ответа.
Так заводить или не заводить домашних животных?
Из моего личного опыта мне видятся тут как минимум три отчетливо разнящиеся между собой позиции:
– животных детям можно заводить только тогда, когда они способны взять на себя ответственность за них и сами за ними ухаживать (у обычного городского ребенка этот возраст наступает, как правило, после десяти-одиннадцати лет);
– животные в доме должны быть всегда и в любом случае – их наличие благотворно влияет на здоровье, развитие детей и их умение понимать и чувствовать другого;
– животных детям вообще заводить не следует, так как живые существа не игрушка, к тому же у современных городских детей очень часто аллергия на шерсть и прочие продукты их жизнедеятельности, а кроме того, животные живут меньше людей, и их смерть может нанести ребенку психологическую травму.
И как же следует поступить в сложившейся ситуации маме «белочки Фроси»?
Хочется праздника
– Вы знаете, я хочу с вами посоветоваться о не очень, может быть, обычном, – молодая, привлекательная женщина доверительно улыбнулась. – К вам с таким вряд ли приходят…
Двое предыдущих клиентов в этот день советовались со мной о том, как вернуть домой сбежавшего подростка, мечтающего постигнуть истину с помощью Детей Радуги, и о том, как поступить, если трехлетняя девочка все время облизывает и даже грызет металлические предметы.
– Конечно, конечно, о необычном, – я закивала в ответ. – Я вас внимательно слушаю.
– Видите ли, у меня двое детей – мальчику восемь лет, а девочке четыре. Я работаю менеджером в крупной компании, но льщу себя надеждой, что все-таки я хорошая мать. Дети у меня ухожены, правильно питаются, я с ними регулярно играю, читаю книжки. В выходные мы всей семьей ходим в кино, театры или музеи. Мы вместе делаем поделки, и еще они посещают кружки по интересам: дочка танцует и поет, а сын рисует, занимается теннисом и дополнительным английским…
– Да-да, замечательно… – я подавила желание зевнуть и не без труда превратила его в дружелюбную улыбку.
– Но, видите ли, скоро Рождество и Новый год, а с этим у меня проблемы…
– Проблемы с Новым годом?! – тут я действительно удивилась и моментально включилась в происходящее. Женщина оказалась права: с этим ко мне еще никогда не обращались!
– Понимаете, я всегда, с детства, как-то странно относилась к праздникам: старалась их просто пережить. Наверняка это идет из семьи, у нас дома праздники всегда отмечали, но как-то так… может, правильно будет сказать: нервно? Мама и папа все время беспокоились: удастся ли достать нужные продукты, понравится ли гостям угощение, не обидится ли свекровь, придут ли Ивановы, какую кофточку надеть в гости, сумею ли я достаточно развлечь своих гостей – детей? То есть, с одной стороны, я ждала праздника, потому что в нем было нечто выбивающееся из привычной колеи жизни – гости, подарки, вкусная еда, а с другой – мне хотелось, чтобы все это уже поскорее кончилось, и как будто поставить галочку…
– Это продолжается и сейчас, когда вы выросли, стали взрослой, сильной, самостоятельной?
– Сейчас все стало еще сложнее, потому что есть дети. Мне ничего не надо, я бы, если честно, в Новый год выпила бокал шампанского и спать легла. Но я чувствую себя обязанной организовать праздник для детей – и потому наряжаю елку, развешиваю гирлянды, приглашаю гостей, как сомнамбула брожу по магазинам в поисках подарков и… все время беспокоюсь, узнавая в себе своих родителей: не опрокинет ли наша собака елку, не начнется ли у дочки аллергия от праздничных сладостей, не расстроится ли сын, что его лучший друг не сможет прийти к нам, как они договорились (его семья уезжает на каникулы за границу), кого пригласить, чтобы детям и мужу не было скучно, не надо ли было заранее заказать на дом Деда Мороза, как сделали мои коллеги по офису?..
– Вы были правы, – сказала я. – Это действительно проблема, идущая из вашего прошлого. И мы с вами сейчас…
– Но я-то к вам вовсе не об этом поговорить пришла! – с бодрой улыбкой оборвала меня посетительница. – И совершенно не собиралась жаловаться, это случайно как-то так получилось… Я пришла вас спросить как психолога: как правильно организовать праздник для детей четырех и восьми лет, чтобы это было и весело, и полезно, и безопасно? Что делать дома? Какие развлечения показаны в этом возрасте? Куда их сводить? Что показать? Дочка у меня очень любит скакать, петь, веселиться, а сын, наоборот, среди людей, карнавала сразу устает, начинает кукситься, проситься домой, а там тоже недоволен, что ничего на празднике не увидел… Получается, что их надо развлекать отдельно, но мы все-таки одна семья, не так уж много времени проводим все вместе, и хочется, чтобы мы хотя бы на праздники…
– А какая позиция по поводу детских и недетских праздников у вашего мужа?
– Он сделает все так, как я скажу. Я его пыталась когда-то спрашивать, что он думает: как лучше для него, для детей, он ответил: я в этом ничего не понимаю, если смогу, подыграю тебе, как ты сочтешь нужным. Обычно он у нас бывает Дедом Морозом – я сама его наряжаю, гримирую, вручаю приготовленные подарки, объясняю, что детям говорить, он и идет… Детям как будто нравится…
Она серьезно и внимательно смотрела на меня и ждала немедленных психологически выверенных рекомендаций. Новый год приближался, а за ним еще и еще пойдут праздники, которые тоже нужно будет как-то «организовывать».
Беда в том, что я сама из тех людей, которые праздники скорее «пережидают», и потому не очень знала, что ей сказать. Было ясно: все, что можно сделать из этой «пережидающей» позиции, она сделает и так, без всяких моих советов. Мы, конечно, обсудили какие-то детали грядущих новогодних событий, с учетом возраста и темперамента ее детей, но у меня все равно осталось ощущение недоговоренности.
«Прошибатели стен» и «строители катапульт»
– Он убегает, всегда убегает… – грустно жалуется Алина, мама девятилетнего Бори. – Так было с самого раннего детства. Не получилось сразу собрать мозаику – все разбросает: не хочу больше! «Давай попробуем нарисовать лошадку!» – «Не буду, у меня не получится!» Проиграл в какую-нибудь игру или не досталось той роли, которую хотел получить, – «Не буду больше с вами играть!» Как я ни убеждаю его: ну ты хотя бы попробуй преодолеть, тебе же это вполне по силам, – не соглашается. И вот теперь второй класс – и все то же самое в школе и с уроками. Вечные слезы, «Я не знаю, как решать», «У меня все равно ничего не получится», отказывается отвечать, даже если все знает, и так далее…
– Я просто не знаю, что мне с ней делать! – восклицает Лидия, мама восьмилетней Ларисы. – Она девочка, но с ясельного возраста то и дело бросается в драку и бьет детей, которые старше на три-четыре года и в полтора раза превосходят ее по живому весу. Нет, к этому всегда был и сейчас есть какой-то конкретный повод: отобрали игрушку, разрушили песочный домик, обидели ее саму или того, кого она считает своим другом, – но метод, метод! И во всем другом Лариса такая же – старается все проблемы решить с наскока, кавалерийской атакой. В школе тянет руку и пытается отвечать даже тогда, когда не знает ответа. Учительница удивляется: зачем же ты вызывалась? Родители побитых детей требуют от меня: поговорите с ней, объясните, запретите… Но мы уже тысячу раз ей объясняли, что девочке драться просто некрасиво, что почти всегда можно договориться. Она нас вроде бы слушает, кивает, соглашается, но как только доходит до дела – опять…
– Лидия, Алина, вы знаете, что такое фрустрация? – я разговариваю сразу с обеими женщинами, несмотря на то, что проблемы их детей вроде бы противоположны по знаку.
– Что-то такое слышала, – неопределенно отвечает Алина.
– Толком не знаю, объясните, – Лидия.
– Фрустрация – это чувство, которое испытывает человек, когда на пути удовлетворения его потребности возникает препятствие. Вот смотрите, сейчас мы смоделируем эту ситуацию, – я беру свой журнал для записи (формат А4), ставлю его на ребро и двумя пальцами изображаю идущего к журналу по столу человечка. – Человечек идет по своим делам, и вдруг на его пути возникает стена. Вот она. Он фрустрирован. Ему надо на ту сторону. То есть как-то преодолеть стену. Что он может предпринять? Реальная стена и реальный человечек. Предлагайте.
– Разрушить стену, – тут же говорит Лидия.
– Первый способ, – я загибаю палец.
– Ну попробовать как-нибудь обойти, – морщась, предлагает Алина. Видно, что идея немедленного прошибания стены подручными средствами (головой?) ей совершенно не близка.
– Отлично, – соглашаюсь я. – Стену не трогаем, пытаемся обойти, может быть, она где-нибудь кончается или в ней дверь есть. Второй способ. А если обойти не получается? – человечек из пальцев нетерпеливо перебирает ножками на столе.
– Тогда… Но, может быть, ему не так уж туда и надо? – спрашивает Алина.
– Третий способ, – я загибаю еще один палец. – Отказаться от достижения, – человечек поворачивается и уходит к краю стола. – «Зелен виноград»… Еще!
– А разве еще есть? – удивляется Лидия.
– Есть. Думайте.
– Ну… можно построить аэроплан и перелететь! – наконец, после долгой паузы, придумывает Лидия. – Или катапульту.
– Лестницу сколотить, – упрощает полет ее фантазии Алина.
– Замечательно, – я загибаю четвертый палец. – Включить голову. Применить технические средства. Самому смастерить что-то вспомогательное. Еще!
– Больше нет, – твердо говорит Лидия.
Алина, помедлив, кивает согласно.
– Все это время наш человечек был один… – подсказываю я.
– Точно! Позвать на помощь других людей! – восклицает Лидия. – Они его раскачают и перекинут через стену. Или еще чего придумают…
Я загибаю пятый палец и начинаю объяснения.
Пять основных способов работы человека с фрустрацией: поиск обходных путей, прямая атака на препятствие, включить творческое воображение, позвать на помощь, отказаться от достижения.
Практически никто не использует все пять одинаково часто. Обычно у человека есть один-два ведущих способа и еще один – в резерве, на крайний случай. Например, товарищ в основном прошибает головой все встречающиеся ему стены, но если уж не получается, то измышляет что-то на месте или уходит. На помощь не зовет и обходных путей не видит в принципе. В ситуации описанного выше тестирования (стена – человечек) свои ведущие способы человек всегда называет первыми. Последний, пятый способ обычно всем приходится подсказывать.
Ведущие способы выделяются очень рано или вообще являются врожденными (я точно не знаю, а в литературе не встречала ссылок на убедительные исследования по этому поводу). Во всяком случае, в песочнице уже все видно. Фрустрация – отняли лопатку. Вот ребенок, который сразу бежит к матери: «Мама, мама, он у меня лопатку отнял!» (ведущий способ – звать на помощь). Вот ребенок, который, не глядя на размеры обидчика, кидается в драку: «Отдай, гад, мою лопатку!» («прошибатель стен»). Вот еще один ребенок, который берет другую игрушку и продолжает невозмутимо играть, как будто бы ничего не произошло (ведущий способ – уход). И так далее.
Наследование способов работы с фрустрацией (биологическое или сигнальное – тоже точно не знаю), несомненно, имеется. Часто ребенок имеет в активе два способа – один от матери, другой от отца. Это гармонично.
Очень плохо, если естественные для ребенка способы не принимаются семьей. Например, мальчик ищет обходные пути или зовет на помощь. Отец, сам «прошибатель стен», требует: «Ты должен сражаться или уж сам соображать, что делать. Зовут на помощь только слабаки!» Или робкая мать-одиночка (обойти или отказаться) воспитывает сына-«прошибателя» и все время долбит ему: «Люди не любят, когда высовываются! Учись подчиняться, учись обуздывать свои желания…»
Если у ребенка только один способ работы с фрустрацией (уход у Бори, сына Алины, прошибание стен у Ларисы, дочери Лидии), то ситуация выправляется не запрещением этого способа, а активизацией дополнительных.
Например, Боря вполне принимал доброжелательно предложенную помощь семьи и впоследствии – друзей, а также искал обходные пути (уже в третьем классе он, так и не преуспев в решении задач и выступлениях у доски, оказался обладателем качественного дисканта и солистом школьного хора). А сильная телом и духом Лариса почти отказалась от драк, когда интеллектуальная мама научила ее относиться к разрешению межличностных конфликтов как к решению сложной задачи по преодолению стены – «постройке катапульты».
То, как человек преодолевает возникающие трудности, – важная характеристика личности. «Стена – человечек» – много лет назад придуманный мною тест на определение ведущих способов работы с фрустрацией. Он занимает ровно пять минут. Уважаемые читатели, вы вполне можете попробовать провести его со своими родными, друзьями или коллегами (начальником). Узнаете много интересного…
Перевернуть страницу
Мать говорила о каких-то пустяках: дочка иногда просыпается ночью, один раз описалась во время долгой прогулки, как-то после посещения гостей у нее возникло раздражение на руке… Девочка тихо переставляла кукол на банкетке и выглядела совершенно обычной. У матери было лицо трагической актрисы во время произнесения заглавного монолога. Я ничего не понимала. Может быть, девочка тут вообще ни при чем и все дело во взаимоотношениях родителей?
– Ваша семья состоит из?..
– Мы с мужем, Аня и моя мама.
Вроде бы ничего трагического. Объединила себя с мужем, стало быть, там отношения в любом случае не катастрофические.
– Какие у вас отношения с матерью?
– Хорошие. А почему вы спросили? – удивилась.
Уже хорошо. Я решила идти напрямую, потому что мой небогатый набор обходных маневров был исчерпан.
– Ваше выражение лица и масштаб проблем, о которых вы рассказываете, решительно не совпадают между собой. Есть что-то еще?
– Да, – тут же ответила она (явно ждала моей реплики; и чего я тянула?). – Все дело во мне самой. Я на грани самоубийства.
– Стоп! – я подняла вверх обе ладони. Девочке уже восемь лет, ей это надо? Хотя мамочка и дома наверняка все это транслирует по полной, но все равно… – Придете ко мне завтра в девять утра. Без Ани.
Про себя я решила: поскольку проблема моей посетительницы, в чем бы она ни заключалась, явно не касается ребенка, буду уговаривать ее обратиться к взрослому психотерапевту. Вполне может оказаться, что ей нужны медикаменты. Мысленно подбираю аргументы. Весь мир – театр…
– Я не могу общаться со своей дочерью. Виню ее, себя, Бога, всех вокруг, не могу жить. Мне кажется, если меня тоже не будет, всем будет легче…
«Тоже»? Кого уже нет? Все вроде бы на месте. Ее отец, дедушка Ани? Но при чем тут девочка?
– В чем вы вините свою дочь?
– Это абсурд, я понимаю…
– В чем?
– В том, что она убила свою сестру, мою вторую дочь.
Оп-ля! Приехали!
– Расскажите, когда и что конкретно случилось. Если вам нужен платок, достаньте из сумки или возьмите у меня, вон там есть одноразовые.
Если честно, то я так и не поняла, от чего именно скончалась младшая девочка. Какой-то спазм? Чем-то подавилась? Разрыв аневризмы? Бывают ли у пятилетних детей инсульты? Но это не так и важно.
Девочки были погодками. Младшая слегка приболела, и в детский сад не повели обеих. Бабушка и папа на работе. Матери понадобилось в магазин, и еще она, воспользовавшись тем, что на больничном и время дневное, решила получить какую-то справку в конторе. Сестер и раньше оставляли дома одних, они прекрасно играли вместе, ничего не портили и очень редко ссорились. Мать пообещала быстро вернуться, купить им шоколадки – и ушла. Они даже не вышли ее проводить, только весело помахали руками из детской, где расставляли на ковре кукольный городок.
Когда младшая девочка упала, забилась, а потом замерла в неподвижности, Аня вроде бы пыталась ее звать, трясти, а после убежала и спряталась в ванной.
В конторе оказалась очередь. У сестер был мобильный телефон, которым Аня прекрасно умела пользоваться и часто звонила с него второй бабушке и даже подружкам по детскому саду. Обе сестры знали телефон 01 – служба спасения. Уходя, мать положила телефон на комод в детской. Там он и остался лежать. Аня никуда не позвонила. Психиатр сказал, что у нее был шок. Она почти ничего не помнит.
– Я все понимаю, она ребенок, ей было всего шесть лет. Мама и муж пытаются меня как-то увещевать, психиатр прописал таблетки, я их почти год пила, но я все равно не могу… – странно, но трагическая маска с лица женщины исчезла. Теперь на ее лице вообще нет никакого выражения. И почему меня это не радует? – Не могу говорить, слушать, дотрагиваться, смотреть, а она… Неделю назад Аня за ужином сказала нам с мужем: «Слушайте, я понимаю, что вы другого ребенка, вместо Светы, пока не хотите. Но я же не привыкла одна играть, мне без нее скучно, заведите мне тогда хотя бы собаку вместо нее, что ли…» В этот момент я почувствовала, что могу… Нет, такое нельзя говорить вслух!.. Я записалась к вам… но тут ничего уже не поделать, лучше, если меня вообще не будет…
– Да что вы заладили: не будет, не будет! – с досадой проворчала я, не имея ни малейшего представления о том, что предпринять дальше. Убеждать в чем-то мать? Бесполезно: близкие, лечащий ее психиатр и она сама уже сказали ей все возможное. Работать с Аней? Но кончать с собой нешуточно собирается именно мать. Действительно удалить ее на время из семьи? Вот будет им всем радость… Да еще и она получит возможность невозбранно и непрерывно грызть себя изнутри и лелеять свои несчастья…
Парадоксальная интенция! – решила я наконец. Виктор Франкл, сознательное усиление симптома до его абсурдизации. Хуже, скорее всего, не будет, потому что хуже уже некуда. Если же ничего не предпринимать, то неизвестно, что она реально сделает с собой, но семью точно разрушит, а оставшуюся дочь доведет до невроза или чего-нибудь похуже.
– Теперь пусть ко мне придет ваш муж. Один. Мне нужно знать обстановку в семье с разных сторон.
Слава богам, мужик оказался здравомыслящий и спокойный.
– Вы купите Ане собаку. Что-нибудь небольшое, но прыткое и противно лающее. Вроде фокстерьера.
– Жена с ума сойдет! Хотя…
– Да-да, вы, кажется, меня понимаете… А что вообще любит Аня?
– Да она веселая вообще-то девочка, сейчас только притихла. Учится от страха на одни пятерки. Музыкальная, кстати. Любит петь, танцевать, бренчать на старом бабушкином пианино. Но жена так смотрит на нее, когда она танцует…
– Бренчать на пианино? Отлично! Завтра пойдете в музыкальную школу.
– Но ведь середина года!
– Вас возьмут. Сейчас я напишу душераздирающую справку для тамошнего начальства. Часть психотерапии, музыка, чтобы ребенок мог выразить горе утраты. Они там проникнутся, я уверена…
– Я не знаю… – пробормотал отец. – Но это все-таки лучше, чем ничего. Потому что так дальше жить нельзя. Я бы ушел, но жалко Аньку и даже тещу…
– Будете тайно приходить ко мне раз в две недели и докладывать об успехах и неудачах.
– «Алекс – Юстасу»… – усмехнулся мужчина. – Ладно, договорились.
Ура! Метод Виктора Франкла снова сработал.
А ее слова «не могу видеть, слышать, трогать…» сработали паролем для меня. После трагической гибели младшей дочери мать не могла выражать вообще никакие чувства к старшей. Негативные (их было очень много) она и окружающие запрещали (нельзя, она не виновата!), позитивные – глушила самостоятельно (не хочу, она убила!). Но жить без чувств невозможно, и она уже почти решила не жить.
Дурацкая, раздражающая собака появилась уже после смерти Светы. Запрет чувств на нее не распространялся. Бешенство (меня не спросили!), раздражение (она же всю квартиру записала!), умиление (это же маленький щенок!) и, наконец, попытка выражения амбивалентных чувств («Ах ты мой маленький мерзавец! Иди сюда, я тебя поцелую!»).
Музыкальная школа. Надо водить Аню, надо делать домашние задания, нас взяли без экзаменов, в середине года, это же ответственность! А ей лишь бы побренчать, а когда нужно серьезно работать, так она сразу… Возможность обсуждать, ругать за что-то, что опять же произошло уже «после»…
Страница перевернулась. Мать немного оттаяла. Аня тоже ожила и… стала хуже учиться. По механизму обратной связи мать энергично включилась в учебу: надо наверстывать!
– Она почти полтора года все молчала, а теперь так орет… – задумчиво говорит отец. – Всех строит пуще прежнего. Это ничего?
– Ничего, – говорю я. – Потерпите немного, ей нужно.
– И… еще я думаю, может быть, нам… Мы ведь всегда хотели, чтобы был не один ребенок… Может быть, сын…
– Вы говорили с женой?
– Еще не пробовал, хотел с вами посоветоваться.
– Считайте, что посоветовались.
– «Юстас – Алексу»… Штирлиц понял. Я пойду?
– Идите. И – удачи!
Интеллигентные люди
Я совершенно не понимала, что творится с этим ребенком.
В свои девять лет он писался в кровать, боялся темноты, каких-то загадочных привидений, то и дело покрывался никак не связанной с изменением диеты коростой – то ли дерматит, то ли экзема, а вдобавок ко всему в последнее время у него еще и болели ноги, да так, что он, бывало, не мог встать утром с кровати.
Многочисленные врачи, анализы, томографии, аллергопробы ничего такого особенного не выявляли. От всевозможных вариантов лечения, которые специалисты все же считали необходимым прописать, садился иммунитет и заводились новые болезни – грибок, гастрит, не проходящая простуда… Съездили к бабке-ворожейке в Псковскую область. Бабка пошептала над водичкой, раскинула на столе гречневую крупу и уверенно диагностировала: сглаз от зависти. Даже не поинтересовавшись, чему тут, собственно, завидовать, родная бабушка ребенка напрямую спросила: «Сколько будет стоить снять? За ценой не постоим». Ворожейка тяжело вздохнула и честно предупредила, что попробовать, конечно, можно, но гарантий никаких: сглаз не на самом мальчике, а работать с колдовской материей опосредованно очень трудно. Два месяца (пока длилась работа над сглазом) пятеро людей с высшим образованием следовали рекомендациям бывшей колхозной скотницы. Состояние их сына и внука как будто бы улучшилось, но потом все вернулось на круги своя.
Сказать честно, я понимала в происходящем еще меньше скотницы-ворожейки – у нее, по-видимому, имелась хоть какая-то концепция. Вообще-то у детей лет до десяти не бывает своих психологических проблем – только проблемы, идущие из семьи. Если, конечно, у ребенка нет органического поражения нервной системы или каких-то тяжелых хронических заболеваний. У Максима ничего подобного, к счастью, не имелось (его достаточно обследовали, чтобы можно было говорить об этом с уверенностью).
– Расскажите о вашей семье. Как там у вас все обстоит?
– Да-да-да, мы понимаем, о чем вы спрашиваете, – согласно закивали головами мама и бабушка. – Не было ли ссор, скандалов, насилия, выяснений отношений при ребенке и все такое. Нет-нет-нет – ничего подобного у нас никогда не было. Мы все интеллигентные люди и понимаем, что ребенку в первую очередь нужен психологический комфорт. Бабушка у нас кандидат наук, а второй муж мамы и вовсе доктор, профессор. В нашем доме даже голос повышают крайне редко – по пальцам можно за последние годы пересчитать.
– Из кого состоит ваша семья?
– Кроме Максима – мама, отчим, бабушка, дедушка. Была собака, но поскольку у Максима предполагали аллергию, пришлось ее отдать… До сих пор по ней скучаем.
– Живете все вместе?
– В общем-то, да, но дедушка у нас большую часть времени проводит на даче, в загородном доме. Переезжает в город только на январь-февраль, а уже в середине марта – снова за город.
– Родной отец Максима?
– Здесь все совершенно цивилизованно. Он регулярно приходит, приносит подарки, водит его гулять, в театр, в зоопарк. На день рождения Максим его всегда приглашает, и мы, конечно, не препятствуем. Отец есть отец…
– Отношения с отчимом?
– Хорошие. Они вместе смотрят хорошие фильмы, чинят велосипед, когда здоровье Максима позволяет, мы всей семьей ездим куда-нибудь…
Никаких зацепок.
Проще и честнее всего было бы признаться в моем полном в данном случае бессилии и послать их дальше по медицинским инстанциям – искать какие-нибудь хитромудрые глисты, редкую инфекцию, неопознанное генетическое заболевание и т. д.
Но интуиция подсказывала иное: Максим – мой пациент.
Мама с бабушкой вроде бы сказали мне все, что могли и хотели.
Попробовать вызвать и разговорить мужчин? Дачный дедушка оказался недосягаем. Родной отец Максима пришел вместе с бывшей женой и с очень недовольным видом подтвердил все то, что она говорила прежде. Никаких собственных соображений о причинах болезней Максима у него не было. А мальчика между тем высадили из школы на домашнее обучение – он пропустил почти целиком две четверти. Максим очень переживал – он любит общаться, в школе у него много приятелей…
Оставался отчим. Я попросила его прийти без жены. Действительно – спокойный, интеллигентный мужчина с легкой сединой на висках, несколько удивлен тем, что оказался в детской поликлинике.
– Я, право, даже не знаю, что вам сказать. Если честно, то я ведь с Максимом почти не общаюсь. Мама, бабушка, все эти лечения, процедуры…
– У вас есть свои дети?
– Нет, к сожалению. В молодости я много занимался наукой, карьерой…
– А теперь, здесь, в этой семье?
– Я очень хотел. Но жена сказала, что ей просто не потянуть еще одного. Заняться вторым ребенком – значит, махнуть рукой на здоровье Максима.
– А вы?
– Что ж, я согласился. Надо быть реалистом: вряд ли от меня была бы большая польза в уходе за младенцем. Стало быть, все действительно легло бы на ее плечи. А если ребенок окажется не слишком здоровым – ведь мы оба не так уж молоды…
Он говорил по-прежнему спокойно, но в его глазах была такая тоска…
– Вы согласились, но вы…
– Мне регулярно снится один и тот же сон. Я держу на руках своего собственного ребенка, такого, знаете, лет двух… Он такой теплый, увесистый, и я подбрасываю его наверх, к солнцу, лучи пробиваются сквозь его волосики, бьют мне в глаза, он смеется… Я даже не могу разглядеть, мальчик это или девочка…
– И когда вы видите этого вечно чем-то болеющего Максима…
– Не спрашивайте!.. Понимаете, мы с женой действительно любим и уважаем друг друга…
– Почему дедушка все время живет на даче?
– У него плохие отношения с женой. Давно. Там, в поселке, есть молодая любовница…
– Какие на самом деле отношения у вашей жены и свекрови?
– Очень сложные. Мать, конечно, все время пытается ей диктовать… Я так понимаю, что и первый брак у жены отчасти из-за этого распался…
– И все это действительно шито-крыто, тихо-интеллигентно?
– Безусловно! Никаких ссор, скандалов…
– Ага! – сказала я.
– Что – ага?! – удивился доктор наук.
– Придете все вместе, включая папу Максима и дедушку. Кажется, я поняла, что происходит.
Вся взрослые в сборе, кроме все-таки увильнувшего дедушки.
– Есть темная комната, – говорю я. – В ней что-то, может быть, опасное. Когда в нее страшнее войти? Первое: вы знаете наверняка – там спрятался грабитель, или там лежит труп, или там притаился волк. Второе: вы не знаете, что там, но чувствуете – оно там есть…
– Конечно, второе страшнее! – говорит отчим. – К первому можно приготовиться, настроить себя, осознанно сражаться, в конце концов.
– Да, пожалуй, – соглашается бабушка.
Остальные кивают.
– В психологии это называется «ситуация нависшей угрозы». Особенно страшно, когда угроза неопределенная и не знаешь, откуда ждать удара. Это изматывает.
– А вы вообще-то о чем говорите? – с подозрением осведомилась бабушка.
– О вас, интеллигентные люди, и о вашем Максиме, – невесело усмехнулась я. – Он буквально с рождения чувствует, как ходят над его головой черные тучи, но поскольку все успешно скрывают свои действительные чувства, он ничего не может понять. Все происходит внезапно и без какого-либо разумного для ребенка объяснения: любимый дедушка вдруг «насовсем» переселяется на дачу, отец уходит и не возвращается. Потом появляется отчим, который сначала вроде бы потянулся к ребенку, а потом вдруг возникло – и не проходит – отчуждение (Максим чувствует, что он оказался «не таким»). Отец появляется вежливо и регулярно, даже сидит за праздничным столом, но при этом откровенно торопится уйти в свою настоящую жизнь, в которую Максима не приглашают. А мама с бабушкой (единственный вроде бы устойчивый факт Максимовой вселенной) никогда не повышают голоса, но время от времени разговаривают между собой так, словно случайно встретились в очереди в Британский музей.
– Да, – сказал отец Максима. – Именно. Мне моя теперешняя жена говорит: тебе как будто нравится, когда я начинаю шипеть или орать. Стыдно признаться, но ведь действительно нравится. Видно, что человек разозлился, и понятно, из-за чего. И понятно, что делать. А если все молчат, вздыхают и многозначительно смотрят…
– Что ж нам теперь, сковородками друг друга по голове лупить, как в старых комедиях? – язвительно осведомилась бабушка.
– Предлагаю эксперимент, – быстро сказала я. – Театр абсурда, но ничуть не круче, чем сглаз от зависти на гречневой крупе. Две недели скандалов.
– П-простите, я, наверное, неправильно вас п-поняла, – заикаясь от неожиданности, сказала мама.
– Правильно, правильно! – энергично и почти весело воскликнул отчим (признаюсь, предварительно мною подготовленный). – Я первый начну! Я хочу ребенка! Своего ребенка, ты слышишь, Маруся! Может быть, даже двух! После этого я готов сколько угодно возиться с Максимом, а сейчас я его вечно постную бледную физиономию на дух не могу переносить. Ребенок должен быть веселым!
– Будешь тут веселым, когда все такие ходят – не то храм, не то склеп! – вступился за сына отец.
– Да вы чего, с ума, что ли, сошли?! – мать.
– Вот видишь, дождалась! Я тебе говорила, нечего сор из избы выносить! Какие тебе психологи, когда ребенка надо в больницу на обследование класть! – бабушка дочери.
– Да она его до смерти залечит! Будешь потом рыдать! – муж жене.
Отличный, качественный, я бы даже сказала, вдохновенный скандал.
– Брек! – вскочила я и подняла руки вверх. – Не тратьте порох, Максима тут нет, а мне как психологу неинтересно, я и так все это уже знаю. Получается у вас замечательно. Вот приблизительно так – две недели. Потом поглядите на здоровье Максима. Если хоть чуть-чуть улучшилось, продлеваете эксперимент еще на полмесяца. Потом – ко мне.
– Бред какой-то! – фыркнула бабушка и вышла, высоко подняв голову.
Отец раздувал ноздри и тяжело дышал. Отчим подмигнул мне. Мать смотрела в пол.
Больше они не пришли. Спустя пару лет я встретила мать Максима в коридоре поликлиники с толстым годовалым карапузом, который, впрочем, оказался девочкой.
Она поздоровалась, и я сразу ее вспомнила.
– А-а, – улыбнулась я. – Поздравляю. Ну как, скандалите? Понравилось?
– Все изменилось, – улыбнулась она в ответ. – Как плотину прорвало. Две недели орали друг на друга, не могли остановиться, а потом на убыль пошло. И тут сообразили, что Максик (он во всем этом принимал деятельное участие) уже давно на ножки не жаловался, и корочки между пальцами отвалились… Мама теперь живет за городом с папой, а мы своей семьей. Вот Лизочка родилась…
– А Максим-то?
– Вырос. Вы бы его не узнали. Занимается футболом. Сестренку очень любит, учится хорошо, а муж так охотно с ними обоими возится…
– Ладно-ладно, только не перебарщивайте с интеллигентностью, – я предупреждающе покачала пальцем и, улыбаясь, пошла по своим делам.
Зависимость
– Его одноклассники вьют из него веревки, а он не умеет им противостоять. Нужно как-то объяснить ему, научить. А я не знаю как…
Мальчик лет десяти смотрел на меня и окружающее без всякого интереса. Мать, напротив, озиралась энергично и даже слегка хищновато, как будто собиралась охотиться у меня в кабинете. Одета она была неброско, но со вкусом, все аксессуары тщательно подобраны, прическа – волосок к волоску. Все в ней было аккуратное и какое-то неуловимо «брендовое».
– Шура, у тебя есть друзья? – спросила я.
– Да, – ответил мальчик. – Много.
– Да какие это друзья! – воскликнула мать. – В крайнем случае – приятели. Вот вы сами скажите: недавно он простудился, болел неделю – так никто ни разу ему даже не позвонил. Это хорошо?
– Нет, нехорошо, – согласилась я.
– Васька звонил три раза и хотел зайти, – сказал Шура. – Ты не разрешила.
– Вот только Васьки этого нам и не хватало! Ты вспомни, что было, когда он в прошлый раз к тебе приходил!
– А что было?
– Бомбы с водой из окна на прохожих кидали, а потом Вася у него игрушку украл.
– Я ему сам отдал.
– А я помню эти бомбы! – оживилась я. – Их из листочков в клеточку делают, а потом надувают. Они классно на асфальте взрываются. Не знала, что это искусство еще сохранилось…
– В нашей семье и Шуриной школе подобные искусства не поощряются, – мать взглянула на меня с подозрением. – Вася – приятель со двора. И это тоже проблема! Понимаете, у нас совершенно приличная семья, но его почему-то вечно тянет к детям… ну или из социально неблагополучных семей (например, Васю воспитывает одна мама-продавщица), или таких… ну раньше их назвали бы хулиганами. Это было даже в детском саду заметно… Если уж ты все повторяешь за всеми и не имеешь своего мнения и своей позиции, то почему бы не повторять хорошее? Вот Алеша у них в классе серьезно занимается шахматами, Игорь играет на скрипке, Андрей ходит на теннис и плавание…
– Мне неинтересно на скрипке и в шахматы, – сказал Шура.
– А что тебе интересно? – спросила я.
– Я собаку хочу, или кошку, или крысу, или кого-нибудь, – быстро ответил мальчик. – Только не рыб – они холодные и молчат. И в компьютерные игры.
– На животных может быть аллергия, в детстве был сильный диатез, – объяснила мама. – Мы завели ему морской аквариум, очень красиво, но Шура к нему даже не подходит. А компьютерные игры – это кошмар! Никаких уроков, или почитать книгу, или даже поесть. Как будто ныряет туда с концами…
– Ваша семья – это Шура, вы…
– И еще мой второй муж. Моя мама живет отдельно, с бабушкой. Шура к ним иногда ездит на выходные, но скажу сразу – я это не очень одобряю. Бабушки, сами понимаете, целый день – чипсы и телевизор.
Я еще поговорила с Шурой. Он, само собой, не видел в своей жизни никаких особых проблем. Со вторым мужем матери (он моложе ее) отношения хорошие, иногда вместе играют в футбол. Папа вообще-то есть, но Шура его давно не видел и не слышал, наверное, он куда-то уехал, мама вроде бы говорила. Школа английская, что-то вроде полупансиона. Никаких лидерских наклонностей у Шуры действительно нет, он готов играть во что предложат другие, интересуется тем же, чем интересуются его друзья, разделяет их взгляды.
– Это плохо? – спрашивает он.
– Да нет, почему, не всем же быть вожаками, – пожимаю я плечами. – Если есть вожак, подразумевается, что есть и те, кем он командует. Стало быть, они нужны ничуть не меньше.
– Я тоже так думаю, но маме не нравится, – мальчик отзеркаливает мой жест.
– Как ты думаешь, почему?
Глупый вопрос. Я задаю его, потому что не знаю, что делать дальше. Но Шура внезапно отвечает:
– Потому что она сама такая.
– ?!
– Как прочтет или услышит про новую диету, сразу старую бросает. И шмотки себе и Олегу все время новые, модные покупает, чтобы как в журналах были. А я старые люблю, они удобнее…
Что ж, парень, во всяком случае, наблюдательный (ведомые почти все такие, им же нужно внимательно отслеживать настроения и пристрастия лидеров). Но я считаю невозможным обсуждать привычки матери в присутствии десятилетнего сына.
В заключение немного говорим с ним о КЮЗе – клубе юных зоологов при зоопарке, в котором когда-то занималась я сама.
– Пожалуйста, в следующий раз придите ко мне без Шуры.
– Хорошо.
– Видите ли, зависимость от мнения окружающих в этом возрасте, в общем-то, обычное дело. Ведь человек – животное социальное.
– Откуда же в нем это взялось? – задумчиво спросила мать. – Ведь отца он почти не помнит.
– А Шура похож на отца?
– Отец был мямля. Никогда не мог настоять на своем, решиться что-то кардинально изменить, все ему было неудобно… Например, как-то он три месяца не решался потребовать уже заработанные им деньги…
– Вы расстались именно поэтому?
– В целом – да. Это прозвучит не очень красиво, но я скинула его, как балласт с корабля. Мне нужно было двигаться вперед, кормить ребенка, у нас не было своего жилья…
– А что с ним стало теперь?
– Он спился. Шуре не говорите.
– Не скажу. Вы его любили?
– При чем тут это? Я и профессию свою любила – окончила институт культуры по специальности библиотечное дело. Вы знаете, сколько сейчас библиотекари получают? И булки с кремом я люблю, и колбасу, и картошку, жаренную на сале, моя мама с бабушкой всю жизнь поперек себя толще были. Однако я сумела сформировать для себя прочный достаток и правильный образ жизни…
«Черт побери! – подумала я. – Она же калечит мальчишке жизнь, а мне все равно ее жалко! Ведь Шура стоит на пороге подростковости и, с его ведомостью и наследственностью, в поисках укрытия от материнской активности действительно может зайти очень далеко…»
– Послушайте, зависимость от мнения референтной группы у подростка укладывается в нормальное возрастное развитие. Если вас не устраивает эта конкретная группа, можно предложить Шуре другую (только дело, которым она занимается, должно быть ему интересно – тогда у него будет стимул поменять уже имеющееся и, может быть, раскрыть в этом деле какие-то свои потенции). Все другие зависимости современного общества – от алкоголя, моды, табака, здорового образа жизни, диет, интернета, физических упражнений, путешествий и так далее – гораздо менее естественны.
– Чем это, интересно, плохи путешествия?
– Хороши, пока они для удовольствия, а не для мелькания картинки. Сейчас очень много людей просто мечется по земному шару…
– Ага! Поняла! Знаю, что вы хотите мне сказать. Не надо никуда ездить. У нас во дворе уже расцвели одуванчики. Можно сесть на асфальт спиной к помойке и через долгое созерцание одного одуванчика постичь всю гармонию мира… Возможно. Но это не для меня. И не для Шуры. У него вообще-то гиперактивность. Я с нею к вам и собиралась. Ну не сложилось…
Шура похож не только на отца, но и на нее. Они одинаково зависимы: он – от самых ярких стимулов своего детского мира (неудивительно, что ими оказываются «хулиганы»), она – от сильных стимулов мира взрослого – моды, брендов, общепринятых стандартов «правильной» жизни. Оба приносили и еще принесут жертвы на этот алтарь… Но она этого не видит. И не хочет об этом слышать и говорить. Единственная слабая надежда, что десятилетний мальчишка вроде бы что-то понимает…
– Этот ваш кружок, про который вы ему говорили… Он туда просится. Но это же звери, грязь. Я буду еще думать. Лучше бы, конечно, теннис или дополнительный английский…
Она ушла. Надо признать: это была моя неудача. К сожалению, одна из многих.
Как заставить ребенка учиться
– Мы дома уже исчерпали все резервы, поэтому приняли решение обратиться к специалисту, – энергично сказала мать и рубанула воздух ребром ладони. Мне сразу показалось, что кое-какие резервы еще остались. – Вы наверняка с такими случаями уже сталкивались, поэтому скажите нам сразу: как мы можем заставить его учиться?
Я оглядела рослого и крепкого на вид мальчишку лет десяти, внешне очень похожего на мать, и пожала плечами:
– Заставить? Да никак не можете.
– ?!
– Понимаете, есть такая поговорка: лошадь можно привести к воде, но нельзя заставить ее пить. Это правда.
– Но что же нам делать? – мать опустила руки на колени и понурилась. – Его выгонят из школы…
– Сами виноваты – разбаловали. С самого начала, – вступила в разговор молчавшая до сих пор бабушка. – Часто болел, жалели, все было можно – и то, и это. Ах, у ребеночка горлышко болит, ах, ребеночек без отца растет – давай ему игрушечку купим, пусть он подольше телевизор посмотрит… Я дочери говорила: с самого начала драть надо было за непослушание как сидорову козу, и все было бы в порядке. Мы в деревне в школу за три километра каждый день бегали, и никто нас не подгонял, взрослые засветло на ферму, а ты печь растопи, воды принеси…
– Погодите, погодите… – вполне домостроевская, хотя и выросшая в советской деревне бабушка явно уводила наш разговор от темы. – Давайте вернемся к Жене. Обстоятельства сложились так, что ему не надо по утрам топить печь и носить воду…
– Вот! – бабушка подняла крючковатый палец, по-видимому, услышав в моих словах поддержку своей позиции.
– Дайте мне Женину медицинскую карту и расскажите все с самого начала, – попросила я мать. – Особенно внимательно – про первый год жизни ребенка. Вы тогда высыпались?
– Да какое там! – махнула рукой мать. – Он то и дело просыпался и орал как резаный. Врачи говорили: зубки, животик… Я его к себе в кровать клала, было получше, но он так вертелся все время и, простите, – она улыбнулась, – ко мне присасывался… Потом, когда мы уже с мужем разбежались, все прошло. Стал спать хорошо, с вечера до утра. И сейчас так спит, в школу не добудиться, приходится водой брызгать…
Я уже нашла в карточке Жени интересующую меня запись невролога – ПЭП (перинатальная энцефалопатия, в нынешней классификации ее обозначают как ППЦНС – перинатальное поражение центральной нервной системы). Надо думать, все это произошло оттого, что ребенок родился крупным «головастиком» – больше четырех килограммов весом.
До школы все было неплохо. Женя ходил в ясли, а потом в самый обычный детский сад. Там считался в меру драчливым и непоседливым, но воспитательницы его любили, потому что он всегда первым откликался на любую игру и был готов помочь – расставить стульчики, унести или принести коробки с игрушками. В школе проблемы начались сразу, с первого класса, – учиться Жене не понравилось с самого начала.
– Пригрозишь, что телика вечером не будет, – сядет за уроки уже под вечер и сделает тяп-ляп за пару минут, а чтобы постараться и покрасивше – такого и в заводе не было, – рассказывала мать.
На уроках Женя отвлекался, болтал, пускал бумажных голубей и, естественно, пропускал все объяснения учительницы, а потом не мог выполнить задания. С одноклассниками то дрался, то дружил, но никогда не жаловался. А про школу однажды еще в первом классе сказал: неинтересно мне учиться, не буду я туда ходить. Мать отмахнулась от «этих глупостей» и приступила к ежедневной корриде – усаживанию сына за уроки.
К третьему классу вопрос стоял острее некуда – двойки за все контрольные по русскому и математике, учительница, которая вначале говорила, что Женя соображает вполне по возрасту, теперь настоятельно советует: забирайте, он не усваивает программу, потому что попросту ничего не делает на уроках. Я не могу его заставить, у меня еще двадцать девять детей.
– Я учительницу понимаю: у нас он один, так мы тоже заставить не можем, – качает головой бабушка.
– Все пробовали? – спрашиваю я.
– Все! – уверенно говорит мать. – Упрашивала. Плакала. Орала. Договоры составляли (это мне соседка посоветовала, она в книжке прочла). Конфеты за оценки покупала. С ремнем рядом стояла. Компьютер на месяц выключала и телевизора лишала. К друзьям на двор не пускала. Ничего!
Быстренько тестирую Женю. Интеллект, как я и ожидала, в пределах нормы. Истощаемость внимания.
– Вы все время пытались его чего-то лишить, – говорю я. – В надежде, что на освободившееся место вползет тяга к учению. С точки зрения закона Ломоносова – Лавуазье это правильно, но в вашем случае закон сохранения вещества и энергии не сработал.
Мать взглянула на меня с откровенным испугом: неужели у них все настолько плохо, что даже базовые законы природы отказываются работать?!
– Теперь для разнообразия попробуем добавить. Но! – при этом убрать все, что уже было и доказало свою неэффективность.
– И тряпку? – внезапно встревает в разговор Женя.
– И тряпку, – твердо говорю я, не очень понимая, о чем речь, но индукционно, от мальчика, проникаясь ненавистью к этой самой тряпке.
– Так он же тогда вообще ничего делать не будет! – вскрикивает бабушка.
– А что добавить? – спрашивает мать.
– Женя по-прежнему готов расставлять стульчики и носить коробки? – осведомляюсь я.
– Да-да, – кивает бабушка. – Если со мной в магазин, сумки принести, или пропылесосить, или с собакой погулять, или даже прибить чего – тут у нас с ним никаких ссор не бывает, он всегда готов!
Черт побери, жил бы он в той бабкиной деревне, топил бы по утрам печь и бегал в ту же школу как миленький, если, конечно, ее еще не закрыли как малокомплектную…
Пишу записку учительнице, ляпаю печать.
– Делаете вместе какой-нибудь не глобальный ремонт в квартире, ездите в лес жарить сосиски (возьмите парочку Жениных одноклассников), идете в аквапарк… Что вы сами-то любите?
– Когда-то рисовать любила, ходила в художественную школу…
– Отлично! Вместе придумываете и рисуете смешные комиксы про школу и нерадивого ученика Петю.
– И девочку еще, отличницу, и ихнюю собаку, – добавляет Женя. – И кота с помойки.
– Да-да, – киваю я. Мне уже хочется посмотреть получившуюся историю.
– А уроки-то? – тянет шею бабушка. – Уроки?!
– Уроки тяп-ляп делает сам Женя. Что непонятно, спрашивает. Вы всегда на его стороне. Помогаете вовсю. Что-то – механическое – можно даже сделать за него. У него дефицит и истощаемость внимания. Не боритесь, например, за заполнение дневника или аккуратное оформление чего-то, сделайте это сами.
– На шею сядет…
– Не сядет. Зачем? Вы же будете вместе, а не против него. Он сейчас еще не понимает, зачем учиться тому, что неинтересно. Но он готов помочь вам в домашних занятиях и так же охотно разделит школьные, если вы признаете, что это ваше общее дело и вам оно сейчас нужно даже больше, чем ему. В дальнейшем, если все пойдет хорошо, ситуация изменится на противоположную.
– Ох и ни черта же себе! – вздохнула мать.
– А что же вы думали!
Учительница, которой нужно было учить тридцать детей, охотно загрузила Женю «общественными» делами. Он носил пособия, переставлял все те же стулья, строил класс перед входом в столовую и даже, как я посоветовала матери, обучился подавать учительнице пальто, когда они с классом ездили на экскурсии. Приключения хулигана Пети и отличницы Маши (и их собаки!) получали почти ежедневное продолжение. Женины друзья принимали участие в сочинении комиксов и с нетерпением ждали очередного выезда «на сосиски». Кухню и санузел покрасили, разрисовали звездочками и планетами потолок. Попутно Женя заинтересовался астрономией. Устроили «сосисочной» компанией ночной выезд с картой и лазерной указкой – искать созвездия. Те из приятелей, кого не взяли, плакали от рассказов. Уговорили учительницу, сходили классом в планетарий. Женя пришел в восторг и прямо там записался в кружок «Увлекательная наука».
Борьба за уроки прекратилась совсем. В Жениных тетрадках по-прежнему грязь и ужас, но задания он выполняет. Учительница иногда ставит ему даже четверки. По физкультуре, труду и рисованию у Жени твердые пятерки. Летом он очень хочет побывать в родной деревне бабушки. Обещали свозить – там осталась младшая бабушкина сестра и ее семья.
«И повесь костюм!»
Наши дети приходят в мир, не зная, как он устроен. Их нужно так многому научить! И иногда очень сложно отделить важное от неважного…
С Левушкой и его семьей мы жили и росли в одном дворе. По современной классификации Левушка был типичным «ботаником» – играл на скрипке, много читал и даже играл с нами в девчоночьи игры – классики, резиночку, «десяты» с мячом.
В отличие от большинства детей, Левушку не надо было заставлять заниматься музыкой – упражнялся он много, упорно и охотно. Был очень одарен: лет с двенадцати выступал с концертами, с тринадцати пытался сам сочинять музыку.
При всем этом Левушка был патологическим неряхой-растеряхой. Забыть портфель, уходя в школу, и куртку на скамейке во дворе, вложить остатки пирожка в тетрадку по русскому языку, а грязные кеды после урока физкультуры завернуть в белую, тщательно выглаженную футболку – все это было для Левушки обычным делом. Теперешние эскулапы любят списывать подобные штуки на синдром дефицита внимания и чуть ли не лечить таблетками, но во времена нашего детства о таких диагнозах слыхом не слыхали.
Мама Левушки, тетя Циля, честно и упорно пыталась бороться с рассеянностью сына: проверяла наличие портфеля и его содержимое, требовала аккуратно заправлять кровать, выносить мусор (для развития чувства ответственности) и стояла над сыном во время ежеутренней чистки зубов (отправившись в ванную, Левушка мог позабыть, зачем он туда пришел, и выйти сухим и неумытым, зато с новой трактовкой трудного этюда Шопена). Но особенным пунктом программы тети Цили всегда оставался Левушкин концертный костюм (может быть, это был даже фрак, но я по малолетству не очень в этом разбиралась)…
Когда бы я ни зашла к Левушке в гости (а заходила я часто, ибо была страстным книгочеем, а Левушкины родные разрешали мне пользоваться их богатой семейной библиотекой), я слышала пронзительный голос тети Цили (и сейчас, набирая на компьютере эти слова, я слышу его как наяву): «Лева, повесь костюм!» Вариаций было немного, и, думаю, большинство читателей слышали их в детстве и легко вспомнят: «Человек, который не умеет следить за своими вещами, ничего не добьется в жизни!», «Приучаться к порядку надо с молодости!», «Неужели ты не понимаешь, что я старалась, гладила его, отпаривала… Ты не ценишь труд матери!», «Сначала нужно сделать то, что нужно, а потом уже…» Когда мы немного повзрослели: «Лева, к тебе пришла девушка, а твоя одежда валяется… Что она подумает?» И над всем этим – трагическим рефреном, с заламыванием рук: «Лева, повесь костюм!!!»
Прошло много лет. Сейчас Левушка – довольно известный, востребованный музыкант и композитор (больше, правда, в Америке). Живет он на две страны, много гастролирует по миру. Вполне счастлив в своей самореализации. Мы с ним общаемся эпизодически, в основном по электронной почте. Несколько лет назад он пожаловался мне, что в квартирах у него по-прежнему бардак, он теряет вещи, по утрам не может найти носки, стыдится принимать гостей (школа тети Цили!), но не может нанять прислугу, так как имеет привычку записывать свои творения на самых непотребных клочках бумаги, которые прислуга однозначно воспринимает как мусор… Попросил совета специалиста. Я предложила ему придумать собственную систему организации пространства. Например, кидать все в одну половину комнаты или квартиры, а вторую оставлять пустой для хранения особо важных бумажек и приема гостей. Спустя какое-то время Левушка ликующе сообщил мне, что думал в указанном мною направлении и решил проблему носков. Он вешает их на люстру и по утрам легко находит…
– С вечера вешаешь? – уточнила я. – Не забываешь?
– Нет! – темпераментно воскликнул Левушка. – Разом всю пачку! У меня люстра большая! Хватает больше чем на неделю!
Вздохнув, я проглотила все комментарии…
Недавно я была в своем старом дворе, в центре города. Увидев, что в квартире тети Цили горит свет, я решила заглянуть на огонек. Вдруг Левушка в России и гостит у матери?
Левушки не оказалось. Постаревшая тетя Циля суетливо обрадовалась мне и усадила пить чай. Из общих тем для разговора были лишь нынешние успехи Левушки и наше общее детство. Я с улыбкой вспомнила про костюм.
Тетя Циля тяжело вздохнула:
– Ах, Катенька! Какой же я была дурой!
– ?
– Я так редко вижу его теперь. А в детстве он был со мной каждый день… И как я тратила это время? Ведь с ним всегда можно было интересно поговорить – о музыке, о книгах, об отношениях людей… Ты же помнишь, – я энергично кивнула. – Вот видишь, ты, девочка, понимала, а я… Ведь Лева так и остался несобранным! Кто это мне сказал, что я могу его изменить? Где я прочитала или услышала эту глупость? Ведь я иногда по полдня ходила за ним с этим костюмом! Что бы мне самой не взять его и повесить! И сколько было бы свободного времени для общения с моим дорогим мальчиком…
Теперь я довольно часто рассказываю эту историю моим клиентам из числа тех, кто долго и безуспешно пытается изменить своих детей в соответствии с некими жесткими, иногда даже вычитанными откуда-то правилами. Накаляются и рвутся отношения, ходят постоянно раздраженными все участники событий… «Но ведь он же должен…», «Но ведь я же должна его приучить…»
«На столе должен быть порядок», «Встал – застели за собой постель», «Палочки должны быть попендикулярны» (последнее – кто не помнит – цитата из «Двух капитанов» Каверина).
Действительно должны? Действительно это то, без чего нельзя обойтись?
Или перед нами «Левушкин костюм», которым вполне можно пожертвовать ради доверительных и плодотворных отношений с ребенком?
Спасатель миров
– Я про вас узнал, потому что в газете писали!
– О господи… – я даже не стала спрашивать, в связи с чем обо мне писали в газете, но мальчишка счел нужным пояснить:
– Там было о том, что всякие начальники собрались в Смольном и решали про компьютерные клубы: то ли нужно, то ли не нужно их закрывать…
Я моментально вспомнила и сразу заинтересовалась. Дело в том, что эта тусовка в Мариинском дворце, на которую меня как-то случайно (как практического психолога) позвали, состоялась лет пять – семь назад. Обычная говорильня ни о чем, единственная запомнившаяся мне деталь: у всех собравшихся мужчин-депутатов на руках был маникюр. Я сидела молча, в голове вертелась строчка из Пушкина с отчетливым вопросительным знаком в конце… Но сколько же тогда было лет мальчишке?! Семь, восемь? И в этом возрасте он уже читал газеты, интересовался судьбой компьютерных клубов и запоминал на всякий случай фамилии участников совещания?!
– Послушай, но ты же тогда, наверное, только в школу пошел…
– Да, во второй класс. Мать к вам тогда приходила с моим старшим братом, он деньги из дома украл и как раз в этом клубе и потратил. Она нам про газету и сказала: вот, глядите, это как раз тот психолог из нашей поликлиники…
– А, так вот что… – все прояснилось. Я выдохнула с облегчением.
Как оказалось, преждевременно.
– Вы должны знать, – сказал парнишка, назвавшийся Альбертом (из немцев, что ли? – подумала я. Вполне, кстати, могло быть – внешность «истинного арийца», взгляд прямой, похож на юношу-укротителя с Аничкова моста). – Вы же там, среди них, и как раз по этому делу. Если вы не в курсе, то я просто не могу сообразить, как мне еще узнать…
– А что надо узнать-то?
– Если догадался я, значит, и другие тоже. Я же, конечно, не самый умный. И значит, где-то обязательно должны быть люди, которые пытаются предотвратить. Я хочу им помогать, быть среди них. Я готов, физически и морально, я учусь в математической школе, изучаю два языка и еще могу научиться – много и быстро. Я ничего не боюсь.
– Так, – я снова насторожилась. Бред? Галлюцинации? Интересно, кем он меня видит и считает? Участником жидомасонского заговора? Глубоко законспирированным «человеком в черном»? Жаль, что я не помню его семью, мать, брата… Но сколько их было, таскавших деньги из дома на эти чертовы клубы… – Альберт, ты не мог бы объяснить конкретней, о чем речь? Я пока не совсем тебя поняла.
– Как вы думаете, почему, если Вселенная бесконечна в пространстве и во времени, мы до сих пор не встретили представителей более развитых цивилизаций, свободно передвигающихся между звездами и галактиками?
Наверное, он принимает меня за инопланетянку, решила я, с глубокой печалью думая о вердикте психиатра и о том, что я скажу матери Альберта.
– Два варианта, – сказала я вслух. – Либо они зачем-то шифруются. Либо, достигнув определенной стадии развития, приблизительно как у нас сейчас, гуманоидные цивилизации попросту гибнут. Возможно, в ужасных междоусобных войнах.
– Нет, – сказал Альберт. – Они просто теряют волю к внешнему познанию. Неужели вы не видите, что сейчас прямо вокруг вас это уже происходит? Или вы просто меня проверяете?
Я заколебалась. Что лучше – сказать «проверяю» (тогда он быстро и четко изложит содержание своего бреда или галлюцинаций) или честно признаться, что я ничего такого особого не вижу (он может разочароваться во мне и уйти, и тогда психиатру, о котором не писали в газетах, придется к нему заново пробиваться)?
Была и еще одна причина для колебаний: я, вопреки очевидности, вообще не чувствовала в нем психиатрии (обычно, если она есть, чувствую едва ли не с порога). Но что же тогда?
– Не вижу, – в конце концов призналась я. – А может быть, просто не понимаю, о чем речь. Поясни.
– Вы когда-нибудь играли в сетевую онлайновую игру последнего поколения?
– Нет.
– Тогда вам не понять. Там все есть. Там красиво. И понятно. И не опасно. И ты можешь там жить, учиться, развиваться, менять обличья, влюбляться, дружить, враждовать. И все это не вставая с кресла, за вполне умеренную сумму денег. Там комфортно. А когда выходишь обратно в настоящий мир, то возникает ощущение… пронизывающего сквозняка. И хочется спрятаться обратно. И это только начало, примитив. Все же развивается огромными темпами. Вы понимаете, что с ними стало?
– С кем?
– С другими цивилизациями. Они вовсе не вымерли. Просто закуклились и сидят на своих планетах. Вся внешняя наука остановилась, космос просто никому не нужен. Они живут вот в этих внутренних выдуманных мирах. Может быть, для них уже машины их выдумывают. И мы к этому идем. Все мои друзья, у которых хорошо работают мозги, хотят быть разработчиками компьютерных игр… Вы, может быть, этого и не чувствуете, и не видите, потому что вы другие. Вы в любом случае доживете свою жизнь в реале, у вас все главное в нем, так вы сформировались, вам, наверное, даже и подумать смешно, что может быть иначе…
– Альберт, но что же делать? – серьезно спросила я. – Если магистральный путь эволюции во вселенной действительно таков и все более развитые там уже сидят…
– Нельзя сдаваться, – убежденно сказал Альберт. – Всегда можно что-то сделать. Я уверен: если вовремя спохватиться, говорить об этом на все углах, – найдутся люди, можно предотвратить. А если у нас будут космические корабли, мы же сможем полететь туда и дать и им, нашим братьям по разуму, свободу выбора…
– Они ведь уже выбрали…
– Нельзя сказать о человеке, с которым случился инсульт, что он выбрал быть парализованным, – глядя мне в глаза, возразил Альберт. – Если у кого-то есть лекарство, он должен попытаться поставить его на ноги. Так я вижу. А вы видите иначе?
Я долго молчала.
– Почему вы ничего не говорите? – спросил Альберт.
– Я удивлена. Я просто первый раз в жизни вижу человека, который на полном серьезе собирается спасать мир. И даже не один мир, а много. Не человек-паук, не бэтмен, не супермен, не в кино или в книге, а в самом что ни на есть реале, – честно ответила я.
– Вы считаете меня психом?
– Нет, теперь уже нет. Я, пожалуй, тобой восхищаюсь, – прислушавшись к себе, сформулировала я.
На глазах Альберта выступили слезы. Усилием воли он загнал их обратно. Это трудно, но возможно.
– Вы мне верите, но вы никого не знаете, – сказал он, и в его словах не было вопроса.
Я кивнула.
– А вы сами?
– Я уже немолода, Альберт. Я в реале и могу уже только вот тут, по соседству. Немного помогать тем, кто пришел. Миры – нет, миры мне уже не по зубам. Но я желаю тебе удачи.
– Спасибо. Я не знаю, получится ли у меня, но я в любом случае не сдамся. Никогда, пока я жив. И я практически уверен, что не буду одинок. Есть другие…
– Конечно, есть, – кивнула я.
И подумала: спасатели миров часто бывают одинокими даже в толпе приверженцев. Он еще этого не знает… Но все-таки: пусть у него все получится!
Последний перекресток
– Если бы вы только знали, как я вас ненавидела! – воскликнула молодая женщина, усаживаясь в кресле.
Я несколько напряглась (а кто не напрягся бы на моем месте?) и даже не нашлась, что сказать. «Я вас не знаю»? «А за что, собственно?»? «И что же вам теперь от меня надо?»? Все это казалось неправильным.
Ребенку, который вежливо спросил: «Можно взять?» – и, получив утвердительный ответ, принялся расставлять на ковре игрушечную кухню, на вид было не больше четырех лет. Быть у меня они могли года два назад, не раньше (рискованных советов матерям младенцев я не даю), и я должна была запомнить или мать, или мальчика.
– Мне было тогда двенадцать лет, – продолжила женщина, печально, но вроде бы совершенно не агрессивно улыбаясь.
Я начала мысленно перебирать самые безумные истории времен начала моей практики, но ни на чем не могла остановиться. Тогда на меня чаще обижались родители, а подростки, наоборот, обычно оставались довольны разговором – я, иногда демонстративно, работала исходя из интересов ребенка. Что же такое я проделала лет пятнадцать назад, что она до сих пор это помнит, а теперь… теперь что? Наконец-то пришла в чем-то разобраться? Не поздновато ли?!
– Я должна была прийти год назад. Мама меня просила. Но я все как-то откладывала… какие-то дела… или, может быть, просто собиралась с силами…
Наконец у меня появилась возможность что-то спросить, и я не преминула ею воспользоваться:
– Что произошло год назад? О чем просила вас ваша мама?
– Год назад мама умерла. Незадолго до смерти она просила меня: после… в общем, сходить к вам и рассказать.
– Мои соболезнования…
Моя растерянность вернулась в полном объеме, ибо я все-таки работаю в детской поликлинике, и с последней волей умирающего человека мне по работе сталкиваться еще не приходилось. Что же там такое было?
– Вы посоветовали маме отдать меня в интернат. Она так и сделала.
– Я?!
С ума сойти! Женщина, сидящая передо мной, выглядела совершенно нормальной. Никаких девиаций, хорошо одета, правильная речь, симпатичный ребенок… Что же с ней творилось в двенадцать лет? Почему я не помню этого, явно экстраординарного, случая? И как это я могла дать ее матери такой дикий совет?! Скорее всего, тут какое-то недоразумение.
– Простите, но это, наверное, недоразумение…
– Нет-нет, никаких недоразумений. Меня вы вообще не видели и, конечно, помнить не можете. И дело было вовсе не во мне. Дело было в моей маме.
Мать-алкоголичка? Наркоманка? Мои мысли заметались, как тараканы по кухне. Я не помнила!
– Моя мама была серьезно больна. Онкология. Врачи давали ей год от силы. У нее не было родственников. Она пришла к вам просто поговорить, но не удержалась и стала просить совета…
Хоп! Я наконец вспомнила эту женщину.
Это был очень тяжелый визит, один из тех, когда понимаешь, что именно психологическая помощь нужна человеку, как воздух, но помочь ничем не можешь. Просто не знаешь как. И не в силах в этом откровенно признаться, начинаешь нести первостатейную, под руку подвернувшуюся чушь, сам себя не одобряя и презирая… Потому я и забыла ее. Обыкновенное вытеснение по кому-то там из классиков жанра.
Ей было совсем немного лет. Она была худощавой и, должно быть, вообще-то миловидной. Все портили черные круги под глазами и дешевый парик.
– Моей дочке всего одиннадцать, – говорила она. – Я не боюсь смерти. Совсем, поверьте. Жизнь не особенно баловала меня, но в общем я ей признательна. Но я готова выть от ужаса при мысли о том, что станет с моей дочкой после того, как я умру. У нас никого нет.
– А отец? Бабушки, дедушки?
– Я родила ее без отца. Он был со мной, но сразу говорил, что не хочет ребенка. Когда я забеременела и сказала, что не буду делать аборт, он просто исчез. Даже не знаю, где он сейчас. Мои родители жили в деревне, под Воронежем. Отец погиб, когда я была маленькой. Мама умерла два года назад…
– Есть разное лечение…
– Официальная медицина честно сделала для меня все, что положено. Больше они ничего не могут. В экстрасенсов и колдунов я не верю. К сожалению, и ни во что прочее тоже. Было бы очень удобно думать, что я смогу следить за своей дочкой с небес и даже иногда о чем-то предупреждать и что-то советовать ей, но – увы… Вы верите в Бога?
– К сожалению, тоже нет.
– Но вот вы психолог, близки к медицине… Поймите, просто сидеть и ждать скорой смерти – это же невыносимо, – с отчаянием заключила она.
– А дочка – знает? – спросила я.
– Да, – она кивнула. – Мы очень близки. Я не смогла от нее скрыть, мне показалось это нечестным, ведь она остается здесь, и ей тоже нужно подготовиться, прикинуть возможности, варианты. Мы много разговариваем… Скажите: неужели ну совсем-совсем ничего нельзя еще сделать?
Я опустила глаза, не в силах выносить ее взгляд.
Молчание длилось, иногда прерываясь какими-то незначащими репликами. Я малодушно ждала, когда она попрощается и уйдет. Но ей было просто некуда идти. Дочка в школе…
– Есть всякие шарлатаны, – глядя в пол, подчеркнуто грубовато сказала я. – И от психологии – тоже. Но мы не все знаем о мире и не всегда можем различить, где прячется зерно истины. Вам важны имена? – она отрицательно покачала головой. – Тогда так. Смотрите: вы шли по жизни вот этим путем и пришли туда, где вы сейчас находитесь. Положение далеко от блестящего, и мы обе знаем, куда эта дорога приведет в самом скором времени. Если бы вы шли другой дорогой, возможно, все сложилось бы иначе. Время, конечно, назад не поворачивается. Но кто знает, прошли ли вы уже последний перекресток, на котором можно с этой дороги свернуть? Только поворот должен быть очень резким, иначе снесет в прежнюю колею…
– Как это? Куда свернуть? Объясните, я не понимаю! – она слушала со вполне понятной жадностью.
– Вы по профессии бухгалтер. С детства об этом мечтали?
– Нет, конечно, – она даже улыбнулась. – Кто же с детства мечтает быть бухгалтером? Просто это везде нужно, а мне в городе устраиваться надо было, дочку растить. А тут и дома всегда подработать можно… было, – она с усилием добавила прошедшее время.
– А мечтали вообще-то?
– Ну конечно! Как все девчонки, наверное, – актрисой. В Инну Чурикову была влюблена. В самодеятельности на усадьбе играла. Когда автобуса не было, за пять километров на репетиции бегала. В десятом классе всем классом спектакль поставили, вместе с учительницей литературы. «Двенадцатая ночь» – Шекспир, не как-нибудь. В райцентре играли и в трех колхозах. Успех был…
– А после? В чем смысл?
– Последние годы – только дочка, – твердо, глядя мне в глаза, сказала она.
– Перекресток – это все изменить. Немедленно. Все.
– Как?
– Уехать отсюда. Подальше, например, в Сибирь. Устроиться в театр, например, в Красноярске. Или в Норильске. Хоть подметать. Хоть костюмы шить. Хоть в массовку, рот открывать. Только не бухгалтером.
– А дочка как же? У нее школа.
– Дочку – в интернат, – сглотнув, сказала я. – Если вывернетесь, потом заберете ее к себе.
– А как же оформить?
– Покажете чиновникам справку с диагнозом, скажете, что завтра уезжаете на лечение в тайгу, к колдуну. Они сразу все сделают.
Она смотрела на меня огромными, обведенными черной каймой, блестящими глазами.
– Кто не рискует, тот не пьет шампанского, – сказала я.
– Мне уже нечем рисковать, – и, еще помолчав, добавила: – Спасибо, я подумаю. До свидания.
Она ушла. Я вздохнула с облегчением. Была уверена, что мои дикие советы она выкинула из головы сразу за порогом кабинета.
– И что же – ваша мама тогда действительно уехала в Сибирь?! – потрясенно спросила я у молодой женщины.
– Почему – в Сибирь? – она удивленно подняла брови. – Она уехала в свою родную деревню, под Воронежем. Там же у нас от бабушки дом остался. Здесь продала мебель и еще что-то из ювелирки. Купила «жигули»-развалюшку. Стала на них ездить. Устроилась в поселковую школу учительницей математики. Сразу организовала там театральную студию. Туда к ней и дети, и взрослые ходили. Потом уже это называлось народный театр. Они и в Воронеже часто выступали, и в других городах…
– А вы?
– Я ее не видела и не слышала два года. Думала, конечно, часто, что она уже умерла, а воспитатели мне все врут. Но она мне сразу честно сказала: это пусть призрачный, но шанс. Надо его использовать. Я ей поверила, но вас все равно ненавидела – думала, что, не будь вас, я хоть сколько-то еще с мамой бы пожила, а так она где-то без меня помрет… После восьмого класса она меня на летние каникулы забрала – тут я и увидела, что она вовсе не умирает, и волосы у нее красивые, как прежде…
– Вы остались с ней?
– Вы знаете, нет. Вокруг нее было так много народу, все время эти репетиции, декорации, костюмы… Меня театр не интересовал совершенно, да и в деревне мне жить как-то не хотелось. В общем, мы с ней договорились так: я буду кончать школу в интернате, а к ней приезжать на все каникулы. Так и было. Потом я поступила в институт, жила в нашей городской комнате, потом вышла замуж, родила Сашу…
– От чего скончалась ваша мама?
– От воспаления легких, потом отек… Больница в райцентре, сами понимаете. А она вечно простужалась в этом театре, в поездках, кашляла…
У меня возникли некоторые сомнения в диагнозе, но я не стала задавать дурацких, явно запоздалых вопросов.
– Я приехала с мужем, привезла Сашу, мы успели попрощаться. С трудом протолкались среди поселковых… Я так говорю… – женщина промокнула глаза платком. – Но вы меня не слушайте, ее там любили, это дорогого стоит! В общем, она меня просила, чтобы я вам рассказала, а вы – другим. Может, кому-то еще поможет. Она же после шестнадцать лет прожила, меня воспитала, Сашеньку успела потискать, и театр этот… Там теперь ученица ее… Вот я и пришла…
– Спасибо вам, – искренне сказала я. – И будьте спокойны, я сделаю все так, как хотела ваша мама. Я расскажу о ее судьбе. И просто уверена, что кому-то это наверняка поможет.
Бабушка Груня
Тетка была крупнокостной и громогласной, в зеленом сарафане и ярко-красной губной помаде. Работала маляром-штукатуром, была главной в бригаде (начальник, командир? – не знаю, как правильно). С собой, как катер баржу, притащила (видимо, для моральной поддержки) тоже очень крупного и молчаливого мужа. Он сидел на стуле в позе кучера, многократно описанной в русской классической литературе, и так же покорно и угрюмо смотрел в пол. К родителям прилагались два сына-подростка – двенадцати и четырнадцати лет, старший уже в заклепках и готических шнурованных ботинках, младший еще с пухлыми телячьими губами и стриженный ежиком с челочкой.
Мать крикливо и абсолютно стандартно жаловалась на сыновей. Старший шляется, курит, прогуливает, учителей ни в грош не ставит («А люди из сил выбиваются, чтобы этих оболтусов хоть чему научить! Домой по вечерам звонят, беспокоятся, время тратят, от своих деток отрывают!»). Младший весь в компьютере, равнодушен к учебе, врет, что ничего не задано. «А голова-то у него светлая, это все говорят, мог бы учиться, образование получить, а это ж в жизни как важно, скажи, отец, вот мы институтов не кончали, так вот всю жизнь и горбатимся…» Последнее звучало не слишком убедительно, так как минутой раньше мать во всеуслышание заявила, что любит свою работу и нигде, кроме как в бригаде, себя не представляет. Я уже давно все поняла и могла бы продолжить ее монолог с любого места. Но, видно, женщине надо было выговориться, и поэтому я ее не прерывала.
Когда дело все-таки дошло до разговора с сыновьями, мальчишки, как это ни странно, ничего не отрицали, не ссылались на то, что их не понимают, и вообще не выглядели особенно поперечно-полосатыми. Да, шляюсь, да, курю, так у нас все курят. Собираюсь бросать. Да, в компьютере. Да, понимаю, что надо учиться. Да, все время собираюсь взяться, но как-то не выходит. Видят ли какую проблему в семье? Да, мать все время так орет и обзывается, что стены трясутся. Не, мы не обижаемся, мы с детства привыкли. У нас, как и у бати, давно в ухах бананы…
– Если вы хотите, чтобы вас услышали, вам нужно резко сменить манеру предъявления ваших, пусть даже самых справедливых, требований и пожеланий, – сказала я матери. – Готовы ли вы учиться, пробовать, ошибаться и снова пробовать?
– На все готова, – неожиданно лаконически сказала мать и сложила руки на высокой груди. – Поехали, учите.
Я решила, что отдельно попробую на практике обучить ее методике «неоскорбительной коммуникации», а сейчас, посколь– ку она, выговорившись, еще чего-то ждет от данной встречи, немного поговорю о теории.
Как я и ожидала, мать оказалась много «поперечней» сыновей и все время молчащего мужа.
– Да что вы говорите такое! Я-то могу хоть сколько о своих чувствах разоряться, да только кто меня слушать-то будет?! Тем более, вы говорите, ответа не ждать. Уткнутся они один в телевизор свой, другой в компьютер, третий вообще к приятелям сбежит – и вся недолга. Останусь я с кошкой на кухне по вашей методе разговаривать!
– Будете разговаривать с кошкой, – твердо сказала я. – И посмотрим, что выйдет. Главное, чтобы вы могли сказать, а они знали. Метода такая, понимаете?
– Не понимаю, в чем тут…
– Да. Есть, – вдруг отчетливо произнес отец семейства, о присутствии которого в кабинете я, честно говоря, уже почти по– забыла.
Мать удивилась, похоже, не меньше меня и запнулась на полуслове.
– Простите, я, похоже, не совсем вас поняла?.. – после довольно существенной паузы, убедившись, что он больше ничего не добавит, обратилась я к мужчине. – Вы где-то встречались с действенностью предлагаемой мною методики?
– Бабка Груня, – сказал отец.
– Это которая тебя рóстила? – уточнила жена, заглянув мужу в лицо.
Мужчина молча кивнул.
Я, мысленно собрав силы, приступила к осаде крепости. Почему-то это показалось мне важным.
Вот что я (а вместе со мной и все собравшиеся в кабинете) в конце концов узнала. Рассказываю, разумеется, своими словами, ибо каждую фразу из отца семейства приходилось тянуть клещами.
Родителей у Пашки не было. Куда они подевались, похоже, он и сам толком не знал, так как говорили ему в разное время и разные люди разное. То ли отец спился, а мать умерла. То ли, наоборот, спилась и сгинула мать, а отец погиб. То ли кто-то из них был наркоманом, а второй пытался его вытащить и не сумел… В общем, история однозначно печальная и с плохим концом. Воспитывала Пашку баба Груня. Жили вдвоем, бедненько, но, в общем, вполне прилично. В учебе Пашка никогда не блистал, в школе из-за своей молчаливости считался туповатым. Но хулиганом не был, учителям не дерзил, переписывать двойки приходил исправно, и тройки ему ставили.
Потом наступила подростковость. Гены тут сработали или неуспех в школе и отсутствие всяческих увлечений, но только Пашка отчетливо пошел «налево». Компании, выпивка, «легкие» девушки, прочие развлечения, уже отчетливо на грани (а то и за гранью) криминала.
Сорок пятый размер обуви, рост метр девяносто, плечи с трудом в дверь проходят. Что могла сделать совсем уже старенькая бабушка Груня? Ни-че-го. Плакала втихомолку, а вслух сказала всего один раз:
– Ах, Пашенька, проклятая я эгоистка! Ты-то с друзьями гуляешь, жизни радуешься, когда и гулять молодежи, как не по ночам. А я-то все у окна стою, тебя дожидаючись, и ведь не о тебе, а о себе, проклятой, думаю: если уж и Пашенька, голубок мой, по горке скатится, так с чем же я перед Господним престолом стоять буду? Не с чем… И ведь сделать-то, что обидно, больше уже ничего не могу. Не осталось у бабки Груни ни сил, ни слов, ни молитвы даже. Только у окна стоять… Да что ж ты, Пашенька, все меня слушаешь-то? Не слушай эгоистку старую, я ведь какая ни есть, а все равно тебя больше всего на свете люблю…
И вот вечерне-ночной город, веселая молодежная компашка, гульба в разгаре. Семнадцатилетний Пашка вдруг замирал столбом, увидев как наяву: у темного окна в ленинградском дворе-колодце стоит крохотная высохшая старушка в аккуратном белом платочке, беззвучно шевелит морщинистыми губами, пытаясь молиться, и острыми, почти не выцветшими глазами всматривается в фиолетовую глубокую темноту двора – не идет ли любимый внучок Паша? Потом проходит в кухню, пьет корвалол (от него запах надолго остается, а у Пашки острое обоняние) и снова возвращается на свой пост. Бабушка Груня…
– Ребя, я, наверно, домой…
– Пашка, ты чего?!
– Бабка волноваться будет.
– Ха! Бабкин внучок! – кличка, конечно же, закрепилась.
Шел по переулку и вслух ругался матом. Там же, позади, самое интересное. Куда я иду?!
Увидев Пашку внизу, бабушка Груня сразу пряталась в свою комнату и затихала, притворяясь спящей. Но ее хитрость никогда не удавалась, потому что во сне бабушка всегда храпела. Пашка раздраженно грохотал на кухне, с жадностью молодого самца пожирая оставленный ужин, потом шел в свою комнату, валился на кровать и уж тогда слышал за стенкой непременный храп: дождавшись Пашеньку, бабушка с легким сердцем засыпала. И какое-то странное облегчение испытывал в эту минуту и сам Пашка: он дома, за стеной, наконец успокоившись, уснула его живая, родная бабушка. Он все сделал правильно.
– И ведь это она своим у окна стоянием меня спасла. Только она! – с силой сказал зрелый мужчина, муж и отец. – Друзья мои тогдашние почти все сели, или спились, или иначе сгинули. А я и ПТУ закончил, и работу сразу хорошую нашел. И женился… вы не глядите, что она все орет, она женщина очень хорошая, и сыновья у нас тоже…
К концу рассказа мужа жена плакала практически навзрыд. Младший мальчик тоже украдкой утирал глаза. Старший по-отцовски хмурился и глядел в сторону.
Но женщина все-таки была человеком действия.
– В воскресенье… нет, в субботу – все вместе на могилку к бабушке Груне поедем! – решительно заявила она. – Давно ведь никто не был – стыд нам! Ты, отец, краски купи, кисточек и инструмент возьми – поправим там все, покрасим. А я цветочков куплю и еще елочки такие маленькие, светленькие в магазине видела, куплю. Посадим – красиво, утешно будет. И вы тоже поедете, – строго кинула она сыновьям. – Вы хоть прабабушку и не помните (баба Груня умерла, когда старшему годик исполнился), но поблагодарить ее должны – за отца! Ясно вам?!
– Да мы понимаем, – буркнул старший.
Младший кивнул, шмыгнув носом.
Вызыватель дождя
– Значит, так, – мальчишка поерзал в кресле, усаживаясь поудобнее. – У моего отца есть другая семья, и там моя сестренка, ей годика четыре, как я понимаю. Но мама об этом как бы не знает. Но та женщина все ждет, что отец к ней уйдет, потому что он ей, видно, обещал. И иногда ставит вопрос ребром. Тогда он срывается и едет ее уговаривать. Иногда даже ночью. У нас в семье это называется «ЧП на объекте». Но вообще-то он не уйдет, я так думаю, просто будет ей и дальше голову морочить. У моего младшего брата ДЦП, они как-то с мамой к вам приходили, но вы, наверное, не помните. С головой у брата все в порядке, он во втором классе учится и в компьютерах уже здорово шарит. А вот с ногами-руками – не так чтобы очень. А мама все думает, что где-то есть такое лекарство или еще что, чтобы его совсем вылечить. Она его на лошадях возит, потому что это среди децепэшников считается самый писк, и копит деньги, чтобы в Крым к дельфинам. А Ленька лошадей боится и падает с них. А про дельфинов он мне сразу сказал: вот там мне и конец придет – сразу утону. И еще они к колдунье ездили в Псковскую область, она с Леньки порчу снимала. А у бабушки вообще-то рак, и она все время от него лечится – иногда в больнице, а иногда народными средствами…
– А ты? – с интересом спросила я.
– А я чешусь все время и в школе двойки, – с готовностью сообщил мальчишка (нейродермит между пальцами и на шее я разглядела еще прежде). – И вот что вы мне посоветуете?
– Вам что, в школе педагог-новатор задал оригинальное упражнение «Озадачь психолога»? – спросила я. – И ко мне в ближайшее время придет еще с десяток твоих одноклассников со своими историями?
– Не, не педагог, – мальчишка слегка растерялся. – Я сам. Один. Но вот вы знаете, как мне все исправить? И это вообще можно?
– Нет, не знаю, – честно призналась я. – И, наверное, нельзя. Как нельзя до конца вылечить ДЦП у твоего брата.
– И чего, я тогда пошел? – он привстал в кресле.
– Ага, только я тебе сначала расскажу историю про вызывателя дождя.
– Хорошо. Я люблю истории, – он поскреб шею ногтями и приготовился слушать.
– Случилась она давно, еще когда был СССР. Случилась в Китае. Мне ее рассказал один мой знакомый, китаист – это такой специалист по китайскому языку, культуре и вообще. Он с коллегами был в Китае в командировке, и они там изучали всякие культурности и обычаи. И вот однажды по большому секрету им китайский коллега говорит: «В одной провинции уже четыре месяца не было дождя. Гибнет урожай и всем грозит голод. И вот три деревни собрали последние деньги и решили привезти из другой провинции самого сильного и очень дорогого вызывателя дождя. Он будет вызывать дождь, и вам, наверно, это будет очень интересно. Вот я вам написал, куда и когда ехать. Только учтите: я вам ничего не говорил, потому что коммунистическая партия Китая всякое колдовство решительно не одобряет».
Наши, конечно, воодушевились (кому же не хочется посмотреть, как дождь вызывают!), срочно придумали какой-то этнографический повод и отправились по указанному адресу. Приехали в ту деревню, и в тот же день туда привезли вызывателя дождя – маленького сухонького старичка-китайца. Он запросил себе хижину на отшибе деревни и чашку риса в день. А с советскими учеными разговаривать наотрез отказался. Старшина деревни сказал: сейчас заклинателю нужно сосредоточиться, подождите, пока он выполнит свою работу, может, тогда станет поразговорчивее. Наши послушались совета, поселились в доме старшины и стали пока изучать свои культурности.
На третий день пошел дождь. Старичок взял свои (огромные по тем местам) деньги и собрался в обратный – весьма неблизкий – путь. Старшина опять передал им просьбу русских ученых. На этот раз заклинатель согласился уделить им немного времени.
– Расскажите, как вы вызвали дождь, – сразу, чтобы не терять времени даром, спросил старичка мой знакомый. – Это какой-то специальный обряд? Он передается по наследству?
– Вы с ума сошли?! – изумился старичок. – Я вызвал дождь? Я что – маг? Неужели вы могли подумать, что я, в таком вот своем ничтожестве, могу управлять могучими стихиями?! А еще ученые вроде бы люди, из СССР…
– Но что же вы тогда сделали? – обескураженно спросили китаисты. – Ведь дождь-то идет…
– Никто не может изменить никого, – назидательно подняв палец, сказал старичок. – Но каждый может управлять собой. Я, признаюсь без ложной скромности, достиг некоторых вершин в этом искусстве. И вот я приехал сюда в своем вполне правильном, гармоничном состоянии – и увидел, что здесь все неправильно. Нарушен порядок вещей, гибнет урожай, люди в отчаянии. Я не могу этого изменить. Единственное, что я могу, это изменить себя, то есть стать неправильным, присоединиться к тому, что здесь происходит. Именно это я и сделал.
– Ну а потом? Откуда дождь-то?
– Потом я, естественно, работал с собой, возвращая себя обратно в правильное состояние. Но поскольку я был уже един со всем прочим здесь, то и оно вместе со мной, постепенно, с некоторой инерцией, но вернулось на правильный путь. А правильным для этой земли сейчас является ее орошение. Вот поэтому и пошел дождь. А вовсе не потому, что я его, видите ли, «вызвал»…
– Но если все так просто, почему же вы взяли за это такие большие деньги? – спросил один из ученых. – Крестьянам пришлось буквально последнюю рубашку продать, чтобы заплатить вам…
– Потому что я уже старый и немощный человек, а когда я присоединяюсь к дисгармонии, мне становится так же плохо, как и всему вокруг. Добровольно перейти из правильного состояния в неправильное – это очень дорого стоит, – усмехнулся вызыватель дождя и знаком показал, что аудиенция окончена.
В тот же день он уехал обратно в свою деревню, а ученые отправились в Пекин.
Мальчишка долго молчал, переваривая мою (кстати, абсолютно реальную) историю. Я ему не мешала. Потом спросил:
– Но вы ведь ее не просто так мне рассказали? Вы думаете, что я…
– Именно. Причем тебе даже не надо, как старому китайцу, присоединяться и загонять себя в общую дисгармонию. Ты со своими двойками и почесушками уже там. Однако это все не твое лично – ты умен (выстроить такой аналитический рассказ о семье в твоем возрасте может далеко не каждый) и, судя по медицинской карточке, которую ты мне принес, в общем совершенно здоров.
– И как же мне самому вернуться в правильное состояние?
– Упорно и даже фанатично делать все то, что ты сам внутри себя считаешь правильным, но до сих пор не делал.
Мальчишка подумал еще.
– То есть учить до посинения уроки, – нерешительно начал он. – По утрам – гимнастику себе и Леньке, потом обливаться холодной водой и Леньку обливать, не есть чипсы, держать ту диету, которую дерматолог советовал, после школы с Ленькой в парке на велосипеде (он на велике ездит лучше, чем ходит), не считать всех в классе придурками и найти в них достоинства, как мама советует… И вы думаете, это поможет?
– Есть такая вещь, как эксперимент, – пожала плечами я. – Не слыхал никогда, что ли? Попробуй на практике – и все станет ясно. Не догонишь, так согреешься…
– А сколько надо пробовать?
– Ну если считать, что китаец тренировался лет пятьдесят – шестьдесят, и у него ушло три дня, а ты только начинаешь… Думаю, для начала надо взять три месяца, а потом оценить промежуточные результаты и либо уже забить на все это, либо продолжить. Стало быть, получается, что ты придешь ко мне с отчетом… сейчас апрель, май, там каникулы… ну сразу после лета, в начале сентября. Ага?
– Ага, – сказал он и ушел.
Я о нем помнила и искренне переживала за его успех. В таком возрасте что-то последовательно делать несколько месяцев подряд, без всякого контроля со стороны очень трудно. Сможет ли?
Он записался на второе сентября.
– Ленька! – сказал он мне с порога. – Мама думает, что это лошади помогли и лекарство из Германии. Но мы-то с ним знаем… Я ему про китайца рассказал. Он понял, он умный у нас.
– Отлично! – воскликнула я, подумав, что закалка, тренировки на велосипеде и внимание старшего брата просто обязаны были заметно улучшить состояние маленького децепэшки. – А еще?
– А еще бабушка – ей врач сказал, что хорошая ремиссия, и он ее на год как минимум отпускает.
– А ты?
– Я тот год всего с двумя тройками закончил, а папа недавно сказал, что он и не заметил, как я вырос, и, может, ему есть чему у меня поучиться. Например, на диете сидеть (руки были чистыми, это я заметила прямо с порога, но летом ведь у них всегда улучшение)… Так что же, получается, эта китайская штука и вправду работает?! – в голубых глазах искреннее удивление.
– Конечно, работает, – твердо сказала я. – Разве ты сам не доказал это?
О счастливом детстве
Изначально они пришли, чтобы похвастаться.
Другой сознательной цели у их визита как будто бы не было. Получить от специалиста восхищенное подтверждение: «Жаконя – молодец!», может быть, распространить с его помощью свой потрясающе удачный опыт куда-то дальше, но, скорее, просто вот это естественное желание сотворившего нечто: показать товар лицом понимающему человеку.
Детей они привели с собой как доказательство своих слов. Симпатичная девочка была вполне «в теме» и ерзала на стуле, поглаживая огромную папку с рисунками и нетерпеливо ожидая, когда настанет ее черед хвастаться. Мальчик – высокий, юношески красивый – скучливо смотрел в окно.
Говорил в основном отец, но мать регулярно и распространенно дополняла мужа.
– Когда настало время, мы разумно подошли к вопросу увлечений. Это ведь школьное образование обязательно, а дополнительное должно доставлять удовольствие и поднимать самооценку. Выбирали, пробовали, все время с ними советовались. В конце концов, стало понятно, что у Вани способности к спорту и языкам, а у Маши – к рисованию и пению. Сейчас у сына второй взрослый разряд по легкой атлетике, а у Маши было уже две персональных выставки – в школе и в городской технической библиотеке, где наша бабушка работает.
Я, сделав усилие, попросила у Маши папку с рисунками. Они оказались технически очень грамотными для ее возраста и, скажем так, идеологически выдержанными (в достатке имелись петербургские пейзажи, портреты матери и брата, что-то на тему войны и блокады и т. д.), но не будили никаких чувств.
– По выходным мы все вместе ходим в театры, в музеи на выставки, выезжаем на природу с дружественными семьями, летом – ролики и велосипеды, зимой – обязательно горные лыжи, Маша и Ваня прекрасно катаются. Телевизор и компьютер, конечно, имеются (мы же не на необитаемом острове живем), но в ограниченных масштабах, дети до сих пор любят слушать, как мама читает вслух наши любимые книги, и еще мы очень любим всей семьей, особенно когда бабушка приходит в гости, играть в классическое лото.
– Ты забыл сказать, что у обоих детей есть четко очерченные обязанности по дому, – напомнила мать. – Ваня отвечает за посудомоечную машину, ковры и прогулки с собакой (ее купили по его просьбе). Маша помогает мне с закупкой продуктов и следит за нашими многочисленными цветами (мы обе увлекаемся цветоводством и в наших ближайших планах – вместе ходить на соответствующие курсы). Большую уборку у нас делает приходящая женщина, готовлю в основном я, но все мелочи по уходу за собой – убрать кровать, простирнуть какую-то мелочевку, приготовить чай с бутербродами – на них с самых ранних лет. У Вани в комнате еще бывает беспорядок, а у Маши, несмотря на ее художество, всегда все практически безукоризненно. Ей самой так нравится: поработал – убрался…
Невольно поглядывая на часы и лениво раздумывая над тем, стоит ли задать вопрос: «А чего вы ко мне пришли-то?» или лучше все-таки воздержаться, я выслушала, как непросто выбрать хорошую школу для обоих детей, как способный к языкам Ваня дополнительно занимается французским и испанским по своему выбору, какие интересные мероприятия проходят в Машиной школе «с индивидуальным подходом» и какие красивые замки они всей семьей осмотрели минувшим летом, путешествуя по Хорватии на арендованной машине. Маша, которой явно не терпелось принять участие в разговоре, рассказала мне, какие бренды в одежде она предпочитает, как советуется с мамой в выборе и как они вместе ходят по магазинам. Потом отец подробно рассказал о семейных праздниках…
Сказать по чести, в этом месте я уже ждала, когда они уйдут. В коридоре у меня сидел записанный следующим подросток, который после смерти отца (от алкогольного цирроза) явно пошел «налево», и теперь его выгоняли из школы. Я помнила лукавого и смышленого мальчишку еще с тех времен, когда он десятилеткой воровал у матери деньги на компьютерный клуб, симпатизировала ему и всегда находила с ним контакт. Сейчас мать очень просила с ним поговорить, он (на удивление – все-таки пятнадцать лет!) пришел и смирно сидел, ожидая.
– Я очень рада знакомству с вашей замечательной семьей, – я решила быть максимально дипломатичной. – Правильно ли я поняла, что у вас нет ко мне никаких вопросов?
– Да, нет, – сказал отец.
– Нет, есть, – сказала мать.
– Я слушаю вас.
– Мне кажется, что мы с мужем сделали для них все, что могли, и даже чуть больше, и у нас все получилось. Но вот Ваня часто говорит, что ему скучно, и нам это, конечно, обидно – ведь редко кто из родителей уделяет детям столько времени, сколько мы. А недавно у нас с Машей был о чем-то разговор, и я в нем по случаю обмолвилась: «Вот когда ты станешь взрослой…» – а она мне вдруг совершенно серьезно и даже с каким-то испугом: «Мама, но я не хочу вырастать и становиться взрослой!»
– Так! – сказала я. – Сейчас вы идете домой и по пути записываете ко мне Машу и Ваню. Отдельно.
Никаких «скелетов в шкафу». В личных разговорах брат и сестра подтвердили мне все то, о чем рассказывали родители. Практически идеальная семья, мама с папой, несомненно, любят друг друга и своих детей. Юноша не смог ничего конкретизировать: да, ску-учно. Почему? Не знаю. Единственная зацепка: много приятелей, но нет близких друзей. Как будто его избегают, не доверяют ему. А делится ли он с ними своими проблемами? А какие у меня проблемы? У меня же все хорошо…
Младшая девочка оказалась более внятной: девчонки в школе такие вредные, противные, и Марья Петровна в художественной школе ко мне придирается, не хочу вырастать, потому что боюсь – меня никто нигде больше так любить не будет, как дома.
– Кое-что прояснилось, – сказала я родителям, снова, уже без детей, пришедшим ко мне на прием. – А расскажите-ка мне, как росли вы сами?
Отца и его старшего брата растила мать-одиночка, по профессии библиотекарша. Именно тогда он решил: мои дети не будут донашивать обноски друг друга! И, к удивлению матери, настаивал: купим Маше новые ролики, а еще исправные (стали малы) Ванины выбросим.
У матери в перестройку отец, потеряв работу, по-черному запил, ее мать боролась, работала и практически не обращала на прилежную и беспроблемную дочь никакого внимания. Та тоже решила: когда у меня будет дочь, мы будем очень близки, я позабочусь об этом.
У них все получилось.
– Понимаете, детство не должно быть слишком счастливым, – сказала я им. – Максимально счастливой должна быть старость, потому что она – конец жизни. А детство – это начало. Им же надо потом много лет куда-то идти, что-то исправлять, к чему-то стремиться. «Вот подождите, я вырасту – и уж тогда…» А у них так не получается, ведь Маша права: никто больше никогда не будет ее любить так безусловно, так прислушиваться к ее желаниям, так бескорыстно восхищаться ее мнимыми и реальными достижениями. И что же, ей потом всю жизнь сравнивать и вспоминать свое реальное детство как навсегда утраченный рай, о котором издавна грезит человечество? А Ваня? Ему же нечего предложить подростковому социуму – у него нет обычных проблем и обычных конфликтов, и он чувствует себя изолированным, упакованным в целлофан…
– Не понял! – перебил меня отец. – Что же, мне теперь следует начать пить водку и бить сына, чтобы Ване было чем поделиться с приятелями, а матери перестать разговаривать с дочерью, чтобы она оценила участие своих стервозных подружек?
– Ну зачем же так радикально? – улыбнулась я. – Для начала достаточно просто разрушить существующий симбиоз и слегка отстраниться. Чтобы они могли оглядеться и выстроить новые связи с миром, оценить их достоинства…
– Не поняла, – повторила мать слова мужа. – Как это, куда мы можем отстраниться от собственных детей?! Это же и есть наша жизнь!
– Да, – грустно согласилась я. – Это ваша жизнь и ваша цель. Вы к этому шли и выстроили все это для себя. Но стоит ведь и о них подумать, оставить им, так сказать, простор для дальнейших маневров…
Родители переглянулись.
– Вы говорите странные вещи. У нас прекрасные дети. Нашей семье все завидуют. Мы не собираемся делать то, что вы говорите. Если сыну скучно, значит, нужно подобрать ему еще какие-то занятия. Если Маша боится, значит, нужно работать с ее страхами. Мы найдем другого психолога… Всего доброго!
– И вам всего доброго и удачи, – сказала я и достала с полки справочник «Профтехучилища и колледжи Санкт-Петербурга» – нам с моим знакомым парнишкой предстояло выбрать ПТУ, где учат «чинить машины, чтобы потом зарабатывать как следует и чтоб я своим детям мог все купить».
Бомжонок Гарик
Много лет у меня сохранялись довольно тесные отношения с популяцией бомжей нашего квартала. И вот почему: у меня была собака, огромная дворняга по кличке Уши. Когда-то Уши был взят с улицы и на всю жизнь сохранил твердое убеждение: самая вкусная еда находится в мусорных баках. Поэтому при малейшей возможности Уши от меня сбегал и отправлялся в вояж по окрестным помойкам. Через некоторое время вслед за ним отправлялась и я, потряхивая поводком и истошно вопя: «Уши! Мерзавец! Где ты?!» Копающиеся в помойках бомжи узнавали меня издали и дружелюбно направляли мой путь: «Была, была здесь ваша собачка! Сожрала кость и вон туда побежала, за ту хрущевку, минут десять назад как…»
Однажды я возвращалась с работы домой и внезапно была остановлена персонажем весьма недвусмысленного вида и аромата:
– Я дико извиняюсь, но можно ли вас спросить…
Я удивилась. Наши бомжи никогда не просили денег. На еду и выпивку они зарабатывали честным трудом, тачками сдавая во вторсырье все, что удавалось найти на помойках и газонах.
– Вы ведь в поликлинике работаете… Детской, да?
«Вот это популярность!» – мысленно восхитилась я. Моя самооценка бодро перепрыгнула на следующий уровень. Я кивнула.
– Так вот, хотелось бы обратиться. Тут, понимаете, такое дело… Мальчонка к нам в подвал прибился. Зовут Гарик. Сколько лет – не знаем. Про семью не говорит ничего. Утруждается с нами, а после на равных водку пьет. Нехорошо ведь это? Может, вы бы с ним побеседовали, а?
– Безусловно, нехорошо! – согласилась я. – Но станет ли Гарик со мной говорить?
– Если мы ребром вопрос поставим – станет, – твердо ответил мой собеседник. – Я так понимаю, что ему, кроме нас, сейчас податься некуда.
– Хорошо, – сказала я. – Завтра у меня вечерний прием, приходите к семи. Второй этаж, восемнадцатый кабинет.
Бомж замялся:
– Вечером… понимаете… я не уверен…
К вечеру мальчишку будет уже некому привести, поняла я. Да еще в каком состоянии будет он сам…
– Ладно. Тогда в четверг к девяти утра.
– Да! Вот это хорошо! Спасибочки вам!
Люди, собравшиеся у дверей лаборатории, чтобы сдать кровь, откровенно расступались, когда они проходили мимо. Регистраторша высунулась в окошко, но увидев меня, спряталась обратно. Передав мне мальчика с рук на руки, мой знакомый с облегченным вздохом убежал на улицу, по пути нервно закуривая. В гардероб я Гарика не повела. Испачканную известкой и кирпичной крошкой куртку он аккуратно свернул и положил под скамейку в предбаннике. Я попросила его снять обувь (у меня в кабинете ковер) и тут же пожалела об этом.
В нашу первую встречу я ничего у него не спрашивала. Вообще ничего. Просто рассказывала о своей собаке, о работе в цирке и зоопарке, о биологических экспедициях, о виденных мною поселках бичей на побережье Белого и Охотского морей… Гарик слушал внимательно, иногда тихим голосом задавал уточняющие вопросы.
– Еще придешь? – спросила я, когда истек час, отведенный на прием.
– А вы меня не заложите? – спросил он.
– Кому?
Если честно, то это был именно тот вопрос, над которым я думала с самого начала. Кому бы «заложить» Гарика? Разгар перестройки. Все борются за демократию и личное обогащение. Свобода. Первоначальное накопление капитала. Передел сфер влияния. Про детей просто забыли. Социально неблагополучные ребята с минимальной мозговой дисфункцией в школьно-урочное время бегают по улицам стаями. В детских домах происходят вещи, о которых обычным людям лучше не знать, иначе спать не смогут.
Еще через встречу я спросила Гарика: пойдешь в приют? Американцы финансируют.
– Не пойду, – подумав с десять секунд, ответил Гарик. – Это пусть малявки, которые сами прокормиться не могут. Я уже большой.
– А сколько тебе лет?
– Тринадцать, скоро вообще-то будет четырнадцать. (Он выглядел на одиннадцать-двенадцать, но, скорее всего, виновато было элементарное недоедание.)
– Сколько законченных классов?
– Пять. Но вообще-то я учиться люблю. Мне математика нравится и природоведение.
– Семья есть?
– Вообще-то есть. Но я туда не пойду, не уговаривайте. Боюсь.
– Бьют? Насилуют?
– Наоборот. Я боюсь, что сам убью. Мать или кого-нибудь из ее хахалей. Если меня сильно разозлить, я себя не помню, хватаю, что под руку подвернется. Уже было вообще-то… Я после того и ушел.
– Ага. Вообще-то надо бы тебе в школу, раз любишь учиться…
– Да я понимаю. Но кто меня с улицы возьмет?
– Боже мой! Боже мой, какой ужас! – тетенька в районо осторожно приложила ладони к лаковой укладке. – Все рушится! О чем они думают, когда рушат?! Ведь их детям жить рядом с этими гариками!
– Может, они своих в Англию отправят? – предположила я.
– И в Англии достанет! – пророчески высказалась чиновница. – Что ж, давайте думать, куда вашего Гарика девать…
Вместе с коллегой, с которым я работала по программе «Врачи мира», сначала звоним в неработающий звонок, потом стучим, потом входим в дверь, которую открывает девочка лет шести – младшая сестра Гарика.
Описывать увиденное не буду. Не хочу. Кроме девочки, еще один ребенок, лет четырех. Женщина на кровати. Никаких мужчин.
– Гарик… Он жив?! – плачет.
– Жив, – говорю я. – Бомжи приютили. Если все будет продолжаться, детей отберем, пособий на них не будет. Хотите – ради Гарика помогу устроиться в поликлинику уборщицей. Решайте.
– Я сейчас… я все что угодно…
Вижу, что врет.
– При вашем образе жизни Гарик на пороге колонии, – говорю я. – А мог бы в школе учиться, уйти в нормальную жизнь, даже малых вытащить…
– Я сейчас… На фабрике работала, деньги перестали платить, потом уволили, с детьми…
– Решайте!
Мать умерла через два года – алкогольное отравление. Младшие попали в интернат. Гарик вернулся домой, похоронил мать, поступил в училище – тогда туда брали любого достигшего четырнадцати лет, независимо от законченных классов. Низкий поклон всем, кто это пробил, – они спасли немало судеб. Еще прежде я отправила Гарика на автостанцию, помогать на подхвате моему другу детства – автомеханику. На станции Гарика любили и жалели. Он готов был работать круглые сутки и часто ночевал там вместе со сторожем.
Сейчас Гариков на улице стало меньше. В Петербурге и вовсе почти не осталось. Трудно передать словами, как я этому рада.
Вампир как герой нашего времени
Симпатичная девочка-подросток села в кресло, пристроила на коленях холщовую сумку, подтянула полосатые гетры и спросила:
– Скажите, пожалуйста, а что вы думаете о вампирах?
Я, скажем прямо, несколько растерялась. Честный ответ – «Я о них вообще не думаю» – девочку явно не устроит…
– Ты имеешь в виду графа Дракулу и все такое? – наконец спросила я. – Кладбищенские истории? Ты гот?
Наряд девочки, на первый взгляд, не имел никакого отношения к этой молодежной субкультуре, но кто знает – вдруг она маскируется?
– Да нет, что вы! – девочка очаровательно улыбнулась, обнажив свежие белые клычки, и махнула узкой кистью. – Это все уже устарело. Я имею в виду настоящих вампиров. Вы в них верите?
– В каком смысле настоящих? – мне стало слегка не по себе.
– Ну таких… сексуальных, – моя посетительница мечтательно закатила глаза. – Вы что, вампирскую сагу Стефани Майер не читали? Не смотрели фильм «Затмение»? Не слушали рок-оперу «Между любовью и смертью»? – девочка оборвала себя, но в воздухе явно повис заключительный вопрос: «Как же вы вообще живете, не зная всего этого?!»
Ну что поделать, такая судьба… Я всегда, как выражаются подростки, слегка не догоняла. Тут же вспомнился эпизод из далекого детства: «Как, ты не знаешь, кто такие ABBA и Boney M?! Как же ты вообще…»
– Знаешь что? – примирительно сказала я девочке. – Давай сделаем так: сейчас поговорим о чем-нибудь другом, а через две недели встретимся еще раз. Я тебе обещаю, что к этому времени у меня уже будет какое-то личное мнение о сексуальности вампиров.
– Замечательно! Спасибо! – искренне обрадовалась девочка. – А то мы с девчонками уже сто раз все переговорили, а родители не хотят, только носы морщат, а Клавдия Ивановна по литературе сказала: почитали бы лучше классику, там про это тоже есть… Она совсем уже… А я же серьезно обо всем этом думаю… Мы к вам с мамой приходили, когда я во втором классе была, у меня страхи были. Вы помните? А потом я еще вашу книжку у мамы читала… ну не всю, конечно…
Мы немножко поговорили о девочкиных отношениях с мамой и с подружками и расстались до следующего раза.
Количество «вампирских» материалов в интернете произвело на меня серьезное впечатление. Налицо была просто какая-то вампиромания. Я растерялась, не зная, как подступиться к этому богатству. Мои собственные дети провели краткий ликбез, и я начала немного ориентироваться в потоке.
Вампирская сага Майер, если исключить чудовищность переводов, которые мне попадались, в общем, не вызвала у меня никаких вопросов. Обычная девушка становится предметом безумной и безусловной страсти сверхчеловека, который к тому же еще и по объективным причинам не может с ней переспать, от чего оба ужасно страдают. Мечта любой девочки-подростка, современный рыцарский роман… С рок-оперой оказалось сложнее. Граф Дракула и прочие древневампирские персонажи почему-то не столько пили кровь и занимались сексом, сколько ставили остросоциальные вопросы строго нашего времени. Странное впечатление произвел вампирский эпизод из фильма «Париж, я люблю тебя», где бывший хоббит Элайджа Вуд лишает себя жизни ради любви случайно встреченной на улицах Парижа вампирши. Про вампирский андеграунд Лукьяненко я вспомнила сама, так как когда-то прежде читала один из «Дозоров».
Не без интереса узнала, что в каком-то популярном списке самых сексуальных мужчин за 2010 год оказались… одни вампиры.
Странное дело, нежить, персонажи, для которых у наших предков не находилось ничего, кроме осинового кола (в народе) или серебряной пули (у аристократов), вдруг становятся чуть ли не героями нашего времени. Вампиры – носители сверхромантической любви и верности. Видели бы вы, как безнадежно проигрывают им обычные американские парни в романах Стефани Майер и ее многочисленных подражательниц (у нас, кстати, тоже уже есть своя многология о вампирской любви, ее по заказу крупного издательства написала молодая и очень милая – мы знакомы – писательница Елена Усачева). Вампиры волнуются о судьбах человечества и они же составляют когорту «оппозиции».
Что за морок?
Я попробовала идти от истоков. Кто такой вампир? Мертвое существо, которое питается кровью живых людей, убивая их или превращая в вампиров. Существо свирепое, ночное, кусачее, смертельно опасное. Что здесь может быть привлекательным?
Естественно, в голову сразу полезли какие-то псевдофрейдистские соображения об инфантильности современных молодых людей и оральной фазе развития (обычно от этой мысли я не могу отделаться, когда вижу подростков с разнообразными банками и бутылками и даже молодых мужиков с явно не угасшим вовремя сосательным рефлексом). С досадой отогнав эти простенькие спекуляции, я задумалась о том, что литературный или киношный герой всегда не столько отражает реальность, сколько восполняет то, чего в реальности не хватает.
Чего же не хватает современным подросткам обоего пола и почему для воплощения этого им понадобились именно вампиры?
Почему-то довольно долго ускользала от меня одна важная характеристика вампира: он вечен. В принципе, вампира можно убить, но сам по себе, регулярно и правильно питаясь, он не умрет, и к тому же будет вечно молод. А погоня за вечной молодостью в нашей цивилизации налицо. Не случайно главная героиня романа «Сумерки» волнуется, что ей уже исполнилось восемнадцать, а значит, она стареет, стареет… Да, для нас с вами это звучит дико. Но ведь известно, что подростки более внушаемы и откликаются на рекламную истерию («Не миритесь с морщинами! Наш новый крем разглаживает их на 68 процентов!») активнее взрослых людей.
Существенно и то, что у вампира не только вечная жизнь – у него еще и вечные чувства. Даже «плохие» вампиры неуклонно верны погибшему любовнику и, не отступая, мстят за него, пока не погибают сами. А уж про «хороших» вампиров и говорить нечего!
Наш мир одноразовых салфеток и многоразовых любовей, которые можно менять, как несвежие сорочки, быть может, и удобен, но очень уж неромантичен. Ведь в двенадцать, тринадцать, пятнадцать лет так хочется верить, что это навсегда! Любовь – одна на всю жизнь! И пусть многоразовыми будут салфетки – накрахмаленные, с монограммой, при свечах, в старинном замке… Ах, вампиры с их нестареющей любовью!
И еще одно. Вампир – всегда в таинственной и опасной оппозиции «официальному» миру. Он – член тайного общества, фактически подпольщик. А что может быть привлекательнее для молодого человека с активной жизненной позицией? Куда ему податься? Всех революционеров прошлого как будто бы развенчали, современные националистические движения откровенно дебильноваты. И вот уже рок-вампиры (новые подпольщики!) поют о нищете и глобальном изменении климата…
Итак, вечно молодой, диетически питающийся, строго моногамный кровосос, член тайной организации, находящейся в оппозиции правящему большинству… Вам нравится этот образ? Он вам ничего не напоминает?
Подойдя к своему кабинету, я удивленно поморгала: в коридоре на банкетке сидели в ряд три похожие друг на дружку девочки, среди которых я не сразу опознала свою знакомую. Она – видимо, угадав мое затруднение – по-школьному подняла руку:
– Это я, я у вас была! Ничего, что Катя и Света со мной пришли? Они тоже про вампиров хотят поговорить…
– Ничего, – вздохнула я. – Проходите…
Я честно поделилась с девчонками результатами своих размышлений. В свои тринадцать они были поражены и вдохновлены глубиной открывшихся для осмысления перспектив. Благодарили за разговор. Уходя, моя первая посетительница лукаво подмигнула мне и спросила:
– А ведь правда, вы же теперь знаете, вампиры – такие сладкие душки? А?
Я не нашлась, что сказать, и подмигнула в ответ.
Диагноз по фотографии
Не знаю, как сейчас, но во времена перестройки в газетах было не счесть объявлений типа «Трансцендентальный психолог. Диагностика кармы. Снятие венца безбрачия. Диагноз и лечение по фотографии». Читая их, я добродушно посмеивалась над людским легковерием и была совершенно уверена, что ко мне все это не имеет никакого отношения. Но вот однажды…
– Так всегда было. Им все равно. Пока я не скажу двадцать раз, никто ничего не сделает, – вытирая платочком глаза, быстро говорила полная женщина со следами былой миловидности и тщательно уложенными негустыми волосами. – Садись за уроки, вынеси ведро, купи картошки, почини кран, поменяй рубашку, поздравь свою маму с днем рождения… Я всегда работала, как и муж, но должна была все помнить, за всем следить. Мои подруги и его друзья завидовали, какой у нас хороший дом. Много лет их все устраивало. А теперь у меня просто не хватает сил, и меня выбросили, как старую тряпку. Сын шляется, где придется, прогуливает школу, дочка огрызается, муж завел молодую любовницу. Со мной они почти не разговаривают, хотя и едят исправно то, что я приношу из магазина и готовлю, надевают чистое, что я постираю и поглажу. Немудрено, что я то и дело срываюсь. Ору, да, самой потом стыдно. Но все это как будто в пустоту, даже кот, и тот отворачивается… Что же мне делать, я не могу так больше!
Женщина расплакалась. Я ее не останавливала.
Очевидно, что их семейный корабль дал существенный крен. Но в чем причина? Ее видение ситуации причин не проясняет. Надо говорить отдельно с мужем и сыном (дочке десять лет, вряд ли корень проблемы в ней). Вполне возможно, что объяснение происходящего – в одновременном наступлении кризиса среднего возраста (у мужчины) и подросткового кризиса (у мальчика)…
– …Да, да, да! – мужчина устало потер ладонями небритые щеки. – Все верно. У меня действительно есть любимая женщина. Да, много моложе жены. Я не ухожу к ней немедленно только из-за сына. Ведь он и так… забрать его с собой я не могу, но стоит мне окончательно уйти, и она своими вечными наездами и выяснениями отношений просто столкнет его в пропасть. Эта ее страсть все контролировать, всем управлять… Постоянные крики, требования, слезы, угрозы… Неудивительно, что мальчишка озлобился. И моя половинчатость, признаю, тут ничего не спасает. Страдаю я, страдает любящая меня и любимая мной женщина, а сыну это все равно ничем помочь не может.
– А не связана ли эмоциональная нестабильность жены с вашим романом? – поинтересовалась я.
– Нет, в том-то и дело! – мужчина взглянул мне прямо в глаза. – Все это началось до того, как я познакомился со Светой. Я вообще-то по природе отнюдь не ловелас, но дома, поверьте, стало просто нестерпимо. У жены всегда был командирский характер, это верно, но стервой она прежде точно не была.
– А как давно это началось?
– Да где-то года полтора назад…
– …Пусть она от меня отстанет, и все! – заявил взъерошенный подросток. – Никаких проблем. Да, у меня сигареты – и что? Вредно для здоровья? Слыхали. Так это мое здоровье, мне и решать. Ну выпили с друзьями по банке пива. Это что, преступление? Я от этого алкоголиком стал? А рыться в моих карманах, читать сообщения в моем мобильнике – это как?!
– Послушай, предположим, ты прав, – миролюбиво сказала я. – Пусть ты уже достаточно взрослый, чтобы распоряжаться своим здоровьем, временем, способами проведения досуга. Но вот скажи мне как взрослый ответственный человек: не кажется ли тебе, что мать сейчас переживает не лучший период жизни, нуждается в сочувствии и поддержке?
– Не кажется! – отрезал юный максималист. – Пусть она сначала орать перестанет, на нас с отцом наезжать и своими выяснениями позорить меня перед друзьями!
Я честно пыталась с ней работать. Самыми разными методами. Вспомнила то, чему меня учили в университете и что я обычно в своей работе не применяю. Разговоры с пустыми стульями. Установки. Анализ ее родительской семьи. Парадоксальная интенция по Франклу. Если бы у меня в кабинете была кушетка, я, наверно, использовала бы и ее. Я видела сотни людей, которые говорят, что хотят измениться, но на самом деле не собираются ничего менять. Есть те, кто приходит просто «поговорить». Эта женщина не относилась ни к первому, ни ко второму типу. Она слышала и понимала меня, была исполнена решимости исправить семейную ситуацию, пыталась изменить свое поведение и применяла в семье все то, что мы с ней разрабатывали на сеансах. Ничего не получалось. После непродолжительного перемирия она снова срывалась и устраивала очередной скандал. Сын научился просчитывать последействие ее визитов к психологу и, издеваясь, кричал отцу и сестре: «Во, глядите, сейчас она опять будет на нас психологические опыты ставить!»
Я готова была опустить руки, послать ее к другому психологу, малодушно надеялась, что она сама поймет бесперспективность нашего с ней общения. Но она приходила исправно, ни разу не пропуская времени визита, говорила, что после общения со мной ей становится чуточку полегче.
И вот однажды…
– Как все было хорошо – и как быстро все рассыпалось! – тоскливо сказала она, достала из сумочки фотографию и протянула ее мне. – Вот поглядите, это мы с мужем и детьми, отдыхаем на море, два года назад…
Я не люблю смотреть чужие фотографии. Тем не менее бросила вежливый взгляд. Мужчина, женщина, двое детей, синее небо, лазурная волна, кружевная пена прибоя… Взглянула еще раз. Сама почувствовала, как удивленно ползут наверх мои брови. На фотографии была изображена другая женщина. Сильная, грациозная, даже немного хищная, с блестящими глазами и влажной копной темно-каштановых волос, она практически ничем не напоминала рыхлую блондинку, которая уже несколько месяцев ходила ко мне.
Некоторое время я молчала, обдумывая увиденное. Держа фотографию перед глазами, я все больше укреплялась во мнении, что здесь мы имеем дело не с психологической, а с чисто соматической проблемой. Она не мой пациент.
Женщина, наблюдавшая за моим лицом, забеспокоилась.
– Да, потолстела я, – сокрушенно признала она. – Да и неудивительно. Как расстроюсь, так сразу за утешением к холодильнику бегу.
– Сколько вам лет? – спросила я.
– Сорок один.
Значит, на фотографии тридцать девять. Это не могут быть естественные возрастные изменения. Для климакса еще рано. Впрочем, всякое бывает.
– Как вы себя вообще чувствуете? Физически? Есть ли какие-то боли, функциональные нарушения?
– Я… я… – женщина растерялась, посреди семейных забот она явно не привыкла думать о своем здоровье. – Да ничего вроде… Бывает, конечно, поболит, но это как у всех, подруги тоже говорят… А что?
– Вот что: вам надо обследоваться, – решительно сказала я. – Быстро. Кровь, гормоны, все такое. Начните с хорошего эндокринолога.
Женщина побледнела:
– Я поняла: вы думаете, у меня это… эта болезнь. Там ведь сначала никаких болей нет.
Я даже зажмурилась от страха. И вовсе не потому, что действительно подозревала у нее онкологию. Просто я неплохо осведомлена о последствиях ятрогении – когда неосторожные слова врача могут вызвать у пациента ухудшение здоровья.
– Не говорите ерунды! – прикрикнула я. – При раке люди худеют, а не толстеют!
Она выдохнула и деловито достала свой блокнотик:
– А что эндокринологу сказать?..
Больше она ко мне не приходила. Я испытывала облегчение и некоторое чувство вины: сбагрила ведь человека, так ничем и не сумев ему помочь.
Но фотография на взморье впечаталась в мою память. И потому женщина, которая спустя два-три года вошла ко мне в кабинет с девочкой лет пяти, сразу показалась мне знакомой.
Она с порога напомнила о себе и пожаловалась на ночные страхи у девочки.
– Вы прекрасно выглядите! – честно сказала я.
– Это была сочетанная дисфункция щитовидки и поджелудочной, – улыбаясь, объяснила она. – Даже эндокринологи не сразу разобрались. Внешне я похорошела не так давно, но бушевать перестала сразу, как только начали лечение.
– Что ваша семья? – происхождение пятилетней девочки оставалось для меня непонятным.
– Муж ушел к своей женщине. У них родился ребенок, Шурочка. Сын поступил в техникум и сейчас живет с ними – ему оттуда ближе ездить. У нас с ним теперь очень хорошие отношения. Представьте: он жалуется мне, что отец на него наезжает! В прошлом году я снова вышла замуж и совершенно счастлива. Танечка – наша младшая дочь. Родная мама Танечки умерла, когда ей было два года. Теперь мы живем все вместе. При этом обе наши дочки регулярно общаются с обоими братьями. Новая жена моего бывшего мужа тому не препятствует. А моя старшая так к Танечке привязалась, что даже нас с отцом старается оттеснить… Но вот у Танечки страшные сны, муж говорит, что это еще у них дома было.
– Сейчас попытаемся разобраться, – улыбнулась я. – Танечка, ты любишь рисовать?
Неэтичный поступок
– У меня двое детей, тринадцати и четырнадцати лет, но дело не в этом. К вам на консультацию меня направил мой онколог…
Выглядела женщина соответственно заявлению. Простонародное «краше в гроб кладут» полностью описывало представившуюся мне картину. Возраст ее я определила приблизительно, по возрасту детей, с поправкой на болезненное состояние: года сорок два – сорок три.
– В следующем году мне исполнится пятьдесят, – сказала женщина. – Дети поздние, мы с мужем почти десять лет пытались зачать, обследовались, лечились…
Я немного приободрилась. Получалось, что, несмотря на стресс и болезнь, моя посетительница выглядит моложе своего возраста. Стало быть, есть еще порох в пороховницах.
Разумеется, как и всякий практикующий психолог, я слышала апокрифические истории о случаях излечения онкологии с помощью психотерапии. Не то чтобы я им не верила… мир полон чудес и загадок, и я об этом прекрасно знаю. Но – здесь и сейчас?
Интересно, зачем онколог направил ее в детскую поликлинику к семейному психологу? Ведь в онкологии, кажется, есть какая-то своя психологическая служба, знакомая с особенностями контингента. Наверно, у него была какая-то мысль…
– Расскажите мне о вашей семье.
Бурные рыдания. Я, естественно, пережидаю, ибо пока не владею информацией для аргументов.
– Чем вы занимаетесь? Работаете? Где? – может быть, на нейтральные вопросы она сумеет ответить?
– Понимаете, в некотором смысле я человек искусства, окончила театральный, актерское отделение…
Я еще приободрилась и одновременно задумалась: если она актриса, с одной стороны, может быть, все не так плохо, как мне показалось вначале, но с другой стороны, истерические неврозы хуже всего поддаются психологической коррекции. Ну и не придумала же она этого онколога, какая бы она там ни была актриса-разактриса… Но выхода у меня не было:
– Итак, ваша семья…
Как я и предполагала, с рыданиями было покончено в предыдущем акте.
– Больше года назад мой муж ушел к другой женщине. Абсолютно гормональная, хрестоматийная история. Она моложе меня ровно на четверть века. Я знаю, что это встречается сплошь и рядом, но отчего-то именно у меня никак не получается это пережить. Муж – режиссер, когда-то мы вместе учились, потом все делили на двоих – успехи, неудачи. Нам многие завидовали, в актерской среде, вы понимаете, больше скандалов, чем гармонии, а у нас был теплый, открытый дом. Потом не получалось с детьми, сначала лечилась я, после выяснилось, что и у него тоже проблемы. Мы годами поддерживали друг в друге надежду и пробовали все подряд – от лечения в Германии до бабки-ворожихи из Гатчины. Собирались даже взять детей из детского дома, обязательно двоих, думали, может быть, брата и сестру или двух братьев. Но тут нам наконец повезло, одна из десятков методик принесла успех. Господи, какое это было счастье! И – после всех ожиданий – два раза подряд! Мы укладывали сыновей спать и по часу стояли над их кроватками – любовались. А потом в кухне за чаем говорили почти до утра и не могли остановиться. Нам всегда было о чем поговорить друг с другом! Мы почти не ссорились. Никогда. И теперь тоже он утверждает, что ему не хватает меня как собеседника. С молодой женой ему, надо думать, говорить не о чем. Она, сами понимаете, для другого. По его словам, я все преувеличиваю, и нам ничто не мешает остаться друзьями. Ничто, кроме его предательства…
– Мальчики общаются с отцом?
– Старший – да, он более… практичен? Младший эмоциональный, он видит, что делается со мной, не может простить. Недавно оскорбил отца. Тот пытался ему что-то объяснить про свою любовь, а сын крикнул: «Это у вас с мамой была любовь! А то, что у тебя теперь, не больше любовь, чем порнушка в интернете!» Сейчас они не разговаривают.
– Та-ак. А вы?
– Половина моих знакомых женщин прошла через что-то подобное. Я думала, что справлюсь. Сама не знаю почему… у меня не получилось. Начала болеть. Сделали операцию – к счастью, на ранней стадии. Онколог сказал: либо вы как-нибудь разрешите свою проблему, либо… либо сами себя сожрете. Вы понимаете, что он имел в виду… Это страшно…
Я молча кивнула, соглашаясь.
И уже знала способ, который, вполне вероятно, мог бы ей помочь. Одна загвоздка: он не вписывался в этические каноны. Причем не в канон врачебной этики, а вообще… Имею ли я право?
Женщина на удивление хорошо молчала – не напряженно и в то же время внимательно. Актриса держала паузу.
Немного подумав, я решилась. В конце концов, я, здесь и сейчас, работаю в интересах детей. А они, два мальчика-подростка, только что пережившие уход отца, если не предпринять чего-нибудь радикального, могут в самом скором времени остаться без матери…
– Слушайте меня! Вы прожили с мужем больше двадцати прекрасных лет. Вы понимали друг друга с полуслова и делили пополам беды и радости. Он подарил вам двоих чудесных сыновей. У вашего совместного очага годами согревались ваши друзья. Но в мире ничто не вечно. И вот его больше нет… – женщина вздрогнула, но не произнесла ни звука. Огромные, обведенные темными кругами глаза ловили мой взгляд. Я смотрела прямо в них, куда-то в черную глубину ее болезни. – Он уехал, умер, провалился в параллельный мир, похищен инопланетянами – какая разница. Его нет! Но его любовь пребудет с вами и мальчиками вечно… Он не предавал вас. И ваших воспоминаний о нем и о вашем общем счастье никто не отнимет.
Немолодая актриса немного подумала, потом будто бы что-то сообразила, прищелкнула тонкими пальцами.
– А этот, который теперь?..
– Да, его место, кажется, занял кто-то другой, – я пожала плечами. – Ну не пропадать же добру. Этот кто-то отчасти похож… немного… Иногда его даже можно использовать в домашнем хозяйстве… Но вы же сами понимаете, насколько это бледная копия. Она просто не может вызвать у вас никаких чувств, ведь вы помните того, единственного…
– Кажется, я вас понимаю… – в глубоких глазах актрисы зажглись какие-то огоньки, подозрительно напоминающие чертиков.
Когда она снова пришла ко мне спустя несколько месяцев, я вздрогнула. На ней был строгий черный костюм, черные ботики на пуговках и шляпка с черной вуалью. В руках – букет желтых роз.
– Это вам! – сказала она и откинула вуаль.
Сказать по чести, я ее с трудом узнала. Никаких кругов под глазами, чудесный цвет лица.
– Э-э-э?.. – неопределенно проблеяла я, кое о чем догадавшись.
– Да-да, я еще не сняла траур, а что вы хотите? Все-таки столько лет… Вы знаете, когда я была маленькой, мы жили недалеко от Волковского кладбища. А я была романтической девочкой, ходила туда гулять и еще в детстве приметила заброшенную могилку… Там такой полустертый портрет красивого юноши, чем-то похожего на моего мужа. Сейчас я ее обиходила, поправила оградку, посадила цветы…
Как выражаются мои клиенты-подростки, меня конкретно заколбасило. Интересно, кроме посещения могилки, она еще что-нибудь делает?
– А-а-а… здоровье? – хотя все было видно и так.
– Ну да! – не скрывая торжества, сказала женщина. – Я потому и пришла. Именно вчера онколог отпустил меня и сказал, что раньше, чем через полгода-год, видеть меня не желает. Я вышла на работу – у меня театральная студия для подростков, очень современная, мы ставим Лукьяненко, знаете такого писателя? Рассказ «Трон», это фантастика, о том, как важны родители для ребенка… Оба моих сына тоже играют. Я снова живу! Память о муже и о нашей любви дает мне силу. Все мои друзья и подруги рады, что я снова с ними! А как я-то рада…
– У-у-у, – сказала я. – Здорово…
И добавила про себя: никогда больше!
Говорят, победителей не судят, но все-таки с моей стороны это был неэтичный поступок. Интересно, знает ли бедолага-режиссер о том, каким именно способом пережила развод его бывшая жена?
Шрамы в душе и шрамы на теле
– Оля, подними рукав и покажи доктору свои руки! – потребовала женщина. – Пусть доктор увидит это безобразие!
В ответ девочка лет тринадцати-четырнадцати злобновато наморщила курносый носик и втянула в рукава широкого свитера кисти.
Я занервничала. А если бы она все-таки показала, то что бы я увидела? Про расковырянный нейродермит не говорят таким тоном. Следы от уколов? Но я не умею работать с наркоманами и не хочу врать матери, что могу чем-то помочь! А кто умеет? Куда мне их послать? По следам газетных объявлений – «С гарантией избавляем от наркотической зависимости»? В Бехтеревку? В церковь? Я вспомнила все три достоверно известных мне случая стойкой многолетней ремиссии «черных» наркоманов и закручинилась: вряд ли мать обрадует мой рассказ о том, что предпринимали те семьи для ее достижения. Но девочка еще такая юная!
– Ну раз так, тогда вы сами с ней и разбирайтесь! Может быть, она вам наедине свое идиотство объяснит! А я пошла! – неожиданно заявила мать, поднялась и вышла из кабинета маршевым шагом.
Я несколько оторопела. В мою уже намеченную картину семейного несчастья такое поведение матери не вписывалось совершенно.
Оставшись одна, Оля покрутила тонкой шеей, с любопытством оглядела мой кабинет, а потом деловито засучила рукав, обнажив смуглую худенькую руку.
– Слава богу! – с облегчением выдохнула я.
Девочка взглянула на меня с несказанным удивлением. Я не стала объясняться, решив, что это ни к чему.
– Сама? – спросила я.
– Ага, ага! – радостно и оживленно закивала Оля. – Ножиком порезала.
Моих предшествующих переживаний она, разумеется, не поняла, но зато великолепно разглядела, что «доктор» на «идиотство» почему-то совершенно не сердится.
– Просто так или по поводу?
Девочка честно задумалась.
– Ну как вам сказать…
– То есть какой-то повод вроде бы и был, с мамой поссорилась или с подружкой, но ты сама сомневаешься…
– Точняк!
– У твоих подружек?..
– О, у Маринки еще хуже! У нее все руки изрезаны!
– А почему именно изрезаны? Вы не курите?
– Не, не курим… Ну так только, баловались в компании… А! – Оля чуть ли не хлопнула себя по лбу. – Это вы про то, чтобы об руки сигареты тушить! Это у нас у Тольки Агафонова! Когда Маринка его бросила и написала в профиле, что встречается с Витькой из восьмого класса, а он тогда…
– Стоп! – сказала я. – Как ты сама думаешь, что это все такое?
– Глупость! – авторитетно, маминым тоном сказала Оля, машинально почесывая вырезанный на предплечье уже заживающий крест.
– Ага. Глупость. Но вот ни до, ни после, а в определенном возрасте, с одиннадцати до восемнадцати (если сильно выдается за эти границы, то это обычно уже болезнь), едва ли не каждый второй… Ты у матери-то не спрашивала?
– Не, что вы, она так орет!.. А вот папа и тетя чего-то отмалчиваются, – вдруг сообразила Оля. – Даже на них не похоже…
– Вот-вот…
– Но неужели же каждый второй?! – изумилась Оля.
– Ну да. После подростковости у многих остаются шрамы не только в душе, но и на теле.
– А я думала, это только у нас…
– Да вы обо всем думаете, что это только у вас! – в сердцах воскликнула я.
– А зачем же тогда это нужно? Откуда взялось и в чем смысл?
Оля, по-видимому, была стихийным эволюционистом. Мне это понравилось.
– Давай вместе рассуждать, – сказала я. – Раньше была инициация. Знаешь, что это такое?
– Слово слышала, но не знаю.
Я вздохнула и объяснила.
– Теперь в нашем обществе инициации фактически нет. Человек не знает, когда ему становиться взрослым. Может быть, это такая заместительная попытка. Испытать себя, доказать: я могу переносить боль, стало быть, готов к испытаниям взрослой жизни. Мы, когда маленькие были, для тренировки силы воли палец в кипяток совали, ходили вечером на старое кладбище и еще с гаража прыгали. Тоже ведь инициация…
– А революционер Рахметов на гвоздях спал, – неожиданно сказала Оля.
– ?!
– Папа рассказывал… А почему инициации нет? Чтобы мы взрослыми не становились?
Ого! Воистину устами младенца…
– Не знаю, может быть и так. Людей слишком много, чем позже они становятся взрослыми и способными отвечать за свою семью и детей… Но может, дело еще и в том, что изменилась сама жизнь человека. Нет больше необходимости готовить его к будущей жизни такими изуверскими обрядами. А у вас – рудименты и атавизмы, как жабры у эмбриона и хвостатые младенцы…
Оля вопросительно вздернула бровки, и мне пришлось объяснять про рудименты и атавизмы.
Рудименты и атавизмы Оле очень понравились.
– Но раз уж мы заговорили про биологию, – сказала я. – Может быть и еще один вариант – такое, на пороге взрослости, специальное тестирование. Рабочая проверка своего тела, как доставшегося в длительное пользование агрегата. Знаешь, как машины на стенде тестируют – с повышенной нагрузкой и все такое…
– Точняк! – опять сказала Оля. – Это у нас тоже было. Кружились до потери пульса. Полотенцем душили…
– Бросьте бяку немедленно! – прикрикнула я. – Я сама знаю ужасный случай, когда мальчика после такого полотенца не смогли откачать.
– Да это давно было, в летнем лагере, два года назад, – успокоила меня Оля. – Теперь мы уже так не делаем. Что я, не понимаю, что ли!
– Понимает она… – проворчала я.
– Скажите, а почему мы все это в школе не проходим? – спросила Оля. – Это же про нас и очень важно!
– А я откуда знаю?! – теперь уже я злобно наморщила нос. – Я сто раз писала и предлагала. Все на словах согласны, а на практике как будто и дела никому нет.
За разговорами об эволюции время приема истекло. В дверь уже стучался следующий клиент. Мать Оли сидела в коридоре.
– Ну как? – встретила она дочь.
– Офигенно интересно! – весело воскликнула Оля. – Сейчас я Маринке позвоню, мы с ней встретимся, и я ей все расскажу…
Мать выглядела обескураженной:
– Так тебе мозги доктор вправил или нет? Надо нам еще приходить?
– Ой, а можно мы еще с Маринкой придем? – подпрыгнула Оля. – Я ведь так не сумею объяснить, как вы…
– Ага, – вздохнула я. – Еще Тольку и Витьку захватите, и кто там у вас еще…
Рядом с любовью
– У меня лично нет вообще никаких проблем! – жизнерадостно заявила полненькая, с россыпью подростковых прыщей, тринадцатилетняя Олеся.
Я порадовалась адекватности ее жизненной позиции и приготовилась следующим пунктом выслушать сентенцию о том, что множество проблем имеется у ее родителей или учителей.
– Хотя нет, все-таки есть проблема! – поправилась Олеся. – Потому что моя лучшая подруга Танька влюбилась в Тольку Крылова из восьмого «А».
– И что же – из-за Танькиной влюбленности ваши отношения ухудшились?
– Могут ухудшиться, если вы срочно не дадите мне совет, что делать.
– Но что конкретно произошло? Тебе тоже нравится Толя?
– Вот еще не хватало! – фыркнула Олеся. – На что он мне?! Просто Танька в своих страданиях-переживаниях чего-то от меня ждет, а я все пальцем в небо попадаю…
– Ага, теперь понятно. Опиши подробнее, как это у вас происходит.
– Ну она мне рассказывает. Ну я ее слушаю. Молчу. Она говорит: от лучшей подруги я не того ждала. Я говорю: а чего же? А она: мне важно твое честное мнение. Я тогда говорю честно: Крылов – дурак и страшила, а ты – умная и глаза у тебя красивые. Она говорит: Толик – совершенство, а на тебя я обиделась, потому что ты должна была меня поддержать в моих чувствах. Я говорю: я тебя поддерживаю, у вас все будет хорошо, вы друг друга стоите. А она: ты нарочно меня успокаиваешь, только чтобы отговориться и душевных сил не тратить. А я уже просто не знаю, чего мне еще сказать…
– Да, сложное у тебя положение, – согласилась я.
– Вы сами-то небось в такое никогда не попадали, – тяжело вздохнула Олеся. – Откуда вам знать…
– Да у меня еще круче было!.. – завелась я, лихорадочно вспоминая собственное детство и ища аналогии.
– Расскажите! – тут же попросила девочка. – Мне на примерах всегда легче понять.
И тут я вспомнила.
С Лешкой Кукушкиным я дружила с первого класса. Мы вместе лазали по крышам гаражей, играли в прятки, вышибалу и стрелки, собирали цветную проволоку на помойке радиотехнического училища и плели из нее ручки и колечки.
К пятому классу девочки и мальчики слегка разошлись в своих интересах. Я осталась в стане мальчиков, потому что девичьи нарождающиеся интриги были мне просто не по уму.
Однажды Лешка зазвал меня на крышу старого бомбоубежища.
– Катька, – сказал он. – Я доверю тебе свою тайну. Но ты никому…
– Зуб даю, гадом буду, век воли не видать, честное пионерское, – быстро сказала я и изобразила пионерский салют.
– Я люблю Свету Сурееву, – сказал Лешка, закуривая и глядя в небо.
С нашей одноклассницей Светой Суреевой – нежной, рыжеволосой, болезненной и субтильной девочкой с голубыми веками – я никогда не общалась. Лешкин выбор не поняла категорически, но уже знала – любовь зла…
– Ну и чего? – спросила я. – Я-то тут при чем?
– Я пробовал с ней говорить, она меня боится, – Лешка слыл хулиганом. – А ты лучше всех в классе сочинения пишешь. И вот! – Лешка раскрыл портфель, достал тетрадь по русскому языку и решительно вырвал из середины чистый лист. – Пиши сюда записку. Я потом своим почерком перепишу и ей отдам. Чтобы красиво было!
Друзья должны помогать друг другу. Я села на Лешкин портфель, пристроила листок на учебник по математике, открыла колпачок ручки и, подумав, написала: «Когда я заглянул в твои глаза, я потерял сон…»
Показала листок Лешке.
– Потрясно! – радостно сказал он. – То, что надо! Продолжай в том же духе.
На переменах Лешка совал Свете мои, аккуратно переписанные им, записки. Света записки брала, смотрела диковато и ничего не отвечала. Лешка страдал и бесился.
– Смирись! – советовала я ему на крыше бомбоубежища. – Ты ей точно совсем не нравишься, иначе она бы уже купилась. Такое, как мы с тобой ей, вообще только в книжках пишут.
Лешка понуро кивал, но не отступался.
Однажды Света, краснея и стесняясь, отозвала меня в сторону на перемене. Я сразу запаниковала: кто меня заложил?! Лешка меня убьет…
– Катя, ты понимаешь, Леша Кукушкин уже давно пишет мне замечательные письма, – чуть заикаясь от волнения, сказала Света. – Мне он, наверное, тоже нравится, но я стесняюсь…
– А-а! – облегченно засмеялась я. – Так ты хочешь, чтобы я ему от тебя записку после школы передала? Нет проблем, мы с ним почти каждый день гуляем. Давай…
– Катя, нет… – Света покраснела еще больше. – Он так красиво мне пишет, как я никогда не смогу… И вот я подумала, может быть, ты… ты же районную олимпиаду по литературе выиграла… Я тебе покажу Лешину записку, чтобы ты…
– Не надо! – громко воскликнула я (Света в испуге отшатнулась). – Не хочу читать чужие любовные записки! Это непорядочно!
– Какая ты благородная, Катя, – льстиво вздохнула Света. – Ты ведь мне поможешь, да?
Некоторое время я, дурея от идиотизма сложившейся ситуации, переписывалась сама с собой и наблюдала глупо-счастливую Лешкину физиономию. Потом не выдержала и настояла на очном объяснении. Его организовала опять-таки я. В нашем дворовом кодексе почему-то считалось, что девочка должна приходить в условленное место первой (что-то вроде подтверждения намерений для разговора). Свету на крышу бомбоубежища мне пришлось подсаживать, сама она залезть не могла и, пока лезла, испачкала мне пальто. Взволнованный Лешка выглядывал из-за водосточной трубы…
Оба благодарили меня, ничего не зная о моем двурушничестве. «Да пошли вы к черту!» – одинаково искренне ответила я обоим.
Сын Штирлица
Когда я пришла к началу своего приема, они все трое уже сидели в коридоре у кабинета. Подросток и мужчина были очень похожи между собой – высокие, с пепельными волнистыми волосами, с четкими, можно сказать, аристократическими лицами (причем лицо старшего отчего-то показалось мне знакомым). Женщина выглядела невзрачно, совершала много мелких движений и старалась заглянуть мне в глаза.
– Я сначала одна зайду, можно, да? Вы позволите мне? А вы тут посидите, да? Только не уходите никуда, ладно? Я быстренько с доктором…
Мальчик и мужчина одинаково кивнули.
Я пропустила ее в кабинет, уселась (женщина, устраиваясь, продолжала говорить что-то монотонно-извиняющееся), подумала: «Сейчас начнет жаловаться на своих мужчин. Сын хамит, муж не обращает внимания. Она им говорит, говорит… Отчасти я их даже понимаю», – и тут же оборвала свои мысли, уж слишком это непрофессионально – ведь я заранее, не услышав ни слова о проблеме, уже встала на одну из сторон. И что из того, что они красивые и молчаливые, а она – наоборот!
– …А главное, он ведь всегда, с самого детства, уделял ему много внимания! Не то что другие отцы. Мне все подруги наперебой завидовали, говорили: так просто не бывает, чтоб только тебе, замухрышке, такой мужик достался – красавец, водки не пьет, да еще и с сыном готов заниматься, играть, в походы, в музеи, в бассейн ходить…
Несколько удивившись откровенности ее подруг, я тем не менее почувствовала, что ничего не понимаю. Она как будто бы ни на кого не жаловалась.
– А что, собственно, у вас произошло? – спросила я.
– Сын бросился на мужа с ножом, – неожиданно кратко и четко ответила она, опустив взгляд.
– Господи, но почему?! – продолжая являть чудеса «профессионализма», ахнула я.
– Не знаю, ни один из них ничего не объясняет. Я просто вошла в кухню и стала свидетелем…
Все трое.
– Что случилось? Вы поссорились?
– Нет, – отвечает мужчина. – В том-то и дело. Все было как обычно.
Один мальчишка.
Отвечает односложно, и эти слоги приходится тащить клещами. Через некоторое время понимаю: был какой-то в меру дурацкий повод. Отец не одобрил что-то сугубо подростковое и запретил участие в какой-то тусовке. Ничего нового парень не услышал – позиция отца была известна ему заранее. Почему же – с ножом?!
– Какие у тебя вообще отношения с отцом? Сейчас? Два года назад? Пять лет?
– Нормальные.
– Мать говорит, что вы много времени проводили вместе. Ходили в походы, в бассейн…
– Да.
– Теперь, когда ты стал подростком, тебе это не нужно, а отец настаивает?
– Нет.
– Это уже не первая ваша открытая ссора?
– Первая.
Парень закрыт, серьезен, ни на какую иронию не ведется. Учится хорошо. Не слишком общителен со сверстниками, но есть друзья. Много читает, в том числе серьезную литературу. Неужели первая манифестация психиатрии?! Как жаль, если это окажется правдой…
Один отец.
– Я не понимаю. Я всегда старался уделять ему внимание. Не потакал капризам, это да, но всегда поддерживал все его увлечения, стремления. Покупал любые книги, водил в музеи, чтобы развивался. Занимался математикой, водил в походы, брал с собой в баню, куда мы ходим с друзьями. Поддержал, когда он хотел заниматься фехтованием, потом – мотоспорт, хотя жена была категорически против. Теперь я уже думаю, что это была ошибка; отстранился бы, как все, сбросил на жену – и ничего не было бы…
– Почему у вас один ребенок? – спросила я. – Если вы уделяли ему столько внимания, то…
– Не знаю, – мужчина откровенно растерялся. – Я как-то не думал… Может быть, потому, что я сам рос один? И жена тоже…
Одна мать.
– Все плохо, да, доктор? С сыном плохо? Это такой ужас… Я ночи не сплю. И муж тоже переживает: часами сидит на кухне, курит… Со мной оба не разговаривают почти. Хотя они и вообще…
– Я не знаю, – честно говорю я. – Вообще-то консультация психиатра вроде бы нужна. Но мне все время кажется, что где-то есть какая-то закавыка. О которой я еще не знаю и которая что-то в ситуации прояснит. Давайте попробуем еще раз…
Женщина говорит много и путано. Я цепляюсь за одну из фраз.
– Как дед умер, он изменился, – говорит она. – Это я о муже и его отце. Стал как-то еще суше. Это странно, в общем-то, потому что они не ладили никогда и взрослыми почти не общались. Это понятно, дед-то пил беспробудно, а мой – считайте, что в рот не берет…
– Скажите, покойный дед и ваш муж были похожи внешне?
– Если пьянку и возраст не учитывать, то одно лицо, – вздыхает женщина.
В моей голове нечто вполне оптимистично щелкает. Кажется, психиатр может подождать.
Один отец.
– Какие отношения были у вас с вашим отцом?
– Очень плохие. Он был алкоголиком.
– И?
– Регулярно напивался, во хмелю был буен. Дрался с матерью, учил меня жизни, но ни разу со мной не поиграл, ни разу никуда не сходил. Во всяком случае, я не помню. Прежде он был военным, потом его уволили, он воображал себя каким-то непонятым диссидентом, пострадавшим от режима, но я думаю, что уволили его за пьянку и хамство. Я его, можно сказать, ненавидел.
– Вы строили свои отношения с сыном от противного?
– Можно сказать и так. Но, как видите, не преуспел.
– Почему же? Ваш сын – воспитанный, умный мальчик, хорошо учится…
– Мой отец достиг того же самого своими методами, – горько усмехнулся мужчина. – Я тоже хорошо учился и подражал в манерах Штирлицу и «адъютанту его превосходительства»…
Так вот почему его лицо показалось мне знакомым! – сообразила я. Конечно, он же на Штирлица похож!
– Когда вы в первый раз дали отпор агрессии вашего отца? Помните?
– Конечно, помню! Это было в четырнадцать… – мужчина резко замолчал.
Я не пыталась нарушить это молчание.
Снова мальчишка. Теперь я уже знала, что спрашивать.
– Я ненавидел эти их походы. Двадцать километров с рюкзаком, потом сидеть в дыму и комарах и петь песни. В бане я терял сознание, они меня холодной водой отливали и говорили: «Терпи, казак, атаманом будешь». В бассейне два раза чуть не утонул, теперь могу купаться только там, где дно ногами достаю, хотя плаваю, в общем-то, хорошо. В музеях нужно было слушать экскурсовода, мне хотелось побегать, но отец стоял сзади, как статуя или другой какой экспонат. Мне плохо дается математика. Отец всегда со мной занимался. Часами. Никогда не повысит голос, может двадцать раз объяснить одно и то же. Но – никуда не деться, как паровоз по рельсам. «Еще десять уравнений, и ты у меня усвоишь эту тему». Он сам как будто не живет жизнь, а решает ее, как задачу по алгебре. И хочет, чтобы я – тоже. А я не хочу! И не буду.
– Ты помнишь деда по отцу? Какие у тебя с ним были отношения?
– Конечно, помню! Нормальные отношения. Он всегда пьяненький был, шутил со мной, смеялся, усами щекотал и на коленке качал. Даже когда я уже большой был, почти школьник…
Снова отец.
– Штирлиц шел по улице маленького западногерманского городка. Ничто не выдавало в нем советского разведчика, кроме волочащегося позади парашюта и старенькой буденовки, надетой слегка набекрень…
Мужчина криво и невесело улыбнулся.
– Не вышло из меня Штирлица, да? – спросил он. – Старался, старался – и довел я его, так? Как мой папаша меня? Как же это на вашем, психологическом языке называется?
– Черт его знает, – я пожала плечами.
– А что же делать теперь? Отселиться мне от них, что ли?
– Не говорите ерунды! – воскликнула я и вздохнула, предвидя огромное количество своих проблем. – Сейчас я буду учить вас говорить о чувствах. На нашем психологическом языке это называется «методика неоскорбительной коммуникации». Когда научитесь, сможете общаться с сыном. И ради всего святого: не делайте такое серьезное лицо. Помните: когда люди смеются, они не могут драться.
Скажу сразу: он оказался необучаемым. Обучилась жена. Заодно выяснилось, что все эти годы она играла в семье роль «разводящего», смягчала самые острые углы и не давала мужу и сыну столкнуться напрямую. Теперь с моей подачи завела дома психологический тренинг по «говорению о чувствах». Отец с сыном объединились, совместно крутя пальцем у виска: мать-то у нас того… Но потом незаметно для себя включились.
Парень пришел через год, записался самостоятельно.
– Дед был такой, отец такой, я, наверное, тоже. Что же мне, лучше детей вообще не иметь?
– Ага, – сказала я. – Вы все одинаковые. Радикалы. Хоть об дорогу бей. «Предупрежден – значит, вооружен» – слыхал такую поговорку?
– Слыхал. Стало быть, можно?
– Можно, – усмехаясь, разрешила я. – А как там у вас вообще-то?
– Ничего. Я отцу с матерью на Новый год билеты в театр подарил. Они пошли, вроде понравилось. Потом отец спрашивает: «Как ты догадался?»
– Ага. Вызывает Мюллер Штирлица и спрашивает: «Штирлиц, сколько будет дважды два – четыре?» Голос за кадром: «Конечно, Штирлиц знал, что дважды два – четыре, но он подумал: знает ли об этом Мюллер?»
Засмеялся открыто:
– О, этого у нас еще нет…
– ?!
– А мы теперь с вашей подачи их коллекционируем.
– Что?
– Да анекдоты про Штирлица. Мама уже вторую тетрадку начала…
Посещение Небесной лавки
Все психологи, а уж тем более психотерапевты, иногда шарлатанят. Сфера деятельности такая – на грани между наукой, искусством и шаманством. Те, что говорят: у нас, дескать, все строго по науке – по Фрейду, Юнгу или, там, Перлзу, десятки лет практики, – лицемерят. Цыганские методики влияния на психику куда древнее и отработаннее, на научность между тем не претендуют. Лицемерие простим, ибо намерения у психологов самые добрые – убедить себя и окружающих в собственной легитимности, а в результате людям помочь.
Я как все. За пятнадцать лет практики случалось мне лечить детский энурез большими таблетками витамина С, случалось выдавать за объективную реальность нечто, в природе категорически не существующее, и т. п.
То, что помогает вдруг и только данной конкретной семье и более не воспроизводится, считаю эпизодами удачного шарлатанства. То, что регулярно и с успехом воспроизводится, для простоты называю своими собственными методиками. Нигде в психологическом сообществе их, естественно, не распространяю – неловко как-то, да и не нужно, в общем-то, ибо в стоящей у меня на полке прекрасной «Энциклопедии психотерапии» и так описано более пяти тысяч (!) методик – куда же еще!
Небесную лавку я сама посещала не раз. Разновидность визуализации, не более того. Чистенько, безобидно, без погружения в ужасные глубины бессознательного и разоблачительных толкований. Работаю в основном с подростками, там, где семья предъявляет претензию: «Он (она) сам (сама) не знает, чего хочет, а мы не хотим за него (за нее) решать».
Введение в методику очень простое. Говорю: я не знаю, как на самом деле устроен этот мир, но он явно откликается не только на наши действия, но и на наши мысли. Ибо мысль – тоже действие, это еще наш русский ученый Сеченов больше ста лет назад научно доказал. Так вот, мир, разумеется, не посылает нам то, чего мы хотим (это было бы слишком просто и даже неинтересно), но он обязательно доставляет нам то, на что мы осмелимся.
Теперь идем в Небесную лавку. Никакого введения в транс подросткам обычно не надо, они и так дети визуальной культуры, проваливаются в клип по щелчку пальцев. Обычно видят что-то вроде светлого и полупустого супермаркета, где стоят корзины с товаром. Над каждой корзиной висит ценник. Я говорю: ты уже взрослая (взрослый), что бы там ни говорили родители, и иногда лучше их самих знаешь, что почем. Вот, например, большая и чистая любовь, длиною сравнимая с жизнью. Вроде бы мечта любой девушки пятнадцати лет – и все они должны там толпиться, выхватывая из корзины заветные упаковки. Но почему это там пусто? Взгляни на цену. Ого! А разве ты до этого не знала, чем за такую любовь платят? Конечно, знала. В книгах читала, по телевизору смотрела. Не только длиною, но и ценою такая любовь сравнима с жизнью. Если осмелишься потратиться – бери, и у тебя будет такая любовь, о которой поют песни и рассказывают сказки…
Хочешь сначала приглядеться? Посмотреть, что вообще есть и что берут другие? Конечно, вполне разумная позиция (а родители еще говорят, что ты ни о чем серьезном не задумываешься!). Вилла на Канарах? Путешествия? Чемодан с долларами? Творческая профессия? Окончить модный институт, стать «белым воротничком» и провести свою жизнь в офисе? Никаких проблем, все это в лавке есть. Смотри на цену и решайся. Выбирай. Сколько и чего будет стоить тебе, из твоей нынешней позиции, приобрести виллу на Канарах? Чем придется пожертвовать, что совершить? Догадываешься и так, не глядя на ценник? А вот творческая профессия свободного художника по цене для тебя вроде бы куда доступнее. Ты же любишь рисовать, и все говорят, что не без способностей… Риски понятны? Решишься? Берешь?
Трудно решиться? Я тебя понимаю и сочувствую тебе. Но ведь лучше выбрать и устроить свою жизнь самому – и самому же заплатить по уже известным счетам. А не то без сформированного заказа достанется что придется, просто так, по генератору случайных чисел или вообще не разобранное с распродаж. Видела (видел) людей, которые живут как будто жизнью из коллекции позапрошлого года (позапрошлого века)? Вот и я тоже – сколько раз… Твои родители? Да ладно тебе, ты к ним пристрастна (пристрастен)…
Кто будет выбирать, если ты откажешься? Бог? Не знаю, не знаю, не буду врать. Мне никогда не доводилось встречаться не только с хозяином Небесной лавки, но даже с продавцами. Здесь никто не советует, никто не уговаривает. Но вроде бы все устроено именно так, что ты можешь сознательно выбрать…
Хочешь посмотреть, что обычно берут другие? Нет проблем. Когда я была ребенком, еще при СССР, у нас в специальных магазинах продавались такие «продуктовые наборы» – вместе с нужным тебе и дефицитным по тому времени продуктом ты вынужденно приобретал и еще пару съедобных, но тебе не нужных. Здесь такие наборы и сейчас есть – для экономкласса. Вот смотри, какие симпатичные, красиво упакованные наборчики. Видишь, их с утра уже почти все разобрали, осталось несколько штук на дне корзины. И по цене более чем доступно. Что это такое? Так ты название на упаковке прочитай. «Все как у всех». Это понятно?
Однажды ко мне на прием пришел папа-полковник с симпатичной дочкой-десятиклассницей. Девочка всю жизнь провела в гарнизонах, меняла школы, теряла друзей и теперь не могла определиться с выбором профессии и вообще жизненной дороги. Папа был на удивление тихий для военного и в нашу оживленную беседу с дочкой не встревал. Я как-то даже позабыла о его присутствии. Дошло дело и до Небесной лавки. Девочка с широко раскрытыми глазами ходила среди корзин с товаром, присматривалась… Тут из угла неожиданно выдвинулся папа и, явно волнуясь, заговорил:
– Доктор, разрешите обратиться!
– Я не доктор… Да ладно, обращайтесь!
– Скажите, доктор, ограничения по возрасту имеются?
– Простите, не поняла…
– Я имею в виду, могу ли я еще надеяться на посещение этого вашего магазина? Или меня туда уже не пустят?
– Это не мой магазин! – рассмеялась я. – Но ограничений по возрасту нет. Можете идти, выбирать и приобретать тот товар, на который у вас хватит средств.
– Спасибо! Спасибо! – неизвестно за что истово поблагодарил мужчина. – Мне очень этого не хватало. Я чувствовал, что как-то что-то… но я не знал, как можно…
Я мысленно оценила возраст мужика как близкий к «кризису сорокалетия» и, работая в интересах детей (у девочки имелся десятилетний брат), сочла возможным предупредить:
– Только не кидайтесь сразу к той корзине, у которой мужики вашего возраста толпятся, оглядитесь сперва… Там ведь и симпатичные оригинальные вещи имеются…
– Разумеется, разумеется, доктор, – пробормотал полковник, задвинулся обратно в угол и закатил глаза – видимо, не утерпел и сразу «пошел в разведку».
А я продолжила работу с девочкой.
Телепат
Мальчик был для своих пятнадцати лет невысокий, при этом горбился и упорно, не поднимая глаз, смотрел в пол. Однако пришел один и вроде бы по собственной инициативе, родителей не наблюдалось даже в коридоре.
– Я по поводу профориентации, – сразу расставил точки над «ё» мой посетитель. – Десятый класс у меня, а чего дальше делать – не знаю. У вас какие-нибудь тесты есть?
– Есть, – ответила я. – Если захочешь, я тебе дам на них ответить. Но знаешь, как-то я этим тестам не очень доверяю. Может быть, мы лучше сначала просто так поговорим?
– Да, конечно, давайте, – оживился мальчик и впервые взглянул прямо на меня. Глаза на его круглом лице казались значительно старше всего остального – у современных подростков, которые среди развлечений, придуманных для них взрослыми, сохранили способность думать, это часто встречается.
– У тебя есть какие-нибудь увлечения?
– Да, в общем-то, сейчас нет. Раньше в судомодельный кружок ходил, корабли делал. Теперь надоело.
– А предметы в школе, которые тебе нравятся?
– Тоже нет. Все как-то одинаково.
– А как ты учишься? – без всякой надежды спросила я.
– Я почти отличник, – неожиданно ответил мальчик. – У меня по физкультуре четверка и по литературе. Остальные – пятерки.
– Ого! – я была приятно удивлена. – Это очень расширяет спектр наших возможностей. Если ты без всякого интереса к учебе достигаешь таких результатов…
– Да тут никаких моих заслуг нет, – мальчик вздохнул и снова опустил взгляд. – И успехов тоже…
– Как это так? – удивилась я.
– Да я, понимаете, просто мысли читаю. С детства, – буднично сказал мой посетитель. – Поэтому все. Выхожу к доске и сразу у учительницы правильный ответ в голове читаю. И на контрольных тоже – смотрю на наших двух отличниц и делаю как они. С сочинениями только проблема…
– Ну ты даешь! – я приняла его игру. – А домашние задания как же? Задачи по алгебре, физике, химии? Или ты заодно читаешь мысли авторов учебников?
– Нет, что вы! – мне показалось, что в голосе мальчика прозвучал испуг. – Я только у тех, кого глазами вижу. Но ведь для дома ГДЗ есть, вы разве не знаете?
– Знаю, – кивнула я. – Но какие же тогда у тебя проблемы с профориентацией? Тебе, естественно, надо идти на юридический. Будешь великим сыщиком-следователем, будешь раскрывать самые сложные дела: тебе же достаточно только взглянуть на подозреваемого или свидетелей, и ты все о преступлении знаешь. А сколько преступлений сможешь предотвратить!
– Да, – мальчик серьезно кивнул. – Я об этом уже думал. Вроде бы я должен, раз уж так сложилось. Но мне, понимаете, не хочется. Не люблю я ментовки, преступников и все такое прочее…
Играл он, надо признать, прекрасно.
– А ты не думал о театральном институте? – спросила я. – Или еще что-нибудь такое, артистическое, связанное с творчеством, фантазией?
– Нет, что вы! Я в театр даже и ходить-то не могу! – рассмеялся юноша.
– Почему?.. – и тут же догадалась. – А! Ты слышишь мысли, и они не совпадают с ролью?
– Вы знаете, у главных – совпадают, – оживленно начал рассказывать он. – Это даже странно – они в тот момент действительно так и думают, как по роли положено: эту люблю, этого ненавижу, убил бы нафиг, хотя вообще-то это его хороший приятель и они потом вместе пиво пить в кабак пойдут… Но там же еще эти есть, на заднем плане, как их…
– Массовка, кордебалет? – подсказала я.
– Да-да, и вот они-то все и портят! Как начнут про деньги думать, или про гвоздь в туфле, или про свекровь, или про то, что бантик отвалился…
– Слушай, ну я даже не знаю, что тебе с такими твоими уникальными способностями и посоветовать, – посетовала я. – Боюсь, что и тесты не помогут, там же такое не учтено…
– Да чего во мне уникального-то? – небрежно возразил юноша. – Это многие умеют, только глушат потом, потому что все же знают: не бывает такого. Да и неудобно. Я сам по улицам и в школе хожу – глаза в пол, иначе рехнуться можно. Вы же психолог, знаете небось: чего не должно быть, того, считается, как бы и нету. Взрослые детей всегда убедят… Вот у нас в школе одна девочка из третьего класса летать умеет…
– Что-о-о?! – я наконец забеспокоилась. Как-то все это уже не походило ни на розыгрыш, ни на игру.
– Не очень так высоко, конечно, но если побежит или прыгать начнет… Ее к прошлому году уже почти задавили, а я увидел случайно, прочел у нее в башке, мне жалко стало, я и говорю: я тебе верю, ты и вправду летаешь. Давай поедем на поля, там ты мне покажешь и полетаешь вволю. Она, конечно, сразу согласилась. Мы из школы за старые теплицы на автобусе поехали, где Пулковские высоты, знаете? Она так радовалась, бегала, летала, и я за нее радовался. Потом позвонили бабушке, чтоб она не волновалась – и домой. Отец ее уже на автобусной остановке ждал – и сразу мне в морду. Зуб выбил…
– За что?!
– Она во втором классе, я в девятом. Что они подумали? Что она меня на пустырях летать учила? – он усмехнулся. – А она-то, кнопка, подпрыгнула и сверху на папашу и налетела, в волосы ему вцепилась, не дала меня дальше убивать. Потом долго с ними по ментовкам таскались, пытались разобраться. С тех пор я ментов и… А ее они теперь в легкую атлетику отдали, будет с шестом прыгать, еще увидите – в олимпийские чемпионки выйдет… Мне вообще-то с маленькими нравится. У меня сестра, четыре года скоро будет, у нее такие мысли смешные, четкие, округлые, как будто в тетрадке по линеечке написаны. А у взрослых часто бывает просто шум такой, как у нашего кота. Особенно у тех, которые из офисов выходят…
Мне ужасно хотелось спросить его: «Ну и о чем я сейчас думаю?» – но после рассказа о летающей девочке это казалось каким-то уж совсем неуместным. Надо было что-то делать. Вызвать мать? Отправить к психиатру?
– К психиатру я не пойду, – спокойно сказал мальчик. – А мама скажет, что у меня всегда были фантазии и посоветует вам не заморачиваться.
Я вздрогнула, но ничего не ответила на его реплику.
– Если тебе нравится возиться с детьми…
– Что ж мне, на воспитателя детского садика учиться? Там же одни девчонки, и вообще…
– Можно на педагога начального образования, – сказала я. – Кто только что говорил про общепринятое, которое все давит? Если лично тебе это нравится и у тебя получается, то какое тебе дело, кто там еще и кто что скажет. Потом ты сможешь работать не только в школе, но и в дополнительном образовании, организуешь кружок, будешь поддерживать и выращивать необычные детские таланты, чтобы их среда не задавила…
– С ума сойти! – вытаращив глаза, сказал мальчик. – Вы мне сейчас почти верите!.. А кружок… что ж, в этом что-то есть. Да и учителем, если у маленьких, я, в общем-то, не прочь. Меня Ольга Игоревна раньше часто на площадке с продленкой оставляла, когда я с сестрой гулял, теперь ей, правда, менты запретили… Я подумаю об этом, спасибо.
Он вежливо попрощался и вышел в коридор. Я, как привязанная на веревочке, шла за ним. Следующая по очереди малышка заплакала, едва увидев открывшуюся дверь. Мой клиент опустился на одно колено, заглянул ей в глаза и сказал:
– Не бойся. Там только игрушки и нет шприцев и белых халатов, – потом обернулся к молодой маме: – Да дайте вы ей этот сок из сумки, никакого вреда не будет, он же с трубочкой, не прольется, а ей спокойнее… Она после больницы не отошла еще, боится врачей, – объяснил он мне.
Девочка взяла сок, заглянула в кабинет, увидела игрушки и потопала к ним. Мама ошеломленно взглянула на юношу, потом на меня, вошла вслед за дочерью в кабинет и сказала:
– Мы недавно в больнице с ожогом лежали, так вот у нее теперь истерики…
Больше я его никогда не видела.
Но что это было? Искусный и талантливый розыгрыш? Или еще одно доказательство того, что окружающий нас мир куда сложнее и многослойнее, чем нам кажется?
Лунная девочка
– Она шьет платья для куклы младшей сестры! – обвиняющим тоном сказала женщина. Раздражение портило ее красиво вылепленное лицо. – А потом часами играет с ней в домики и в гости.
– Ну и что в этом плохого? – удивилась я. – Вам бы радоваться, что старшая младшую занимает…
– Вы что, издеваетесь?! – буквально вскипела мать. – Ей скоро исполнится шестнадцать лет! Нужно думать о выборе института, о подготовительных курсах, о своем месте в социуме, о мальчиках, наконец…
– А вы уверены, что Тамара обо всем этом не думает? – спросила я.
Тамара присутствовала здесь же, смотрела на меня и на мать со спокойной, милой улыбкой. На щеках у нее были чудесные ямочки.
– Уверена! – отрезала мать. – Я вообще не понимаю, о чем она думает. Книги читает редко и какие-то странные, телевизор вообще не смотрит, в компьютере только рассматривает чужие фотографии. Зато может часами сидеть на подоконнике и смотреть на луну. Может, она лунатик? Это лечится?
– Лунатизм – это вовсе не смотреть на луну, – улыбнулась я.
– Ну тогда я не знаю… Главное, она ведь неплохо учится, четверки и пятерки, значит, умственной отсталости нет и могла бы, если бы захотела… А у нее никакого самолюбия! Она ходит без лифчика и сама шьет себе бесформенные сарафаны, говорит, так ей свободно. Возится с подружками младшей сестры. Или того пуще: напротив нашего дома – три обшарпанные хрущевки. Там на скамейках у парадных бабки сидят, как в деревне. Так вот она по дороге из школы подсядет к ним и часа три о чем-то разговаривает. Это нормально или как? И к тому же она толстая! – почти с отчаянием выкрикнула мать. – Я говорю ей: перестань жрать булки и пирожные, займись своей фигурой, походи в зал…
Если честно, то вот на этом месте мать меня откровенно достала. Тамара действительно была пухленькой, но, на мой взгляд, чувствовала себя в своем теле совершенно комфортно, и полнота ее совершенно не портила. К тому же я прожила на свете уже достаточно, чтобы знать: «вешалки» нравятся далеко не всем. Но я должна была уточнить еще пару вещей.
– А какую позицию во всем этом занимает отец Тамары?
– Никакой, – отрезала мать. – И никакого отца. С отцом младшей сестры отношения хорошие, но он в воспитание категорически не вмешивается.
Так. Это понятно.
– Тамара, а ты сама кем хочешь в дальнейшем стать?
– Не знаю, – пожала плечами девочка. – Может быть, швеей-мотористкой…
– ?!
– Мама говорит, что я ею стану. Я совсем не против, у меня хорошо на машинке шить получается… Или вот еще бывает такая работа, бабушкам продукты покупать и разносить. Кажется, это называется социальный работник…
– Вот видите! – вскричала мать. – Причем это ведь не только сейчас, это уже давно, точнее, всегда было. Знаете, что она сказала, когда родилась младшая сестра? Посмотрела на нее с таким странным выражением, как будто узнала ее, что ли, и говорит: «Ой, какой чудесный к нам оттуда пришел… А как его здесь звать будут?» Я тогда даже испугалась, честное слово, и ночь заснуть не могла. Иногда я думаю, может, нам следует к психиатру обратиться…
– Давайте вы пока посидите в коридоре, а я поговорю с Тамарой.
– Вы психолог? Я слышала, что психологи умеют объяснять сны. Вы можете мой объяснить? Я его помню всегда, наверное, лет с полутора, потому что потом тот диван уже выбросили, мне мама сказала.
– Рассказывай.
– Я просыпаюсь ночью. В комнате еще мама и папа, но они спят. Я их зову, но они не просыпаются. Тогда я встаю и иду в другую комнату, там бабушка, она тогда была еще жива. Я совсем маленькая, а все вокруг такое большое… Мне страшно, но все равно надо идти. И вот я стою на пороге, там диван, бабушки нет почему-то, сквозняк, а за диваном у стены кто-то… что-то… в общем, оно меня как бы зовет… Надо переступить порог. Но можно и убежать туда, где спят мама и папа, там тепло, душно, безопасно. Я и хочу, и боюсь… А потом все-таки шагаю… И еще мне всю жизнь снятся разные лифты, которые не падают, а, наоборот, идут вверх и не могут остановиться, даже когда дом кончается. Это так странно…
– Тамара, это сон-инициация. Ты понимаешь?
– Да. Я по этнографии читала.
– Расскажи мне еще о себе.
– Я помню, как первый раз узнала себя в зеркале. Я знаю: большинство животных себя в зеркале не узнают. И вот я, наверное, тоже сначала была животным. И еще кем-то. А потом вдруг они объединились в одно, и я стою на коленках перед зеркалом в комнате и понимаю: да это же там я! Вот, значит, какое у меня теперь лицо, вот как я выгляжу! Так интересно…
– Отстаньте от нее! – я сама слышала в своем голосе почти умоляющие нотки. – С ней все в порядке, ей хорошо и интересно жить. Если на нее не давить, она сумеет адаптироваться в соответствии со своими особенностями. Ее особенности… Считайте, что вам повезло – или, наоборот, не повезло, но Тамара из тех, кого в нашей культуре называют визионерами. Она видит и чувствует мир иначе, чем мы с вами, и это чувствование иногда открывает новые горизонты для идущих следом… Но помните, такие люди всегда очень чувствительны и хрупки, неосторожное воздействие может разрушить…
– Я пришла к врачу в государственное учреждение! – отчеканила мать Тамары. – За лечением и коррекцией поведения дочери. А вы несете какую-то чепуху, словно бабка из желтой газеты. Вы потакаете ее недостаткам, и неудивительно, что Тамаре понравилось беседовать с вами. Но больше мы к вам не придем. Я найду настоящего врача, а не шарлатана…
Они пришли спустя четыре года. Тамара похудела, волосы коротко подстрижены, одета в джинсы и футболку. Осталась сидеть в коридоре.
– Мы тогда лечились у психоневролога. Он нам помог. Она перестала нести чушь и часами смотреть на луну. Окончила школу, поступила в институт на юридический. А теперь… – на глазах у женщины выступили слезы. – Она вообще ничего не хочет. Почти не выходит из дому, почти не ест… Психиатр сказал: надо класть в больницу и назначать сильные препараты. Но вы когда-то… Я ее с трудом уговорила…
– Тамара, Тамара, Тамара! – глаза тусклые и пустые. – Поговори со мной. Я помню твой сон про сущность за диваном. Ты же тогда шагнула туда! Тамара!
– Я вернулась обратно в комнату. Но здесь мне нечего делать. Я больше не вижу снов.
– Ты еще придешь ко мне? Пожалуйста, – я опять почти умоляла.
– Нет. Спасибо вам, но я не приду. Не надо тратить на меня время. У меня все нормально…
Больше я никогда ее не видела. И этот мой рассказ-воспоминание о лунной девочке… Вдруг она прочтет его и тоже вспомнит?
Мои Ромео и Джульетта
Девочка вошла в кабинет, села в кресло и тихо заплакала. Слезы катились как мелкий горох по неподвижному лицу. Так плачут старые женщины. Я как-то сразу поняла, что это была не злость, не обида и не разочарование. Это было отчаяние. Я испугалась.
– Оля, что с тобой случилось?!
– Все, все против нас, – сказала девочка. – И вы тоже будете против. Это вроде бы правильно, я понимаю. Но я так не могу, и этого не изменить.
– Давай-ка ты не будешь решать за меня, – грубовато предложила я. – Объясни, в чем дело, и я сама определюсь, как мне голосовать – за или против.
– Мы любим друг друга, – твердо сказала Оля.
– Ну это понятно, – кивнула я. – А сколько тебе лет?
Девочка была невысокой, но, как я успела заметить, вполне оформившейся.
«Ну вот видите, и вы как все…» – изобразила она печальной гримаской и ответила:
– Четырнадцать.
– Ага. А ему?
– Пятнадцать.
– Отличный возраст для первого серьезного чувства, – прокомментировала я.
– Мы хотим быть вместе. Всегда, – уточнила она. – Мы уже не можем иначе.
– Та-ак, – снова насторожилась я. – Что это значит: уже не можем? Скучаете друг без друга? Или ты беременна?
– Нет, не беременна, – мне показалось, что в ее голосе прозвучало сожаление. – Я с Жолнасом даже никогда вживую не встречалась. Мы в интернете познакомились.
– А-а-а, – я вздохнула с облегчением. – Теперь понятно. А как ты сказала, его зовут?
– Жолнас. Он в Каратау живет, в Казахстане.
– Жолнас понимает и пишет по-русски?
– Да. У него папа казах, а мама с Украины. Они в семье по-русски говорят. Но мы не только переписываемся, мы еще по скайпу разговариваем. С видео. Каждый день. Я всех его братьев-сестер знаю и друзей. А он все мои любимые книжки перечитал и фильмы пересмотрел. А я уже немножко по-казахски понимаю…
– Замечательно! – искренне сказала я. – А много у него братьев и сестер?
– Пятеро – три брата и две сестры. И друзей много, он вообще общительный. Я тоже общительная и тоже хочу много детей. Мы с Жолнасом уже решили – пять или шесть, как выйдет.
– Гм, – сказала я. – Ну, может быть, потом… Но не сейчас же!
– Да, конечно, – грустно кивнула она. – Сейчас вы скажете: твое дело в школе учиться, а не детей рожать…
– А ты с этим не согласна, что ли? – с подозрением спросила я.
– Я не могу без него жить, – ровно сказала Оля. – Как без воды или воздуха. Если его нет, мне больше ничего не надо. Мы решили: раз все говорят, что мы еще маленькие и все это несерьезно, расстанемся на две недели, не будем выходить в интернет и посмотрим, что будет. Я заболела через три дня. Температура под сорок. Врач ничего не понял, отправил меня в больницу – на обследование. Ничего не нашли, сказали – нервное что-то. Через неделю мой брат – ему семь лет, но он очень смышленый и всегда за мной шпионит – нашел правильные кнопки и сказал Жолнасу, что я в больнице лежу. А у них там горы и есть такой Кровавый утес – там можно древним духам их народа принести жертву. Они пошли туда с лучшим другом, я его тоже знаю, он наполовину немец, и шли целый день, и там Жолнас разрезал себе руки и лил кровь в пропасть с этого утеса – просил, чтобы я поправилась и чтобы мы всегда были вместе. Потом он сознание потерял, а друг сбегал к тем, которые в предгорьях в юртах живут, они дали ему ишака, и он его оттуда на ишаке вывез… А потом мама Жолнаса со мной по скайпу говорила и сказала: девочка, ты, если можешь, не мучай моего сына. Если он тебе не нужен, так прогони его навсегда, не назначай сроков. А если нужен, так приезжай к нам, живи, в школу ходи, будешь нам третьей дочерью, а как вырастешь, так и свадьбу сыграем. Потом она отца Жолнаса позвала, он подтвердил, что у них такая традиция с древности есть – чтобы невеста сына в его семье жила…
Я словно наяву увидела, как два мальчика-полукровки стоят на ветру, на краю этого древнего утеса, среди древних легенд и древних духов, а потом один из них пробирается среди камней, ведя в поводу ослика, на котором, склонившись, сидит второй, с руками, неумело перемотанными окровавленным бинтом…
– А что говорят твои родители?
– Мама сказала, что если еще раз эту дикую херню про Казахстан услышит или эту раскосую рожу увидит – выкинет компьютер к чертовой матери…
– М-да, весьма доходчиво, хотя и нетолерантно… Слушай, а действительно, подождать вы с Жолнасом не можете? Ну он закончит школу, может, наверное, приехать сюда учиться. Да и тебе тоже надо получить образование. Как бы ни сложилось в дальнейшем, мне кажется, что в Петербурге это сделать удобнее, чем в маленьком городке в Казахстане.
– За учебу здесь его родители не смогут заплатить, у них же еще четверо младших. Он сказал, что все равно приедет гастарбайтером и будет улицы мести или на стройке, лишь бы быть ко мне поближе. Но мне кажется, это неправильно. Он же там, у себя, хорошо учится, знает, кроме русского и казахского, английский, много читает… А я… Мне в школе неинтересно совсем, я всегда троечница была. Я ничему учиться не хочу. Детей люблю и животных, хотела бы в детсаду работать или на ферме. Своих детей хочу, дом, сад, огород… Я горжусь тем, что Жолнас меня полюбил, ведь я такая неинтересная… И мне почему-то кажется, что мы все равно будем вместе или… или совсем ничего не будет…
Честное слово, я едва не заскрежетала зубами от бессилия: всем известно, что могут предпринять разлученные обстоятельствами юные влюбленные!
Ободрила, как могла, Олю, вызвала мать.
Бодрая, моложавая тетка с перманентом и крутыми боками:
– Давайте сразу расставим точки над «i». У вас есть дочь? – я кивнула. – Отлично, представьте: в четырнадцать лет она говорит – выхожу замуж, поеду жить к чуркам, к мальчишке, которого видала только на картинке. Отпустите? – я отрицательно помотала головой. – То-то же. Вот я ей и сказала…
– Вы рискуете, подростки в состоянии отчаяния способны на непоправимые поступки. Не говорю – замуж, но проявить добрую волю всегда можно: позовите их в гости. Может, они друг другу живьем и не понравятся вовсе…
– Вы смеетесь, что ли? Мы живем вчетвером в двухкомнатной хрущевке. Не хватало мне в квартире незнакомых казахов!
– Ну съездите с Олей к ним. Они приглашали, у них большой дом.
– Слушайте, ну я на вас удивляюсь два раза! Вы хоть представляете себе, сколько стоят билеты в Казахстан туда-обратно на двух человек? Я в месяц столько не зарабатываю. И что вообще за блажь – в интернете знакомиться? Ну вон же тебе живые парни в школе, во дворе, на даче. Встречайся, влюбляйся, крути хвостом… Я не дура, понимаю прекрасно, гормоны прут, своего требуют. Сама такая была, тоже в школе в отличницах не ходила и тоже в пятнадцать лет нашла принца в соседнем дворе и решила: люблю, не могу, умираю…
– И?
– Ну и чего – перетерлись, конечно, в подвале. Ему-то в кайф, а мне надоело быстро, я его бросила. Он уличный был – ни двух слов связать, ни красиво сделать… Умолял, угрожал потом, под окнами ходил, обещал, что в вечернюю школу пойдет, а мне все трын-трава…
– Где он теперь, знаете?
– В тюряге сгинул. Давно уже. Да вскоре после того и загремел первый раз…
Это было мировоззрение. Целостное, неколебимое ничем. Я не знала, что сказать. Угрожать суицидом дочери? А что предложить в качестве профилактики?
– Оставьте их в покое, – сказала я. – Пусть общаются. Это новый мир. В нем свои законы. Зачем вам обязательно, чтобы в подвале?
– Низачем, – фыркнула она и лукаво усмехнулась: – А как же в вашем интернете полапать-то? Без этого ведь все не сладко…
Я только вздохнула и попросила прислать ко мне Олю.
С ней мы долго и в подробностях говорили о Жолнасе, об их любви и о том, в каком доме и как именно они будут жить вместе со своими детьми. Договорились, что после девятого класса она пойдет учиться на педагога дошкольного образования.
Жолнас выбор подруги одобрил. А пока что Оля продолжила изучение казахского языка и тюркской культуры (с моей подачи) в целом. Удивительно, но это как-то повлияло на ее школьные успехи: по русскому и английскому вместо вечных троек и двоек появились нередкие четверки…
Все разумные люди знают, что первая любовь обычно проходит без следа и ничем не заканчивается. Но именно о ней потом слагают песни и легенды. И разве многоцветье жизни исчерпывается тем, что знают о ней разумные люди?
Что делать?
А теперь хочу предложить вам, читатель, попробовать выступить в роли психолога и ответить на вечный вопрос «Что делать?» Что делать родителям прямо сейчас, в ситуации, которая требует немедленного решения? Что может предпринять в этом случае психолог, к которому обратилась семья? Какова дальнейшая стратегия?
Скажу сразу: одной из двух семей мне удалось помочь. В другом случае я потерпела неудачу.
История первая
Когда папа с мамой развелись, Ире было девять лет. Они оба пытались ей что-то объяснить: «Понимаешь, дочка, люди иногда не могут понять друг друга… и тогда им лучше….» Ира их не слушала и отворачивалась, потому что она прекрасно знала, что папа уже нашел себе новую жену – молодую и красивую. Она видела их в магазине «Лента», куда они с подружкой ездили на автобусе – поглазеть. Папа с новой женой выбирали светильник.
Когда папа ушел к новой жене, мама сначала много плакала и похудела на десять килограммов. Бабушка приходила, прибирала, готовила обед и стыдила дочь:
– Не раскисай! Возьми себя в руки! У тебя ребенок!
– Ну мамочка, ну не плачь! Ну ради меня! – вторила наученная бабушкой Ира.
И однажды мама перестала плакать. Она сказала:
– Мы будем жить с тобой вдвоем. У нас все будет вместе. Мы никогда не будем ссориться. Ты моя лучшая подружка, ты меня никогда не предашь.
– Да, – сказала Ира, которая часто ссорилась со своей лучшей школьной подружкой Алисой, а потом ужасно переживала. – Мы никогда не будем ссориться и всегда будем вместе.
Жить с мамой было не так уж плохо. Тем более что у Алисы и у Светки с третьего этажа, с которой Ира гуляла во дворе, пап тоже не было, а у Сережки из седьмого класса, в которого была влюблена Алиса, папа был алкоголик и регулярно, напившись, бил Сережку и Сережкину маму. Еще не известно, что лучше. Училась Ира старательно, мама помогала ей писать сочинения и решать трудные задачи, тройки и уже тем более двойки в ее дневнике появлялись редко. Но и за них мама ее не ругала. Прибираться в квартире Ира умела всегда, а теперь она еще научилась мыть посуду, разогревать обед и даже готовить суп из замороженных овощей, варить макароны и жарить котлеты. По выходным они с мамой ходили в музей, в кино или в зоопарк, а потом пекли пироги и приглашали в гости маминых и Ириных подруг. Алиса и Светка, налопавшись пирогов, Ириной жизни даже завидовали. Мамины подруги взахлеб хвалили Ирину хозяйственность и прилежность. Маме и Ире было приятно.
Вскоре после того, как Ире исполнилось тринадцать лет (отпраздновали шумно, с неизменными пирогами), мама пригласила в гости своего знакомого Игоря Александровича (Ира и раньше слышала о нем от мамы) и познакомила его с дочерью.
– Очень приятно, – вежливо сказала Ира. – Сиди, мамочка, сейчас я подам чай. Или, может быть, Игорь Александрович, вы останетесь на обед?
Мама посмотрела в окно и сказала:
– Игорь Александрович останется здесь жить. Мы решили пожениться. И еще… Ира, я должна сказать тебе: у тебя скоро, через полгода, родится братик. Ты рада?
Игорь Александрович покраснел. Ира молча встала из-за стола и ушла в свою комнату.
Потом они приходили туда вместе и поврозь, пытались что-то объяснить и рассказать, как теперь все будет хорошо. Ира их не слушала – она уже давно, еще с прошлого раза, знала, что такое предательство.
Сначала мама еще пыталась ходить в музеи и кино «всей семьей» – вместе с Игорем Александровичем. «Вы идите, а у меня голова болит», – отказывалась Ира. Потом у мамы начались проблемы со здоровьем, и ее положили в больницу. Игорь Александрович пытался поговорить с Ирой и неумело возился в кухне около плиты. Ира готовила себе сама. У нее получалось явно лучше. Маме она наливала бульон в банку, а котлеты заворачивала в фольгу вместе с укропом и клала в коробочку. Она знала, как мама любит, а Игорь Александрович не знал. В больницу Ира не ходила. Приготовленную ею еду относил маме Игорь Александрович. Он говорил, что мама в больнице плачет и скучает по Ире. «Не надо меня обманывать, – спокойно отвечала Ира. – Мне уже не девять лет, я все прекрасно понимаю».
Братика назвали Игорем, Гариком. Гарик был красный, сморщенный и очень крикливый.
– Ирочка, ты только посмотри, какой он красавец! – захлебываясь от восторга, звал Иру Игорь Александрович.
Братец Ире был, пожалуй что, любопытен (хотя ей хотелось, чтобы его назвали Алешей, но ее, конечно же, не спросили), но идти на зов Игоря Александровича она считала неправильным.
Мама все время проводила с Гариком, тем более что у него появились сопли и не заживал пупок. По ночам Гарик почти не спал. Игорь Александрович сменял жену и качал кроватку, чтобы она могла поспать хоть пару часов. Но к восьми ему нужно было уходить на работу.
Ира почти перестала выходить из своей комнаты, но этого, кажется, никто не замечал. Алиса и Светка сочувствовали ей, но не могли помочь даже советом – у них не было младших братьев.
Когда в Ирином дневнике появились двойки и классная руководительница позвонила домой: «Обратите внимание!» – мама прижала пальцы к голубым вискам и попросила: «Игорь, пожалуйста, поговори с ней! Пусть объяснит, чего ей не хватает. Она меня просто изводит своими демонстрациями!»
Игорь Александрович что-то говорил, но Ира не понимала что. Тяжелая злоба, как лиловая туча из-за горизонта, поднималась в ее душе.
Вечером мама ушла в поликлинику. Игорь Александрович сидел дома и утешал Гарика. Гарик орал как резаный. Так продолжалось больше часа.
Ира вышла из своей комнаты и прошла в спальню:
– Пусть он замолчит, – тихо сказала она. – Я не могу уроки делать, и у меня голова болит.
– Ты же видишь, я стараюсь, – не оборачиваясь, несчастным голосом сказал Игорь Александрович, склонившийся над кроваткой. – Наверно, у него живот болит…
– Пусть он замолчит… – безжизненно повторила Ира.
– Да иди ты отсюда! – взорвался мужчина. – Подумаешь, принцесса нашлась! Думаешь, все по-твоему должно быть?!
– Тогда уходите вы, – предложила Ира. – Без вас всем лучше будет.
Игорь Александрович выпрямился и обернулся к девочке. Ира прошла к кроватке, взяла на руки малинового от напряжения младенца, покачала его, что-то прошептала, провела губами по горячей щечке. Гарик тяжело сопнул и замолчал.
– Вы здесь никто. Вас здесь не надо.
– Ира, что ты говоришь?! Гарик – мой сын.
– Оставьте Гарика и уходите, – подтвердила Ира. – Все равно потом… Я знаю, как это бывает. Не волнуйтесь, мы с мамой его воспитаем.
– Избалованная дрянь! – взвизгнул Игорь Александрович.
Гарик на руках у Иры нервически всхлипнул.
– Не пугайте ребенка, – улыбнулась Ира. – И убирайтесь из нашего дома!
– Ира, Игорь Александрович останется, – послышался от дверей ледяной голос матери. – А ты прекратишь говорить глупости.
– Он останется? – переспросила Ира. – Тогда уйду я. Выбирай.
– Куда ты уйдешь, идиотка?! – завопил мужчина. Вид молчащего сына на руках у наглой падчерицы сводил его с ума. – Тебе тринадцать лет! Нам еще по-любому лет пять тебя кормить!
– Куда уйду? Ну вот, к примеру, в окно, – безмятежно предложила Ира. – Прямо сейчас. Вместе с Гариком. Хотите?
История вторая
Учиться в школе Алексей не любил никогда. Хотя мама и обожала рассказывать приятельницам о том, что второй класс Алешенька закончил всего с двумя четверками (остальные пятерки), Алексей доподлинно знал, что это была случайность, помноженная на прилежание бабушки, которая каждый день, не отходя от стола, по два часа делала с внуком уроки.
Учеба ему не давалась. То, что можно тупо выучить, – еще куда ни шло. Хотя учить всякую чепуху про тычинки, пестики, экономическое положение России в восемнадцатом веке, неправильные английские глаголы или луч света в темном царстве было страшно лень. Но вот в тех предметах, где надо было что-то понять или представить, – в алгебре, геометрии, физике, химии, черчении – уже начинался полный кошмар. Один материал цеплялся за другой, как шестеренки в бабушкиных часах, и раз что-то не уловив, можно было потерять нить навсегда. Алексей потерял упомянутую нить давно, но до времени как-то изворачивался – использовал ГДЗ, просил решить отца, на контрольных списывал у девчонок-отличниц… Понятно, что любви к школе и учебе все это ему не прибавляло.
Особенно тупиково выходило с физикой. В первой же четверти восьмого класса у Алексея выходила круглая и твердая двойка. Физичка разрешала переписывать двойки и отвечать заваленную тему после уроков, но сажала за парту по одному и принимала ответы индивидуально. При таких условиях шансов что-либо пересдать у Алексея не было. Он и не пытался. Прятал дневник от матери и отца, а физику по возможности пропускал или сидел на последней парте, стиснув зубы до хруста. Физичка, в отличие от других учителей, почти никогда не повышала голос на учеников, но ее язвительные оценки разили наотмашь, как свистящий в воздухе кнут.
– Алексей Игнатьев, почему вы, с вашими результатами последней контрольной, позволили себе пропустить прошлый урок?
– Я был на соревнованиях, – отвечал Алексей. – По бегу.
– Насколько я понимаю, соревнования проводятся после уроков.
– Я тренировался.
– Я вижу, что вы, Игнатьев, считаете нужным упражнять ноги, но ненужным – кору головного мозга. Не будет ли для вас затруднительным прожить жизнь, используя в основном мозжечок, как это делают акулы?..
Понятно, что после этого урока одноклассники с удовольствием называли Алексея Акулой.
В первую четверть по физике была выставлена двойка. Мама Алексея сходила к учительнице, отнесла коробку конфет, спросила, не нужно ли нанять Алексею репетитора, чтобы позаниматься дополнительно.
– Совершенно не нужно, – ответила физичка. – Достаточно, если он будет внимательно слушать на уроке, вести конспект, вдумчиво делать домашние задания и посещать мой класс в часы, отведенные для переписывания неудовлетворительных оценок.
Родители провели с Алексеем разъяснительную беседу о необходимости уделить физике особое внимание.
– Умный, честный, интеллигентный человек, – так отозвалась мама о физичке. – Другим бы учителям только деньги тянуть, а она бесплатно свое время тратит, чтобы вы, болваны, могли двойки исправить…
– Куда без физики-то? – пожал плечами папа-инженер. – Все равно в институт или хоть в техникум ее и сдавать. Так что старайся!
Во второй четверти все стало еще хуже. Физичка не упускала возможности напомнить Алексею о его проблемах и лично пригласить его на переписывание очередной самостоятельной. А может быть, Алексею только так казалось, и никакого особого внимания физичка ему и не уделяла. Он никогда не был весельчаком, а теперь и вовсе помрачнел и перестал улыбаться. По другим предметам двойки тоже сыпались как горох. Зубрить домашние задания он перестал. Зачем, когда все равно все плохо?! Таня Казанкина, девочка, которую он вот уже два месяца собирался пригласить в кино, но не решался, сказала ему на перемене:
– Акула, что с тобой происходит? Если так дальше пойдет, тебя скоро из школы выгонят. Может, мне с тобой физикой позаниматься?
– Не надо мне ничего! – ответил ей Алексей, а вечером дома бессильно грыз подушку.
Почему не согласился, идиот?! Понять физику, разумеется, невозможно, но зато встречался бы с Таней на законных основаниях… Ага! Это чтобы она окончательно поняла, какой он дебил, да?! Да пошли вы все!..
Однажды утром Алексей привычно надел на плечо лямку ранца, вышел во двор – и понял, что ноги категорически отказываются нести его в сторону школы. Что его там ждет? Ненавистная физика с брезгливым остроумием физички, беззлобные, но оглушительные вопли математички: «Дубины стоеросовые! Олухи царя небесного! Все, по списку, пойдете сначала в армию, а потом улицы мести!», смертная скука на деревянных уроках истории и литературы, противная анатомия человека, после которой хочется блевануть в туалете, снисходительно-презрительный взгляд отличницы Тани Казанкиной…
Алексей свернул в подворотню и решительно зашагал по проспекту. Куда? Да куда-нибудь подальше!
День прошел великолепно. Он погулял по парку, зашел в магазин «Техносила», немного, пока не кончились деньги, поиграл в автоматы… Давно Алексею не было так свободно и хорошо.
Вечером позвонил друг Дима:
– Ты чего в школу не пришел?
– Замотал! – честно ответил Алексей.
– Ух ты! А физичка про тебя спрашивала…
– Да пошла она!
– А предки знают?
– Не знают. Ты скажи завтра классной, что я заболел. Тяжело. Ладно?
– А ты что, и завтра не придешь? – удивился Дима.
– Не приду!
– А как же…
– Да как-нибудь! Не могу больше…
– Ты… это… – Дима явно не знал, что говорить. – Ну пока тогда… Я классной скажу.
На улице оказалось много всего интересного. Алексей боялся одиночества, но, как оказалось, напрасно. К концу недели он уже познакомился с компанией ребят, которые тоже не ходили в школу, а некоторые уже и в училище. Время проводили весело. Мнение родителей не ставилось ни в грош. Физичку все единодушно осудили: «Сволочь она!», Алексея одобрили: «Молодец, что не дал об себя ноги вытирать!»
Через месяц классная руководительница позвонила вечером домой к Алексею и попала на отца. Все выяснилось довольно быстро.
– А где он сейчас?
– Сказал, что на дополнительных занятиях по алгебре. Взял на них деньги.
Алексей пришел домой в девять часов вечера. Перед входом в парадную присел на корточки, докурил и ловким щелчком выкинул хабарик. Родители и бабушка ждали его у дверей.
Скандал был грандиозный, потрясающий основы здравого смысла и хорошего воспитания.
После него Алексей ходил в школу неделю. Смотрел волком.
– Ну что, Игнатьев? Вышел с малой сцены на большую дорогу? – спросила физичка.
– А класска в канцелярии сказала директрисе, что раз уж ты начал гопничать, теперь не остановишь! – наябедничала Алексею Лида, подруга Тани Казанкиной. – Я за дверью подслушала…
– Не передавай ерунду! – одернула подружку Таня, но Алексей уже не слушал ее и уходил прочь.
На следующий день в школу он не пришел. Дворовые пацаны встретили его радостным воплем:
– Вау! Акула снова с нами! Молоток, Акула!
Алексей скупо улыбнулся. Он не знал, правильно ли он поступил, но не видел выхода из сложившегося положения.
Наедине с собой, или Опасный эксперимент
Эксперименты на детях, конечно, запрещены, но если они сами соглашаются и даже хотят принять участие, то я считаю, что немножко можно. Особенно если исследование кажется мне совершенно безопасным для его участников. Точнее, казалось. Признаю сразу: я ошиблась.
Моя рабочая гипотеза была такова: современных детей слишком много развлекают, в результате они не умеют себя занять, избегают встречи с самими собой, отчего, в свою очередь, своего внутреннего мира совершенно не знают и даже боятся.
Условия эксперимента: участник соглашался провести восемь часов (непрерывно) в одиночестве, не пользуясь никакими средствами коммуникации – ни телефоном, ни интернетом, не включая компьютер или другие гаджеты, радио и телевизор. Все остальные человеческие занятия – чтение, письмо, ремесло, игра, рисование, лепка, пение, музицирование, прогулки и так далее – были разрешены.
В исследовании участвовали в основном подростки, которые приходят ко мне в поликлинику.
Все родители были мною предупреждены, заинтересованы и согласились обеспечить своим детям эти восемь часов одиночества.
Во время эксперимента его участники могли делать (а могли и не делать) записи – фиксировать свое состояние, действия, приходящие в голову мысли. Строго на следующий после эксперимента день им вменялось прийти ко мне в кабинет и рассказать, как все прошло. При возникновении сильного напряжения или каких-то других беспокоящих симптомов эксперимент следовало немедленно прекратить и записать время и, по возможности, причину его прекращения.
В эксперименте приняли участие 68 подростков в возрасте от двенадцати до восемнадцати лет – 31 мальчик и 37 девочек.
Довели эксперимент до конца (то есть восемь часов пробыли наедине с собой) трое подростков – два мальчика и девочка.
Все остальные участники прервали эксперимент до его окончания. Семеро выдержали пять и более часов. Остальные – меньше.
Причины прерывания эксперимента подростки объясняли весьма однообразно: «Я больше не мог», «Мне казалось, что я сейчас взорвусь», «У меня голова лопнет».
У двадцати девочек и семи мальчиков наблюдались прямые вегетативные симптомы: приливы жара или озноб, головокружение, тошнота, потливость, сухость во рту, дрожание рук или губ, боль в животе или в груди, то, что называется «волосы на голове зашевелились».
Почти все испытывали беспокойство и даже страх (у пятерых он дошел до остроты панической атаки).
У троих возникли суицидальные мысли.
Новизна ситуации, интерес и радость от встречи с собой исчезли практически у всех к началу второго-третьего часа. Только десять человек из прервавших эксперимент почувствовали беспокойство не раньше чем через три часа одиночества.
Героическая девочка, доведшая эксперимент до конца, принесла мне дневник, в котором она все восемь часов подробно описывала свое состояние. Тут уже волосы зашевелились у меня – от ужаса.
Что делали мои подростки во время эксперимента? Выписываю занятия начиная с наиболее часто встречающихся:
– готовили еду, ели;
– читали или пытались читать;
– выполняли какие-то школьные задания (дело было в каникулы, но от отчаяния многие схватились за учебники);
– смотрели в окно или шатались по квартире;
– вышли на улицу и отправились в магазин или кафе (по условиям эксперимента общаться было запрещено, но они решили, что продавцы или кассирши не в счет);
– складывали головоломки или конструктор «Лего»;
– рисовали или пытались рисовать;
– мылись;
– убирали в комнате или квартире;
– играли с собакой или кошкой;
– занимались на тренажерах или делали гимнастику;
– записывали свои ощущения или мысли, писали письмо на бумаге;
– играли на гитаре, на пианино или на флейте;
– трое писали стихи или прозу;
– один мальчик почти пять часов ездил по городу на автобусах и троллейбусах;
– одна девочка вышивала по канве;
– один мальчик отправился в парк аттракционов и за три часа докатался до того, что его начало рвать;
– один юноша прошел Петербург из конца в конец, порядка двадцати пяти километров;
– одна девочка пошла в музей политической истории, а один мальчик – в зоопарк;
– одна девочка молилась.
Практически все в какой-то момент пытались заснуть, но ни у кого не получилось, в голове навязчиво крутились «дурацкие» мысли.
Прекратив эксперимент, четырнадцать подростков полезли в социальные сети, двадцать позвонили по мобильнику приятелям, трое позвонили родителям, пятеро пошли к друзьям домой или во двор. Остальные включили телевизор или погрузились в компьютерные игры. Кроме того, почти все и почти сразу включили музыку или сунули в уши наушники. Все страхи и симптомы исчезли сразу после прекращения эксперимента.
Шестьдесят три подростка задним числом признали эксперимент полезным и интересным для самопознания. Шестеро повторяли его самостоятельно и утверждают, что со второго (третьего, пятого) раза у них получилось. При анализе происходившего с ними во время эксперимента пятьдесят один человек употребляли слова «зависимость», «доза», «ломка», «синдром отмены», «получается, я не могу жить без…», «мне все время нужно…», «слезть с иглы» и т. п. Все без исключения были ужасно удивлены теми мыслями, которые приходили им в голову в процессе эксперимента, но не сумели их внимательно «рассмотреть» из-за ухудшения общего состояния.
Один из двух мальчиков, успешно закончивших эксперимент, все восемь часов клеил модель парусного корабля, с перерывом на еду и прогулку с собакой. Другой (сын моих знакомых – научных сотрудников) сначала разбирал и систематизировал свои коллекции, а потом пересаживал цветы. Ни один, ни другой не испытали в процессе эксперимента никаких негативных эмоций и не отмечали возникновения «странных» мыслей.
Я, честно сказать, немного испугалась. Потому что гипотеза гипотезой, но когда она вот так подтверждается… А ведь надо еще учесть, что в моем эксперименте принимали участие не все подряд, а лишь те, кто заинтересовался и согласился…
Невроз имени Стивена Джобса
Трепетных барышень, которые объявляли голодовку по случаю смерти Александра Блока и стрелялись на могиле Маяковского, я не застала по понятным временным причинам. Когда в 1990-м погиб в автокатастрофе Виктор Цой, я была занята семьей и наукой и почти не интересовалась русским роком. Кумиров у меня никогда не было, артистами или певцами я не увлекалась. Поэтому мой личный и профессиональный опыт в этой деликатной области следует считать равным нулю.
Мама мальчика выглядела весьма встревоженной. Оставив сына в коридоре, она присела на краешек кресла и спросила:
– Вы знаете, что Стив Джобс умер?
– Основатель Apple? Конечно, знаю, – слегка удивилась я (тема для начала разговора показалась мне странной). – Об этом же везде пишут…
– Так вот, в нашей семье это стало проблемой.
– Простите?.. Ваша семья имеет какое-то отношение к покойному американскому бизнесмену?! – мое удивление возросло многократно.
В углах губ женщины легли складки: нечто среднее между горькой улыбкой и готовностью заплакать.
– Джобс был кумиром моего сына Вити. Образцом мужчины и человека. Я вдова. Витя своего отца почти не помнит.
– Вы что-то знали о Джобсе раньше?
– Да к чему мне? – женщина пожала плечами. – Только то, что рассказывал мне Витя. Он Джобсом просто восхищался: умный, богатый, успешный, великий. Витя даже считал его красивым. Сын знал о болезни Джобса и почему-то был уверен, что его спасут. И вот когда этот бизнесмен все-таки умер, Витя впал в какое-то состояние… Иногда у него случаются форменные истерики, он кидает вещи, орет… Но по большей части он просто сидит, уставившись в телевизор, или в монитор, или просто в стену. Не переключает программы, ничего не ищет в интернете, ни с кем не общается. В школе отсиживает от звонка до звонка, приходит домой и снова садится. Друзья зовут его куда-то – не идет. Ночью почти не спит, а два дня назад фактически перестал есть…
К этому месту рассказа я уже достаточно испугалась. Вите четырнадцать лет, самый разгар подростковых перестроек организма и психики, – мало ли что могло вылезти?! А смерть Джобса в этом случае – только спусковой крючок…
– Давайте сюда Витю! А вы подождите, пожалуйста, в коридоре.
На вид Витя – самый обычный подросток. Ничего меня в нем не настораживает.
– Что это у тебя? Айфон?
– Ага.
Отвечает, это хороший признак!
– Я почти ничего не знаю о Стиве Джобсе, – честно признаюсь я. – Только то, что в статьях писали после его смерти. Расскажешь мне о нем?
– Да что толку! – Витя быстро сжимает и разжимает кулаки. – Что толку, если он все равно умер! У него же было все: ум, деньги, сила воли, любые врачи… Его любили, желали ему здоровья… Значит, ничего не имеет значения!
Отец! Отец, умерший от рака, когда Вите не было и пяти лет. Спасение Стива Джобса было бы символическим спасением отца. Я это понимаю – Витя, конечно, нет. Но Стив тоже не спасся…
– Все имеет значение, – говорю я. – Смерть – это только точка. Джобс жил до последнего дня, работал, офигительно раскрутил вот эти игрушки…
– Это не игрушки, – строго возражает Витя. – Он сам все это создал.
Еще через десять минут разговора мне становится ясно: Витя не понимает, что Стив Джобс был гениальным маркетологом, а вовсе не изобретателем или ученым. Провожу ликбез, и ситуация удивительным образом легчает: кажется, в прихотливом сознании подростка долго должны жить именно творцы сущностей, а не те, кто их раскручивает.
На следующую встречу Витя приходит один и с порога вываливает на меня идею о том, что каждый день нужно жить так, будто он последний. Авторство приписывает, конечно же, своему кумиру.
– Он так жил! Каждый день! А я вот не могу…
– Это же метафора, – вздыхаю я. – Если бы я точно знала, что вот этот день моей жизни – последний, я бы ласково попрощалась со всеми близкими, а потом поехала в лес и пошла бы вперед по пустой дороге, усыпанной желтыми листьями… Немного странно проводить так каждый день, ты не находишь?
Смеется. Если есть чувство юмора, работать всегда легче – в разы.
Еще через встречу мы заговорили об отце. Витя сам связал трагическую фигуру Джобса со своей жизненной историей, причем в совершенно неожиданном для меня ключе:
– У Стива никогда не было родного отца, только приемный. Я своего отца не помню. Поэтому я, когда был еще маленьким, решил, что стану похожим на Стива Джобса. И тогда я решил, что уж он-то не должен умирать…
Как все-таки изумительно прихотлива детская логика! «Я буду как бы приемным сыном человеку, который не знал своего родного отца, как не знал его я, и я не смог спасти отца, но я присоединюсь своим восхищением к армии спасителей американского миллиардера, и у нас обязательно все получится, и у меня как бы будет отец, на которого я со временем смогу стать похожим…»
– Твой отец умер, но остался ты, – сказала я. – Стив Джобс тоже умер, и, кажется, у него не было сыновей, но осталось его дело – игрушка в руках у тебя и у миллионов других людей по всей планете.
– Значит, все правильно? – спросил Витя.
– В общем-то, да…
Быть не как все
– Здравствуйте, я пришла, чтобы вас спросить…
Не высокая, не низкая. Не красавица и не дурнушка. Одета во что-то обычное, совершенно не бросающееся в глаза. Слегка подкрашена, вполне умеренно. Лет пятнадцать на вид. Когда я сама была подростком, о таких говорили: серединка на половинку, ничего особенного.
– Спрашивай, конечно, – улыбнулась я. – Только скажи сначала, как тебя зовут и сколько тебе лет.
– Варя. Шестнадцать. Я уже спрашивала в интернете, но там со мной никто не согласился и, наоборот, все на меня накинулись…
– А тебе нужно, чтобы все согласились? – уточнила я.
– Нет, вовсе не обязательно, чтобы все, – сказала Варя, вздернув подбородок. – Но ведь и не так же…
– Как?
– Мне сказали, что я дура кромешная, ничего не понимаю в жизни и безнадежно от нее отстала. И если я срочно не изменюсь, меня ждут сплошные разочарования и обломы. И вообще неудачная жизнь. А если я не хочу меняться? Но, с другой стороны, не могут же все быть дураками, а я одна – умная?
– Варя, ты можешь мне объяснить: почему ты обращалась с этим важным для тебя вопросом к незнакомым людям в интернете? Не к друзьям? Не к родителям?
– Простите, конечно, но вы отстали от жизни. Теперь все в интернете общаются. Это же совершенно нормально: спросить на форумах, где ты тусуешься…
– Ну вот, – вздохнула я. – Теперь уже не тебя кто-то, а ты меня обвиняешь в отставании от жизни. Замкнутый круг. Как работать в таких условиях?
Варя удивленно покрутила головой, потом сообразила и засмеялась.
– Ну так в чем конкретно дело-то? – спросила я.
– Скажите, – с вызовом в голосе поинтересовалась девочка. – А настоящую любовь уже отменили?
– Я не слыхала, чтобы отменяли, – откликнулась я и, немного подумав, уточнила: – А что ты, собственно, подразумеваешь под настоящей любовью? Кажется, тут возможны разночтения.
– Настоящая – это на всю жизнь, – ответила Варя. – Понимаете? Я не кисейная барышня и вполне современная. Мне в интернете говорят: важна техника секса, вот там-то и там-то можно ознакомиться. По телевизору показывают всяких артисток и певцов: у того-то новая подруга, а вот та-то вышла в свет с новым бойфрендом. Мои приятельницы и подруги очень любят все это обсуждать и примерять на себя. Смотрите, я никого не осуждаю. Пусть все живут как им удобно. Изучают технику секса раньше, чем полюбят кого-то, меняют друзей, любовников сколько им заблагорассудится. Наверняка в этом что-то есть, если столько людей так делают и убеждают друг друга в инете и в телевизоре, что это правильно. Но если я хочу прожить иначе?
– Как же?
– Я хочу прожить жизнь с одним любимым человеком, ни с кем его не сравнивая. Я хочу потерять девственность после свадьбы. Я хочу всю жизнь заниматься одним делом. А не менять его каждые три – пять лет, как нам тут недавно в гимназии рассказывали, – якобы это, по нынешним теориям, самое правильное.
– А ты уже выбрала, что это будет за дело? – поинтересовалась я.
– Да, – кивнула Варя. – Я учусь в классической гимназии и буду поступать на филологический факультет. Меня интересует происхождение разных языков, их взаимосвязи – мне кажется, там еще много загадок.
– Безусловно, – согласилась я.
– Я люблю читать классическую литературу. Русскую и английскую. Мне интересно сравнивать. Я бы еще немецкий выучила…
Я представила себе Варю с ее продуманной позицией на молодежном форуме и, в общем-то, достаточно легко вообразила реакцию аудитории.
– Разных жизненных платформ много, ты сама только что об этом говорила. Что же тебя тревожит? – спросила я. – То, что ты, быть может, чего-нибудь важного не учла? Или что неприятие социумом твоих позиций помешает тебе их реализовать?
Варя надолго задумалась.
– Ни то и ни другое, – наконец сказала она. – Кажется, мне нужно, чтобы хоть кто-то – не из книжки, а из жизни – согласился с тем, что это возможно.
– Школьные подруги?
– Говорят, что я дура и многое упускаю.
– Родители?
– С папой я на эти темы не общаюсь, а мама говорит, что в юности она сама тоже была идеалисткой, а потом жизнь все расставила по своим местам.
– Когда я была в твоем возрасте, я хотела стать ученым, – сказала я. – Я неплохо знала, как они живут и что делают, но только из книг – Даррелл, Поль де Крюи, Даниил Гранин, «Открытая книга» Каверина, братья Стругацкие… Жизнь моя проходила в таком кругу, что ни одного живого ученого я не видела. Все окружающие говорили мне, что мои намерения – это какой-то романтический бред. Нормальные люди становятся инженерами, врачами, учителями… Иногда я думала: а что, если те ученые, о которых я читала в книгах, попросту не существуют в природе?
– И что же? – Варя подалась вперед.
– Когда я наконец поступила в университет (это произошло далеко не сразу), я почти удивилась. Представь: они, ученые, оказались совсем как настоящие! От потрясения я на некоторое время даже замолчала – мне казалось, что если я в их присутствии открою рот, обязательно скажу какую-нибудь глупость…
– Я тоже боюсь! – воскликнула Варя. – И думаю как вы: а вдруг в природе нету? Но я не хочу, как «все нормальные люди»…
– Характеристики «нормальных людей» меняются, ты же понимаешь. Когда-то абсолютной нормой было именно то, чего хочется тебе теперь.
– Я знаю!
– И всегда были те, кто обеспечивал края кривой нормального распределения…
Я быстро набросала рисунок – Варя кивала, понимая вполне.
Она поблагодарила и ушла, явно довольная нашей встречей.
Мне тоже был интересен состоявшийся разговор.
Впоследствии я не раз пересказывала его подросткам – мальчикам и девочкам. Большинство из них удивлялись. Один, по имени Антон, вернулся из коридора без мамы, которая его ко мне притащила, и попросил, глядя в пол:
– Вы не могли бы дать мне телефон той девушки?
Я крайне редко нарушаю приватность своих клиентов. Но тут почему-то решила на это пойти.
– Телефон не дам, – сказала я. – Скажу имя и фамилию. Ищи через инет, знакомься и все такое.
– Я думал, что таких уже не бывает, – сказал он.
Спустя некоторое время я нашла лаконичную записку, вложенную в мой журнал для самозаписи: «Спасибо вам. Варя и Антон».
Дурная компания
– Я не понимаю. Категорически не могу его понять. Это в первую голову, – женщина сплетала и расплетала тонкие пальцы с двумя большими (но не чрезмерно) кольцами.
Мужчина кивал красиво седеющей головой. Подросток лет пятнадцати смотрел в окно. За окном лирически ронял пожелтевшие листья молодой клен.
– Вы никак не можете понять своего сына. Это кажется вам самым важным, – вспоминая анекдоты про основателя гуманистической психотерапии Карла Роджерса, отзеркалила я.
– Говорят и пишут, что это от низкого интеллекта, от отсутствия интересов, от недостатка внимания в семье. Но это же не так!
– Вам кажется, что происходящее не может объясняться тем, что вашему сыну оказывалось недостаточно внимания в семье, или уровнем его интеллекта, или… – соскучившись от собственного занудства, я простилась с Роджерсом и поинтересовалась: – А «это» – что такое-то?
– Уже второй год он водится черт знает с кем и делает черт знает что! – отчеканил мужчина.
«О мудрый Роджерс!» – мысленно воскликнула я и сказала вслух:
– Уже второй год вы не знаете, с кем общается и что делает ваш сын.
Подросток оторвался от созерцания клена и взглянул на меня с интересом.
– В четыре года он уже умел читать! – вспоминала между тем мать. – В шесть играл «К Элизе» Бетховена. В семь трижды перечитал всего Толкиена, «Хроники Нарнии» и этого, «Гарри Поттера»! Мы вместе посещали музеи, театры, ходили в детскую художественную студию при Эрмитаже… Только не подумайте, что он все это делал из-под палки, что мы его заставляли из своих амбиций… Нет! Ему самому все это нравилось, он везде ходил с удовольствием и сам меня спрашивал: мама, когда мы пойдем в театр? А когда будем делать костюм для студийного спектакля? И вы знаете, что странно: у него всегда были хорошие отношения с детьми, но, в общем-то, ему как будто были не нужны сверстники. Он всегда предпочитал общаться со старшими. Мы думали, это потому, что он опережает свой возраст по уровню развития…
– Но все это минуло, – вздохнула я. – И теперь…
– Теперь он абсолютно нас не слышит, хамит, бросил музыку, прогуливает школу, шляется допоздна и неизвестно где с какими-то ребятами, с которыми познакомился в интернете. В гимназии все просто в ужасе – с первого класса он считался звездой, а сейчас совершенно перестал учиться…
– Вас не затруднит подождать в моем предбаннике? – спрашиваю я у родителей. – Я хотела бы поговорить со Стасом.
– Конечно! Мы именно этого и хотели! – с облегчением восклицает отец. – Нас и учителей он не слушает, так хоть вы объясните ему, что к чему!
Ничего необычного или неожиданного.
– Да они нормальные родаки, как у всех, волнуются, я понимаю, но иногда так достают, что думаю: ушел бы, если бы было куда…
– Но некуда, да и не время еще, – вздыхаю я. – С учебой-то что?
– Да я учусь, не думайте, – успокоил меня Стас. – Теперь не особо, конечно, напрягаюсь, но в общем даже ничего не изменилось: и раньше было три-четыре четверки, и теперь так же. Не вру.
Смотрит искоса, лукаво: догадаюсь ли? Я догадываюсь:
– Раньше остальные были пятерки, а теперь – тройки, – смеется. – А что ж нынче-то – только тусуешься или есть какие-то увлечения?
– Есть. Мы с ребятами группу хотели, музыкальную, но пока не получается – деньги нужны на аппаратуру, на аренду… Фотографировать люблю. Вот недавно второе место занял в конкурсе «Я и моя крыша», а там, между прочим, которые победили, кроме меня, все взрослые уже, профи.
– «Я и моя крыша»? – подозрительно переспрашиваю я. – Это про что это такой конкурс? Не про наркотики?
– Да нет, про настоящие крыши, – снова смеется Стас. – Фотоконкурс по всему СНГ, давайте я вам адрес запишу, поглядите в инете, там и моя фотография есть…
– Совершенно согласна с вами: подростковый кризис – самый скучный из всех возможных, – энергично говорю я родителям Стаса. – Даже кризис выхода на пенсию и то повеселее – дачка, ремонт, путешествия, то-се… А тут все такое понятное, одинаковое: реакция группирования, как у молодых павианов, отрицание авторитетов, протест против любого существующего порядка вещей… И главное, ведь теперь никак ничего не узнаешь и не проконтролируешь! Свой мобильник, прочие индивидуальные гаджеты, пароль в интернете, встречаются не в квартире за чаем и даже не на лестнице в парадной, а в какой-нибудь забегаловке быстрого питания… Помните, как легко было вашим родителям, когда вы сами были подростками? Телефон один на всю квартиру, стоит в коридоре, всем все слышно, двор со всеми его трудными подростками и дурными компаниями просматривается из окна…
Мужчина, ухмыляясь, кивает, а женщина смотрит недоуменно:
– Я не понимаю: вы что, шутите, что ли?
– Никак нет! Я разделяю ваши чувства согласно методике позитивной психотерапии. Да у меня и у самой два подростка было…
– Чего ему не хватает? – спрашивает отец. – Или что-то было лишним? Я еще тогда говорил жене: не делай из него вундеркинда, потом наплачешься…
– Вы же не заставляли его, он сам хотел, значит, все было нормально, – говорю я. – Но, – обращаюсь к женщине, – когда вы планируете семейное меню на неделю, вы стараетесь, чтобы еда была разнообразной?
– Конечно! – радуясь пониманию, кивает она. – Я всегда его хорошо кормила, он же растет, и стремилась, чтобы все было сбалансированно: жиры, белки, углеводы, витамины… Так теперь он знаете чем норовит питаться?!
– Знаю, – успокаивающе говорю я. – Кока-колой, чипсами, сникерсами и гамбургерами. Так вот: мозги, психику тоже надо кормить сбалансированно: жиры, белки, углеводы… Сейчас Стас энергично добирает то, что недобрал в детстве – контакты со сверстниками, групповые роли, групповая динамика, все такое.
– Вот! Я же тебе про это и говорил! – воскликнул мужчина, обращаясь к жене, и повернулся ко мне: – Что мы можем? Какая-то профилактика, чтобы его не «занесло» в этих контактах?
Отца можно понять. Сыну всего пятнадцать. Везде пишут и говорят про опасный возраст. Современный мир кажется человеку, взрослевшему в советские времена, полным соблазнов. Неужели мы не можем еще как-то проконтролировать чадо, что-то предпринять, чтобы оградить его от опасностей?
– Увы, – вздохнула я. – Сейчас практически ничего. Надеяться на то, что в детстве заложили достаточно, чтобы он различал добро и зло. Быть внимательными. Принимать его на этом этапе развития, как принимали его младенцем и ребенком. Искренне интересоваться его делами и важными для него сейчас людьми. Подростки всегда в норме отдаляются от семьи. Но если вы поведете себя правильно, то он к вам вернется. Уже взрослым человеком, может, после армии…
– Да какая ему армия… – всплеснула руками мать.
– Доктор шутит, – сказал мужчина жене.
– Я не шучу! – жестко возразила я. – Никто не может быть уверен, что вашему сыну не придется служить. Вы действительно растили его непригодным для этого. Сейчас он, честь и хвала ему за это, добирает недостающее сам. Постарайтесь ему не мешать и даже помочь. Кстати, вы знаете, что Стас – победитель всеэсэнгэшного конкурса «Я и моя крыша»?
Мужчина улыбнулся и отрицательно помотал головой, а женщина вздрогнула.
– Это фотоконкурс, где фотографируют крыши, – объяснила я. – Все его лауреаты, кроме вашего сына, профессиональные фотографы. И подумайте: может быть, вы сможете помочь Стасу в организации музыкальной группы?
Придя домой, я достала из сумки клочок бумаги, включила компьютер и набрала записанный на листке адрес сайта. Нашла фотографии-победительницы.
…Лохматый подросток, похожий на Стаса, стоит на самом краю крыши, вполоборота к зрителю. Вниз от его кроссовок, в темноту, уходит типичный петербургский двор-колодец. А за домами, над Невой и Петропавловкой, восходит такое же лохматое юное солнце. Подросток легко и весело протягивает к нему раскрытые ладони, и благодаря какому-то неведомому мне фотоэффекту кажется, что солнечные лучи дружественно соединяются с его руками…
Конрад Лоренц и зависимость от социальных сетей
Однажды, в один из понедельников, у меня выдался «день компьютера»: все семьи, пришедшие на прием в этот день, обратились ко мне по поводу того, что они с легкой руки журналистов называли компьютерной зависимостью своих детей.
Говорят, понедельник – день тяжелый. К концу того приема я готова была согласиться с этим утверждением.
Проводив последнюю семью, я села в кресло и глубоко задумалась. Действительно зависимость? Тогда я, скорее всего, вообще ничем не могу им помочь – ведь я фактически не работаю ни с одним из видов зависимостей, стараясь быть честной и максимально убедительно отсылая людей к профессионалам по этим вопросам – наркологам. Но куда же мне послать тех, кто вот только что был у меня на приеме?
Все родители единодушно жаловались, что их чадо проводит у компьютера, играя в игры или общаясь в социальных сетях, все свободное время. Если не дергать, будет сидеть всю ночь, а утром не сможет встать и пойти в школу или в институт. В основном мальчики и юноши, но была и одна девочка – уже целый год она мышка в какой-то сетевой игре, ищет там виртуальный сыр и приносит его в норку. В основном родителей, как ни странно, волнует не сегодняшнее состояние детей, а что же будет дальше.
Чадам – от двенадцати до двадцати одного года. Все они, кроме одного, не видят никаких проблем, говорят, что все проблемы только у родителей, и жалобно или, наоборот, агрессивно просят, чтобы от них отстали. Единственный, кто идет не в ногу со своим поколением, пятнадцатилетний и на вид самый умный из всех, как будто бы понимает, что тут что-то не то, и задает мне встречный вопрос:
– Ну хорошо, допустим, я начну с этим бороться. А что потом, взамен? У меня нет и не было никаких способностей или таких уж увлечений – рисованием, там, или спортом, или марки собирать. Учеба в школе меня тоже не особо интересует. Что ж мне, отказаться от того, что интересно, начать делать то, что неинтересно, и стремиться – к чему? Так сложилось, что сеять хлеб я, скорее всего, не буду, писать интересные для всех книги – тоже. Так что же? Как хотят родители – пойти в институт, который мне неинтересен, и годами стараться стать старшим инженером или старшим менеджером чего-то не особо кому-то нужного? Так вы и вправду хотите, чтобы я немедленно этим воодушевился и перестал в компьютер играть?
– Я подумаю об этом, – пообещала я.
– Тогда я еще приду, – пообещал он.
Проблема, безусловно, есть, продолжала думать я. Но что это, собственно, за проблема? Большинство зависимостей – это все-таки биохимия. Здесь как будто бы ничего такого нет. Или я просто мало об этом знаю? Если сказать честно, то да. Мне не только неизвестны результаты научных исследований этой проблемы (если таковые существуют) – я даже толком не знаю, что собственно там происходит. Там, внутри электронных сумерек, там, куда, как бабочки на огонь, летят мои подростки… Но я исследователь или где?
Моя дочь за несколько минут насоздавала мне страничек во всех основных и доступных на тот момент социальных сетях. За несколько дней в них проявились мои давно забытые одноклассники, женщина, с которой я будто бы вместе отдыхала в пионерском лагере (я ее не вспомнила), и коллега, с которым я когда-то работала в одной лаборатории (теперь он жил в Штутгарте). Я всем честно ответила: привет-привет! У меня все нормально, а у вас? Прочитала ответы, по запросу включила их «в друзья» и подумала: что же дальше? Дальше – ничего.
Сетевые игры оказались мне, в общем-то, не по мозгам, но я успела приблизительно понять, что там происходит и каковы мои как игрока возможности. Спасти мир и еще общение с соратниками по спасению – приблизительно такое же, как «Вконтакте».
– Ну что, вы все поняли? – мой пятнадцатилетний исследователь-единомышленник снова, теперь уже самостоятельно, записался ко мне на прием.
– Не могу сказать, что все, но кое-чего слегка прояснилось, – осторожно сказала я.
– Что же? – он жадно вытянул тонкую шею, и я увидела, что ему действительно интересно. Все это время он и сам напряженно думал в заданном направлении.
– Во первых строках письма, – быстро сказала я. – Ты, скорее всего, действительно не будешь сеять хлеб и писать романы. Но в тебе очень жив исследовательский инстинкт, ты хочешь понять, в условиях схождения на ваши головы информационной лавины ты способен сопоставлять и группировать факты и явления, это дорогого стоит. Это – путь, и мы к этому еще вернемся.
– Правда? Вы это вправду говорите или чтобы так… лечите меня? – мне показалось, что в его глазах блеснули слезы. Господи, неужели с ним вообще никто никогда не говорил о нем самом?! – Так что же там с соцсетями? – он справился с собой, захлопнул раковину и снова стал обычным подростком – в меру закрытым и отчужденным.
– Знаешь, был такой философ и исследователь – Конрад Лоренц, – сказала я. – Он фактически придумал науку этологию, исследующую поведение животных, и в числе прочего он изучал поведение серых гусей…
Мальчик понимающе улыбнулся, и я увидела, что не ошиблась: он никогда не слышал о Лоренце, но умеет сопоставлять и уже думает в том же направлении, что и я.
– Летом, во время гнездования, гуси живут большими колониями – они гнездятся на земле, и вместе им легче оборонить яйца и птенцов от хищников. Еды там в избытке, конкуренции за нее практически нет. Гуси кормятся, насиживают яйца, охраняют птенцов, спят, просто гуляют. Если появляется хищник, на него нападают и гонят его всей огромной колонией. Но вот Лоренц заметил у гусей странное поведение. Иногда, без всяких видимых причин, два гуся (обычно самцы) вставали напротив друг друга, поднимались на цыпочки, хлопали крыльями и кричали. Потом снова шли по своим делам. Через некоторое время ритуал той же парой повторялся. Были и другие устойчивые пары. Если к ним пытался присоединиться третий гусь (подходил сбоку и неуверенно взмахивал крыльями), его могли принять, а могли и прогнать. Союз гусей явно не имел ни оборонительного, ни сексуального, ни даже иерархического значения. Лоренц назвал наблюдаемое им явление ритуалом совместного крика у серых гусей и даже дал ему приблизительный перевод: «Ты здесь? – И я здесь! – Ты как? – И я так же! – Мы вместе, и это здóрово!»
– Вау! Да это же общение «Вконтакте»! – воскликнул мой смышленый мальчик. – Один в один! «Ритуал совместного крика»! Накопление френдов. Серые гуси, кто бы мог подумать!.. Так зачем им это?
– Ты сам ответь.
– Я думаю, просто для уверенности. Неодиночества в общей сети гусей, среди гусиной толпы.
Я демонстративно зааплодировала. Мальчик покраснел.
– Но почему не дружба в реале? – спросил он.
– Дружба в реале дорого стоит, требует много затрат. Друг может быть навязчивым, злым, неумным, дружбу надо поддерживать, ухаживать за ней, часто о ней думать. «Ритуал совместного крика» много проще.
– А игры?
– Я не смогла их толком исследовать, – призналась я. – Может быть, то, о чем ты уже говорил: желание свершений? Человеку, особенно молодому, хочется совершить что-то конкретное ради чего-то, что больше его самого… Построить, спасти, даже разрушить…
– Герострат, – вдруг сказал мальчик. Помолчал и тихо спросил: – Так что же… пусть оно будет?
– А ты? – спросила я в ответ (хотя обычно этим приемом не злоупотребляю).
– Я – нет! – твердо сказал он, но, подумав, поправился: – Я попытаюсь…
Воплощение добра
– Никому никогда ни до кого нет никакого дела! – парнишка лет шестнадцати, с красивым, но злым и капризным лицом смотрел на меня в упор. – И этого не изменить.
Однако пришел он сам, никого из взрослых не наблюдалось даже в коридоре, что давало надежду на возможность диалога.
Одет дорого и броско, на лице средиземноморский загар, в руке дорогой гаджет. Какая-то ситуационная неудача, сразу предположила я. Возможно, в отношениях. Девушка бросила или даже просто отказала в каких-то его притязаниях. Он привык получать желаемое, разозлился, потом пошатнулась завышенная родительскими возможностями самооценка, запаниковал, видел в фильмах или читал о том, что в таких случаях респектабельные люди обращаются к психологу, и вот пришел.
– Не согласна, – сказала я. – Смотри: матери всегда есть дело до ее детей, сколько бы им ни было лет. Влюбленного, пока длится влюбленность, волнует любая мелочь, касающаяся его возлюбленной. Людям, как правило, очень интересно все касающееся тех, кого они только что облагодетельствовали, хотя это и вполне эгоистическое чувство…
– Да не надо меня лечить! («А зачем же ты пришел, парень?» – мысленно усмехнулась я.) Весь мир – дерьмо! Все врут друг другу и сами себе про хорошее и светлое, чтобы не страшно было и не удавиться сразу. В семье, в школе, по телевизору, в инете… Я сам такой, не думайте, что я не понимаю, считаю, что это другие плохие, а я хороший. Мне тоже ни до кого дела нет. Я девушкам всякие слова говорю, которые, я знаю, они хотят слышать, а потом все забываю. Мы с друзьями вместе тусуемся, поддерживаем друг друга, перед родителями покрываем. А вот моему приятелю что-то стоящее обломилось или получилось у него что-то – так я не то что не радуюсь за него, мне даже неприятно бывает. И им про меня – так же, я спрашивал как-то в клубе, когда все бухие были, знаю…
Я почему-то ярко представила себе этот сеанс клубного психоанализа и спросила:
– Кто еще в твоей семье считает так же, как ты?
– Отец и дед, – моментально ответил парень, как будто заранее готовился к моему вопросу.
– Кто у нас отец и дед? (Уж точно не волшебники, мысленно вздохнула я, вспомнив фильм «Обыкновенное чудо».)
– Отец – бизнесмен. У него все есть, но он все равно все время Россию ругает, говорит, что в этой стране нельзя жить, потому что все ленивые и продажные. А дед сейчас на пенсии, в прошлом был чиновником, а еще раньше – комсомольским вожаком. Он говорит, что на Западе тоже все прогнило и размякло, и его скоро арабы с китайцами и прочие цветные сожрут, и зря Россия по западному пути пошла, потому что идти по нему, в сущности, некуда, надо было империю в кулаке держать…
– Так. Чудесно. А мама с бабушкой?
– Бабушка все время на кухне – еду готовит, у нас в доме просто культ жратвы, самым частым их вопросом ко мне всегда было: «Вовочка, ты кушать хочешь?» А мама – она у нас приезжая из Стерлитамака. Отец на ней по расчету женился: решил, что приезжие – они менее капризные, и, по его словам, не прогадал ни разу. Она последние два года, как сестра замуж вышла и во Францию уехала, а я стал самостоятельный, все вышивает крестом такие картины по образцам… Вы правильно сказали, матерям есть дело, она иногда хочет со мной поговорить, но я совсем не понимаю, о чем бы это…
Да, я ошиблась во всех своих предположениях и теперь искренне сочувствовала парню.
– Не думайте, я вижу, что вам тоже сказать нечего. Я вас не виню, потому как что тут скажешь? Вы, наверное, думаете: чего ж он пришел? Это я вам объясню. Я раньше много книжек читал и года четыре назад, маленьким еще, прочел вашу «Гвардию тревоги». Там, где про ребят, которые всем помогали. И я тогда поверил почему-то, даже значок аларм-гвардейцев на выставке взял и носил, как у них. А потом понял и сейчас вижу: все вранье, и вы врете (не мне даже сейчас специально, а и себе тоже, когда книжки пишете). Так же, как все. Но я вот не хочу, понимаете? Не хочу всю жизнь врать, не хочу крестиком вышивать, не хочу говорить красивые слова, в которые не верю, не хочу жить в стране, в мире, где все равнодушны друг к другу и только притворяются, не хочу жить вообще… Но вы не думайте, вы тут ни при чем совсем, это я вас так в инете нашел, на всякий случай, можно считать, попрощаться с детством… и вообще – попрощаться…
Что у меня есть для него? Я растерянно оглядывалась по сторонам, пытаясь хоть за что-то мысленно зацепиться. Игрушки для малышей на полках, картинки и пособия от логопеда, столик и стульчики, расписанные под хохлому… Под столом банка с насекомыми-палочниками, которых мне подарил разводящий их у себя дома мальчишка. Нету даже моей книжки про аларм-гвардейцев, которая могла бы послужить якорем. Я очень хотела, но никак не могла разозлиться на его идиотизм. Потому что на адреналине еще можно что-то быстро сообразить и предпринять (стрессовая мобилизация). Но вот на панике… А я, если сказать честно, в какой-то момент просто запаниковала. Потому что видела отчетливо: вот сейчас он встанет и уйдет, уже встает… Куда он пойдет, что сделает? Скорее всего, это просто истерическая демонстрация. А если нет?! Что если он действительно нашел меня в интернете, чтобы попрощаться с детством и… со всем остальным?
– Владимир, ты придешь еще?
– Нет, спасибо. Удачи вам и творческих успехов!
– Сядь сейчас! – рявкнула я, наконец-то сумев разозлиться (естественно, на себя). Парень от неожиданности упал на стул. – Ты прав, на каком-то уровне никому нет никакого дела. Но есть еще материальный мир, единственный данный нам в ощущениях. И смотри, смотри, какая штука: в нем воплощается только добро! Люди могут быть какими угодно – злыми, жадными, глупыми и противными, но они берутся за дело и всегда воплощают лучшее, что в них есть. И в этом твое и мое спасение. Смотри сюда: вот обои на стене – кто-то где-то придумывал эти цветочки, пытался их расположить покрасивее. Представил его или ее, как он сидит и думает? Потом кто-то наклеивал их сюда, строил детскую поликлинику, чтобы дети сюда приходили и лечились. А вот столик. Хохлома, ручная работа. Художник сидел с кисточкой и рисовал вот эти ягоды, эти золотые листочки. Видишь его? Может, он был пьяница и жене изменял, но воплощается только добро, и в тысяче детских садиков и поликлиник стоят его столики и стульчики. А вот ящик с игрушками. Каждую из них придумывали, рисовали, проектировали, вкладывали воображение, старались, чтобы было оригинально, красиво, полезно и по-доброму. Это же для детей… А вот мой блокнот для записей. Кто-то выбрал для него картинку и сделал так, чтобы листочки ровно и удобно отрывались…
– А зло? Его же много, – подавшись вперед вместе со стулом, спросил Владимир.
– Зло никогда не воплощается. Оно способно только к развоплощению уже имеющегося. Но потом снова приходит добро…
– То есть вы хотите сказать, что все равно, какой я, но если я, например, честно пеку булки или расписываю чашки, я воплощаю лучшее во мне…
– Конечно!
– И все равно кем стать?
– Тебе правильный ответ или честный?
– Конечно, честный!
– Я думаю, все равно кем, лишь бы не чиновником.
– А почему?
– Мне кажется, они как-то изначально исключены из этого воплощательного круговорота. Потому у них и зарплаты такие большие, и свой круг, и привилегии, что работа ужасная. Мне думается, это справедливо. Они же только здесь и сейчас. А убрали его из круга – и все: его меньше осталось, чем художника по столикам.
– Я никогда не слышал, чтобы кто-то так про чиновников думал, – рассмеялся Владимир. – Но… нас всегда окружает только воплощенное добро… Это, пожалуй, здорово! Я подумаю…
– Не забывай, в материальном мире есть еще природа со всем ее несказанным совершенством. Мы не знаем, кто и как это создал, но оно воплотилось просто офигитительно. Стоит жить только для того, чтобы видеть закаты…
Последняя фраза была явно лишней! Слишком сопливо и прямолинейно. На лице парня появилось сомнение…
– Вот! – я достала из-под стола банку с палочниками. – Я, пожалуй, подарю тебе одного на память о нашем разговоре. Он ест дубовые, малиновые листья, традесканцию или гибискус, и еще надо раз в день опрыскивать банку водой. Его можно брать в руки, он не против. Отряд привиденьевые…
– Привиденьевые?! – снова засмеялся Владимир. – Ух ты, какой прикольный! Какое странное воплощение… Но мне нравится.
Потом мы с Володей встречались еще несколько раз. Прочие наши разговоры были куда менее драматичными, чем первый. Палочника назвали Каспером, он акклиматизировался хорошо и стал любимцем всей семьи. Чтобы Касперу не было одиноко, на Кондратьевском рынке Володя купил ему большой аквариум и еще двух друзей. Палочникам как будто бы не очень нужны друзья, но я не стала говорить об этом парню. К тому же, как мне прекрасно известно, я могу и ошибаться…
Эмпатка
– Тошнота, головная боль, астматический синдром, боли в животе, в ногах, поносы, запоры, дискинезия желчевыводящих путей, обмороки, онемение… – женщина закончила перечислять симптомы своей дочери (мне показалось, что сам список не кончился, просто она решила, что на первое время хватит – я не смогу все сразу запомнить) и протянула мне толстую папку. – Вот, здесь результаты обследований.
– А где же сама Альбина?
– Она больше не хочет ходить к психологам. Они думают, что она чуть ли не симулянтка. Но я-то знаю свою дочь лучше, чем все врачи и психологи вместе взятые. Она реально страдает. Но при этом всегда чувствует состояние другого, готова посочувствовать, помочь…
– Так. У психиатра были?
– Да. Он прописал таблетки, от которых Альбине стало просто чудовищно плохо.
Значит, депрессии у нее нет. И на том спасибо. Истерический невроз? Но психологи, да и психиатр должны были бы при такой истории вопроса без труда его диагностировать. Да и слова матери о сочувствии… Не совпадает, ведь истерики всегда эгоисты и настроены только на себя. Я перелистала бумажки в поданной мне папке.
– Что ж, к психологам Альбина ходить отказывается, а на малоприятные обследования соглашается?
– Да. Тут есть один момент, который, наверное, важен. Альбина всегда много болела и, может быть, поэтому с пяти лет хочет стать врачом. Собирается поступать в мединститут, очень серьезно изучает биологию, читает соответствующие книги, смотрит фильмы…
– Сериалы про врачей смотрит?
– Все, что есть, даже на английском языке. Потом уточняет в интернете, если что-то не поняла по медицинской части.
– «…И нашел у себя все, кроме воды в колене и родильной горячки»! – радостно процитировала я Джерома К. Джерома. – Сериалы о больницах исключить категорически. Интернет ограничить, только «Вконтакте», «Одноклассники», фейсбук и прочая подобная мура. Телевизор – только МТV, юмор и латиноамериканские сериалы. Насильно таскаете ее в гости, в кафе, за город, устраиваете домашние спектакли и семейное вечернее чтение классики (Чехова, Булгакова, Вересаева исключить, они врачи). Внимательно наблюдаете за симптомами. Должно полегчать. Приходите ко мне через две-три недели с результатами.
Альбина – стройная девочка с ровной челкой и умными, внимательными глазами.
– Мы все сделали, как вы сказали. Но результатов – увы! – никаких.
– Альбина сразу согласилась на эксперимент?
– Даже заинтересовалась. Видите, в этот раз пришла вместе со мной.
– И что же – совсем-совсем никаких результатов? – уточнила я. – Подумайте внимательно. Может быть, стало даже хуже? Или симптомы как-то изменились?
– Нет, вроде ничего такого… – мать отрицательно покачала головой. – Смотрите сами: тошнота и боль справа во вторник, когда мы были в гостях у бабушки Клавы, обморок после «Жизели» в четверг, давление и менструация не вовремя вечером в субботу, когда у нас дома была вечеринка для одноклассниц…
– У бабы Клавы есть какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом?
– Да, ей вырезали желчный пузырь. А что, вы думаете, это наследственное?
– Я могу поговорить с Альбиной без вас?
– Разумеется! Я подожду!
– Не надо, с вами я уже сегодня не успею. Придете ко мне завтра вечером. Вот, я вас записала.
– Если сегодня в серии «Скорой помощи» массовая травма, например, у всех ожоги, то что с тобой будет к вечеру или к утру? – спросила я у Альбины. – Зуд? Покраснение кожи? Повышение температуры?
– Может быть…
– А если у пациента доктора Хауса рак легких? Кашель? Затрудненное дыхание?
– Вам тоже нравится доктор Хаус? А вы помните, как он?..
– Нет. Не нравится. Посмотрела несколько серий – и не смогла дальше.
– Но почему?! – девочка явно разочаровалась во мне. – Он всегда говорит, что думает, и у него такие глаза…
– Да он похож на какую-то дурацкую пародию на Христа! – с сердцем сказала я. – «Я вас тут всех спасаю, и поэтому все ваши правила не про меня писаны».
– Гм… – Альбина задумалась, потом усмехнулась. – Я с этой стороны не смотрела. А ведь и правда – что-то есть… И как он там с этими учениками ходит и все время над ними издевается…
– Альбина не симулянтка, – сказала я матери. – Она эмпатка. По-видимому, это ее врожденная особенность. Считывает проблемы других людей, и они отражаются в ней, как в зеркале. Только зеркалу не больно… Ей можно помочь. Для этого надо загрузить по максимуму ее мозг. Закон Ломоносова – Лавуазье: если где-то что-то прибавится, то где-то что-то непременно убавится. Сейчас у нее девятый класс. Какая-нибудь замороченная спецшкола на десятый-одиннадцатый…
– Спецшкола?! Но Альбина и в обычной школе учится весьма средне. Только по химии, биологии и литературе у нее пятерки.
– Я разговаривала с ней. Поверьте мне, Альбина очень умна. И, в отличие от большинства, умеет выбирать. К тому же ее суперэмпатия – это жуткая энергетическая воронка, она очень много тратит на это.
– Она не согласится.
– Согласится. Мы подадим это как научный эксперимент. Проблема, методы, материалы, рабочая гипотеза, протокол исследований… Ей понравится.
Спустя полтора года.
– У меня все в порядке. Здоровье намного лучше. Учиться в гимназии интереснее, чем в моей старой школе. Но я хотела поговорить с вами о профориентации.
– Я рада тебя видеть, Альбина. Ты больше не хочешь быть врачом?
– Очень хочу – в том-то и дело. Медицина – это именно то, что меня всегда интересовало и интересует сейчас. Но получается, именно это мне и противопоказано?
– Плохая новость: работать непосредственно с пациентами для тебя действительно опасно. Хорошая новость: есть научная медицина, созданная как будто специально для тебя. Прокладывать новые пути. Изобретать новые лекарства. Теория и философия медицины. Этому учат на медицинском факультете нашего университета.
– Плохая новость… хорошая новость… Вы говорите прямо как доктор Хаус, хоть его и не любите! – рассмеялась Альбина. – А про медицинский факультет я обязательно подумаю.
Не бойся
– Мне страшно, – с запинкой признался высокий, длинноволосый, чуть прыщавый юноша лет шестнадцати, в одиночку пришедший ко мне на прием.
– Что случилось?
Я отнеслась к его заявлению с большим вниманием. Возраст почти нормальных детских страхов, связанных с пробуждением фантазии и недостаточностью информации о мире, для него давно миновал. Подростков обычно характеризует скорее туповатое бесстрашие и недостаточность прогностического мышления. Они проделывают очень опасные вещи, ввязываются в сомнительные мероприятия, почти не задумываясь о последствиях. Если мой посетитель боится настолько, что счел нужным самостоятельно обратиться к специалисту, значит, дело достаточно серьезно. Мне очень хотелось думать (отсюда и мой вопрос), что мы имеем дело с ситуационным страхом, с которым можно работать, разрешая саму ситуацию: рассорился со сверстниками, запутался в долгах, и ему угрожают, критически запустил учебу, не поставив родителей в известность… Альтернативой этим малоприятным, но, в общем, нормальным подростковым событиям мне виделась психиатрия. Возраст для первой манифестации, увы, самый тот.
– Да ничего не случилось, в том-то и дело, – уныло сказал назвавшийся Максимом подросток, усиливая тем самым мои худшие подозрения.
– Расскажи о себе, о своей семье, – попросила я, хватаясь за свой стандартный пучок соломы: может, кто-то из родителей опасно болен? Может, тяжелый развод? Чувство вины за что-то, которое он по юношеской неопытности сердечной жизни принимает за страх?
– Нормальная у меня семья, – сказал Максим. – Папа, мама, бабушка, дедушка. Еще кот есть, порода – невский маскарадный. Я учусь в десятом классе. Еще дополнительно занимаюсь французским и испанским языками. Окончил музыкальную школу по классу валторны.
– Как с учебой?
– Так себе. То есть я без троек учусь, но мог бы, наверное, лучше. Можно сказать, что ленюсь.
– Есть друзья?
– Наверное, есть. Из школы, и еще. Мы хотели музыкальную группу организовать, но у нас пока не получилось…
Так. На фоне полного благополучия – семья, школа, увлечение музыкой, языки – он боится настолько, что пришел ко мне. Теперь надо было спрашивать уже непосредственно про страх. Но мне было… страшно.
– Максим, чего или кого ты боишься?
– Да я сам не понимаю. Потому и пришел к вам. Мы с мамой у вас когда-то уже были, давно, она спрашивала, в каком направлении меня развивать…
– Родители тебя сильно «развивали»? – ухватилась я (может, просто переутомление, ведь школа Максима считается одной из самых сильных в городе?).
– В общем, да, – усмехнулся юноша. – Но я не особо против, и музыка, и языки мне нравятся.
Опять мимо. Что же тут такое?
– Я, бывает, боюсь по улицам ходить, – тихо сказал Максим. – И с незнакомыми людьми разговаривать. Они кажутся мне… опасными, что ли?
– Что они могут сделать? – быстро спросила я. Восемь лет в музыкалке, четыре языка, перегрузка в школе, четыре амбициозных взрослых человека на одного парня… Обсессивно-компульсивные неврозы лечатся. Лишь бы это оказался реальный страх перед реальными людьми, открытыми пространствами, закрытыми пространствами…
– Я тут в прошлом году решил сделаться панком, – совершенно неожиданно сказал Максим. – А потом еще немножечко эмо. Я подумал: хоть кто-то свой будет, не так страшно… Но у меня чего-то не получилось…
Все мои построения рассыпались, как карточный домик. Повеяло экзистенциальными вопросами. Почему я не подумала о них раньше?
– Ты боишься одиночества в мире?
– Вы знаете, наверное, да, – оживившись, кивнул головой Максим.
– Но откуда оно берется в твоем случае? У тебя есть семья, друзья, приятели, разделяющие твои увлечения… Как получилось, что никто из них не стал «своим»?
– Они всегда говорили: не будь как все, не иди в толпе, это пошлость… Я сначала им верил, а потом, наоборот, захотел со всеми, но не смог…
– Они – это родители, семья? – уточнила я.
– Да.
– С этого места давай подробней.
С раннего детства Максиму объясняли: есть «мы» и есть «они». «Они» смотрят тупые программы по телевизору, безвкусно одеваются, слушают попсовую музыку, пьют пиво и водку, едят вредный фастфуд, учатся в дворовых школах, без толку шляются по улицам и вечерами сидят на скамейках, болтая ни о чем с обильным применением ненормативной лексики. Если «они» читают, то комиксы или «жвачку», если смотрят кино, то американское и тупое, если ходят на концерт, то каких-то ужасных, бездарных певцов и групп. Работа у «них» всегда нетворческая, и «они» ее не любят. «Мы» – творческие люди, слушаем хорошую музыку и читаем хорошие книги, в свободное от творческой работы время смотрим хорошие фильмы и спектакли, посещаем филармонию, телевизор почти не включаем – там одна пошлость. Едим полезную еду, одеваемся со вкусом, дружим и общаемся с такими же, как «мы», а с «ними» у нас нет ничего общего.
– Так вот, все это неправда, – заключил Максим.
– Это трусливое вранье, – усилила я.
– Точно! – обрадовался подросток. – Дедушка, если разозлится, не дурак матом сказать, папа иногда тайком в «Макдональдс» заходит, я видел, мама Донцову в ящике стола держит и читает, а бабушка, когда никто не видит, любит ток-шоу по телику посмотреть.
– И ты…
– Я научился презирать «их». Но никакого «мы» – как бы своих – так нигде и не увидел. Мои одноклассники интересуются тем же, чем «они» в описаниях моих родителей, – компьютерные игры, гаджеты, музыка, шмотки, энергетики. Да, почти все ходят в театры, в музеи… И что? Мне страшно, когда я думаю, что «они» тоже меня презирают, и я остался один, как тот негр с собакой в фильме о конце света… Я попробовал с неформалами, они вроде все вместе против других, но там у меня тоже не вышло. Я, если честно, запаниковал. Я не хочу так жить…
– Боже мой… – сочувственно вздохнула я. Парень-то оказался умнее, честнее и чувствительнее большинства сверстников и даже взрослых. Экзистенциальные вопросы… Я не люблю о них говорить. Но здесь деваться некуда, придется.
– Твой страх на самом деле не твой. Это твои родители боятся мира, отгораживаются от него. Ты не можешь их переделать, но вполне можешь идти своим путем. Они же тебя, в сущности, этому и учили – не иди вслед. Твой опыт с панками и иже с ними не удался потому, что там все основано на той же схеме, которую ты уже перерос: «мы» (хорошие) объединяемся против «них» (плохих).
– Угу. Но что мне делать со своим собственным ощущением: боюсь? И какой путь мой? – Максим по своему обыкновению смотрел в корень. – Я не люблю смотреть телевизор, материться и красить волосы. Правда, очень люблю толстые гамбургеры и кока-колу…
– Ты уже сам догадался, что «мы» и есть «они». Но, видишь ли, на самом деле все еще круче, в каждой религии или философской системе мира есть откровение еще большего масштаба: ты есть Оно.
– Что это значит?
– Это значит принципиальное единство макрокосма и микрокосма. Ты как личность един и, по сути, одно не только с болтающими и выпивающими на скамейке сверстниками, но и вот с этим цветком, вон с той чайкой в окне… Самые продвинутые люди в земной истории умудрялись это единство чувствовать постоянно, а прочим удается только время от времени.
– Я знал! – воодушевленно воскликнул Максим. – У меня однажды было…
Кандидатский минимум по философии я сдавала двадцать лет назад и все давно забыла, поэтому пересказ нашего с Максимом дальнейшего разговора явно вызовет у знающих «нас» приступ гомерического смеха. Не будем провоцировать.
Спустя полгода Максим зашел ко мне поговорить о своих отношениях с отцом, который достаточно агрессивно настаивал на поступлении юноши на факультет международных отношений (сам Максим решил поступать на философский). Я, конечно, спросила о страхах.
– Вообще прошли. Я прохожу мимо и думаю: мы – одно. И они меня сразу не презирают, и я их – нормальные такие ребята… И с цветком тоже почти научился…
– Слушай, ты только не увлекайся, – вздохнула я. – А то будет как с чайником…
– А как с ним? – заинтересовался Максим.
– Ну есть такое йоговское упражнение, – усмехнулась я. – Сядьте в позу лотоса. Поставьте напротив чайник. Попытайтесь представить, что вы – это чайник, а чайник – это вы. Постарайтесь ощутить в себе донышко, бока, носик, пока не дойдете до ручки. Когда ощутите, что чай, налитый в вас, заварился, переходите к следующему упражнению.
– Я понял, – засмеялся Максим. – Ни к какой схеме не надо относиться с такой уж серьезностью…
Я кивнула и подумала, что из него наверняка получится неплохой философ.
А где же я?
– Конец десятого класса, впереди одиннадцатый. Нужно определяться с дальнейшим, вы же понимаете, а у нас… – мать выглядела весьма встревоженной.
Высокая, несколько неуклюжая девочка по просьбе матери осталась сидеть в коридоре. К происходящему не проявила никакого любопытства и, еще не усевшись на банкетке, моментально достала какой-то гаджет и воткнула в уши наушники. Я рассеянно перелистала карточку, сразу предположив обычный набор подростково-семейных проблем: не слушается, гуляет с приятелями, не делает уроков, не хочет думать о будущем, хамит, огрызается, а ведь если так будет продолжаться…
Однако я ошиблась.
– Мы наблюдаемся и лечимся у невролога, обследовались в диагностическом центре, у психолога тоже были и даже у психиатра. Она уже не хочет больше ни к какому врачу идти, никому не верит, я ее сегодня с трудом уговорила сюда прийти. Но ведь никто так толком и не объяснил нам причины и, главное, что же делать…
– Так что же происходит с Таней?
– Головные боли несколько раз в неделю. Снимаем достаточно сильными таблетками. Все обследования сделали, ничего не нашли, – четко и, видимо, привычно заговорила мать. – Бывают головокружения, списывают на вегетососудистую дистонию, плюс она быстро выросла в прошлом году. Неустойчивое настроение, иногда прямо на ровном месте возникают истерики, потом она сама часто не может объяснить, что, собственно, послужило причиной. Даем валерьянку.
– Ваша семья?..
– В семье все вроде бы нормально. Я, муж, бабушка, все работают, есть Танина младшая сестра. Ссоры бывают, как и у всех, но вполне умеренные. С ее состоянием – мы специально наблюдали – вроде никак не коррелируют. Между сестрами отношения хорошие, насколько я могу сравнивать с другими. Младшая за нее очень переживает, когда Тане плохо, сама плачет.
– Но все симптомы – только в семье?
– Нет. Головная боль, несколько раз обморочное состояние – это в школе.
– Отношения в школе, с учителями, с подругами?
– Хорошие. Я ходила к классной руководительнице, она сама беспокоится, но ничего даже предположить не может. Раньше Таня хорошо училась, пятерок больше, чем четверок, а сейчас у нее успеваемость упала, потому что часто пропускает, много времени просто лежит, смотрит телевизор. Это вредно, конечно, я понимаю, но что ж ей, просто в потолок смотреть? Я… мы очень волнуемся… – на глазах женщины выступили слезы.
– Были ли неврологические проблемы раньше?
– Можно сказать, да. На первом году жизни мы тоже наблюдались, пили препараты, делали массаж. Потом невропатолог нас отпустил, сказал, все нормально. Потом еще долго соску сосала, были страхи – темноты, больших собак, боялась каких-то бугагашек… это лет в пять уже. Больше вроде ничего не было.
– Сколько продолжается нынешний эпизод?
– Приблизительно полтора года.
– Ага. Теперь позовите, пожалуйста, Таню, а сами посидите в коридоре.
Все симптомы у Тани, безусловно, неврологические. Нервная система девочки – изначально «орган-мишень», это понятно (была родовая травма, я это в карточке видела, да и мать подтвердила). Но что же такое с ней произошло теперь и длится вот уже полтора года, никак не реагируя на лечение невролога?
На все мои вопросы о семье, школе, подругах, увлечениях Таня отвечала четко, вежливо и равнодушно. Видно было, что я не первый психолог, которого она встретила на своем жизненном пути. Ничего от этой встречи она не ждет, выглядит очень уравновешенной. Трудно представить себе, как эта девочка истерит на ровном месте.
Я озвучила свои ощущения. Таня их тут же охотно подтвердила: да, конечно, понимаете, когда голова чуть не каждый день болит, как-то все равно делается – какой я музыкой увлекаюсь, из-за чего обычно с бабушкой ругаюсь и не видала ли случайно, как мама с папой младшую сестренку заделали… («Ого! Даже психоаналитик где-то затесался!» – подумала я).
Таня – подросток. При этом явно умна, начитанна, хорошая речь, стало быть, по возрасту имеется второй экзистенциальный кризис: кто мы, откуда, куда идем? Много думает? Об устройстве мира? О людях? А с кем об этом говорит?
– Да-да, конечно, до того, как заболела, особенно часто. Не с подругами, нет. Больше в семье – с папой, с мамой, с бабушкой. Очень интересно.
– Даже с бабушкой? – заинтересовалась и я. Нечасто нынче такое встретишь.
– Да что вы! – рассмеялась Таня. – У нас бабушка самая крутая. Она кришнаитка в «Другом мире». Я, когда поменьше была, часто с ней туда ходила. Мне их еда нравится. И «Бхагават-Гита» тоже. И что гармония – внутри самого человека. Бабушка говорит, что человек без духовной жизни – это как пирожок без начинки.
(Так называемый Центр развития человека «Другой мир» – здание в Питере, которое в складчину арендуют представители самых разных оккультно-мистически-оздоровительных тусовок.)
– Замечательно. А папа с мамой?
– Нет, они к этому отношения не имеют. Мама только иногда в православную церковь ходит, но редко. А папа – вообще никуда.
– Что же, у папы – никакой духовной жизни?
– Он говорит, что в этой стране вообще жить невозможно, потому что тут везде коррупция и беззаконие. Им уже поздно все менять, а мне надо выучиться и в Америку уезжать. Там свобода.
– А мама с ним согласна?
– Нет. Она говорит, что родина, язык, корни – это очень важно. А всякие «граждане мира» – это как перекати-поле. Везде, в том числе и в России, можно жить хорошо и достойно, если есть деньги. Стало быть, надо просто научиться их зарабатывать в достаточном количестве. Для этого нужно соответствующее образование и старание.
– Так. А чего же хочешь ты сама?
И тут от совершенно нейтрального вопроса у Тани началась истерика – точь-в-точь как описывала ее мать.
Когда с помощью холодной воды (валерьянки у меня не было) я несколько привела ее в чувство, то решила побыть зеркалом:
– Главное в человеке – это гармония. Она внутри (бабушка). Но снаружи есть страна, в которой жить невозможно, потому что она какая-то неправильная (папа). Человек же без корней – вообще не человек, а так, мертвая степная травка (мама).
– Да, да! – почти радостно воскликнула Таня, утирая кулаком покрасневший нос. – А ведь есть и еще много другого всякого! В книгах, в телевизоре, в интернете! Слишком много! А я – одна. Хорошо тому, кого к чему-то определенному тянет. Вот моя подруга с пяти лет хочет одежду рисовать, моделировать – и все! Все понятно, и я ей завидую. А как мне выбрать для себя? Свое? Вы не знаете?
Я не знала и честно сказала ей об этом.
– Но ты ведь еще придешь? Просто так, поговорить.
– Приду.
Вызвала из коридора мать и законодательным порядком запретила до конца одиннадцатого класса «Другой мир», Америку и зарабатывание денег для достойной жизни в России. Все силы семьи – на профориентацию.
Таня приходила ко мне еще несколько раз. Проблему информационной избыточности современного мира мы с ней, конечно, не решили. Но головные боли уменьшились, а истерики исчезли почти совсем. Она поверила, что все-таки сможет отыскать свою дорогу, и приступила к конкретным действиям. Мне хочется верить, что у нее все получится.
Никакой ребенок
– После попытки самоубийства Сергей лежал в психиатрической больнице. Там с ним работал психолог, он нам сказал, что попытка была настоящей, а не демонстративной. Наш сын действительно хотел умереть.
– Ага. А как сейчас?
Значительная часть демонстративных попыток суицида у подростков повторяется – уже известная «разрядка» и знакомый выход из трудной ситуации. С настоящими (если умереть не удалось) дело обстоит сложнее.
– Он молчит, ходит в школу, но нам кажется, что его состояние не слишком улучшилось. К психологам после больницы ходить отказывается.
– Гм… Мне показалось, что я видела юношу в коридоре. У вас есть еще один сын?
– Сергей – наш единственный ребенок. К вам я уговорила его прийти только потому, что в детстве он читал вашу книгу «Класс коррекции». Я это запомнила оттого, что он тогда плакал.
– Расскажите о Сергее. В основном меня интересуют его достоинства, сильные стороны.
– В том-то и дело, что у него их как будто и нет. Никаких увлечений, никаких дел, учится через пень-колоду, целыми днями смотрит телевизор или играет в компьютере. По дому не помогает, чтобы вынес пакет с мусором или вымыл посуду, надо пинать два дня, мне проще самой сделать. Иногда ходит гулять с такими же никчемными приятелями – «Макдональдс», кино, сигарета, энергетические напитки, но и это все как-то без страсти, увлечения. Говорят, у подростков есть какой-то протест, я его в нем не вижу…
Странно, подумала я. Нет протеста? А попытку сына убить себя она к чему причисляет?
– Девушка есть? Все-таки шестнадцать лет…
– Была. Расстались. Я ему говорила, что строить отношения – это труд. Ему было лень, как и все остальное. Впрочем, девушка тоже звезд с неба не хватала…
– Не бывает людей без достоинств, индивидуальных особенностей. Если не видите сейчас, вспомните раньше, в детстве.
– Не помню, простите. Всегда был средненьким, сереньким каким-то. Учитель в начальной школе и воспитатели в детском саду его не хвалили и не ругали. Как-то, видно, не за что было. Даже младенцем он по всем показателям укладывался куда-то в середину ваших врачебных таблиц. Да, раньше приводил с улицы бродячих собак, как-то принес лишайного котенка…
– И?
– У него в детстве был диатез, да и все равно он с его ленью не стал бы за ними ухаживать. А мне нужны в квартире лишаи и уличные собаки?
– Я пока не поняла, что вам нужно, – констатировала я. – Позовите, пожалуйста, Сергея.
– Только не надо мне говорить про уникальную ценность каждой человеческой жизни!
– Да? А почему? Я как раз собиралась, только рот открыла…
– Потому что это вранье.
– А в чем же правда?
– Правда в том, что я как раз тот самый собирательный молодой человек, о котором вечно трындят учителя, родители, пишут в газетах и по телевизору и все такое. Мне ничего не интересно, я не делаю ничего стоящего, у меня нет настоящих друзей, я ни в кого по-настоящему не влюблялся, только играю в компьютере и смотрю фильмы. И это взаправду так, и не надо мне врать, что я особенный и во мне есть какая-то искра, которую еще не разглядели. Никому не надо ее разглядывать, даже мне самому. Просто потому, что ее нет.
– Допустим, все так, как ты сказал. Ну и что дальше?
– Дальше все то же самое. После школы родители запихнут меня куда-то учиться. Я выучусь и буду где-то работать – без интереса, просто за деньги. На эти деньги буду ходить в кино, бары и боулинг, болтать там с приятелями и развлекаться с девушками. Может быть, даже потом женюсь, и у меня родятся дети, такие же, как я сам…
– Все это плохо?
– Нет, это не плохо. Это никак.
– Но ты можешь это изменить.
– Не могу. Если бы мог – изменил. Я попытался, но даже это у меня не вышло. Родители сказали, что я сделал все как всегда, обыкновенно, именно так, как описано в инете по первой ссылке «суицид у подростков». Я проверял – это правда. Но я еще попробую, потому что не хочу так…
Мне захотелось отдать родителей Сергея под суд по статье «доведение до самоубийства». Но это было не в моей компетенции. Я понимала: что бы я сейчас ни сказала матери, до нее просто не дойдет. Но я должна была попытаться.
Пыталась несколько раз. В конце концов она просто перестала приходить.
Психотерапия не могла помочь Сергею. Сколько бы он ни углублялся в себя, он находил там именно то, что ожидал найти. Спасение было снаружи, в жизни, которая, конечно, значительно многообразней, чем ему казалось. Я помнила про его детские слезы над героями моей старой книжки (и вправду слегка соплевыжимательной) и про приведенных с улицы дворняг. Сначала я даже хотела связаться с Андреем Домбровским из Павловского интерната, но потом подумала, что это неловко – мы не представлены, и у него по горло своих забот, кроме моих неудавшихся суицидентов. По счастью, моя хорошая знакомая преподает рукоделие в приюте для девочек – молодых матерей. Я попросила ее о содействии.
– Ты не боишься? – спросила она. – У нас контингент – сама понимаешь. Хуже не будет?
– Некуда хуже, – ответила я. – У тебя там бывшие суицидентки есть?
– Сколько угодно, – ответила она. – На выбор.
– Представляете, мне, оказывается, нравятся маленькие дети! – улыбаясь, сказал Сергей. Улыбка кардинально меняла черты его лица и делала «никакого» юношу попросту красивым. – Они такие забавные, капризные или ласковые, чудесные… Я с ними играю, и еще мы завели живой уголок – голубь, собака и три морские свинки.
– Ты думаешь о будущем? Оно больше не видится в серых красках?
– Конечно, нет. Но я подумал, что воспитатель детского сада – это все-таки для мужчины странно, и решил, что буду поступать на педиатрический. Выучусь и буду лечить маленьких детей.
– Ага, это называется неонатолог. Дети, голуби… А с матерями-то детей у тебя как? – улыбнулась я.
– С матерями тоже все нормально, – сказал Сергей и слегка покраснел.
– Вы что, с ума сошли?! – мать почти орала. – Направили моего сына к малолетним проституткам!
– Эти девочки вовсе не обязательно проститутки, многие из них просто попали в трудную жизненную ситуацию.
– Не надо ля-ля! У них прижитые в пятнадцать лет дети! Половина из них больна всякими ужасными заболеваниями! Это у вас такое лечение?! Послать ребенка в сифилитический притон! С ума сойти! Впрочем, я должна была бы догадаться по вашим книжкам…
– Ваш сын хочет стать врачом.
– Да какой из него врач! Он же наивный идиот! Он там влюбился в какую-то Сонечку Мармеладову и теперь…
– Теперь он живет! Вместо того чтобы умирать! – не сдержавшись, рявкнула я. – Живет яркой, наполненной страстями жизнью, соответствующей его гуманитарным наклонностям. Он больше не серенькая никчемушка, и, как бы все дальше ни сложилось, вы его обратно уже не запихнете!
Женщина осеклась на полуслове, несколько секунд молча сверлила меня взглядом, а потом вышла из кабинета, плотно прикрыв за собой дверь.
Я мысленно пожелала Сергею удачи и – держаться, несмотря ни на что.
Философ
Мы немного поговорили о Канте, Риккерте и Берталанфи. О том, что жизнь человека есть акт творчества. И о магическом символизме иенских романтиков, переходящем в наше время в «магический вербализм». Все это было очень мило и интеллигентно, но поскольку склад ума у меня системный, а ни в коем случае не философский, переливать из пустого в порожнее мне быстро надоело.
– Послушайте, – воскликнула я, обращаясь к своему собеседнику – мужчине средних лет с импозантной сединой на висках. – Как-то это все-таки неправильно: обсуждать философские и прочие взгляды вашего шестнадцатилетнего сына за его спиной. Почему вы не привели ко мне самого юношу?
Мужчина сплел длинные пальцы и отвратительно хрустнул ими. Глаза его подозрительно влажно блеснули.
– Да потому, – воскликнул он в ответ, – что Алексей уже три месяца отказывается выходить из дома!
– Ап! – сказала я и надолго замолчала.
Папа, с явным удовольствием пережевывающий философскую жвачку. Сын, не выходящий из дома. Шизофрения?
– Бред, голоса, галлюцинации, вычурные системы, идеи, страхи? – напрямую спросила я.
– Нет-нет, ничего подобного! – поспешно ответил мужчина.
Не сказать, чтоб я успокоилась. Бывает шиза и без продуктивной симптоматики. Лечится, кстати, еще хуже.
– Во всем виновата его мать, – твердо сказал мой посетитель, которого звали Виталий. – Я предупреждал, но она все это поощряла из-за своих дурацких амбиций.
– Простите, а мать вашего сына вам-то кем приходится? – осведомилась я.
Виталий смутился.
– Женой. То есть бывшей женой. Мы давно в разводе.
– Так. Расскажите, пожалуйста, все по порядку.
Если он не приведет сына, я вряд ли смогу им чем-то помочь. Но мне следует хотя бы попытаться понять, а ему – проговорить вслух и, может быть, увидеть какие-то нестыковки в своей позиции. Когда один родитель обвиняет другого в происходящем с их общим ребенком – это всегда неконструктивно.
В раннем детстве Алексей вроде бы был вундеркиндом. Или это им просто казалось – я так и не поняла. Во всяком случае, с ним много занимались, у него были необычные интересы и взрослые суждения обо всем на свете. Со сверстниками он почти не общался, предпочитая общество взрослых людей. Мать с отцом развелись, когда Алексею было пять лет. Инициатором развода была женщина – она обвиняла мужа в том, что он пустой человек, витает в облаках, целыми днями ни черта не делает (он преподавал культурную антропологию и еще что-то в этом роде) и не может даже починить кран на кухне. После развода отец хотел общаться с сыном, но, по-видимому, как-то вяло. Мать официально во встречах не отказывала, но все время ставила какие-то препятствия: ребенок простужен, ребенок у бабушки, ему уже спать пора… Отец довольно быстро отступился. Нет так нет. Поздравлял с днем рождения и с Новым годом. Алименты жене переводил сначала на книжку, а потом на карточку.
Когда Алеша учился уже в средней школе, отец с сыном стали нечасто, но регулярно встречаться (приблизительно раз шесть – десять в год, уточнил мужчина). Обычно гуляли в парке, сидели в кафе. Говорили на равных, обо всем на свете. Алексей много читал, был заядлым театралом, посещал лекции в Эрмитаже, рано стал интересоваться философией. Отец уже тогда замечал: есть проблемы, мальчик как-то совсем не вписан в обыкновенную человеческую жизнь.
Алеша не ходил в магазины, не умел сделать заказ в кафе, не гулял во дворе, не играл в футбол, не влюблялся в девчонок.
– Это все мать, ее воспитание, – твердил Виталий теперь. – Она все за него делала и всячески поощряла в нем эту «необыкновенность». Ей это как будто бы льстило. И учителя в гимназии тоже… «Все раздолбаи, компьютерные игры да попса, а он у вас такой вежливый, серьезный, в филармонию ходит…»
Виталий попробовал поговорить о социализации сына с бывшей женой. Ответ был вполне ожидаем: «А раньше-то ты где был? Нашелся теперь… будешь еще меня учить…»
Однако к девятому классу проблемы, по-видимому, обострились: мать повела Алексея к психотерапевту. Сначала к одному, потом к другому, третьему… Мальчик с юмором рассказывал об этих посещениях отцу и сначала явно получал удовольствие от словесных дуэлей со специалистами – специально готовился к сессиям, читал литературу. Никакого изменения в его состоянии, впрочем, не последовало. И однажды, без объяснения причин, он наотрез отказался от посещений.
Когда Алеша перестал выходить из дома, мать позвонила отцу: «Сделай же что-нибудь! Хотя бы раз в жизни будь отцом и мужчиной!»
– А чем он сейчас-то объясняет свое домоседство? Страхи? Недомогание?
– Ничем не объясняет. В том-то и дело. Как мы ни уговаривали… При этом он ведет себя вполне спокойно, читает, что-то пишет в интернете, смотрит хорошие фильмы…
– Виталий, попробуйте все-таки Алексея привезти. На машине. В приказном порядке. Сами понимаете, сейчас все мои соображения…
– Хорошо, я постараюсь.
Алексей оказался невысоким и белобрысым. Дымные, умные глаза. Приятная, но сразу отстраняющая собеседника на определенное расстояние улыбка. Мой интуитивно-диагностический аппарат психиатрию не регистрирует. Невроз?
– Ты чего-то боишься? На улице – опасность?
– Да нет, в общем.
– Тогда почему не выходишь из дома?
– Зачем? Не вижу смысла.
– Что самое страшное на свете?
– Самое страшное – это молчание Вселенной.
– ?!
– Уже доказано, что во Вселенной много звезд, имеющих планетные системы, – объяснил Алексей. – Все химические элементы и их сочетания общие, значит, там по статистике должна была бы быть жизнь, в том числе и более развитая, чем у нас на Земле. И они, конечно, должны были бы подавать всякие сигналы, излучения и все такое. Но Вселенная молчит. Значит, среди всех этих миллиардов звезд мы одиноки. Или другой вариант: достигая определенного техногенного развития, такого именно, как у нас сейчас, цивилизация неизбежно погибает…
Гибнуть в шестнадцать лет явно рановато, подумала я.
Разговор с отцом.
– Что мать Алексея?
– Бьется в истерике: он свихнулся, мы его потеряли! Потом: сделай что-нибудь! Учителя тоже в шоке…
– Вы готовы?
– В общем, да. А что делать? Возить к вам? К другому психотерапевту?
– Вы живете один?
– Да, с кошкой. Но…
– Что?
– У меня есть постоянная подруга. Уже восемь лет.
– Почему вы не поженились? Не живете вместе?
– Да так все как-то… У нее своя квартира, дома собака, рыбки, птички, за ними нужен уход…
– А дети? У нее нет детей?
– Знаете, мы вообще-то пытались, – это «вообще-то» у отца и сына и общая же вялость всех жизненных потребностей… – Но есть какие-то проблемы, надо делать ЭКО. Она сама врач…
– И?
– Она ни разу не ставила вопрос ребром, и я подумал, что ей, в общем-то…
– Значит, так. Вы забираете Алексея к себе. Вы говорили, что у вас есть кошка. Перевозите к себе на время рыбок, птичек и собаку вашей подруги. Объясните ей, что они нужны для спасения сына. Она согласится?
– Да, конечно, она очень за Алексея переживает, но зачем?..
– Затем, что лучший психотерапевт – это сама жизнь. Скажете ему, что подруга уехала на полгода в Занзибар – бороться с эпидемией сонной болезни. Вам самому со зверьем не справиться. Он будет все делать. Вы приходите с работы и валитесь на диван. Говорить только о футболе и сплетничать о бабах. В крайнем случае, об эпидемии в Занзибаре. Никаких Кантов и Гегелей.
– Но мы не любим футбол…
– Полюбите! «Зенит» – чемпион!
Через три месяца Алексей вернулся в школу, сдал экстерном пропущенные темы, продолжил готовиться к поступлению в университет.
Отец пришел год спустя – принес мне цветы. «Ну и тормоз же! Собрался!» – мысленно вздохнула я.
– С Алешей все нормально, учится на социолога, живет с матерью, – как бы между делом сказал он.
– Так, а что еще случилось?
– Вчера жена делала УЗИ. Все нормально, девочка родится в апреле.
– Поздравляю. Но я тут, честное слово, ни при чем.
– При чем, при чем! – рассмеялся он. – Когда с Алешкой все более-менее устаканилось и он отъехал, мы подумали: ну чего этих рыбок-птичек туда-сюда возить? А раз уж стали жить вместе… Что за семья без детей? Со второго раза ЭКО получилось. И вот – вам…
Он протянул мне цветы.
– В этом месте я всегда плачу от сентиментального умиления, – сконфуженно пробормотала я.
Странная жизнь
– Слушаю вас.
– Вы извините, но я, собственно, даже не знаю, зачем я сейчас к вам пришла. Мы были у вас когда-то – несколько лет назад. Сначала с младшим – он не хотел ходить в детский сад, закатывал истерики, потом со старшим – у него был конфликт с учительницей математики…
– А теперь? – подбодрила я.
Женщина, еще совсем не старая, выглядела какой-то растерянной, под глазами залегли тени, русые, без седины волосы гладко зачесаны назад и свернуты в старомодную плотную улитку, какой я не видела уже много лет.
– Теперь старший перешел на второй курс ЛЭТИ, младший готовится к поступлению в медицинский и, наверное, поступит, он заканчивает специальную школу – помните, вы нам посоветовали?
Я не помнила. Но с мальчиками, кажется, все было в порядке.
– И что же?
– Вы знаете, у меня получилась какая-то странная жизнь, – задумчиво сказала моя посетительница. – Не плохая, нет, и даже не скучная. Я очень люблю своих сыновей, и из них получились хорошие люди. Но я все время боролась с какими-то мелкими трудностями и думала: вот еще немного, вот Артик и Роб подрастут, начнут все понимать, и тогда… А теперь они выросли, все понимают, все умеют, Артик параллельно с учебой уже работает, Роб на каникулах тоже, они практически не требуют моего участия. Кажется, вот оно – то, чего я так ждала. Вроде бы надо радоваться, а у меня сердце останавливается…
Теперь я их вспомнила. Ее сыновей-погодков звали Артур и Роберт – каприз отца-англомана, умершего, когда мальчикам было три и полтора года. Она растила их одна с помощью бабушки, всю неделю работала, после работы водила сыновей в кружки, потом помогала в приготовлении уроков, по выходным ездила с ними в парки, ходила в кино, в театр или в музеи. Так – много лет. Я предлагала ей как-то перестроить свою жизнь в своих же интересах, но она улыбалась, говорила, что не видит иного. Классического синдрома жертвы – «Я всем пожертвовала ради тебя, а ты…» – у нее не было ни тогда, ни теперь. Она всегда спокойно и без надрыва делала именно то, что хотела делать. И результат, судя по всему, получился вполне достойный.
– В каком смысле – останавливается сердце? – спросила я.
– В прямом смысле, – тихо улыбнулась она. – Кардиолог говорит: на кардиограмме видно. Я к врачам ходила, думала, может, заболела чем, полечиться. Невропатолог сказал – депрессия, таблетки прописал, но мне от них еще хуже стало… А кардиолог сказал: не понимаю, в чем дело, нужно в больницу, на обследование, потому что можете в любую минуту умереть от остановки сердца. А мне почему-то не страшно, – она снова улыбнулась, и у меня мурашки по коже побежали: ее улыбка была как будто бы уже «с той стороны».
Я не врач и не могла судить, была ли у нее клиническая депрессия, и уж тем более не могла составить мнение об ее кардиологических проблемах. Но она, практически выполнив взятые на себя обязательства и тихо улыбаясь, стояла на краю – это было для меня очевидно.
– Послушайте, но ведь так здорово все получилось, – бодро сказала я. – Они уже выросли, а вы еще не старая, вполне хороши собой, вот случай! Займитесь каким-нибудь фитнесом-фигитнесом, закрутите роман…
Она с симпатией взглянула на меня.
– Спасибо, но, вы знаете, мне это как-то не нужно. Я же была замужем, вырастила его сыновей, они очень похожи на своего отца…
– Ну ладно, а чем вы сами-то увлекаетесь?
– Не знаю, – она честно прислушалась к себе. – Если что и было, то я забыла, а оно не зовет… Я думала: может быть, усыновить еще ребенка, девочку? Но очень боюсь, что не успею уже вырастить как надо. Даже ходила в органы опеки, разговаривала. Они-то мне и сказали: разберитесь сначала со своим здоровьем. Вы помрете, что же – сыновьям с вашим приемышем возиться? Или обратно в детдом?
– У вас есть друзья, подруги?
– Да, подруга, очень хорошая, еще с института. Только видимся с ней, к сожалению, редко – у нее свекровь лежачая и дети младше моих. Но мы почти каждый день созваниваемся, ей нелегко, я стараюсь как-то ее поддержать… Простите еще раз, я понимаю, что это глупо, зачем я сюда пришла, только время у вас отнимаю…
Сколько раз я говорила, что всегда работаю исключительно в интересах детей, и это моя принципиальная позиция? Однако принципы ведь и существуют-то для того, чтобы было что нарушать…
Я набрала номер, записанный в журнале, и, повинуясь какому-то наитию, позвала к телефону младшего, Роберта.
– Вы с братом вдвоем придете ко мне в поликлинику во вторник, к шести часам. Дело касается вашей мамы. Ей ничего не говорите. Все понял?
– Да, – растерянный мальчишеский голос. – А что…
– Придете – все объясню.
Пришли. Младший бледен и испуган. Старший раздражен и напряжен.
Как объяснить мальчишкам, если даже специалисты ни черта не понимают? Объясняю, как могу. Мать вырастила вас, не сэкономив для себя ни минуты времени, ни килоджоуля энергии. Это был ее выбор. Вы выросли, надеюсь, что порядочными людьми. Теперь уже ей нужна ваша поддержка, ей нужно научиться жить в другом режиме. Если она не научится, а вы не удержите (кроме вас – некому), то будет плохо. Совсем.
У Роберта на глазах слезы. Артур отворачивается, в глазах злой блеск, на скулах желваки.
– Зачем вы нам это говорите? Что вы предлагаете? Мы не можем обратно стать маленькими.
– Это не нужно. Сейчас ей нужна поддержка взрослых людей. Вы взрослые. Кроме вас, рядом с вашей матерью нет и, возможно, уже не будет мужчин. Уделите ей время, поухаживайте за ней. Пригласите в театр, в кино, на выставку. Сходите погулять. Поговорите вечером, посидите с ней за столом на кухне. Обсудите друзей. Спросите совета. Расскажите анекдот, дайте послушать вашу музыку и посмотреть ваши клипы. Это возможно?
– Да, да! – поспешно воскликнул Роберт.
– У нас теперь своя жизнь. Почему бы маме тоже не жить своей жизнью? Мы ведь ей не мешаем… Кстати, она говорила нам о том, чтобы усыновить ребенка. Роберт был против, а я – за. Если ее это развлечет…
– Усыновление ребенка – не развлечение, Артур, – жестко сказала я. – На сегодня ситуация сложилась так, что у вашей матери нет своей, отдельной от вас жизни. Может быть, потом заведется. Но сейчас – острый период.
Артур хотел было возразить еще, потом, поколебавшись, едва заметно наклонил голову.
– Тогда вперед и с песней! – напутствовала я. – И помните: мать у вас одна, другой не будет.
Проводила юношей до дверей. Ушли явно загруженные. Ну что ж, я сделала что могла. На Артура надежды у меня не было никакой, а вот эмоциональный Роберт, как мне казалось, вполне может…
Совсем юная женщина внесла в кабинет пухлощекого младенца-девочку.
– Вот, я хотела вас спросить, какие игрушки ей нужно. И еще: она почему-то все только левой рукой берет. Это не страшно?
Мы поговорили об игрушках и асимметрии полушарий. Заглянув в карточку, я увидела, что маме всего двадцать лет. Провожая их до дверей и делая младенцу «козу», я благодушно улыбнулась:
– Надо же, какие нынче психологически грамотные родители пошли!
– А это бабушка нам посоветовала. Она к вам еще с нашим папой ходила. Правда, лапушка моя? – девушка чмокнула младенца в носик.
– А где у нас бабушка?
– Да вот же она, нас за дверью ждет…
Она легко вскочила с банкетки, разворачивая розовый комбинезончик. Ее лицо было свежим и красивым, а глаза сияли любовью.
– Они сами оденутся, – сказала я. – А вы зайдите ко мне на минутку.
– А я ведь сама хотела к вам зайти! – эту чудесную улыбку даже сравнить нельзя было с той, которая мне запомнилась. – Да как-то не собралась. Представьте, мне просто несказанно повезло! Артур прямо тогда, после нашего с вами разговора, сошелся с девочкой. Приезжей, но очень хорошей. Она забеременела, хотела сделать аборт, он сказал: ни в коем случае. Поженились. Хотя они и молодые совсем, такая получилась хорошая семья! А Оленька наша – такая умница и красавица, я просто нарадоваться на нее не могу! Но вы же сами ее видели…
– Да, – серьезно подтвердила я. – Исключительной симпатичности ребенок. А что же Роберт?
– Роберт учится в институте, и еще занимается на кафедре, и еще играет в театре, и еще ходит в походы… В общем, дома мы его видим крайне редко. Но Оленьку он тоже любит, когда видит, всегда с ней играет… Вот какая у нас теперь хорошая, дружная семья, а ведь еще два года назад в голову лезли такие глупости! Вы будете смеяться, но мне кажется, что я только сейчас узнала, что такое настоящее счастье…
«Артур, Артур, я была к тебе несправедлива, – мысленно покаялась я. – Надеюсь, ты не сердишься на меня. Ведь у тебя теперь есть живая и счастливая мать, милая жена и пухлая Оленька…»
Как с этим жить
Они вошли ко мне в кабинет друг за другом, и вместе с ними – я отчетливо это ощутила – вошла беда. Не выдуманная, не высосанная из пальца, не раздутая на пустом месте. Настоящая.
Женщина казалась очень полной для своего небольшого роста и двигалась неловко, как человек, который растолстел недавно и еще не привык к своим изменившимся габаритам. Мужчина, наоборот, выглядел нездорово истощенным и высушенным изнутри каким-то внутренним огнем. Лет им было немало. Никакой ребенок не вошел с ними и не остался в коридоре. Они еще не сказали ни слова, но мне отчего-то уже сделалось не по себе.
– Что ж, это действительно вы… Но мы, собственно, сами не знаем, зачем пришли, – честно признался мужчина, когда я предложила им сесть и раскрыла журнал. – Вы не психиатр и ничем не можете нам помочь. У нашего единственного сына – шизофрения.
– Сколько лет сыну? – спросила я, единственно для того, чтобы что-то спросить.
– Восемнадцать.
– Мы были у вас больше десяти лет назад, – вступила женщина. – Советовались с вами, как лучше развивать одаренного ребенка. Просили посоветовать школу посильнее.
– И я… что? – я все сильнее ощущала растерянность.
Разумеется, я их не помнила. Зачем они пришли теперь? Чего хотят? Оспорить мои тогдашние рекомендации? Поговорить о сыне? Вместе со мной вспомнить то время, когда он выглядел не больным, а наоборот, одаренным ребенком? Еще что-то?
– В три года Вячеслав умел читать, – вспомнил мужчина. – В четыре писал нам интересные, грамотные письма печатными буквами. Когда другие дети еще покрывали листы каракулями, он рисовал панорамы фантастических городов, нумеруя этажи в высотных домах, и план нашей будущей квартиры. К семи годам он умел умножать и делить, знал все планеты Солнечной системы с их числовыми характеристиками и половину таблицы Менделеева. Логично было предположить, что ему требуется особая, усиленная программа для дальнейшего развития, не правда ли?
– Логично, – вздохнула я. – И что же я тогда вам посоветовала?
– Мы с вами тогда совершенно не поняли друг друга, – глядя мне в глаза, сказала женщина. – Ведь вы даже отказались тестировать Вячеслава. Мы с мужем ушли разочарованные и тут же обратились в центр «Прогноз» к другому психологу, который подробно протестировал нашего сына и сказал, что по интеллектуальному развитию он опережает свой возраст на три – три с половиной года…
– Сон! Сон про глазики, – снова неожиданно вступил отец. – Когда я рассказал вам о нем, у вас сделалось такое лицо…
И я их вспомнила!
В три года их сын проснулся и сказал склонившемуся над ним отцу:
– Папа, мне снился сон. Там были два глазика. Один глазик А, а другой глазик Б.
Я интуитивно чую психиатрию. Никакой радости эта способность к моментальной диагностике мне не доставляет, и пользы, как правило, тоже не приносит… Как бы я сейчас хотела, чтобы тогда, больше десяти лет назад, мое чутье меня подвело!
– Вы сказали, чтобы мы отдали его в подготовительную группу в детский сад, а не в гимназию (при его-то развитии!), завели щенка-фокстерьера (мы не очень любим животных), приглашали домой детей-ровесников (ему было с ними просто скучно, он предпочитал общаться со взрослыми), ставили детские домашние спектакли и ходили на детские утренники (Вячеслав их всегда терпеть не мог)…
А что еще я могла им сказать тогда?..
– Теперь мы думаем: если бы мы тогда услышали вас и сделали все, что вы рекомендовали, могло бы это повлиять?..
– Нет! – с максимально возможной твердостью сказала я. Вместе со всей психиатрической наукой я ни черта не понимаю в генезе шизофрении, но, по крайней мере, этот камень я должна была снять с их плеч. – Согласно современным данным, шизофрения не вызывается социальными причинами.
– Он потерял интерес сначала к учебе, а потом и вообще ко всему. Лег на кровать и лежал…
«Простая шизофрения, хуже всего поддается лечению», – соображала я.
– Потом был приступ, ему казалось, что за ним кто-то гонится, он прятался в ванной, с кем-то разговаривал… Потом больница… Сильные лекарства, ремиссия, опять обострение… Все рухнуло, и мы просто не знаем, как с этим жить, – женщина вытерла глаза тыльной стороной ладони. – Нам все говорят, что дальше будет только хуже… Самое ужасное, что мы уже ничего, совершенно ничего не можем сделать!
– А вот это вы, извините, соврамши! – впервые за все время нашего общения улыбнулась я, почувствовав наконец почву под ногами. – Как раз можете.
– Что вы имеете в виду? – удивился мужчина. – Религию? Еще детей? Но для того, чтобы их родить и воспитать, мы слишком стары, да это опять же и рискованно, как я понимаю… Вдруг получится еще один…
– Я атеистка и бесконечно далека от мысли, что вам следует заменить «неудавшегося» Вячеслава кем-нибудь новеньким.
– Что же тогда? – в нос спросила мать, вытирая глаза платочком.
– Вам, разумеется, нужно в первую очередь отрегулировать диету, похудеть и обязательно проверить щитовидку. Вам, – я кивнула отцу, – пролечить поджелудочную железу, ввести режим дня и дозированные физические нагрузки – пусть понемногу, но непременно каждый день.
– Что-о-о?! Что вы говорите?! При чем тут… – хором. Как и двенадцать лет назад, мои рекомендации явно поставили их в тупик.
– А при том! Ваш сын никогда больше не будет вундеркиндом. Но он остается живым, мыслящим и чувствующим существом. Он совсем юн, и дальше, как и всех остальных людей, его ждет жизнь – он будет радоваться, печалиться, о чем-то волноваться и чем-то интересоваться. У него будут любимые и нелюбимые блюда, любимые и нелюбимые передачи по телевизору, медсестры и психиатры, которые ему будут нравиться или не нравиться…
– Да! – внезапно воскликнул отец. – Вы знаете, а ведь вы правы! Говорят, что шизофреники необщительны. Но Вячеслав, как только у него наступила ремиссия, стал даже общительнее, чем был раньше. Других больных приходится уговаривать, а он в больнице охотно ходил на групповую психотерапию и на занятия по арт-терапии. Сейчас «Вконтакте» болтает о пустяках со своими бывшими одноклассниками и теми людьми, с которыми познакомился в больнице. Как будто бы рухнула какая-то стена, и он теперь добирает то, чего никогда не делал в детстве…
«Пробки у него в мозгах перегорели», – мрачно и непрофессионально подумала я и еще шире улыбнулась родителям.
– Вот видите. Есть современные препараты, если все сложится удачно, Вячеслав долгие годы сможет работать, получать радость от общения с людьми… Но он очень уязвим, чтобы полноценно жить, ему нужен тыл, поддержка. Нужны вы. Поэтому вам следует немедленно заняться своим здоровьем – физическим и психическим, всеми силами поддерживать себя и друг друга в максимально хорошей форме. Чем дольше вы протянете, тем лучше Вячеславу, это-то вы, я надеюсь, понимаете?
– Да, – сказала женщина. – Я и сама хочу похудеть, но как только возьмусь, сразу думаю: да какая теперь разница! – и к холодильнику…
– И вам и мужу критически важно здоровое питание! – назидательно сказала я. – Да и Вячеславу не помешает, ведь у всех антипсихотических препаратов, знаете ли, есть побочные эффекты, и наша задача – минимизировать их воздействие на еще не сформировавшийся организм…
Они сдержанно поблагодарили и ушли работать.
Спустя год с небольшим я видела и самого Вячеслава. Он был мил, слегка заторможен и, пожалуй что, действительно менее странен, чем в дошкольном детстве. Передал привет и коробку конфет от родителей. Спрашивал меня, что я думаю по поводу его трудоустройства в большой магазин (я порекомендовала магазин поменьше), и еще по поводу каких-то векторов, согласно которым развивается Вселенная. Векторы мы обсудили довольно подробно…
Всего лишь эволюция
Поговорим о семейных ролях – по возможности, объективно, не скатываясь в оценочные категории: «это хорошо и правильно», «это совершенно недопустимо», «это ведет к деградации» и тому подобное. А начнем издалека, с зоологии. Мне как бывшему зоологу это особенно близко и приятно.
Итак, для начала: ни у кого из высших приматов, кроме человека, нет выраженной парной семьи. Один самец, одна самка и рожденные ими дети. В стане наших обезьяньих родственников это чисто человеческое ноу-хау. Причем, судя по всему, изобретенное вовсе не сразу, в момент возникновения биологического вида, а много позже. О причинах этого важного новообразования можно говорить долго и интересно, но скажу кратко: на определенном отрезке эволюции так оказалось удобней вести хозяйство и воспитывать детей (у человеческого детеныша всегда было очень длинное детство, хоть, конечно, и не такое длинное, как сейчас). Никакого личного счастья нашим предкам это изобретение, судя по всему, не прибавило, любовь как отдельное явление изобрели еще много позднее, и с парной семьей она поначалу была связана очень приблизительно. Эволюция вообще заботится лишь о выживании и процветании вида (популяции), к благополучию же и даже жизни отдельной особи она равнодушна.
Стало быть, любовь и счастье наших предков были под вопросом, однако разделение семейных ролей уже присутствовало в полный рост и выглядело вполне традиционным, именно так, как любят описывать его современные ревнители. Мужчина выполнял «мужскую» работу, женщина – «женскую» (в чем бы она ни заключалась в данной общине). Причем весьма спорно, что распределение обязанностей уже в этот период диктовалось именно биологической целесообразностью (мужчина делает то, что должно, исходя из своих физиологических отличий). Список «мужского» и «женского» был совершенно условен и определялся опять же сначала целесообразностью, а уже впоследствии традициями. Например, у многих народов рыбалка – мужское дело, но у некоторых – сугубо женское. У европейцев при переходе с места на место основные тяжести несут мужчины, а у австралийских аборигенов – женщины. У нас ковры выколачивают мужчины, а у чукчей шкуры – только женщины.
Любому понятно, что чем устойчивее жизнь общины в целом и чем меньше взаимопроникновение общин с разным укладом, тем легче соблюдать традиционное для данной общности разделение ролей. При этом в здоровых общинах всегда сохранялась пластичность: при образовавшемся недостатке мужчин женщины брали на себя их роли – пахали, охотились, даже воевали (например, при полном истощении мужских возможностей России в Первой мировой войне, когда мужчины уже не хотели и не могли воевать, были сформированы женские батальоны). При возникновении дефицита женщин в общине у тех же чукчей шаман назначал женщинами (проведя несложный обряд) нескольких мужчин, и они благополучно выколачивали эти самые шкуры и выполняли другую женскую работу. Именно эта ролевая пластичность позволяла общине (народу, этносу) пережить трудные времена.
Всем известно, что последние триста – четыреста лет взаимопроникновение различных общественных и семейных укладов шло все ускоряющимися темпами. А в последние годы в виртуальном пространстве вообще сформировалось что-то вроде плазмодия (это организм, представляющий из себя слившиеся клетки с множественными ядрами), в который на правах очень приблизительной автономии влились едва ли не все уклады, существующие нынче на планете.
Отразилось ли все это на семейных ролях? Безусловно, да. В первую очередь это коснулось европейско-американской цивилизации, а за ней понемногу (с периодическими откатами в «возрождение традиционности») тянутся и все остальные.
Стимулируя присущую мужчинам изобретательность и постепенно обустраивая себе с их помощью все более комфортную площадку для жизни и воспитания детей, европейская женщина довольно долго (триста лет без малого) вела планомерный захват плацдарма «мужских» ролей и весьма в этом преуспела. Но эволюция не дремлет. Пока женщины торжествовали победу, мужчины тоже начали перестраиваться в унисон происходящему, и традиционный, отстоявшийся в сагах, литературе и женских мозгах образ «настоящего мужчины» начал стремительно, прямо на глазах изумленного общества размываться.
Что же стало с семьей? Какое-то время (у нас – чуть ли не с двадцатых годов и до конца двадцатого века) она существовала вполне в соответствии с захваченными женщинами полномочиями: женщина и работала наравне с мужчиной, и выполняла традиционные женские обязанности («я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик»). А мужчины спокойно приходили домой с работы и ложились с газетой к телевизору (садились к компьютеру). Потом этот перекос начал выправляться – мужчины тоже перестроились и начали не только посуду мыть и детей в кружки водить, но и чуть ли не в декретный отпуск уходить. Одновременно (это ведь сцепленные вещи) они начали массово ходить к психоаналитикам «поговорить о чувствах», пользоваться косметикой, виагрой и делать пластические операции для улучшения внешности.
«А где настоящие мужчины?» – дружно завопили женщины. Настоящий мужчина – тот, что убьет и освежует мамонта, затрахает до потери сознания, защитит семью от любого врага, за ним как за каменной стеной…
«А где настоящие женщины?» – парировали мужчины. Настоящая женщина – та, что поддержит своего мужчину в любом случае, утешит, приголубит, в Сибирь поедет, ноги мыть будет…
Договориться невозможно, так как жизнь изменилась категорически. Девочкам всегда лучше удавались ролевые игры, поэтому многие женщины могут сыграть «настоящую» – правда, ненадолго. Мужчины (если, конечно, актерство не их профессия и дело происходит не в зоне) могут сыграть «настоящего мужика» только на выбросе тестостерона в момент завоевания.
А что же современная семья?
Мне кажется, это содружество равных, без четкого разделения ролей. Как договорятся.
Всех ли такое устраивает? Разумеется, не всех. Как и всегда. Еще американские колонисты, помнится, любили жениться на индейских скво: не болтает, не суетится, слушает, что ей мужчина говорит. Еще средневековые дамы часто предпочитали нежных и поэтичных менестрелей брутальным вонючим рыцарям, упакованным в ржавые консервы доспехов.
Стоит ли нервничать и кричать о деградации семьи? По-моему, вовсе не стоит. Всего лишь эволюция, дамы и господа, всего лишь эволюция…
Счастливы вместе
– Хочу, чтобы вы сразу для себя уяснили: мы не лесбиянки! – с порога агрессивно заявила мне одна из пришедших.
Обе девицы невысокие, крепенькие, одна крашена в блондинку, вторая – в брюнетку, на обеих яркий макияж, слегка чрезмерный. На вид лет восемнадцати-девятнадцати. Обычные девочки из наших хрущевских дворов. Треп с парнями на скамейке у парадной, сигарета в багровой помаде, в руке банка пива… Но на руках у каждой из моих посетительниц сидело по ребенку!
– И еще знайте: мы не дуры!
Даже если у меня и возникли какие-то сомнения по этому поводу, я, разумеется, удержала их при себе.
– Я думаю, нам будет проще общаться, если вы расскажете мне о себе. Присаживайтесь сюда. Детей можно пустить на ковер, игрушки для них вон в том ящике и на нижних полках. Это мальчики или девочки? – белоголовые глазастые малыши, на вид годовалые или чуть больше, были одеты одинаково и в стиле унисекс.
– У меня мальчик, а у Ритки девочка, – сказала та, что в паре была явным лидером (помню: они не лесбиянки).
– Рита, как зовут вашу дочь? – мне хотелось услышать ее голос.
– Леня… – неожиданно ответил мне мальчик с ковра.
– Ленка ее зовут, – подтвердила его мать. – А тебя? Скажи тете.
– Тема. А мама – тозе Леня.
Для своего возраста мальчик очень хорошо говорил и понимал чужую речь. Я приободрилась – что бы там у них ни было, приятно, что дети развиваются нормально. А девочка, стало быть, названа в честь подруги (помню: они не лесбиянки).
– Ну так рассказывайте, Лена, – я оставила пока попытки разговорить Риту.
История Лены и Риты оказалась обычной, с одной стороны, и удивительной – с другой.
Девочки жили в одном дворе, ходили в одни ясли-сад, потом учились в одном классе ближайшей дворовой школы. У Лены почти беспробудно пил отец, у Риты – мать. Отца у Риты не было, зато была бабушка, которая, в сущности, ее и растила. Учиться обе девочки закономерно не любили, хотя Рита на фоне сверстников была читающим ребенком – бабушка с детства приучила ее к книгам. Даже вырастая, она любила читать сказки и «про природу», которой она, в сущности, никогда не видела: у Лениных родителей был участок в шесть соток где-то в болотах под Мгой, и девочка со старшим братом уезжали туда на лето, а Рита все лето неизменно проводила в городе.
Дружили еще с яслей. Более бойкая Лена опекала и защищала Риту в разборках сверстников. Рита придумывала игры и проделки. Мама Лены жалела «при живой матери сиротинку» и часто приглашала подружку дочери в дом – подкормить и даже приодеть (девочки всегда носили один размер, а Ритина мать иногда пропивала не только деньги, но и вещи).
Компания, естественно, была общая. Уже с седьмого класса начались тусовки, мальчики, сигареты и прогулы, что тут же отразилось на и без того не блестящей успеваемости подруг. Бабушка Риты сдалась сразу («По той же дорожке пойдешь, что и мать!»), а родители Лены еще пытались бороться – мама запирала на ключ, отец хватался за ремень. К девятому классу стало понятно, что обучение в школе для обеих заканчивается бесповоротно. Лене нашли ближайшее ПТУ, в которое брали без экзаменов. Рита пошла туда же – за компанию.
В этом же году умерла мать Риты. Бабушка слегла от горя. Рита честно ухаживала за бабушкой, которую очень любила. Лена помогала. Учеба в ПТУ особо не напрягала, оставалось время на «погулять». Гуляли.
Забеременели практически одновременно. Ни о каких отцах не было и речи. Ленина мама, поплакав, отвела обеих в консультацию и записала на аборт. Даже врач, узнав подробности, никого не уговаривал. Но Рита вдруг сказала: я буду рожать.
– Я ее умоляла, грозила, даже за волосы таскала, – признается Лена. – А она ни в какую, говорит: он там живой, он у меня будет, а я у него. Подумай: зачем мы с тобой вообще живем? И тогда я подумала: действительно, зачем – и какого черта?!
Рожали с разницей в три недели. Родители Лены встали в позу и не пришли в роддом: хочешь нищету плодить – пожалуйста! Встречали друг дружку. С цветами. У Риты трехкомнатная квартира в хрущевке: в одной комнате живет бабушка, в другой – дети, в третьей – Рита с Леной.
Училище бросили («Зачем?»). Работают обе на табачной фабрике, зарабатывают достаточно. Смены по двенадцать часов, в противофазе. Бабушка от неожиданности встала, ползает, иногда может несколько часов приглядеть за малыми.
– Я Ритку в Петергоф возила, фонтаны поглядеть и море. А она нам всем вслух читает. Я засыпаю, а малые так хорошо слушают…
В этом месте я всегда плачу. От сентиментального умиления…
– Почему они все не могут оставить нас в покое?! – голос у Риты оказался пронзительным и резким. – Мы подруги. Мы хотим вместе воспитывать наших детей. Почему кто-то решает за нас?
Ощущение противостояния выматывает молодых женщин. От Лениной семьи, включая старшего брата, – презрение или возмущение и наезды (живут в одном дворе, сталкиваются постоянно). От работников всех служб, от сослуживцев на фабрике – удивленные или сочувствующие взгляды. При оформлении в ясли чего только не наслушались… Даже старые товарищи (возможные отцы детей?) со двора: ну признайтесь, что вы лесби, что вам мужики вообще не нужны, и все дела! Сейчас же в этом ничего такого нет, наоборот, даже модно считается! Гомикам у нас везде дорога!
– Ленка говорит: ну давай им скажем, и они отстанут. Но почему мы должны врать? Мы не лесбиянки, нам нравятся парни. Ленкина мама говорит: идиотки, должна быть нормальная семья! Но где она? Кто из нас ее видел? Моя мать скопытилась от водки, Ленкин отец пропил последние мозги, брат туда же движется. А нам удобно жить именно так, мы понимаем друг друга, можем подменить во всем, уверены друг в друге, шестнадцать лет дружбы – не проверка? Мы счастливы впервые, и потому наши дети тоже будут расти счастливыми! Конечно, сейчас вы скажете, что…
– Не скажу, – уверила я. – Потому что вы правы. Разумеется, всегда проще плыть по течению. Делать то, что делают все вокруг тебя, говорить то, что они ожидают услышать, идти тем путем, который тебе как будто бы предначертан… Никто не знает, что будет дальше. Но сейчас у вас все хорошо и правильно.
– И вы не скажете, что нам нужно хотя бы закончить среднюю школу, чтобы потом наши дети?.. – недоверчиво спросила Лена. – Ну или хотя бы Ритке закончить, она все-таки получше меня училась, на тройки…
И я вдруг увидела в их глазах то, чего раньше не замечала, – ожидание. И поняла, что ошиблась. У них обеих с самого начала достаточно сил, чтобы противостоять. И они пришли ко мне вовсе не за признанием нынешнего положения вещей, они хотят двигаться вперед!
– Да это я только для разгона, такие, понимаете, психологические штучки, – я пренебрежительно махнула рукой. – Разумеется, Рите следует получить образование, потому что она на самом деле любит учиться, и кто-то же должен будет помогать вашим детям с уроками. А вот тебе, Лена, стоит подумать о карьере, пока в рамках вашей табачной фабрики. Ты ведь прирожденный лидер, стало быть, сможешь руководить людьми…
Они внимательно и жадно слушали мой рассказ о них самих и об их будущей жизни. А у меня почему-то все сильнее щипало в носу…
Зависть
– Нашей дочери девятнадцать лет, и она с нами не пришла, но мы надеемся, что вы нас примете. Это очень важно, потому что ей угрожает смертельная опасность.
Уже немолодые мужчина и женщина, говорящие едва ли не хором и многозначительно переглядывающиеся, показались мне смутно знакомыми. Были у меня раньше? Ребенка, девочку, я вспомнить не сумела.
– Э-э-э… Но вы уверены, что именно я… Смертельная опасность? Это медицинская или социальная проблема?
«Может, удастся отправить их на обследование? – с надеждой подумала я. – Или в милицию?»
– Психологическая! Она уже два раза пыталась покончить с собой.
Девятнадцать лет – самое время для манифестации шизофрении!
– У психиатра были?
– У трех психиатров. Никто ничего не нашел, все прописали разные таблетки. Но она их не принимает, говорит, что дуреет от них. И не хочет больше с психиатрами разговаривать.
– А со мной будет разговаривать? Но почему?
– Нет, с вами она тоже встречаться отказалась. Сказала: а уж к ней тем более не пойду. Как мы ее ни уговаривали.
– Замечательно… – я окончательно перестала что-либо понимать. – А откуда вы вообще на мою голову свалились?
– Мы были у вас много лет назад. Вы нас, наверное, не помните…
Выражение лиц у обоих родителей при этих словах одинаковое – укоризненно-недоумевающее: «Разве можно забыть нашу девочку?!»
– Не помню. Но ваша дочь, судя по всему, меня помнит, и ей здесь в прошлый раз категорически не понравилось…
– Именно так. Мы обратились с жалобой на тики. А вы сказали, чтобы мы прекратили ломать комедию и выпустили дочь во двор (это был конец девяностых) и что таких, как она, девять из десяти. Ей и, признаемся, нам самим было странно это слышать…
– Давайте с самого начала, – вздохнула я.
Удивительно, но я их так и не вспомнила. Действительно ли они у меня были? Или это разновидность манипуляции? Хотя, впрочем, рекомендации, якобы полученные ими когда-то, и вправду похожи на утрированные мои…
Девочку звали Луиза. Мама много лет работает в Эрмитаже научным сотрудником, папа – журналист, кинокритик. Луиза с трех лет писала стихи – поразительно взрослые, визионерские. И сама же их иллюстрировала. В пять лет у нее состоялась первая персональная выставка, имевшая успех. Об удивительной девочке писали все газеты и журналы – от «желтых» до серьезных и специализированных. Луиза неоднократно и неизменно успешно выступала по радио и по телевизору. Внешне она была не очень красива, но, безусловно, оригинальна – большие рот и нос, темные глаза, пышные вьющиеся волосы. Кроме стихов и картин – ранняя детская одаренность: в три года научилась читать, к пяти годам сама прочла всю детскую классику, в шесть увлеклась Толкиеном и Конан-Дойлем.
– Во сколько же лет я ее видела?
– В восемь. Луиза училась уже в пятом классе по индивидуальной программе. У нее начались тики…
– И что же?
– Вы спросили у нее, откуда она берет темы для стихов (она писала о любви, о Вселенной, о смерти). Она ответила: они сами приходят. Еще спросили про увлечения и друзей. Она показала рисунки и фотографии, где она снята с разными известными людьми. Вы сказали нам, что ее творчество – это проекция наших амбиций, и посоветовали немедленно перестать делать из ребенка экспонат передвижного зверинца. И еще что ранняя детская одаренность в девяти случаев из десяти исчезает без следа к возрасту старших подростков, и мы уже сейчас должны думать о том, что случится с нашей дочерью, когда она станет как все. Мы вас не поняли. Не захотели услышать. Разозлились… И дочь тоже. Когда мы вышли, Луиза сказала: наверное, она просто завидует. Мне или, скорее, вам…
– Она сейчас пишет стихи? Рисует?
– Да. Но стихи для девятнадцатилетней девушки самые обыкновенные, разве что излишне мрачные. А на ее картинах всего три цвета – черный, лиловый, коричневый…
– Скажите Луизе, что я знаю, как работают с завистью. И в любом случае желаю ей успеха в ее попытках наконец-то взять свою жизнь в свои руки.
– В любом случае? – женщина содрогнулась.
– В любом! – подтвердила я. – И пусть почитает что-нибудь про Ариадну Эфрон.
– Вы действительно считаете, что мне остается только повеситься?
– А ты разве вешалась? – удивилась я. – Я не успела расспросить твоих родителей, но мне почему-то представились аккуратненькие такие таблетки или уж уютная теплая ванна с кровавой водой…
– Вы издеваетесь, как и тогда, да?
– И не думаю.
– Как вы узнали, что я завидую?
– Ты всегда завидовала. Этот механизм называется проекция. Родители проецировали на тебя. Ты – на меня. Очень просто. Что ты слышала о себе в детстве чаще всего?
– «Луиза не как все».
– Правильно. А чего тебе хотелось?
– Мне не хотелось быть как все! Я их презираю и никогда им не завидовала. У них скучные и мелкие интересы. Я ненавижу толпу, стадо, стаю!
– Ты об этом ничего не знаешь, говоришь со слов родителей или еще кого-то. И потому не можешь судить. Ты вообще когда-нибудь видела близко толпу, была внутри стаи?
Луиза задумалась.
– По телевизору?
– Это не считается. Толпа – страшноватый феномен, спору нет, но того, кто вообще никогда не бывал «своим» в группе, в стае, тянет туда почти неудержимо. Просто биология, ведь мы социальные существа, а наша уникальная и прочее трам-пам-пам личность – не такой уж древний феномен в эволюционном отношении. Элевсинские мистерии. Представления в Колизее. Первомайские демонстрации. Рок-концерты. Митинги солидарности или протеста. Там, внутри, существует особая, древняя и уникальная разновидность комфорта для человека. Но для тебя это невозможно.
– Почему это?
– Потому что слишком на многое тебе придется решиться. Сжечь все поеденные молью вундеркиндские одежки. Остаться голой. Без поддержки родителей и психиатров. Без тыла за спиной, без «своих», которых еще предстоит отыскать. Шагнуть в опасное, трудное, неизвестное. Хватит ли у тебя сил? Ведь ты, в сущности, обычная, к тому же сильно избалованная в детстве вниманием…
– Хватит меня попрекать моим детством! Я что, кого-то просила?!
– Нет, разумеется, не просила. Но что было, то было. Хочешь кого-то в чем-то обвинить? Или послать меня подальше?
– Хочу – и того, и другого, – впервые с начала нашей встречи Луиза взглянула мне прямо в глаза. – Но не буду. А где вообще ищут этих ваших «своих»? Мне что, идти на рок-концерт?!
– Я бы посоветовала тебе поехать на Кубу. Но, к сожалению, Фидель Кастро состарился и больше не выступает перед народом, как раньше. Говорят, в молодости он мог держать толпу в течение шести часов, и все слушатели находились просто в коллективном экстазе. У нас подобным талантом обладали Троцкий и Керенский, у немцев – Гитлер и Геббельс…
– Да идите вы…
– О! Знаешь, ведь на самом деле я тебе просто завидую. Если не повесишься прямо сейчас, у тебя впереди столько всего интересного…
– Посмотрим! – с вызовом сказала Луиза.
– Успехов! – откликнулась я.
Уже поставив точку в этом материале, я ради интереса набрала фамилию Луизы в интернете и тут же наткнулась на ее стихи на каком-то литературном сайте. Стихи были просто вызывающе банальны и потому мне понравились:
К рассвету свечка плакать устает, чернеет в сад раскрытое окно, и девочка, на звезды щурясь, пьет за тех, кто в море, горькое вино…Кажется, она все же нашла «своих», с удовольствием подумала я.
Полезный синдром
Сложилось так, что я стала специалистом по гипердинамическому синдрому (он же синдром дефицита внимания, синдром гиперактивности, СДВГ) – пятнадцать лет практики, многолетнее наблюдение семей, знакомство с чужими наработками, написанная книга и прочее. И вот все эти годы я с умеренно (чтобы не пугать клиентов и пациентов) серьезным лицом доказывала людям, что количество детей и вообще людей с этим синдромом в популяции не увеличивается, а остается постоянным. Изменяются лишь внешние условия, которые способствуют проявлению и актуализации синдрома: например, сорок лет назад букварь изучали семилетние дети за год, а теперь тот же букварь – шестилетние и за два месяца. Все окружающие устно и письменно доказывали мне, что, наоборот, детей с этим расстройством становится все больше и больше, и это прямо волна, эпидемия, которая европейские страны и Штаты захлестнула еще в шестидесятые – семидесятые годы двадцатого века, а у нас вот прямо сейчас…
Тем временем гипердинамический синдром действительно вошел в моду, о нем стали писать (когда я начинала этим заниматься, большинство людей и даже специалистов – учителей и практикующих врачей о нем не слышали), чуть ли не каждый второй ребенок стал являться ко мне с соответствующей записью в медицинской карте.
В конце концов, я решила плотно задуматься – ведь если весь взвод идет не в ногу и только капрал в ногу, можно предположить, что это проблема капрала.
Оставшаяся со времен занятий биологией привычка и наследие Древнего Рима помогли сформулировать первичную цель: «Если их количество действительно возрастает, ищи, кому это выгодно». Ведь давно известно, что мать-природа ничего просто так не делает, да и дарвинизм хотя и погрызли изрядно за последний век, но так до сих пор никто и не отменял…
На первый (да и на второй) взгляд, никаких выгод синдром дефицита внимания в современном обществе не дает. Наоборот, этих детей напропалую шпыняют в школе и дома, у них имеются все криминальные риски, отсутствует прогностическое мышление, при жуткой поверхностной общительности они с трудом устанавливают длительные и глубокие контакты с людьми. Да, они любят все новое и громкое, всегда готовы к любым (в том числе и бессмысленным) авантюрам, они первыми идут на всевозможные баррикады, но ведь у нас сейчас вроде не Париж времен непрерывных революций, когда баррикады на улицах по пятьдесят лет не разбирались…
Как ни странно, но на конструктивную, как мне показалось, мысль меня натолкнуло знакомство с социальными сетями (до недавнего времени я пользовалась интернетом время от времени, лишь для пересылки личных сообщений по электронной почте и поиска весьма специфической информации). Знакомясь с материалами заинтересовавших меня дискуссионных интернет-сообществ, я с изумлением обнаружила: люди, оставлявшие комментарии к вполне серьезным и неглупым материалам, явно не обдумывали, а зачастую и не прочитывали их во всем объеме. То есть материал привлек их внимание и заинтересовал настолько, что они решили высказаться по этому поводу, но прочитать и вдуматься не смогли. Не хватило чего? Ведь наверняка не ума (материалы эти все-таки не канты и не гегели писали), а – конечно! – концентрации внимания. В социальных сетях меня ждали другие, совсем уж этологические находки – сплошные «ритуалы совместного крика серых гусей» по Конраду Лоренцу. И бесконечное переключение внимания без возможности остановиться – то, на что обычно жалуются родители маленьких детей с синдромом дефицита внимания: «Он всего хочет, все начинает – и тут же бросает, хватает следующее…»
И тут я, как мне кажется, поняла, в каком направлении все это работает.
Ведь конкуренция в современном цивилизованном мире идет не только за то, чтобы заставить людей потреблять новую зубную пасту, порошок, сигареты, покупать машины, ходить в клубы и ездить на курорты. Есть еще и производство информации. Каждый день ее производят по новой, в совершенно невероятном количестве и всем понятном качестве. Она устаревает даже быстрее, чем марка телефона или модификация компьютера. Значит, ее нужно продать и потребить срочно, прямо сейчас! Завтра будет уже поздно!
А теперь представьте себе человека, у которого нет синдрома дефицита внимания. Вот его что-то заинтересовало. Он остановился, присел, стал это обдумывать, исследовать, читать первоисточник, затем что-то сопредельное по теме. Потом, не торопясь, стал встраивать обдуманное в уже имеющуюся у него картину мира. Встроил, прикинул так и эдак, посоветовался с людьми из референтной группы, учел их мнение, что-то перестроил, снова прикинул… Все это время он достаточно равнодушен к проносящемуся мимо него информационному потоку. Он занят созиданием неких сущностей внутри себя. Крайний случай – у Набокова: «В октябре 17 года я был мучительно влюблен и потому Октябрьской революции не заметил…»
Другое дело человек с гиперактивностью. Он идеальный потребитель ежедневной информационной брехни, идеальный посетитель социальных сетей, идеальный нажиматель на кнопки. Ему проще поменять кнопки, чем задуматься. Он готов скакать с канала на канал до полного умственного и даже физического изнеможения. Из телевизора в плеер, из плеера на «Вконтакте», из «Вконтакте» на «Одноклассники»… И везде – опознавательный крик серых гусей: «Ты тут?» – «И я тут!» – «Слыхал?» – «Слыхал!» – «Сенсационные новости!» – «Горячие фотки!» – «Супердесятка того-то!» (все равно чего). Остановки он просто боится. Глубоких личностных контактов избегает – они ему не удаются. Жизнь идет!
Интересно, что когда-то, довольно давно, я изложила эти соображения в своем журнале (тренировалась в навыках пользования инетом), и вот из электронных сумерек пришла обратная связь: «Какой вы специалист, если у вас люди, которые не задумываются, ассоциируются с СДВ? Люди с СДВ, напротив, задумываются очень и очень много, они видят общую картину лучше, потому что не заняты потреблением маловажной для них информации…» И далее: «Если говорить о людях, у которых больше невнимательность, а не гиперактивность, то как раз наоборот: с поверхностным общением у них больше всего проблем, а с глубоким – меньше. И с глубокими контактами проблем нет, проблемы есть с поддержанием контактов. Бывает так: сегодня глубокий контакт, а завтра о человеке забыл. Вот в этом проблема. У людей с ADD нет никаких проблем с общением на глубокие темы, и думаю, что именно такое общение они больше всего предпочитают, ибо оно интересно, а то, что интересно, их притягивает. Также у них нет проблем с открытостью, даже наоборот…»
По стилю понятно сразу, что откликнулся один из гипердинамиков. Именно так они и разговаривают – перевертыш на перевертыше, и сами того не замечают, искренне полагая, что остаются в пределах формальной логики. Причем что интересно – автор комментария вроде бы возражает, но, по сути, полностью подтверждает высказанную в тексте мысль: синдром дефицита внимания он считает уже не своей проблемой, а своим достоинством! В ответ на мой вежливый вопрос корреспондент любезно сообщил мне свой возраст: двадцать два года.
Что ж, именно на такого потребителя рассчитано современное информационное и развлекательное пространство. Оно подходит ему идеально, как ключ к замку. Ни разу никто из родителей не пожаловался мне, что СДВ мешает его ребенку часами играть в компьютерные игры (откуда только концентрация берется?) или сидеть на форумах и в чатах.
Вот он – выигрыш, конфетка для моих подросших «синдромников»! Здесь они чувствуют себя на коне и наконец-то могут послать подальше тех, кто много лет призывал их «сосредоточиться и попробовать понять» или «довести дело до конца» (обычно это учителя и родители). Я пришел в эту жизнь, которой меня так пугали, и оказалось, что тут все для меня! Нас много! Мы вместе! А тех, кто не поет козлиным голосом «Я душу дьяволу продам за ночь с тобой!», а читает соответствующий роман Гюго и медитирует над текстом, запишем в «ботаники». Ну и девушки, конечно, предпочитают тех, кто лучше адаптирован в имеющейся среде…
Интересно, здесь правильнее говорить о естественном или об искусственном отборе?
Интернетофобия
– Вы меня не помните? Меня Люся зовут. Я к вам когда-то почти целый год ходила…
Круглое миловидное лицо девушки казалось мне смутно знакомым. Но если она ко мне и ходила, это явно было много лет назад, потому что сейчас на вид я дала бы ей года двадцать три – двадцать четыре.
– Что ж, Люся, рада тебя снова видеть, проходи, присаживайся, – в последние годы это случается со мной все чаще и чаще: выросшие клиенты приводят уже своих детей. И каждый раз я вспоминаю, что время, оказывается, не стоит на месте. – У тебя уже есть собственный ребенок? Сколько ему? Или ей?
– Нет, у меня нет детей, – смутилась девушка. – Я опять из-за себя пришла. Я знаю, что тут детская поликлиника, но я подумала, может, вы меня примете, раз я именно к вам раньше ходила… И я теперь не знаю, к кому еще…
Она откровенно лукавила. Все-то она знала, но, конечно, иногда действительно проще обратиться к знакомому с детства специалисту. Интересно, ее теперешняя проблема – продолжение тех, старых (о которых я, увы, ничего не помнила), или уже что-то новенькое?
– И еще я подумала: вдруг вам будет интересно? Вы наверняка не помните, но я, когда девочкой была, вас не один раз спрашивала: чего вы со мной возитесь? Вам, наверное, надоело… А вы отвечали: вожусь, потому что мне с тобой интересно. Было бы неинтересно, не стала бы. Я тогда: это вы врете небось, чтобы меня успокоить. А вы: ничего подобного, я вообще никогда не делаю того, что мне неинтересно. Я потом часто ваши слова вспоминала…
«Люся – хитрая лиса», – подумала я и усмехнулась.
– Ладно, кончай мед лить. Слушаю тебя.
Люся тут же, четко отреагировав на команду, убрала с лица заискивающе-умильную улыбку и сделалась серьезно-сосредоточенной.
– Понимаете, у меня, наверно, интернетофобия. И я очень от этого страдаю.
Вот это да! А случай-то действительно интересный! Об интернет-зависимости я слышу от родителей подростков если не ежедневно, то уж пару раз в неделю точно. А вот об интернетофобии, честно признаться, в первый раз.
– Так ты что же, боишься пользоваться интернетом?
– Не совсем так, но, в общем… Мне от этого плохо становится.
– Физически плохо? Какие-то симптомы появляются? Утомление? Головная боль? Болят глаза? Позвоночник? Начинается понос? Еще что-то?
Девушка чем-то больна, а долгое сидение за компьютером в фиксированной позе обостряет пока скрытые в обычной жизни признаки болезни? Я уже прикидывала, к каким специалистам мне следует отправить ее на обследование…
– Нет, не физически. Скорее морально…
– Стоит тебе выйти в интернет – и становится плохо морально? – я ничего не понимала. – Вот зашла на сайт скачать какой-нибудь реферат (по возрасту Люся вполне могла быть студенткой) или про косметику почитать (косметика на Люсиной физиономии присутствовала в ассортименте) – и сразу начинается приступ фобии?
– Не, там, где рефераты, там нет. Это обычно когда в социальных сетях…
– Так вот оно что! – сразу же приободрилась я. – Да в них, если долго сидеть, у кого хочешь фобия начнется, просто на основе инстинкта самосохранения. Не ходи туда – и все! У тебя человеческая-то, живая жизнь есть? Что ты вообще по жизни делаешь?
– Есть! – сразу же уверенно откликнулась Люся. – Я учусь на вечернем на экономиста и работаю в салоне на ресепшене.
– Твоя семья?
– Мама, папа, брат, а сейчас мы с моим молодым человеком уже четыре месяца квартиру снимаем.
– Друзья, подруги есть?
– Есть, конечно. И из школы, и из института, и из салона девочки…
– Ну вот видишь! – обрадовалась я. – Все у тебя есть, чтобы жить спокойно без этих социальных сетей. Ну их совсем! Это, наверное, тебя твой мозг просто от них охраняет…
– Но меня туда тянет каждый день, понимаете? Там так много интересного показывают, и такие люди, которых я никогда в жизни не встречу, а если встречу, так они меня даже не заметят… Я вот и ваши, и другие статьи читала, и дискуссии, а теперь и на фейсбуке тоже…
– Так. Интересно. Интересные люди. Интереснее, чем в жизни. Вопрос спорный, но пускай. А плохо-то отчего?
– Да я как там посижу, сразу себя такой дурой и неудачницей чувствую… Там внутри так много людей, целый земной шар, и они все такие уверенные в себе, состоявшиеся, так складно пишут, шутят остроумно, все время совершают какие-то важные и даже благородные поступки, ездят везде, у них такая интересная, благополучная жизнь… Я им даже не завидую, я просто впадаю в такую серую унылость…
– Боже мой… – пробормотала я себе под нос, не найдя других слов. Очевидно, что эта девочка никогда не читала романов и не научилась отличать театральные подмостки от зрительного зала. – Боже мой…
– А люди, которые в реале рядом с тобой? Их жизнь тебя в унылость не вгоняет?
– Нет, конечно. У них полно заморочек, и я их все знаю, когда я им помогу, когда они мне… Но они другие.
– А когда только познакомишься в реале с новым человеком?
Люся задумалась.
– Да, – наконец медленно сказала она. – Мне он всегда сначала таким правильным, благополучным, умным кажется, не как я… Потом, когда поближе узнаю, это проходит.
– Люся, с чем ты приходила ко мне, когда была подростком?
– Я влюбилась в учителя физкультуры и призналась ему в этом.
Я вспомнила! И ее, и даже этого учителя (он тоже приходил ко мне) – выпивающего, лысеющего, семейного, растерянного мужичка, который совершенно не знал, что ему делать с этой свалившейся на него восторженной влюбленностью девочки, склонной идеализировать людей и создавать кумиров. А потом, когда мы уже разобрались с физкультурником, Люся влюбилась в меня…
– Люся, в сетях нет и никогда не было живых людей. Там только маски, роли. Как в театре или в книгах. Они похожи на реальных людей не больше, чем тот мужчина, в которого ты влюбилась в школе, на твоего реального учителя. Тогда ты влюбилась в придуманный тобой персонаж, а теперь – боишься и трепещешь из-за придуманных кем-то масок.
– Да я вроде бы и сама это понимаю… Но что же мне делать? Я не могу их в реале узнать, но и не хочу уйти из сетей, мне там многое нравится, и вы сами когда-то говорили, что, прежде чем бежать, любым опасностям надо внимательно посмотреть в лицо…
Господи, она и вправду цитирует мои глупости десятилетней давности?! Или сама сочиняет их на ходу?
– Наверняка можно придумать что-то еще, но в данную минуту я вижу только один выход, – тщательно подумав, сказала я.
Мы придумали ей шикарный псевдоним: Мила Милорадович (не очень даже погрешив против истины, поскольку звали ее Людмила Милова). И шикарную биографию, в которую органично вошли многие творчески преобразованные детали из ее реальной жизни. Особенно хорошо получились эпизоды про потрясающего физкультурника и мудрого психотерапевта.
На ее блог давали сотни ссылок, ее маска считалась пикантной. С ней советовались подростки и бисексуалы.
Она поверила в то, о чем говорил Шекспир полтысячи лет назад, соскучилась виртуальной «интересностью», вернулась в жизнь, окончила институт и родила ребенка. Недавно приходила с ним ко мне. Хороший такой, толстый, реальный младенец, пускает пузыри и очень любит стучать двумя крышками от кастрюль, что ему по возрасту и положено.
Дети вырастают
– Вы меня, конечно, не помните, – сказала женщина.
Я кивнула:
– Не помню.
– Мы с сыном к вам последний раз приходили лет десять назад. И до того тоже, неоднократно. Может быть, вы согласитесь выслушать меня?
– Соглашусь. А сколько лет сыну теперь?
– Двадцать четыре.
– Немало. И что же с ним?
– С ним, наверное, ничего. Здоровый парень, метр девяносто ростом. Окончил институт, работает. Это со мной.
– А что же с вами?
– Я сначала злилась, на него и на себя, а теперь у меня… наверно, это называется апатия.
– И все-таки – что же произошло?
– Произошла жизнь, – невесело усмехнулась женщина. – Только и всего. Стас родился недоношенным, плохо ел, плохо работал кишечник, первый год он все время орал и почти не спал. Я валилась с ног, засыпала буквально на ходу, стала раздражительной, почти не следила за собой. В три года выяснилось, что у Стаса ОНР – общее недоразвитие речи. А еще шумы в сердце, близорукость, дискинезия желчевыводящих путей, сколиоз… Очень хороший логопедический детский садик, там с ними много занимались, мы еще оплачивали дополнительные уроки и дома делали задания каждый день. И лечебная физкультура нам очень помогала – мы на нее пять лет ходили, два раза в неделю. Но в школе он все равно сразу стал отставать: пока сидишь с ним, вроде все понимает, а как отойдешь… Когда Стасу было семь с половиной лет, муж ушел. Сказал: «Я себя как-то здесь больше не вижу. До меня никогда никому нет дела. Деньги я, конечно, буду на Стаса давать, но, по-моему, все это как-то неправильно». – «А как правильно?» – спросила я, разрываясь между уроками, лечебной физкультурой, массажем и логопедическими занятиями. Муж ничего мне не ответил и вскоре нашел себе другую женщину, очень симпатичную, которая уделяла ему гораздо больше внимания. Самое обидное – у нее тоже имелся ребенок, девочка. Совершенно беспроблемное существо – сама вставала в школу по будильнику, сама делала уроки, занималась в театральном кружке при школе и никогда не болела ничем тяжелее простуды… Мне на помощь приехала мама из Перми. Я вышла на работу. В школе Стас учился неизменно плохо, зато с успехом исполнял роль классного шута. Учительница мне постоянно жаловалась и грозила спецшколой. Невропатолог поставил ему ММД – минимальную мозговую дисфункцию – и направил к вам. Вы сказали, что если с ролью шута справляется, стало быть, есть существенная надежда, что все будет хорошо. Дали упражнения на развитие концентрации внимания. Мы их честно выполняли, вроде стало получше, но все равно между тройкой и двойкой. Он вечно тянулся к ребятам постарше и похулиганистей, из неблагополучных семей. В десять лет я нашла у него сигареты. Потом попал на учет в милицию. Тогда мы опять к вам приходили. Вы сказали, что все нормально – реакция группирования, надо только найти пристойный способ ее реализации, отправили в скаутский отряд. Стасу там понравилось, он три года ходил на занятия, в походы. И здоровье стало гораздо лучше. Потом увлекся компьютерными играми и все бросил. Сидел целыми днями в компьютерном клубе или дома. Учебу совсем забросил. Я превратилась в мегеру, орала на него прямо с порога, выдирала из стены провода, не давала денег. Он затыкал уши, а один раз толкнул меня так, что я упала. Тогда я приходила к вам без него. Вы сказали: деньги давать раз в неделю, говорить о своих чувствах в форме «я-посланий» и беседовать только об отвлеченных вещах. Я так и сделала. Он сразу успокоился и вообще перестал меня замечать. Однако школу закончил. О поступлении на бюджет не могло быть и речи. В армию с его здоровьем – я не решилась. Спросила: кем ты хочешь быть? Он сказал: да все равно, лишь бы не очень париться. Оплатила обучение, факультет менеджмента. Он учился кое-как, совершенно без интереса, но хвосты всегда сдавал, потому что армии боялся. И вот теперь…
– Что же теперь?
– После института я нашла ему интересную перспективную работу в иностранной фирме. Но там надо было, как он говорит, «напрягаться», срочно совершенствовать язык, еще чему-то соответствовать. Он, даже не сказав мне, уволился. Теперь работает младшим клерком в офисном центре у нас на площади Конституции, целыми днями занимается на работе не пойми чем, а по вечерам ходит с приятелями в кино, в боулинг, в клубы. У него даже девушки постоянной нет, только какие-то случайные связи, потому что устойчивые отношения – это же тоже нужно «напрягаться». Ничего не читает, ничем не интересуется, все друзья такие же, как он. С ним совершенно не о чем говорить. Я спрашиваю: тебе еще нет двадцати пяти лет, неужели тебе больше ничего не хочется достичь? Он отвечает: зачем? Меня все устраивает… – женщина прижала ладони к лицу и сквозь пальцы гнусаво закончила: – Все эти годы я фактически не жила своей жизнью. Тянула Стаса. И теперь думаю: кому я посвятила жизнь и на что ее потратила? Чтобы вырастить вот это…
– Если бы можно было отмотать назад, вы что, поступили бы по-другому? – быстро спросила я. – Не лечили бы, не занимались с логопедом, не проверяли уроки?
– Нет, конечно, делала бы все то же самое, – согласилась она. – Но поймите, сейчас мне все равно обидно. Вы скажете: вот теперь!.. А я чувствую: поезд ушел, я уже ничего не хочу.
Я задумалась. Послать ее к невропатологу за таблетками? Ее взгляд на Стаса таблетки не изменят. Наехать на нее? Доказать, что на самом деле у нее все получилось, и тысячи измученных матерей мечтают о том, чтобы у них получился такой здоровый, взрослый и спокойный парень, как Стас? Она мне не поверит.
Что же?
– Вот что, – сказала я. – Я вас выслушала, хотя и не должна была – у нас бесплатный прием только до семнадцати лет. Поэтому считаю себя вправе попросить об услуге.
– Да, конечно, – встрепенулась женщина.
Видно было, что она и сама слегка устала жаловаться на жизнь. Явно непривычное для нее занятие, ведь вообще-то она борец по природе.
– Я сейчас дам вам приготовленные мною развивающие игрушки, и вы их занесете вот по этим двум адресам – оба рядом с поликлиникой, из окна могу показать. Я объясню вам, а вы объясните и покажете матери и бабушке, как играть в них с ребенком. У этих семей нет денег, чтобы покупать пособия, и не хватает времени и сообразительности, чтобы изготовить самим. Поэтому иногда я даю им игрушки напрокат. Согласны? Тогда я им звоню, что сейчас придет волонтер…
Несколько сбитая с толку, она тем не менее кивнула. Выслушала мои спонтанные (и, надо признать, довольно бестолковые) инструкции, взяла две коробки и ушла.
Первый адрес – тяжелый ДЦП со слабоумием и эписиндромом, восемь лет (ухаживает бабушка, родители спились и потерялись).
Второй адрес – тетрапарез, врожденная глухота, девять лет (воспитывает одна мать).
Мое послание ей было настолько лобовым, что я была уверена на сто процентов – больше она не придет.
Она пришла. Большую сумку оставила в предбаннике.
– Я отнесла игрушки и попыталась поиграть в них с детьми, – сказала она. – Это ужасно. Понимаю, как вам дико было меня слушать. Но что же делать? Я долго думала, потом узнавала в интернете. Вот – я купила развивающие игрушки для Ильи, у которого ДЦП. Вы ведь передадите их бабушке?
– Нет, – сказала я.
– Почему?! – удивилась она.
– Сами пойдете и сами отдадите, – отчеканила я. – Научите бабушку ими пользоваться. Заодно чаю с ней попьете, она это, помнится, любит.
– Да-да, конечно, вы правы, – закивала она. – Спасибо. Это… Какая у вас все-таки работа… Я бы хотела… Я теперь…
В воздухе опять отчетливо замаячило: «посвятить жизнь»…
– Перестаньте немедленно! – сказала я.
– Что перестать?
– Жизнь не памятник и не стихотворение. Ее вовсе не надо посвящать кому-то или чему-то – ребенку, идее, партии, мужчине, Богу, работе, уходу за несчастными детьми и так далее. Это неизбежно ведет к разочарованиям: ребенок вырастает «не таким», мужчина уходит, работа заканчивается, Бог непостижим и ведет себя странно, больные дети не поправляются. Определитесь с зоной ответственности. Центр тяжести собственной личности имеет смысл располагать внутри себя, а не снаружи.
– Вы, конечно, правы, – вздохнула она. – Но меня… нас всех так воспитывали. И этого уже, кажется, не изменить.
– Если уж никак не удержаться, попробуйте посвятить остаток вашей жизни самой жизни, – посоветовала я. – Я думаю, она с этим посвящением как-нибудь разберется.
– Я попробую, – улыбнулась она.
И ушла.
А сумка осталась стоять у меня в предбаннике. Но это была уже моя зона ответственности.
Никогда не поздно
– Он у нас поздний вышел ребенок, в этом, мне кажется, все дело, – сказала бабушка.
– Простите? – удивилась я.
Мальчику Феде на вид было лет восемь-девять, его матери – под тридцать. Какой же поздний? Скорее уж, по нынешним временам, ранний ребенок. Бабушка, кстати, смотрелась весьма колоритно: очень пожилая, но с яркими, живыми глазами, огромная, с прической в виде булки-плетенки, в просторной полосатой юбке. Хотелось назвать ее старухой, причем во вполне уважительном, мощном смысле этого слова.
– Я о своем сыне говорю, Федином отце, – объяснила бабушка. – Мы с мужем его пятнадцать лет ждали, почти отчаялись. Всех этих современных ухищрений тогда не было – оставалось только в Кисловодск ездить или богу молиться. Но мы и молиться не могли, поскольку оба были члены партии…
– Да-да, – я закивала, ничего пока не понимая.
Жалобы, которые уже озвучила мать мальчика, – плаксивость, что-то вроде ипохондрии («животик болит», «ножки болят», «мама, у меня тут кровь, я не умру?»), вранье про школьные дела и уроки («вечно у него ничего не задано») – вроде бы никак не вязались с поздним рождением Фединого отца.
– Риточка, ты пока погуляй с ним, – безапелляционно распорядилась бабушка. – А я с доктором поговорю.
На дворе стоял ноябрь, в сумеречном дворе шел дождь со снегом, а прогулки по поликлиническому коридору в начале эпидемии гриппа…
– Федя посидит в предбаннике и выполнит задание, которое я ему сейчас дам, – сказала я.
– Хорошо, – согласилась старуха. – Феденька, ты делай, что доктор скажет, а ты, Рита, все равно погуляй.
Невестка послушно вышла. Не сказать, чтоб мне это понравилось. Но вдруг бабушка собирается говорить о каких-то старых семейных тайнах, в которые Рита до сих пор не посвящена?
– Мы его, конечно, избаловали. Все ему – единственный, долгожданный, как же отказать? И одновременно мелочно опекали и страшно боялись, как бы с ним чего не случилось. Он в детстве часто болел, а потом я уж и не знаю… может быть, притворялся, чтобы музыкой не заниматься…
– Федин отец занимался музыкой?
Ей явно нужно было выговориться. Я решила не мешать, надеясь, что в процессе рассказа как-нибудь прояснится сегодняшняя ситуация в семье.
– Да. Окончил музыкальную школу, училище и консерваторию по классу скрипки.
– Ого!
– Именно – «ого». Если бы вы знали, чего нам с отцом это стоило! И ведь у него были способности, несомненно, это все говорили. Но совершенно не было честолюбия. А без него в музыкальном мире делать просто нечего. После консерватории он пошел преподавать в музыкальную школу, моя подруга его туда устроила…
Интересно, кем работала в музыкальной школе ее подруга? Гардеробщицей? Бухгалтером?
– Вы расстроились? У вас были надежды на его карьеру, амбиции?
– Нет, что вы! Мы радовались: наконец-то наш сын стал взрослым, занялся хорошим делом, нам больше не нужно его тормошить, подгонять… Потом он самостоятельно снял квартиру. Я спросила: на какие деньги (сами понимаете, какая в музыкальной школе зарплата)? Он ответил: нашел частные уроки, они позволяют оплачивать. А потом подруга (та самая, которая его устроила, – директор музыкальной школы) сказала мне: ты знаешь, что твой сын давно уволился? Он просил тебе не говорить, дескать, сам скажет, но поскольку ты молчишь, я решила, что должна поставить тебя в известность…
Я рассказала мужу. Муж сказал: спрашивать бесполезно, он все равно нам соврет. И сейчас стыдно вспомнить: мы, пожилые уже люди, следили за взрослым сыном, прячась за водосточные трубы… Он жил с женщиной, их называют бизнес-вумен, немного старше его, в ее квартире и, как мы вскоре поняли, целиком на ее деньги. Нигде не работал…
– Вы объяснились с сыном?
– Не то слово. Объяснение длилось почти двое суток. Он кричал, что ненавидит музыку, мы кричали, что мужчина должен работать… После этого он пытался покончить жизнь самоубийством. Три раза, почти подряд…
– Где?
– Везде. Очень демонстративно, всем напоказ. Однако нас он, как всегда, победил. Мы сказали: делай что хочешь. Но бизнес-вумен все это показалось уже как-то слишком, и она его выгнала. Он сказал: «Добились своего?!» – лег на диван перед телевизором и вставал только поесть или попить.
– Боже мой! И что же вы сделали? Обратились к врачу? К психотерапевту?
– Мы дали ему паспорт и диплом, выгнали его на улицу и сказали: вернешься, когда устроишься на работу. Он устроился в тот же день – в мебельный магазин в квартале от нашего дома. Мальчик из нашей семьи, с консерваторским образованием – продавец-консультант! Но мы были рады и этому. Тем более что именно там через три месяца он встретил Риту…
– Простите, а кем вы с мужем работали? – не удержалась я.
– Я ушла на пенсию городским методистом по преподаванию истории искусств в средних школах. А муж работал в Смольном – заместитель руководителя комитета по печати.
Ап! – я проглотила все свои представления о том, как должны выглядеть преподаватели и методисты истории искусств.
– Мужу вся эта история с сыном стоила жизни. Он умер от инфаркта. А сына Рита спасла. Она очень хорошая девочка. Работает продавщицей цветов в том же торговом центре, любит мужа, сына и свою работу. Но – девять классов и аграрное училище в Кингисеппе. Я волнуюсь за Федю, он очень похож на отца, но более замкнутый. Как бы с ним…
– Надеюсь, никаких музыкальных школ?
– Никаких!
– И мелочной опеки?
– Ни разу. Да Рита к этому и не склонна – она ведь с детства самостоятельная. Я было пыталась, но она (не глядите, что тихая), когда надо, легко меня окорачивает.
– Что ж, давайте сюда Риту и Федю.
Простенькое тестирование для Феди, вроде теппинг-теста и прочего того же уровня, подтверждает: слабый, истощаемый тип нервной системы. Реакция на фрустрацию – убегание вплоть до стенки, потом бросок с закрытыми глазами.
– Какие отношения у Феди с отцом?
– Хорошие. Они много разговаривают, вместе смотрят телевизор, играют в компьютере.
– Тенденция, вектор у всего происходящего с Федей есть?
– Да, с годами он все-таки спокойнее делается. И договориться легче, и объяснить. Я у Риты учусь…
Вот это да! Я-то всегда думала, что бабушек переучивать поздно, и исходя из этого работала! Моя ошибка.
А она все поняла, все проанализировала и теперь охапками кидает солому туда, где развитие внука может (ей это известно лучше, чем кому бы то ни было) споткнуться.
Я даже не стала спрашивать, зачем она ко мне пришла. Понятно и так: выговориться, рассказать, посмотреть со стороны на результаты многолетнего анализа.
– Я дам вам для Феди упражнения на развитие умственной работоспособности и тренировку концентрации внимания, – сказала я Рите. – Будете каждый день понемножку их выполнять. И еще что-нибудь типа кружка «Веселые старты», где командные игры, эстафеты и тому подобное, – для физического развития и чтобы был смысл преодолевать трудности. Еще хорошо бы закаливание…
– Мама, вы записываете? – строго обратилась Рита к бабушке и объяснила мне: – Сама я пишу как курица лапой, и ошибки… Но мы все сделаем! Я-то в смены работаю, у нас круглосуточный магазин, так отцу скажу, он будет его в кружок водить…
Они поблагодарили, попрощались. Стали переобуваться (у меня в кабинете сменная обувь). Рита подала почти неуловимый знак, и Федя, присев, застегнул молнии на бабушкиных сапогах.
Я стояла в коридоре, смотрела им вслед и думала: никогда не поздно. Никогда. Надо только решиться быть честным с собой.
Присоединяйтесь к нам!
Официальный сайт:
Facebook: facebook.com/samokatbook
Вконтакте: vk.com/samokatbook
Twitter: twitter.com/samokatbook
Instagram: instagram.com/samokatbook
LiveJournal: samokat-library.livejournal.ru
ООО «Издательский дом «Самокат»
101000, Москва, а/я 487
info@samokatbook.ru
Тел.: +7 495 506 17 38
Тел./факс: +7 495 953 59 72
Сведения об издании
Литературно-художественное электронное издание
Серия «Самокат для родителей»
В соответствии с Федеральным законом № 436 от 29 декабря 2010 года маркируется знаком 16+
Фотография на обложке Надежды Артемьевой
Литературный редактор Инна Розова
Корректор Софья Кобринская
Технический редактор Леонид Шиловский
Выпускающий редактор Евгения Новикова
Директор издательства Ирина Балахонова
© Мурашова Е. В., текст, 2012
© Оформление, издание на русском языке. ООО «Издательский дом «Самокат», 2014
ISBN 978-5-91759-299-2



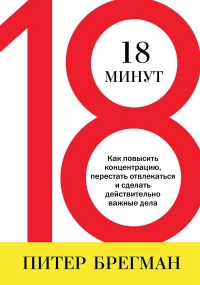




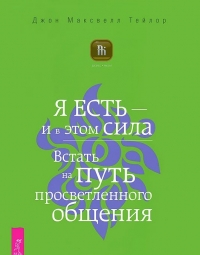



Комментарии к книге «Любить или воспитывать?», Екатерина Вадимовна Мурашова
Всего 0 комментариев