Карлос Кастанеда Особая реальность Новые беседы с доном Хуаном
ПРЕДИСЛОВИЕ
Десять лет назад судьба свела меня с мексиканским индейцем из племени яки. Я называю его «доном Хуаном» — в испанском языке дон выражает почтение к человеку. Познакомился я с доном Хуаном случайно. Мы с моим приятелем Биллом сидели на автобусной станции пограничного городка в штате Аризона. Нас разморило от зноя, в предвечерние часы он казался невыносимым. Вдруг Билл тронул меня за плечо.
— Вот человек, о котором я тебе рассказывал. — Он кивнул в сторону только что вошедшего старика.
— Что именно? — спросил я.
— Индеец, который знает пейотль. Помнишь? Я вспомнил, как мы с Биллом проколесили целый день, разыскивая индейца, о котором ходили разные слухи. Мы так и не нашли его дом; казалось, местные жители, у которых мы расспрашивали дорогу, нарочно сбивают нас с толку. Билл объяснил тогда, что этот человек — «йерберо» (так называют сборщиков и продавцов целебных трав) и что он немало знает о галлюциногенном кактусе пейотле. По мнению Билла, мне стоило с ним познакомиться. В то время я собирал сведения о лекарственных растениях, которыми пользуются тамошние индейцы, и образцы самих растений. Билл был моим проводником, он знал эти края.
Билл поднялся и пошел навстречу старику. Это был человек среднего роста. Совсем седые волосы прикрывали уши, подчеркивая округлость головы. Он был очень смуглым. Глубокие морщины на лице сильно его старили, но в фигуре угадывались сила и подвижность. Минуту-другую я наблюдал за индейцем. Он двигался с легкостью, какую от старика трудно было ожидать.
Билл подозвал меня.
— Славный дед, — сказал он. — Только не могу его понять. Не испанский, а какая-то тарабарщина.
Старик с улыбкой глядел на Билла. А тот, зная несколько испанских слов, слепил из них нечто несуразное. При этом вопросительно посмотрел на меня, верно ли он выразился. Я ничего не понял; и Билл с растерянной улыбкой отошел в сторону. Старик, глянув на меня, рассмеялся. Пришлось объяснить, что мой приятель порой забывает, что не знает по-испански.
— Он и познакомить нас забыл, — сказал я, назвавшись по имени.
— А я — Хуан Матус, к вашим услугам, — ответил индеец.
Мы пожали друг другу руки. Помолчали. Я первым нарушил молчание и стал объяснять, чем занимаюсь. Сказал, что собираю сведения о растениях, в частности о пейотле. Потом разошелся и, хотя мало что знал о пейотле, изобразил из себя знатока. Мне казалось: если я похвастаюсь старику солидными знаниями, он разговорится. Но он слушал молча. Потом кивнул и уставился на меня. Его глаза как будто излучали свет. Я не выдержал взгляда, растерялся. Было очевидно: он знает, что я несу чушь.
— Приезжай как-нибудь ко мне, — сказал он, отводя взгляд. — Там поговорим как следует.
Я не знал, что ответить: было как-то не по себе. Вскоре вернулся Билл. Он понял мое состояние, но не сказал ни слова. Так и сидели молча. Наконец дон Хуан встал — подошел его автобус. Он распрощался с нами.
— Ничего не вышло? — спросил Билл. — Ничего.
— О травах спрашивал?
— Спрашивал. Кажется, он принял меня за кретина.
— Я ведь говорил тебе, старик — не от мира сего. Все местные его знают, но словом о нем не обмолвятся. Не зря, наверно.
— Он пригласил меня к себе.
— Это он тебя дразнит. Допустим, ты приедешь. А дальше? Все равно ничего не расскажет. А если начнешь приставать с расспросами, сочтет тебя за болтуна и идиота и вообще замолчит.
Билл сказал, что ему доводилось встречаться со знатоками вроде этого старика и что лучше с ними не связываться: все, что надо, рано или поздно можно узнать у кого-нибудь другого, с кем легче сладить. Он сказал, что лично у него нет ни времени, ни терпения на этих старых чудаков и что дед, скорее всего, корчит из себя знатока трав, а на самом деле знает о них не больше первого встречного.
Билл долго продолжал в том же духе, но я перестал его слушать. Я думал о старом индейце. Он понял, что я блефовал. Какие глаза! Они воистину излучали свет!
Месяца два спустя я навестил дона Хуана, но не как ученый-этнограф, изучающий лекарственные растения, а из чистого любопытства. За всю мою жизнь никто на меня так не смотрел. Я хотел узнать, что означал его взгляд. Мое желание превратилось в навязчивую идею, Я размышлял о взгляде дона Хуана, и чем больше о нем думал, тем необычнее он казался.
Мы с доном Хуаном подружились, и в течение года я то и дело приезжал к нему. Держался он уверенно и обладал изумительным чувством юмора; к тому же в его действиях угадывалась какая-то скрытая логика, которая меня озадачивала. Находясь рядом с ним, я испытывал непонятный восторг — и вместе с тем беспокойство. Сам факт его существования заставил меня резко переоценить нормы моего поведения. Подобно многим, я привык считать человека существом слабым, склонным к заблуждениям. В доне Хуане я не обнаружил ни слабости, ни беспомощности, и это меня потрясло. Меня поразило его замечание о различии между нами. В канун одной из поездок на меня вдруг навалилось гнетущее чувство недовольства собой и моими отношениями с ближними. К дону Хуану я приехал угрюмый и раздраженный.
У нас завязался разговор о моей тяге к знанию, но говорили мы, как обычно, о разном: я — о научном знании, выходящем за пределы эмпирического опыта, он — о непосредственном постижении мира.
— Что тебе известно о мире вокруг тебя? — спросил дон Хуан.
— Всего понемногу, — ответил я.
— Я хочу знать, ты чувствовал его когда-нибудь?
— Как сказать. В какой-то степени.
— Этого мало. Если ты не будешь чувствовать мир, он утратит свой смысл.
Я сказал, что не обязательно пробовать суп, чтобы узнать его рецепт, а для понимания электричества нет нужды, чтобы тебя ударило током.
— Ерунда, — сказал дон Хуан. — Тебе лишь бы привести какие-то доводы, хотя бы и бессмысленные. Только бы остаться таким, как есть, — даже ценой собственного благополучия.
— Не понимаю, о чем ты говоришь.
— О том, что ты несовершенен. И потому не знаешь покоя.
Меня эти слова обидели. Кто дал ему право судить обо мне?
— Тебя одолевают проблемы, — сказал дон Хуан. — Почему?
— Я всего-навсего человек, — ответил я раздраженно, вспомнив любимую фразу отца. Всякий раз, когда отец так говорил, это значило: я слаб и немощен; таким образом он выражал свое отчаяние.
Дон Хуан пристально посмотрел на меня — как в нашу первую встречу.
— Ты слишком занят собой, — сказал он с улыбкой. — Отсюда твоя усталость. Она заслоняет от тебя мир, заставляет цепляться за привычные доводы. Вот и получается, что, кроме проблем, у тебя ничего нет. Я тоже всего-навсего человек, но отношусь к себе иначе.
— Как именно?
— Я избавился от проблем. Жаль, что жизнь коротка, жаль, что всего не достичь. Но меня это не волнует. Просто жаль — и все.
Мне понравилось, как он это сказал, — без сокрушения, без сожаления.
В 1961 году, через год после нашего знакомства, дон Хуан открыл мне, что он — брухо. Испанское слово брухо означает: колдун, знахарь, целитель. После этого наши отношения вступили в новую стадию — я стал учеником дона Хуана и четыре года обучался у него тайнам колдовства. О своем ученичестве я написал книгу «Учение дона Хуана. Путь познания индейцев племени яки».
Наши беседы велись на испанском языке, которым дон Хуан отлично владел, что и позволило мне освоить довольно сложные понятия его мировоззрения. Я назвал эту сложную, но стройную систему колдовством, а дона Хуана — колдуном, поскольку он сам упоминал эти слова. Но в более серьезных разговорах он называл колдовство знанием, а колдуна — человеком знания, или знающим.
Чтобы мне легче было освоить его учение, дон Хуан прибег к помощи трех психотропных растений: пейотля (Lophophora williamsii), дурмана (Datura inoxia) и гриба из рода Psilocybe. Применение этих галлюциногенов вызывало сильный сдвиг в восприятии и порождало своеобразное состояние сознания, которое я назвал «необычной реальностью». Словом «реальность» я воспользовался по следующей причине. Одним из столпов учения дона Хуана было утверждение о том, что сознание, пребывающее под воздействием одного из названных растений, воспринимает не галлюцинации, а вполне реальные (хотя и необычные) аспекты обычного мира. Измененное сознание, как учил дон Хуан, воспринимает не «якобы существующее», а «существующее на самом деле».
Конечно, это я сам назвал растения галлюциногенами, а вызываемое ими состояние сознания — «необычной реальностью». Для дона Хуана растения были проводниками, открывающими доступ к сверхъестественным «силам». Вызываемые ими состояния он называл «встречами» с этими «силами».
Пейотль дон Хуан называл «Мескалито» и относился к нему как к доброму наставнику и защитнику. Мескалито, говорил он, учит «правильной жизни». Пейотль принимают обычно во время «митоты» — сходки колдунов, на которой они получают урок правильной жизни.
Дурману и грибам дон Хуан приписывал силы иного рода. Он называл их «гуахо» — что значит помощник, союзник. Колдун, овладевший гуахо, получает от него силу. Сам дон Хуан отдавал предпочтение грибу. Это был его гуахо, которого он называл «дымком».
Дон Хуан хранил грибы в небольшой бутыли из тыквы, где они превращались в мелкий сухой порошок. Целый год бутыль хранилась закрытой, затем дон Хуан смешивал порошок с высушенными травами пяти видов и готовил курительную смесь.
Чтобы стать человеком знания, нужно было как можно чаще «встречаться» со своим гуахо, привыкнуть к нему. Это значило: ученик должен довольно часто курить галлюциногенную смесь. Курильщик вдыхал дым смеси и проглатывал не сгоревший до конца грибной порошок. Поразительное действие гриба на способности восприятия дон Хуан объяснял так: «гуахо лишает тела».
Обучение у дона Хуана требовало колоссального напряжения и так измотало меня, что в конце 1965 года я вынужден был его бросить. Теперь, пять лет спустя, я понял, почему так сделал. Учение дона Хуана стало серьезно угрожать моему мировоззрению. Я начал терять присущую людям уверенность в незыблемости обычной реальности.
Оставляя учебу, я был убежден, что это навсегда и что больше я дона Хуана не увижу. Но в апреле 1968 года, получив сигнальный экземпляр своей книги, я захотел показать ее дону Хуану и поехал к нему. Каким-то непонятным образом наши отношения ученика и учителя возобновились. Начался второй цикл обучения, заметно отличающийся от первого. Я избавился от панического страха, характер обучения стал спокойнее. Дон Хуан много смеялся и шутил, заражая смехом и меня. Возможно, он делал это нарочно, чтобы избегать чрезмерной серьезности. Он дурачился даже тогда, когда было совсем не до смеха; это помогало мне справиться с переживаниями, которые легко могли стать навязчивыми. Дон Хуан исходил из того, что только в легком и податливом расположении духа ученик способен воспринимать его уроки.
— Ты струсил и удрал, потому что возомнил себя важной птицей, — объяснил он мое бегство. — Тот, кто думает о себе так, становится тупым, неповоротливым и тщеславным. А человек знания должен быть легким и гибким.
Во время второго цикла обучения дон Хуан делал упор на то, чтобы научить меня «видеть». Слова «видеть» и «смотреть» он четко различал по смыслу. «Смотреть» соответствовало обычному восприятию мира; за словом «видеть» скрывался невероятно сложный процесс, посредством которого человек знания постигал суть вещей.
Желая облегчить читателю знакомство со всеми перипетиями моего обучения, я сократил длинные вереницы вопросов и ответов и в таком виде издал полевые записи. Надеюсь, смысл сказанного доном Хуаном при этом сохранился. Я стремился сделать записи похожими на пересказ естественно протекающих бесед, с тем чтобы точнее передать драматический характер «полевых ситуаций». Каждую главу я ограничил описанием одной поездки к дону Хуану и того, чем мы с ним занимались. Как правило, занятие завершалось каким-нибудь неожиданным замечанием, так что концовка глав — не мое литературное изобретение, а особенность устной речи дона Хуана, возможно своеобразный мнемонический прием, помогающий осознать всю серьезность и значительность уроков.
И все же для большей доходчивости моего отчета необходимы пояснения, ибо она во многом зависит от верного понимания исходных терминов, или ключевых понятий. Их хочется выделить особо. Замечу, что определение этих понятий как основных связано с моим увлечением социальными науками; возможно, человек с другими интересами выделил бы какие-то другие.
Во время второго цикла обучения дон Хуан постоянно внушал мне, что курение психотропной смеси — необходимая предпосылка «видения» и потому курить следует как можно чаще.
— Дымок сделает тебя настолько подвижным, что мелькание этого быстротечного мира прекратится, — говорил он.
С помощью психотропной смеси я оказывался в необычном состоянии сознания, отличительной чертой которого было то, что оно ни к чему «не пристегивалось». Воспринятое мной не поддавалось осмыслению и истолкованию с помощью тех средств, которыми мы пользуемся при объяснении обычного мира. «Непристегнутость» необычной реальности все чаще и чаще заставляла меня сомневаться в адекватности моего прежнего мировоззрения.
Дон Хуан использовал «непристегнутость» необычной реальности, когда знакомил меня с очередной «смысловой единицей» — одним из элементов его учения. Я называю их «смысловыми единицами», поскольку они являются как бы сгустками чувственных восприятий и одновременно их истолкованием, на основе которого строятся более сложные понятия. Примером «смысловой единицы» может служить объяснение физиологического действия психотропной смеси. Смесь вызывает онемение конечностей и утрату контроля над движениями; в системе дона Хуана это объясняется действием «дымка» (в данном случае он — гуахо), помогающего «освободить курильщика от тела».
Я сгруппировал смысловые единицы, назвав каждую группу «осмысленным истолкованием». По-видимому, колдовство зиждется на определенной совокупности осмысленных истолкований, которые обязан знать колдун. В обычной жизни мы также имеем дело с системой осмысленных истолкований, применяемых в тех или иных случаях. Примером может служить понятие «комната», которое не требует от нас особого осмысления, так как используется постоянно. «Комната» — это осмысленное истолкование, ибо всякий раз, когда мы его используем, мы осознаем те смысловые единицы, из которых оно состоит. Таким образом, осмысленное истолкование — это процесс, в результате которого «компетентный человек» осознает смысловые единицы, из которых составлено данное понятие и на основе которых он может делать определенные заключения и предсказания.
«Компетентным человеком» я называю человека, который знает все или почти все смысловые единицы, составляющие его систему осмысленного истолкования. Дон Хуан был компетентным человеком — колдуном, знающим все слагаемые своего учения.
Как компетентный человек, он старался сделать мне понятной свою систему осмысленного истолкования. В данном случае понимание было равносильно обучению новым способам истолкования чувственных восприятий.
Я был «чужаком» — человеком, не способным верно истолковать смысловые единицы его учения.
Обучая меня колдовству, дон Хуан старался прежде всего расшатать укоренившуюся во мне, как и в большинстве людей, уверенность в том, что «здравый смысл» гарантирует единственно верное представление о мире. С помощью психотропных растений и искусного управления моим контактом с чужим для меня миром он сумел убедить меня, что мой способ видения мира — не единственно возможный, а лишь одна из интерпретаций чувственного опыта.
Чуждое и непонятное нам колдовство для индейцев на протяжении тысячелетий было таким же серьезным занятием, каким для нас является наука. Причина нашего непонимания несомненно связана с тем, что нам непонятны те смысловые единицы, которые лежат в основе колдовства.
Дон Хуан сказал однажды:
— У каждого человека знания — своя склонность.
Я попросил объяснить, что это значит.
— Я, например, склонен к тому, чтобы видеть, — сказал он.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Я люблю видеть, — ответил дон Хуан. — Только видение позволяет человеку знания знать.
— А что ты видишь?
— Все.
— Я тоже все вижу, хоть я и не человек знания.
— Нет, ты не видишь.
— То есть как? Вижу!
— Говорю тебе — нет.
— Почему?
— Ты только смотришь на поверхность вещей.
— А человек знания видит их насквозь?
— Нет, речь о другом. Я сказал: у каждого человека знания своя склонность. Моя склонность — видеть и таким образом познавать; у других — иные склонности.
— Какие?
— Возьми, например, Сакатеку. Он тоже человек знания. Его склонность — танец. Он познает, танцуя.
— Значит, склонность человека знания — это то, что он совершает, чтобы знать?
— Именно.
— Но как танец помогает Сакатеке познавать?
— Сакатека танцует всем своим существом.
— То есть не так, как я? В его танце есть что-то необычное?
— Как тебе сказать? Он танцует так же, как я вижу. Ты так не умеешь.
— А видеть, как ты, он может?
— Может. Но он еще и танцует.
— Как же все-таки он танцует?
— Это трудно объяснить. Когда Сакатека что-то хочет знать, он танцует. Могу сказать только одно: пока ты не поймешь, что такое путь знания, и о танце, и о видении говорить бесполезно.
— Ты видел его в танце?
— Да. Но тот, кто просто смотрит, как он танцует, не может увидеть, что его танец — особый способ познания.
Я знал Сакатеку, во всяком случае знал, кто он такой. Мы с ним встречались, однажды я угостил его пивом. Он был очень учтив и пригласил меня в гости. Я давно намеревался съездить к нему, но дону Хуану об этом не говорил.
14 мая 1962 года я приехал к Сакатеке. Он объяснял когда-то, как к нему добраться, и я без труда нашел дорогу. Дом окружала изгородь, ворота были закрыты. Я обошел изгородь, надеясь найти кого-нибудь, но никого не было.
— Дон Элиас! — крикнул я. От моего крика во дворе с кудахтаньем забегали куры. К изгороди подбежала собачонка, но не залаяла, а села и уставилась на меня. Я позвал снова — куры закудахтали еще громче.
Наконец из дому вышла пожилая женщина. Я попросил позвать дона Элиаса.
— Его нет, — сказала она.
— А где его можно найти?
— В поле.
— Где именно?
— Не знаю. Приходите попозже. Он вернется часов в пять.
— Вы его жена?
— Жена. — Она улыбнулась.
Я хотел расспросить ее про Сакатеку, но она извинилась, что плохо говорит по-испански. Я сел в машину и уехал.
Вернулся около шести и, подъехав прямо к воротам, позвал Сакатеку. На этот раз из дому вышел он сам. На плече у меня в кожаном футляре висел магнитофон, похожий на фотоаппарат. Я включил его. Сакатека меня узнал.
— А, это ты, — улыбаясь, произнес он. — Как поживает Хуан?
— Как всегда. А вы, дон Элиас?
Он не ответил. Казалось, он был чем-то взволнован. Внешне держался нормально, но чувствовалось, что ему не по себе.
— Хуан прислал тебя с каким-то поручением?
— Нет, я приехал сам.
— Зачем?
В его голосе звучало неподдельное удивление.
— Просто побеседовать, — сказал я, стараясь говорить как можно естественней. — Дон Хуан рассказывал о вас поразительные вещи. Меня разобрало любопытство и захотелось спросить кое о чем.
Сакатека, сухопарый и жилистый, молча стоял передо мной. На нем были штаны цвета хаки и рубашка. Он смотрел на меня, полузакрыв глаза, — словно дремал или даже был пьян. Рот у него приоткрылся, нижняя губа отвисла. Я заметил, что он тяжело дышит, почти хрипит, и подумал, в своем ли он уме. Эта мысль была нелепой, потому что несколько минут назад, выйдя из дому, он живо отреагировал на мое появление.
— О чем ты хочешь поговорить? — спросил он наконец, с трудом выговаривая слова.
Мне стало не по себе, как будто я заразился его усталостью.
— В общем, ни о чем особенном, — ответил я. — Просто заехал поболтать. Вы приглашали меня когда-то.
— Когда-то. Но теперь — другое дело.
— Почему?
— Разве ты не говоришь с Хуаном?
— Ну как же!
— Так чего тебе надо от меня?
— Я хотел задать несколько вопросов.
— Спроси Хуана. Он, кажется, тебя учит?
— Да. Но мне хотелось бы узнать ваше мнение о его учении.
— Зачем? Ты что, не доверяешь Хуану?
— Доверяю.
— Тогда почему не спросишь о том, что хочешь знать?
— Я спрашивал, он не отвечает. Я и подумал: если бы вы кое-что рассказали, я бы лучше понял дона Хуана.
— Хуан сам все расскажет. Ясно?
— Да. Мне просто приятно поговорить с таким человеком, как вы, дон Элиас. Не каждый день встречаешь человека знания.
— Хуан — человек знания.
— Я знаю.
— Тогда зачем тебе я?
— Я уже сказал: я приехал к вам как к другу.
— Нет, у тебя на уме что-то другое!
Я долго еще промаялся таким образом, но безрезультатно. Сакатека молчал и внимательно меня слушал. Глаза его почти закрылись, однако я чувствовал, что он пристально за мной наблюдает. Он еле заметно кивал головой. Вдруг Сакатека открыл глаза, и я поймал его взгляд. Казалось, он смотрит сквозь меня. Чуть согнув ноги, он легонько постукивал правым носком позади левой пятки. Руки расслабленно висели по бокам. Он поднял правую руку: ребро ладони к земле, пальцы направлены на меня. Левой рукой сделал несколько волнообразных движений и поднял ее на высоту моего лица. Так он простоял некоторое время, потом что-то сказал. Голос был ясный, слов я не разобрал.
Сакатека опустил руку и застыл в странной позе: стоя на носке левой ноги, он правым носком, заведенным за левую пятку, ритмично постукивал о землю.
Меня охватило оцепенение и одновременно — беспокойство. Мысли стали сбиваться, в голову полезла какая-то чепуха. Напрасно я старался сосредоточиться на том, что делает Сакатека. Непонятная сила не позволяла направить мысли в нужную сторону.
Сакатека молчал, и я не знал, что говорить и что делать. Я повернулся, словно автомат, и уехал.
Позже я рассказал дону Хуану о встрече с Сакатекой. Выслушав меня, старик покатился со смеху.
— Что это было? — спросил я.
— Танец Сакатеки! — ответил дон Хуан. — Он увидел тебя и стал танцевать.
— Что он со мной сделал? Меня знобило и голова кружилась.
— Ты ему, видно, чем-то не понравился. И он отделался от тебя, остановил словом.
— Как это?
— Он остановил тебя силой воли.
Это ничего не объяснило. Слова дона Хуана показались мне чушью. Я спросил еще раз, но удовлетворительного ответа так и не получил.
Очевидно, такого рода случаи, происходящие в чужой смысловой системе, можно понять и объяснить только на основе ее смысловых единиц. Поэтому мою книгу следует рассматривать как репортаж. Претендовать на большее я не вправе, так как многого, о чем в ней рассказано, и сам не понимал. Придерживаясь феноменологического метода, я записывал лишь то, что воспринимал непосредственно, воздерживаясь при этом от собственных суждений.
НА ПОРОГЕ ВИ'ДЕНИЯ
1
2 апреля 1968 года
Дон Хуан посмотрел на меня и, казалось, ничуть не удивился. А ведь с тех пор, как мы виделись в последний раз, прошло два года. Он положил мне руку на плечо, добродушно улыбнулся и сказал, что я растолстел. Я привез ему в подарок экземпляр своей книги. Ничего не объясняя, раскрыл портфель и достал ее.
— Это о тебе, дон Хуан, — с гордостью сообщил я.
Дон Хуан взял книгу. Пошелестел страницами, словно колодой карт. Похвалил формат и цвет суперобложки. Пощупал переплет, повертел в руках — и вернул книгу мне.
— Я хочу, чтобы она осталась у тебя, — сказал я.
Дон Хуан покачал головой.
— Не стоит, — сказал он с улыбкой. — Ты же знаешь, на что у нас в Мексике идет бумага!
Я рассмеялся. Старик не страдал отсутствием чувства юмора.
Мы сидели в парке небольшого городка, затерянного в гористой части Центральной Мексики. Я не имел возможности сообщить дону Хуану, что собираюсь к нему в гости, но почему-то был абсолютно уверен, что разыщу его, и — нашел. Мне не пришлось долго ждать в этом городке. Он приехал на рынок, и мы встретились у лотка, за которым торговал один из приятелей дона Хуана.
Дон Хуан сказал, что я подвернулся кстати — смогу отвезти его назад, в Сонору. Мы отправились в парк и стали дожидаться его друга, индейца-мацатека, у которого он жил.
Ожидание затянулось на три часа. Мы болтали о всяких пустяках, а перед самым приходом индейца я рассказал дону Хуану, что мне довелось увидеть несколько дней назад.
По пути сюда, на подъезде к одному из городков, у меня сломалась машина. Пока ее чинили, пришлось проторчать в городке три дня. Прямо напротив мастерской был мотель, но городские окраины наводят на меня тоску, и я снял номер в гостинице в центре города.
Узнав у коридорного, что в гостинице есть ресторан, я спустился пообедать. Часть столов была вынесена на тротуар, их удачно расставили на углу улицы под навесом гостиничной арки. На улице было прохладно, и несколько столов пустовало, но я предпочел остаться в душном зале. Входя сюда, я заметил стайку мальчишек-чистильщиков, которые расположились на поребрике тротуара напротив ресторана. Я понял: займи я стол под аркой, они тотчас накинулись бы на меня.
С моего места ребята были хорошо видны. За один из столов на улице сели двое парней. Ребята тут же облепили их, предлагая свои услуги. Парни отказались. К моему удивлению, мальчишки немедленно от них отстали и вернулись на место. Немного погодя расплатились и ушли трое солидных на вид мужчин. Мальчишки бросились к их столу и принялись подбирать объедки. В мгновение ока тарелки опустели. Так повторялось всякий раз, когда на каком-нибудь из столов оставалась пища.
Я заметил, что ребята действовали очень аккуратно — если они что-нибудь проливали, тут же вытирали лужицу бархоткой, которой глянцевали ботинки. Меня поразила тщательность их «приборки». Они проглатывали даже кубики льда из бокалов, а лимонные дольки съедали прямо с кожурой. Короче говоря, после них ничего не оставалось.
Пока я жил в гостинице, я понял, что между ребятами и хозяином ресторана заключен негласный договор: им разрешалось толкаться возле ресторана и зарабатывать на посетителях, а заодно подбирать объедки, но при этом никому не мешать и ничего не разбивать. Ребят было одиннадцать — в возрасте от пяти до двенадцати лет. Самый старший держался несколько на отшибе; мальчишки гнали его от себя и дразнили: у тебя, мол, уже волосы кое-где растут, а ты все с мелюзгой водишься!
Наблюдая в течение трех дней, как мальчишки, словно грифы, бросаются на объедки, я все больше приходил в уныние и покинул городок с горькой мыслью: «Бедные дети! Какая беспросветная у них жизнь...»
— Тебе их жаль? — удивился дон Хуан.
— Конечно, — ответил я.
— Почему?
— Потому что мне не безразлична человеческая жизнь. Они еще дети, а как уродлив и убог их мир!
— Постой, постой! Как ты можешь говорить, что их мир уродлив и убог? — передразнил меня дон Хуан. — Ты думаешь, твоя жизнь богаче?
— Конечно, — подтвердил я, и дон Хуан спросил:
— Почему?
Я объяснил: по сравнению с миром маленьких чистильщиков мой мир гораздо разнообразней, он открывает бессчетные возможности для удовлетворения моих потребностей и личного развития.
Дон Хуан рассмеялся и сказал, что я, видно, говорю не подумав. Откуда мне известно, богат или беден мир этих ребят и какие у них возможности?
Мне показалось, что дон Хуан просто дразнит меня. Я был искренне убежден: у мальчишек нет никаких шансов на развитие.
Я продолжал настаивать на своем, пока старик не спросил в лоб:
— Не ты ли когда-то говорил, что самое большое достижение — стать человеком знания?
Я и впрямь так говорил и повторил, что стать человеком знания — величайшее духовное достижение.
— Ты полагаешь, что твой богатый и разнообразный мир поможет тебе стать человеком знания? — с сарказмом спросил дон Хуан.
Я ничего не ответил. Тогда он сформулировал свой вопрос по-другому, как часто делал я сам, когда мне казалось, что дон Хуан плохо меня понимает.
— Говоря иначе, — сказал он, улыбаясь и наверняка догадываясь, что я заподозрил подвох, — способны ли твоя свобода и твои возможности сделать тебя человеком знания?
— Нет, — ответил я.
— Тогда почему тебе жаль мальчишек? Любой из них может стать человеком знания. Все люди знания, с которыми я знаком, когда-то были такими же оборванцами.
Мне стало не по себе. Я пожалел этих ребят не потому, что они живут впроголодь, а потому, что они, как мне показалось, обречены на духовную неполноценность. Выходит, все не так? Ведь любой из них может достичь того, что я полагаю высшим достижением человеческого духа, — стать человеком знания. Следовательно, мое сострадание совершенно неуместно. Дон Хуан положил меня на обе лопатки.
— Пожалуй, ты прав, — согласился я. — Но разве не естественно — стремиться помочь своим ближним?
— А как, по-твоему, им можно помочь?
— Ну, облегчить их участь, изменить их. Ты ведь и сам этим занимаешься.
— Нет, этим я не занимаюсь. Я не знаю, что можно изменить в моих ближних и зачем это делать.
— Дон Хуан, а как же я? Разве ты учишь меня не для того, чтобы я изменился?
— Нет, не для этого. Возможно, ты станешь человеком знания — этого нельзя знать наперед, — но и тогда ты не изменишься. Если когда-нибудь ты научишься видеть людей, ты поймешь, что в людях ничего изменить нельзя.
— А что значит видеть людей?
— Когда видишь, люди выглядят не так, как обычно. Дымок позволит тебе увидеть, что люди как бы сотканы из волокон света.
— Из волокон света?
— Да. Вроде белой паутины. Очень тонкие нити, струящиеся от головы к пупку и обратно. Человек похож на яйцо из подвижных световых нитей. Его руки и ноги — пучки лучей.
— И так выглядит любой?
— Да. И еще: человек тесно связан со всем, что его окружает, но касается окружающих вещей не руками, а длинными волокнами, исходящими из живота. Волокна поддерживают человека в равновесии, придают устойчивость. Когда-нибудь ты увидишь: человек — это светящееся яйцо, не важно, нищий он или король, и изменить в нем ничего нельзя. Да и что можно изменить в светящемся яйце?
2
Моя поездка к дону Хуану оказалась началом нового цикла обучения. Мы легко вернулись к прежним отношениям. Меня привлекали его артистизм и чувство юмора; он был терпелив со мной. Я понял, что должен бывать у него чаще — не видеть дона Хуана стало для меня наказанием. К тому же у меня накопилось много вопросов.
Закончив свою книгу, я заново просмотрел полевые записи. Я не использовал массу материала, так как меня интересовали в первую очередь необычные состояния сознания. Перечитывая записи, я пришел к выводу, что искусный колдун может ввести своего ученика в определенный диапазон восприятия, манипулируя «настройкой группы». Я исходил из предположения, что для управления восприятием необходим особый «настройщик». Чтобы проверить это предположение, я избрал митоту — сходку колдунов, на которой принимают пейотль. Участники митоты единодушны относительно происходящего с ними, хотя не обмениваются ни словами, ни жестами. Я решил, что они пользуются каким-то хитрым кодом. Для объяснения кода и манипуляций я разработал сложную теорию и хотел узнать мнение о ней дона Хуана.
21 мая 1968 года
По пути к дону Хуану не случилось ничего примечательного. Температура в пустыне перевалила за сорок, было очень душно. К вечеру жара спала, а когда я подъехал к дому дона Хуана, подул прохладный ветерок. Я почти не устал, и мы уселись в комнате поговорить. Я чувствовал приятную слабость и умиротворение. Разговор продолжался долго, но его можно было не записывать: серьезные темы я старался не затрагивать. Мы говорили о погоде, о видах на урожай, о внуке дона Хуана, об индейцах-яки, о мексиканском правительстве. Я признался, что очень люблю поговорить в сумерках. Дон Хуан ответил, что в этом проявляется моя болтливая сущность. Говорить в сумерках, сказал он, нравится мне потому, что ничем другим в это время я заниматься не способен. Я возразил, что наслаждаюсь не только процессом разговора, но и покоем и теплом окружающей темноты. Дон Хуан спросил, что я делаю дома, когда стемнеет.
— Зажигаю свет или иду бродить по улицам, пока не захочется спать.
— Вот так раз! — удивился дон Хуан. — А я думал, ты научился пользоваться темнотой.
— Какая от нее польза? — спросил я.
— Сумерки, — ответил дон Хуан, — лучшее время для того, чтобы видеть.
Слово видеть он произнес с особой интонацией. Мне захотелось узнать, что он имеет в виду, но дон Хуан сказал, что для подробного разговора время уже позднее.
22 мая 1968 года
Наутро я безо всяких предисловий сообщил дону Хуану, что разработал теорию, объясняющую все, что происходит во время митоты. Я достал записи и стал излагать свои соображения. Дон Хуан внимательно слушал.
Мне кажется, говорил я, что для создания одинаковой «настройки» участников митоты необходим тайный настройщик. Люди собираются на митоту, предвкушая появление Мескалито, который преподаст им урок правильной жизни. Они не обмениваются друг с другом ни словом, ни жестом, и тем не менее каждому является Мескалито и дает определенный урок. Be всяком случае, так говорили участники митот, на которых я присутствовал. На собственном опыте я убедился, что облик, который принимает Мескалито, и характер его уроков — поразительно единообразны, хотя их смысл воспринимается участниками по-разному. Это единообразие я объясняю действием сложного скрытого манипулирования настроением людей.
На изложение и разъяснение моей теории ушло два часа. Кончил я тем, что попросил дона Хуана объяснить, каким образом удается «настроить» людей на один лад.
Дон Хуан нахмурился. Я решил, что он обдумывает мои слова. Казалось, он погрузился в размышления. Помолчав немного, я спросил, что он думает о моей идее.
Он вдруг расхохотался. Я спросил, что его так рассмешило.
— Ты с ума сошел! Никто на митоте не занимается такой ерундой, как «настройка». Думаешь, Мескалито можно перехитрить?
Мне показалось, что дон Хуан избегает ответа по существу.
— Зачем кому-то настраивать людей? — упрямо продолжал он. — Ты сам бывал на митотах и прекрасно знаешь: никто никому не подсказывает, как себя вести. Никто — кроме Мескалито.
Я сказал, что не могу с этим согласиться, и вновь попросил объяснить, как производится «настройка».
— Теперь понятно, зачем ты приехал, — произнес дон Хуан с видом заговорщика. — Но, увы, ничем тебе помочь не могу. Никакой «настройки» нет.
— А почему все как один утверждают, что им явился Мескалито?
— Потому, что они его видели, — сказал дон Хуан со значительным видом и как бы мимоходом добавил: — Можешь побывать еще на одной митоте и увидеть все сам.
Какой хитрец, подумал я и, ничего не ответив, спрятал свои записи. Дон Хуан, кажется, и не ждал ответа.
Немного спустя дон Хуан попросил отвезти его к одному из своих приятелей. Мы провели там почти весь день. За разговором Джон — так звали приятеля — спросил, по-прежнему ли я интересуюсь пейотлем. Это он восемь лет назад дал мне первую порцию пейотля. Я не знал, что ответить. На помощь пришел дон Хуан и сказал Джону, что все идет как надо.
На обратном пути я решил не оставлять вопрос Джона без ответа и среди прочего сообщил, что не собираюсь более экспериментировать с пейотлем, что для этого у меня не хватает смелости и дело это давно решенное. Дон Хуан улыбнулся, но ничего не сказал. Зато я до самого дома болтал без умолку.
Мы уселись перед дверью. Стоял жаркий солнечный день, но дул легкий ветерок, и душно не было.
— Почему ты так нервничаешь? — вдруг спросил дон Хуан. — Сколько лет назад ты бросил учиться?
— Три года.
— А почему нервничаешь?
— Дон Хуан, мне кажется, я тебя предал.
— Ты меня не предал.
— Я обманул твои ожидания, сбежал. Короче — проиграл.
— Ты делаешь то, что в твоих силах. К тому же ты ничего не проиграл. Я учу тебя трудным вещам. Мне они давались еще труднее.
— Но в отличие от меня ты не отступил. Ведь я приехал сейчас не из желания продолжить учебу, а просто так, чтобы кое-что у тебя спросить.
Дон Хуан пристально посмотрел на меня и произнес:
— Тебе нужно обратиться за помощью к дымку.
— Нет, дон Хуан, дымка с меня хватит! Нет больше моих сил.
— Ты еще и не начинал по-настоящему.
— Я боюсь.
— Ничего удивительного. А ты старайся думать не о страхе, а о том, как это чудесно — видеть.
— Я так не могу. Как только вспомню дымок, меня словно тьма обволакивает. Будто все люди куда-то исчезают и некому слова сказать. Дымок открыл мне, что такое одиночество.
— Это не так. Возьми, например, меня. Дымок — мой гуахо, а я не чувствую себя одиноким.
— Ты — другое дело, ты его не боишься. Дон Хуан потрепал меня по плечу.
— Ты тоже не боишься, — сказал он мягко, но как будто с упреком.
— Что ж, я вру, по-твоему?
— Дело не в этом, — ответил он. — Меня заботит другое. Ты не хочешь учиться вовсе не потому, что боишься. Дело в другом.
Я стал просить объяснений, буквально умоляя его, но ничего не добился. Дон Хуан только качал головой — словно удивляясь, как это я сам не понимаю.
Я сказал, что, возможно, обучению препятствует моя инертность. Дон Хуан захотел узнать значение слова «инерция». Я принес из машины словарь и прочел: «Инерция — свойство материальных тел оставаться в состоянии покоя или двигаться с постоянной скоростью до тех пор, пока к ним не будет приложена внешняя сила».
— «Пока к ним не будет приложена внешняя сила», — повторил дон Хуан. — Ты нашел верное слово. Я тебе уже говорил: только дурак захочет стать человеком знания по собственной воле. Умного человека приходится вовлекать в учение обманом.
— Убежден, что учиться готовы многие, — возразил я.
— Многие, но они не в счет. Это люди с трещиной. Как тыквенные бутылки: на вид прочные, а стоит налить в них воды или надавить — сразу потекут. Я заманил тебя в учение, и так же со мной поступил мой учитель. Что поделаешь, иначе бы ничего не вышло. Кажется, настала пора снова прибегнуть к трюку.
Трюк, о котором он упомянул, дал мощный толчок моему ученичеству. Прошли годы, а в памяти все так живо, будто случилось вчера. С помощью разных уловок дон Хуан свел меня с женщиной, о которой ходили слухи, будто она колдунья. Случилось так, что она меня люто возненавидела. А дон Хуан? Он ловко сыграл на моем страхе: для защиты от колдовских чар, твердил он, необходимы новые познания в колдовстве. «Трюк» дона Хуана был столь правдоподобным, что я ему поверил: чтобы остаться в живых, нужно учиться.
— Если ты снова собираешься пугать меня той бабой, я больше сюда не ездок, — предупредил я.
Дон Хуан рассмеялся.
— Успокойся, — сказал он. — На испуг тебя больше не возьмешь. Но запомни: для моих «трюков» не имеет значения, где ты находишься — рядом или далеко.
Он положил руки под голову и вскоре заснул. Я занялся своими записями. Часа через два дон Хуан проснулся. Уже стемнело. Заметив, что я пишу, он сел и, насмешливо улыбаясь, спросил, решил ли я с помощью бумаги свои проблемы.
23 мая 1968 года
Мы разговаривали об Оахаке. Я рассказал дону Хуану, как побывал там в базарный день. Индейцы из окрестных мест стекались в город торговать продуктами и безделушками. Больше других меня заинтересовал продавец целебных трав. У него был ящик с баночками, в которых лежали сухие и толченые травы. Одну баночку он держал в руке и распевал:
Всякие средства есть у меня: Отрава для мух, комаров и вшей, Лекарства для коз, лошадей и свиней И, что самое главное, — для людей. Лечат от свинки, кори, подагры, Лечат желудок, почки и печень. Купите, сеньоры, — успех обеспечен!Я долго слушал его песенку. В ней перечислялись всевозможные недуги, для каждого из которых, если верить торговцу, у него имелись снадобья. Назвав подряд какие-нибудь три болезни, он делал паузу — это придавало его декламации ритмичность.
Дон Хуан сказал, что в молодости тоже торговал травами в Оахаке. Он даже вспомнил свою песенку и пропел ее. Сказал, что смеси он готовил вместе со своим другом Висенте.
— Отменные были снадобья. Висенте умел брать у травы все, что она способна дать.
— А ты знаешь, я к нему заезжал, — сказал я. Дон Хуан удивился и попросил рассказать. Случилось так, что, проезжая через Дуранго, я вспомнил: дон Хуан говорил мне как-то, что здесь живет его друг, с которым мне следовало бы повидаться. Я его разыскал, мы поговорили. Прощаясь, он вручил мне мешочек с какими-то растениями и подробно разъяснил, как их надо сажать.
Я остановил машину, не доезжая до городка Агуас Кальентес. Поблизости никого не было. Минут десять я разглядывал окрестности и не заметил ни жилья, ни скота у обочины. Машина стояла на вершине холма: отсюда дорога просматривалась далеко в обе стороны.
Я посидел немного, вспоминая указания дона Висенте, затем взял одно из растений и направился в кактусовые заросли, на восток от дороги. Там и посадил его, как он велел. Для поливки захватил с собой бутылку минеральной воды. Пробку открыл железкой, которой копал вместо лопаты, но неудачно: бутылка разбилась, от горлышка отлетел осколок и до крови порезал мне верхнюю губу.
Пришлось возвращаться к машине за другой бутылкой. Роясь в багажнике, я услышал скрип тормозов. Я поднял голову и увидел «фольксваген». Водитель спросил, не нужна ли мне помощь. Я ответил, что все в порядке, и он укатил. Я полил растение и пошел назад к машине. Метрах в тридцати от нее услышал чьи-то голоса. У машины стояли трое мексиканцев: женщина и двое мужчин. Один, лет под сорок, оперся о передний бампер. На нем были старые брюки и поношенная розовая рубашка. За спиной висел узел. Ботинки не зашнурованы и к тому же велики — видно было, что они расхлябаны и неудобны. Мужчина был весь в поту.
Другой мужчина стоял метрах в пяти от машины. Он был пониже ростом и помельче и тоже держал узел, но небольшой. Ему перевалило за сорок. В отличие от первого на лице его не было ни капельки пота. Выглядел он гораздо опрятней: синий пиджак, широкие голубые штаны, черные ботинки. Стоял он с каким-то безразличным, отсутствующим видом.
Женщина, толстая и очень смуглая, тоже выглядела старше сорока. На ней был белый свитер, черная юбка и черные остроносые туфли. Вместо узла она держала транзисторный приемник. Лицо ее блестело от пота, чувствовалось, что она очень устала.
Мужчина помоложе и женщина стали упрашивать меня подвезти их. Я объяснил, что в машине нет места, заднее сиденье забито доверху. Мне предложили ехать медленно: они могли бы примоститься на заднем бампере или лечь на капот. Идея была нелепой, но они уговаривали с такой настойчивостью, что мне стало неловко. Я протянул им деньги на автобус.
Мужчина помоложе с благодарностью взял бумажки; но другой отвернулся и сказал:
— Мне деньги ни к чему, мне ехать надо. Потом снова обратился ко мне:
— А воды или чего-нибудь пожевать у вас не найдется?
Как назло, у меня ничего не было. Мексиканцы немного постояли и двинулись прочь.
Я залез в машину и стал заводить мотор, но он не заводился, — в такую жару свечи нередко заливает бензином. Услышав завывание стартера, мексиканец помоложе вернулся, готовый, если понадобится, подтолкнуть. На меня вдруг накатил непонятный страх, я даже стал задыхаться. Наконец мотор завелся; я сразу же включил скорость и дал полный газ.
Выслушав меня, дон Хуан долго сидел в задумчивости.
— Почему ты не рассказал мне об этом раньше? — спросил он, глядя в сторону.
Я не знал, что сказать. Пожал плечами и ответил, что не думал, что это важно.
— Чертовски важно! — воскликнул дон Хуан. — Висенте — первоклассный колдун. У него были свои причины дать тебе растение, и если сразу после посадки перед тобой откуда ни возьмись возникли трое людей, тому тоже была причина. Только такой глупец, как ты, мог счесть это пустяком и забыть.
Дон Хуан потребовал, чтобы я подробнее рассказал о встрече с Висенте, и я стал рассказывать.
Я проезжал по городку мимо рынка; у меня возникла мысль отыскать дона Висенте. Я пошел на рынок, туда, где продавали целебные травы. За лотками стояли три толстые женщины. Я дошел до конца прохода и, повернув, обнаружил еще один лоток, за которым стоял худощавый седой старик. Он продавал какой-то женщине птичью клетку.
Подождав, пока он освободится, я спросил, не знает ли он дона Висенте Медрано.
— Зачем он вам? — спросил он, пристально посмотрев на меня.
Я сказал, что меня направил его приятель, и назвал дона Хуана. Старик снова глянул на меня и сказал, что он и есть Висенте Медрано. Потом предложил присесть. Он показался мне человеком спокойным и дружелюбным; я рассказал ему о своих приятельских отношениях с доном Хуаном и почувствовал, что мы сразу же понравились друг другу. Дона Хуана он знал с молодости и отзывался о нем с восхищением.
— Хуан — истинный человек знания, — заявил он под конец. — А я о силе растений знаю самую малость. Меня больше интересуют их лечебные свойства. Одно время я собирал книги по ботанике, но недавно распродал их.
Он помолчал, поскреб подбородок, будто подыскивал нужное слово.
— Можно сказать, что я — человек, знающий понаслышке. Где мне сравниться с моим индейским братом Хуаном!
Дон Висенте умолк, устремив взгляд куда-то в землю, потом повернулся ко мне и почти прошептал:
— О, как высоко парит мой брат!
На этом беседа наша закончилась.
Услышь я эти слова от кого-нибудь другого, я счел бы их пустой фразой. Но дон Висенте говорил так искренне, что буквально заворожил меня образом индейского брата, парящего высоко в небе. Я верил: он не лицемерит.
— Знающий понаслышке, как бы не так! — воскликнул дон Хуан. — Висенте — брухо. Зачем ты его искал?
Пришлось напомнить, что он сам когда-то посоветовал мне съездить к дону Висенте.
— Ты все напутал, — возмутился дон Хуан. — Я говорил: если ты научишься видеть, съезди в гости к моему другу Висенте. Вот мои слова. А ты, как всегда, самое главное пропустил мимо ушей.
Я возразил: встреча с доном Висенте мне не повредила, наоборот, он покорил меня своей обходительностью и добротой.
Дон Хуан покачал головой и сказал, что мне поразительно везет. С таким же успехом я мог, вооружившись прутиком, забраться в клетку со львом. Я видел, что дон Хуан разволновался, но не понимал почему. Дон Висенте — милый человек. Такой хрупкий... А глаза — как у святого. Неужели он опасен?
— До чего же ты глуп! — ответил дон Хуан. — Сам Висенте зла тебе не желает. Но знание — это сила. И если кто-то вступил на путь знания, неизвестно, чем может для другого кончиться встреча с ним. Прежде чем ехать к Висенте, надо научиться защищаться. Не от него, а от силы, которой он владеет. Эта сила — не его, она — ничья. Узнав, что ты — мой друг, Висенте решил, что ты умеешь защищаться, и сделал тебе подарок. Чем-то ты ему понравился. И подарок, конечно, не пустяковый, только ты все прошляпил... Да что теперь говорить!
24 мая 1968 года
Почти весь день я приставал к дону Хуану с просьбой объяснить, что он имел в виду, говоря о подарке. Я твердил ему, что мы — очень разные люди: то, что представляется ему очевидным, мне совершенно непонятно.
— Сколько он дал тебе растений? — наконец спросил он.
— Четыре, — ответил я, хотя точно не помнил. Тогда дон Хуан велел рассказать подробно все, что произошло после прощания с доном Висенте. Но и этого я вспомнить не мог.
— Здесь все важно: и сколько было растений, и как все происходило. Как я объясню, что это за подарок, если ты ничего не помнишь?
Я попытался восстановить ход событий, но безуспешно.
— Если бы ты сумел все вспомнить, — сказал дон Хуан, — тогда можно было бы понять, где ты промахнулся.
Видно было, что дона Хуана история взволновала. Он настойчиво требовал от меня подробностей, но в моей памяти было пусто.
— Дон Хуан, что, по-твоему, я сделал не так? — спросил я, просто чтобы поддержать разговор.
— Все.
— Но я слово в слово выполнил указание дона Висенте.
— Что толку? Неужели тебе неясно, что выполнять их не было смысла?
— Почему?
— Потому что они предназначались тому, кто видит, а не идиоту, который остался в живых лишь по счастливой случайности. Ты не был готов к встрече с Висенте. Ты понравился ему — и получил подарок. А подарок этот мог стоить тебе жизни.
— Зачем же он тогда его дарил? Если он — колдун, мог бы понять, что я в этих делах ничего не смыслю.
— Нет, этого видеть он не мог. Ты ничего не знаешь, но выглядишь так, будто знаешь.
Я возразил, что никогда не изображал из себя сведущего человека.
— Я не о том, — сказал дон Хуан. — Если бы ты кого-то изображал, Висенте сразу бы тебя раскусил. Дело в другом. Когда я вижу тебя, ты выглядишь человеком знания, а ведь мне известно, что это не так.
— О каком знании ты говоришь, дон Хуан?
— О знании тайных сил — о знании, которым наделен брухо. То же случилось и с Висенте. Он увидел тебя и сделал тебе подарок, с которым ты обошелся как сытый пес — с едой. Когда еда не лезет ему в глотку, он мочится на нее, чтобы не досталась другим собакам. Так и ты. Теперь мы даже не знаем, что произошло на самом деле. Но потерял ты многое!
Он помолчал, пожал плечами и улыбнулся: — Бесполезно об этом жалеть, хотя и радоваться нечему. Подарок силы — редчайший дар. Мне, например, никто таких подарков не делал; а счастливцев можно перечесть по пальцам. Пустить на ветер такую редкость!
— Как жаль, — сказал я. — А нельзя ли его как-нибудь спасти?
— Спасти подарок? — рассмеялся дон Хуан. — Занятная мысль. Только как ты его спасешь?
25 мая 1968 года
Почти весь день дон Хуан учил меня мастерить ловушки на мелких зверей. Целое утро мы резали и зачищали ветки. У меня накопилось много вопросов, которые я собирался задать старику во время работы, но он отшутился, сказав, что из нас двоих только я умею работать руками и языком одновременно. Наконец мы присели отдохнуть.
— Дон Хуан, — сразу же начал я, — что значит видеть?
— Когда научишься, тогда и узнаешь. Я не могу это объяснить.
— Почему? Секрет?
— Нет, просто не смогу растолковать.
— Ну почему?
— Словами этого не объяснишь, они покажутся тебе бессмысленными.
— А ты попробуй, дон Хуан. Может, я пойму.
— Нет, до этого надо дойти самому. Когда научишься видеть, тогда все вещи будешь воспринимать по-другому.
— Выходит, ты уже не можешь видеть мир как обычные люди?
— Я вижу его двояко. Когда смотрю на мир, воспринимаю его так же, как ты. Если же хочу увидеть, пользуюсь своим умением и воспринимаю совсем по-иному.
— А вещи, которые ты видишь, меняются?
— Нет, меняется лишь взгляд на них.
— Я хочу сказать, когда ты видишь, скажем, дерево, оно остается прежним?
— Нет. Меняется — хотя и остается прежним.
— Но если всякий раз ты видишь его по-разному, значит, твое видение — всего-навсего иллюзия!
Дон Хуан рассмеялся, но ответил не сразу. Помолчав, он сказал:
— Когда ты смотришь на вещи, ты их не видишь. Просто смотришь, чтобы убедиться, что перед тобой что-то есть. Поскольку ты их не видишь, они не меняются — и кажутся одними и теми же. Только научившись видеть, можно воспринимать одну и ту же вещь по-разному. Помнишь, я говорил тебе, что человек — это яйцо. Так вот, всякий раз, когда я вижу какого-то человека, я вижу яйцо — но не одно и то же.
— Но если ничто нельзя распознать, так как ничто не остается прежним, — какой смысл учиться видеть?
— Смысл простой: видеть вещи такими, каковы они на самом деле.
— Выходит, я не вижу?
— Не видишь. Только смотришь. Вспомни тех трех мексиканцев. Ты подробно описал каждого, кто во что был одет. А для меня это доказательство того, что ты их не видел. Если бы видел, сразу бы понял, что это не люди.
— То есть как?
— А вот так.
— Не может быть! Они ничем не отличались от нас с тобой.
— Еще как отличались! Поверь мне.
Я спросил, не были ли они привидениями или духами. Дон Хуан ответил, что не знает значения этих слов.
Я достал вебстеровский словарь и зачитал значение слова «привидение»: освободившийся от плоти дух умершего, появляющийся в виде тусклой тени перед живущими. Затем прочитал про слово «дух»: сверхъестественное существо, призрак, обитающий в определенном месте; может быть как добрым, так и злым. Дон Хуан сказал, что, пожалуй, их можно назвать духами, хотя это не совсем точно.
— Духи-хранители?
— Нет. Ничего они не охраняют.
— Что же тогда они делают? Следят за нами?
— Видишь ли... Это силы. Не добрые и не злые. Силы, которые брухо может подчинить себе.
— В таком случае они — гуахо.
— Верно. Гуахо человека знания.
Впервые за восемь лет нашего знакомства дон Хуан подробно объяснил значение слова «гуахо». Сколько раз я просил его об этом! Но он отвечал, что я и сам все знаю — глупо расспрашивать о том, что знаешь. Услышанное оказалось для меня новостью.
— Ведь ты говорил, — стал допытываться я, — что гуахо находятся в растениях и грибах.
— Я этого не говорил, — возразил дон Хуан. — Ты, как всегда, прибавляешь от себя.
— Дон Хуан, у меня все записано!
— Можешь писать что угодно, только я этого не говорил.
Я напомнил, как он рассказывал, что у его благодетеля гуахо был дурман, а у него самого — дымок и что каждый гуахо находится в определенном растении.
— Неверно, — нахмурился дон Хуан. — Мой гуахо — дымок. Но это не значит, что он — в куреве, в грибах или трубке. Просто эти вещи необходимы для встречи с гуахо. А называть его дымком у меня есть свои причины.
Встретившихся мне мексиканцев дон Хуан называл «не-людьми» (los que' no son gente) и сказал, что они — гуахо дона Висенте.
Я напомнил, что в свое время он объяснил разницу между гуахо и Мескалито: гуахо нельзя видеть, а Мескалито — можно.
Слово за слово — и мы увязли в дискуссии. Дон Хуан стал объяснять, что гуахо нельзя увидеть потому, что он может принять любые обличья. Я заметил, что то же самое он говорил о Мескалито. Тогда дон Хуан вообще прервал разговор, заявив, что видеть вовсе не значит «смотреть» и что возникшая путаница объясняется исключительно моей склонностью к болтовне.
Немного спустя дон Хуан сам возобновил разговор о гуахо, — как видно, я раздразнил его своими вопросами. Он показывал мне, как делают ловушку для кроликов. Я держал длинный прут, согнув его дугой, а дон Хуан связывал концы веревкой. Прут был не толстый, но упругий. Когда дон Хуан наконец завязал веревку, у меня дрожали от натуги руки и кружилась голова. Мы сели, и дон Хуан заговорил. Он сказал, что ему давно ясно: чтобы понять что-то, я должен вволю наговориться. Поэтому он готов выслушать мои вопросы о гуахо и ответить на них.
— Гуахо в дымке нет, — сказал дон Хуан. — Дымок лишь помогает с ним связаться. Когда узнаешь своего гуахо лучше, можно будет не курить: ты и без курения сможешь, когда захочешь, вызвать его, и он исполнит все, что пожелаешь.
Гуахо сами по себе — не добрые и не злые, но колдуны могут использовать их для любых целей. Я выбрал своим гуахо дымок, потому что мне нравятся его умеренность, постоянство и справедливость.
— Дон Хуан, каким ты все-таки видишь гуахо? Те три мексиканца, например, показались мне обычными людьми. А тебе?
— И мне бы они показались такими же.
— Как же ты отличаешь их от настоящих людей?
— Настоящий человек, когда ты видишь его, выглядит как светящееся яйцо, поддельный — как человек. Это я и имел в виду, когда говорил, что гуахо невозможно увидеть. Они принимают любые обличья — собак, койотов, даже перекати-поля, какие угодно. Но дело в том, что, когда их видишь, у них остается тот же облик, который они себе выбрали. Все прочие существа меняются: выглядят, например, как светящиеся яйца, и тому подобное, а гуахо — сохраняют тот облик, что выбрали. Людей они дурачат без труда, зато собаку им не провести и ворону тоже.
— А зачем они нас дурачат?
— Все мы — клоуны, все дурачим друг друга. Гуахо принимают облик тех, кто нас окружает, и кажутся нам теми, кем они на самом деле не являются. Разве они виноваты, что мы не видим их?
— Все-таки их роль мне непонятна. Что они делают в этом мире?
— С таким же успехом можно спросить, что делают в этом мире люди. Я не знаю. Мы здесь, это все. Гуахо тоже; не исключено, что они появились здесь раньше людей.
— Что значит — раньше?
— Люди были здесь не всегда.
— Где здесь — в Америке или в мире?
Снова завязалась дискуссия. Дон Хуан заявил, что единственный мир для него — земля, по которой он ходит. Я спросил, откуда он знает, что люди были в этом мире не всегда.
— Очень просто, — ответил он. — Люди плохо знают мир, в котором живут. Любой койот знает куда больше. Его не одурачишь подделкой.
— Но мы их ловим и убиваем. Почему они дают себя обмануть?
Дон Хуан так долго смотрел на меня, что я смутился.
— Койота можно поймать, отравить, застрелить, — сказал он. — Койот становится жертвой, потому что ему неведомы человеческие хитрости. Но если он уцелеет, можешь быть уверен: больше его не поймаешь. Опытный охотник никогда не поставит западню в одном месте дважды. Он знает: если койот умрет в капкане, другие койоты увидят его смерть, которая еще долго будет там витать, и станут обходить это место. А люди никогда не видят смерть там, где умер их ближний. Они догадываются о ней, но не видят.
— А может койот увидеть гуахо?
— Конечно.
— Каким он его видит?
— Чтобы это узнать, надо стать койотом. Могу сказать, что для вороны гуахо выглядит как колпак: снизу — круглый и широкий, вверху — остроконечный. Некоторые из них светятся, но большинство — тусклые и массивные. Напоминают мокрую тряпку, очень неприятные.
— А ты как их видишь, дон Хуан?
— Я уже сказал: так, как они выглядят. Они способны принять любую форму. Могут прикинуться камнем, могут — горой.
— Они что — разговаривают, смеются?
— Ну, если они среди людей, то ведут себя как люди; если среди животных — как животные. Звери их побаиваются, но, привыкнув, не обращают на них внимания. Да и люди тоже. Вокруг нас толпы гуахо, а мы их не замечаем. Потому что привыкли видеть только поверхность вещей.
— Ты хочешь сказать, что некоторые люди из тех, кого я встречаю на улице, на самом деле — не люди? — в замешательстве произнес я.
— Да. Некоторые — не люди, — отрезал дон Хуан.
Это утверждение показалось мне абсурдным, но я не мог допустить, чтобы дон Хуан говорил что-то ради красного словца. Я заявил, что это похоже на россказни об инопланетянах. Дон Хуан ответил, что его не волнует, на что это похоже, просто не все, кого мы видим на улице, — настоящие люди.
— Почему ты считаешь, что все люди в толпе — действительно люди? — спросил он с серьезным видом.
Как я мог объяснить — почему? Просто привык так считать.
Не дождавшись ответа, дон Хуан сказал, что, попав в людное место, любит понаблюдать за толпой. Настоящие люди, если их видеть, напоминают световые коконы, и вдруг среди этих коконов появляется человеческая фигура.
— Очень забавная картина, — засмеялся дон Хуан. — Люблю сидеть где-нибудь в парке или на автобусной станции и наблюдать за окружающими. Иногда тут же распознаешь гуахо, а бывает, видишь только обычных людей. Однажды я увидел в автобусе сразу двух гуахо, они сидели рядом.
— Два гуахо — признак чего-то важного?
— Конечно. Все, что они делают, — важно. Из их действий брухо способен черпать силу. Если у брухо нет своего гуахо, но он умеет видеть, то, наблюдая за действиями гуахо, он может овладеть силой. Меня научил этому мой благодетель, и, пока у меня не появился собственный гуахо, я частенько наблюдал за ними в людской толпе. Всякий раз, когда я видел гуахо, он чему-нибудь меня учил. А ты — встретил сразу троих, и впустую!
Пока мы не кончили собирать ловушку, дон Хуан не произнес больше ни слова. Потом, словно припомнив что-то, повернулся ко мне и опять заговорил о гуахо. Он сказал, что, если гуахо двое, они обязательно одного пола. Те двое, которых он видел, были мужчинами. Мне встретились двое мужчин и женщина — случай из ряда вон выходящий.
Я принялся расспрашивать. Могут ли гуахо принимать облик детей? Будут ли это дети одного пола? Могут ли гуахо представлять людей разных рас? Способны ли они воспроизвести семью из мужчины, женщины и ребенка? Напоследок я спросил, приходилось ли ему видеть гуахо за рулем автомобиля или автобуса.
Дон Хуан молча улыбался; но, услышав последний вопрос, засмеялся и сказал, что вопросы надо задавать точнее. Правильнее спросить, видел ли он гуахо, который бы управлял авто— или мототранспортом.
— Ты забыл про мотоцикл! — сказал он с озорством, и я рассмеялся вместе с ним.
На этом наш разговор не кончился. Дон Хуан объяснил, что гуахо воздействуют на людей не прямо, а косвенно. Вступать в контакт с гуахо — дело опасное: они могут пробудить в человеке самое худшее. Твое ученичество кажется тебе долгим и трудным — но иначе и быть не может: только освободившись от всего случайного, можно выдержать встречу с гуахо. Старик рассказал, что, когда его благодетель впервые столкнулся с гуахо, тот его изрядно покалечил. У самого дона Хуана шрамы от первой встречи с гуахо долго не заживали и исчезли лишь после того, как он нашел с гуахо общий язык.
3
10 июня 1968 года я отправился с доном Хуаном в далекую поездку — для участия в митоте. Эту возможность я ожидал несколько месяцев, хотя так и не понял, хочу ехать или нет. Вероятно, мои колебания были вызваны страхом; я боялся принимать пейотль и несколько раз говорил об этом дону Хуану. Сначала он только посмеивался, а потом заявил, что слушать меня больше не желает.
Как бы там ни было, на митоте я мог проверить свою теорию: я еще не отказался от мысли, что для достижения общей «настройки» участников митоты необходим скрытый руководитель. Я решил, что у дона Хуана была своя причина отвергнуть мою теорию: он предпочитал объяснять происходящее на митоте в терминах «видения». Мои построения шли вразрез с тем, чего он хотел от меня добиться, и, как противоречащие его собственным взглядам, были отброшены.
Перед самой поездкой дон Хуан успокоил меня, сообщив, что есть пейотль я не буду, а только наблюдать. У меня гора с плеч свалилась. Теперь я был уверен, что сумею выявить те скрытые манипуляции, посредством которых между участниками достигается полное единогласие.
Мы выехали вечером. Солнце уже клонилось к горизонту, но по-прежнему припекало, и я жалел, что на заднем окне машины нет жалюзи. С вершины холма, как на ладони, открылась долина. Дорога вилась черной лентой, то поднимаясь, то опускаясь по бесчисленным пригоркам; она бежала на юг и исчезала вдали за чередой невысоких гор.
Дон Хуан молча глядел вперед. Мы ехали долго. В машине было душно. Я опустил стекла, но легче не стало; не выдержав, я пожаловался на зной.
Дон Хуан хмуро глянул на меня.
— В эту пору жара стоит по всей Мексике, — сказал он. — Ничего не поделаешь.
Я чувствовал, что он продолжает смотреть на меня. Машина катилась вниз, набирая скорость. Промелькнул дорожный знак, предупреждавший, что впереди яма. Я нажал на тормоза, но было поздно, нас сильно тряхнуло. Я сбросил скорость — мы проезжали участок, где вдоль дороги пасся скот. Увидеть здесь сбитую машиной корову или лошадь — не редкость. В одном месте пришлось даже остановиться: дорогу переходил табун лошадей. Я раздражался все больше.
— С детства ненавижу жару, — сказал я. — Каждое лето страдаю от нее.
— Ты уже не ребенок, — заметил дон Хуан.
— Все равно, я задыхаюсь от зноя.
— А я в детстве задыхался от голода, — сказал дон Хуан. — Пух от него и не мог дышать. Но все это осталось в детстве. Теперь я голода не боюсь.
Я не знал, что ответить. Приходилось отстаивать мнение, которое мало меня беспокоило. Не столько жара была причиной моей нервозности, сколько полторы тысячи километров, которые нам предстояло преодолеть, — я боялся, что дорога измотает меня.
— Давай остановимся и перекусим, — предложил я. — Как раз и жара спадет.
Дон Хуан улыбнулся. Приличный поселок встретится теперь не скоро, сказал он, добавив, что вполне понимает мою неприязнь к грязным придорожным забегаловкам.
— Ты разве не боишься поноса? — спросил он. В его вопросе я уловил издевку, но вид у дона Хуана был совершенно невозмутимый.
— Глядя на тебя, — сказал он, — можно подумать, что твой понос только и ждет, когда ты вылезешь из машины. Тебе не позавидуешь: не успеешь справиться с жарой, как тут же одолеет понос!
Его невозмутимость была настолько комичной, что я рассмеялся. Мы долго ехали молча, и когда добрались до автомобильной стоянки Лос-Видриос (что по-испански значит «осколки»), уже стемнело.
— Чем кормите сегодня? — крикнул дон Хуан, не выходя из машины.
— Свининой, — послышался в ответ женский голос.
— Надеюсь, тебе повезло, — сказал дон Хуан, — и эту свинью задавили не ранее как сегодня.
Мы вылезли из машины и огляделись. По обеим сторонам дороги виднелись невысокие горы, похожие на застывшую лаву гигантского извержения. На фоне сумеречного неба их зубчатые вершины казались громадными осколками.
За едой я сказал, что догадываюсь, почему это место называется Лос-Видриос, — из-за гор, напоминающих осколки стекла.
Дон Хуан тоном знатока ответил, что название возникло после того, как здесь перевернулся грузовик со стеклом. Куча осколков долго пролежала у дороги.
Я решил, что он шутит.
— Спроси у кого хочешь, — предложил дон Хуан. Я обратился к мужчине за соседним столиком. Тот извиняющимся тоном ответил, что не знает. Тогда я отправился на кухню и стал расспрашивать женщин, но и они понятия не имели, почему так называется место, — называется, и все.
— Мексиканцы не обращают внимания на то, что их окружает, — сказал дон Хуан. — Они не заметят стеклянных гор и не уберут гору стекла с дороги.
Игра слов понравилась нам обоим, и мы рассмеялись.
После еды дон Хуан спросил, как я себя чувствую. Я ответил, что нормально, хотя на самом деле меня подташнивало. Он пристально посмотрел на меня.
— Если ты решил ехать в Мексику, значит, нужно отбросить всякий страх, — строго сказал он. — Твоя решительность должна его победить. Ты приехал сюда потому, что сам захотел. Таков путь воина. Сколько раз я говорил: будь воином! Сомневайся, думай, прежде чем решиться на что-то; но если решился — забудь о сомнениях и действуй! Впереди тысяча новых решений.
— Но я, кажется, так и поступаю; по крайней мере, иногда мне это удается. Хотя все время думать об этом не так-то легко.
— Когда воин заходит в тупик, он думает о смерти.
— Это еще труднее! Для большинства людей смерть — нечто далекое и туманное. О ней стараются не думать.
— Почему?
— А какой в этом смысл?
— Очень простой, — сказал дон Хуан. — Размышления о смерти закаляют душу.
Когда мы покинули Лос-Видриос, уже совсем стемнело; зубчатые силуэты гор растворились в темноте. Больше часа мы ехали молча. Я устал, да и говорить было не о чем. Дорога была пустынной: встречные машины попадались редко, и нас никто не обгонял, словно мы ехали на юг одни. Это показалось мне странным, и я стал поглядывать в зеркало: не появится ли кто-нибудь сзади. Никого.
Соскучившись смотреть, я стал размышлять о цели нашей поездки, как вдруг заметил, что дорога освещена ярче обычного. Я глянул в зеркало и сначала увидел сноп света, а затем два огня, возникших словно из-под земли. Вероятно, нас догоняла машина, въехавшая сейчас на вершину холма. Некоторое время огни были видны, затем исчезли, словно погасли. Опять вспыхнули и снова пропали. Я следил в зеркале, как огни вспыхивают и исчезают; в какой-то момент мне показалось, что машина нас догоняет: огни становились все ярче. Я нажал педаль газа. Дон Хуан, заметив то ли мое беспокойство, то ли увеличение скорости, взглянул на меня, а потом, обернувшись, стал смотреть назад.
Он спросил, что случилось. Я объяснил, что уже несколько часов сзади никого не было, а тут появилась какая-то машина и догоняет нас.
Старик усмехнулся и спросил, неужто я в самом деле думаю, что это машина.
— Конечно, — ответил я.
Он возразил, что, будь я в этом уверен, я бы так не нервничал.
— Если это не машина, то что же тогда? — спросил я раздраженно. Его непонятные слова взвинтили меня.
Дон Хуан посмотрел на меня, словно взвешивая то, что собирался сказать.
— Огни на голове смерти, — почти прошептал он. — Смерть надевает их и пускается вскачь. Смотри, она догоняет нас, приближается...
У меня по спине поползли мурашки. Немного спустя я снова глянул в зеркало. Никаких огней не было.
Я сказал, что машина сзади, должно быть, остановилась или свернула. Дон Хуан, не оглядываясь, потянулся и зевнул.
— Нет, — сказал он. — Смерть никогда не останавливается. Просто иногда гасит огни.
13 июня мы прибыли на место. У небольшого глинобитного дома стояли две пожилые индианки, с виду сестры, и четыре девушки. За домом виднелись какая-то лачуга и развалившийся сарай, от которого остались лишь стена и часть крыши. Судя по всему, женщины нас ждали; вероятно, они заметили машину по облаку пыли, которое тянулось за нами, когда километрах в трех мы свернули с шоссе на грунтовую дорогу. Дом стоял посреди долины. Шоссе выглядело отсюда как шрам, прорезающий склоны холмов.
Дон Хуан вылез из машины и заговорил с женщинами. Они указали на табуретки возле двери. Старик жестом велел мне выйти и сесть. Одна из женщин осталась с нами, остальные вошли в дом. Две девушки задержались на пороге, рассматривая меня. Я помахал им, они засмеялись и скрылись в доме. Вскоре появились двое парней; подойдя к дону Хуану, они поздоровались, но мне не сказали ни слова, даже не посмотрели в мою сторону. Они о чем-то переговорили с доном Хуаном, и мы все, в том числе обе женщины, пошли к другому дому, примерно в километре отсюда.
Там нас уже ждали. Дон Хуан вошел в дом, оставив меня у входа. Я заглянул внутрь и увидел пожилого индейца, тех же лет, что и дон Хуан; он сидел на табуретке.
Было еще светло. У дома стоял старый грузовик, возле которого толклись молодые индейцы — парни и девушки. Я попробовал заговорить с ними по-испански, они не отвечали: девушки хихикали, а парни улыбались и отводили глаза. Все делали вид, будто не понимают меня, хотя наверняка знали испанский — я понял это по их разговору.
Вскоре появились дон Хуан и пожилой индеец. Они подошли к грузовику и уселись рядом с водителем. Остальным это послужило сигналом забраться в кузов. Бортов у машины не было; когда она тронулась, все ухватились за веревку, привязанную к крюкам на раме.
Грузовик медленно полз по грунтовой дороге. В одном месте, на крутом подъеме, он остановился. Все спрыгнули и двинулись следом; но двое парней тут же вскочили в кузов и уселись на краю, не держась за веревку. Женщины рассмеялись и стали их поддразнивать. Дон Хуан и пожилой индеец по имени дон Сильвио шли рядом, не обращая внимания на эту клоунаду. Подъем кончился, мы снова забрались в грузовик.
Ехали около часа. Сидеть было жестко, весь путь я простоял, держась за крышу кабины. Наконец грузовик остановился возле каких-то хижин. Уже совсем стемнело; я разглядел несколько фигур в тускло-желтом свете керосиновой лампы, висевшей над открытой дверью.
Все слезли с грузовика и смешались с местными. Дон Хуан снова велел мне оставаться в стороне. Я прислонился к капоту машины. Вскоре ко мне подошли трое парней. Одного я узнал — видел его четыре года назад на митоте. Он по-дружески ухватил меня за локти и шепнул по-испански:
— Здорово!
Мы молча стояли у грузовика. Ночь была теплая, ветреная. Где-то поблизости журчал ручей. Мой знакомый спросил, нет ли у меня сигарет. Я протянул пачку. В мерцании огонька сигареты глянул на часы: девять.
Вскоре из хижины вышли люди, и парни удалились. Подошел дон Хуан и сказал, что сумел объяснить мое присутствие. Я пойду вместе со всеми и буду подавать участникам митоты воду. Он добавил, что мы отправляемся немедленно.
В путь двинулись десять женщин и одиннадцать мужчин. Впереди шел рослый мужчина лет пятидесяти пяти. Все называли его Мочо, что по-испански значит «меченый». Он шел быстрым уверенным шагом и нес керосиновый фонарь, помахивая им из стороны в сторону. Сначала я подумал, что он машет просто так, но вскоре понял: каждый взмах указывает на какое-нибудь препятствие. Шли больше часа. Женщины болтали, негромко посмеивались. Дон Хуан и дон Сильвио возглавляли колонну, я замыкал ее. Я не поднимал голову, стараясь разглядеть дорогу.
Прошло четыре года с тех пор, как мы с доном Хуаном бродили по ночным холмам, и я, утратив за это время свою сноровку, то и дело спотыкался и поддевал камешки ногами. Казалось, я разучился даже сгибать колени: дорога то резко вздымалась вверх, то проваливалась. Я шумел больше всех и невольно оказался в роли шута. Всякий раз, когда я спотыкался, кто-нибудь вскрикивал: «Ой!» — и все смеялись. Один раз камень, вылетевший из-под моей ноги, попал в женщину, что шла впереди, и та крикнула: «Дайте же бедняге свечку!» — чем развеселила всех еще больше. Я вконец опозорился, когда, споткнувшись уже не знаю в какой раз, потерял равновесие и ухватился за соседа; тот едва не упал и завопил — нарочито громко. Поднялся такой хохот, что все остановились.
Но вот Мочо несколько раз поднял и опустил фонарь видимо в знак того, что мы пришли. Справа угадывались очертания невысокой постройки. Все разбрелись кто куда. Я стал искать дона Хуана, но в темноте это было не так-то легко. Наконец заметил, что он сидит на валуне.
Дон Хуан еще раз повторил, что мое дело — разносить воду участникам митоты. Он учил меня этому несколько лет назад и, хотя я помнил все до мелочей, снова объяснил, что и как делать.
Мы пошли за дом, где собрались мужчины. Они уже разожгли костер. Земля была расчищена, метрах в пяти от костра по кругу лежали соломенные циновки. Мочо уселся первым; я заметил, что у него нет верхушки левого уха — видимо, отсюда и взялось его прозвище. Дон Сильвио устроился справа от него, дон Хуан — слева; Мочо сидел лицом к огню. Подошел парень и опустил перед ним плоскую корзину с шариками пейотля, потом сел — между Мочо и доном Сильвио. Другой парень принес две небольшие корзинки, поставил рядом с первой и сел между Мочо и доном Хуаном. По бокам от дона Сильвио и дона Хуана уселись еще двое парней, так что получился круг из семи человек. Женщины остались в доме. Двое парней должны были следить за костром, а я с каким-то мальчишкой — держать наготове воду, чтобы напоить участников митоты после ночного бдения. Костер и сосуд с водой находились друг напротив друга, на одинаковом расстоянии от круга из семи участников.
Мочо, возглавлявший митоту, запел песню пейотля. Его глаза были закрыты, тело раскачивалось — вверх-вниз, вверх-вниз. Песня была длинной, слов я не понимал. Запели и остальные — как-то вразнобой, беспорядочно. Мочо взял корзину, достал оттуда два шарика и поставил ее в центр круга. То же проделал дон Сильвио, после него — дон Хуан. Четверо парней, составлявших, по-видимому, отдельную группу, тоже стали брать пейотль — по очереди, против часовой стрелки.
Каждый из семи участников четырежды пропел свою песню, съедая каждый раз по два шарика пейотля. Затем по кругу пошла корзинка с сушеными фруктами и вяленым мясом.
В течение ночи эта процедура повторялась несколько раз, но я не обнаружил в действиях участников никакого скрытого порядка. Они не переговаривались, каждый был погружен в себя, никто не обращал внимания на соседей.
Перед рассветом участники митоты встали, и мы с мальчишкой роздали им воду. Затем я прошелся вокруг дома — поглядеть, где нахожусь. Собственно, это был не дом, а низкая глинобитная хижина, крытая соломой. Окрестности производили гнетущее впечатление: равнина, скудно поросшая кактусами и кустарником, — и ни одного дерева. Удаляться далеко от дома не хотелось.
Женщины утром не появлялись. Мужчины молча бродили близ хижины. Около полудня уселись опять — в том же порядке, что и ночью. Пустили по кругу корзинку с вяленым мясом. Кое-кто запел песню пейотля. Примерно через час все поднялись и разошлись по сторонам.
Нам с мальчиком и парням, следившим за костром, женщины принесли горшок овсяной каши. Я поел и заснул до вечера.
Стемнело. Парни разожгли новый костер, митота возобновилась. Она мало чем отличалась от вчерашней и закончилась на рассвете.
В течение ночи я старался не пропустить ни одного движения участников митоты, надеясь обнаружить свидетельство их словесного или безмолвного общения. Увы, ничего такого я не обнаружил.
Наступил вечер, и все повторилось сначала. К утру я расстался со своими надеждами выявить скрытого руководителя или хотя бы признаки общения участников митоты между собой. Я присел в стороне и занялся своими записями.
Когда настала четвертая ночь, я почувствовал, что она будет последней.
Поведение семерых участников ничем не отличалось от того, что я наблюдал три ночи подряд. Как и раньше, я старался ничего не упустить, обращал внимание на каждый жест, движение, слово.
У меня зазвенело в ухе; самый обычный звон, на который я не обратил внимания. Звон усилился, и мое внимание раздвоилось: я наблюдал за участниками митоты и прислушивался к звону. Мне показалось, что лица всех как будто осветились. Это не был свет фонаря или костра: скорее собственное слабое свечение. В ухе зазвенело сильней. Я взглянул на мальчишку-напарника, тот спал.
Розоватое свечение усилилось, Я посмотрел на дона Хуана. Он сидел с закрытыми глазами; дон Сильвио и Мочо — тоже. Что касается четверых парней, то двое из них сидели склонив голову на грудь, а двух других я видел со спины.
Я весь превратился во внимание, но никак не мог понять, действительно ли слышу звон и вижу розоватое сияние. Убедившись в постоянстве света и звука, я пришел в крайнее замешательство. Со мной произошло что-то странное: в сознании мелькнула мысль, не имеющая ничего общего ни с наблюдаемой сценой, ни с тем, ради чего я здесь оказался. Я вспомнил слова, которые когда-то в детстве слышал от матери. Эта мысль была совершенно неуместной и отвлекала меня. Я попытался избавиться от нее и вернуться к наблюдениям, но не мог; мысль все настойчивей овладевала моим сознанием. Вдруг раздался голос матери: она звала меня. Я услышал шарканье ее шлепанцев, смех. Я обернулся, ожидая, что перенесшая меня во времени галлюцинация явит зримый образ матери. Но вместо нее увидел спящего мальчишку. Это несколько встряхнуло меня: на минуту я успокоился и пришел в себя.
Я посмотрел на мужчин — они сидели в прежних позах. Сияние тем временем исчезло, звон в ушах тоже. Я почувствовал облегчение и решил, что слуховая галлюцинация больше не повторится, однако не мог избавиться от впечатления, которое она произвела. Краем глаза я заметил, что дон Хуан глядит на меня, но не придал этому значения. Воспоминание о материнском голосе буквально загипнотизировало меня. Я силился переключить мысли на что-нибудь другое, как вдруг снова раздался ее голос, да так близко, будто она стояла за спиной. Мать звала меня. Я обернулся, но увидел лишь смутно мерцающую в темноте хижину да кусты позади нее.
Материнский голос отозвался во мне такой глубокой болью, что я застонал. Стало холодно и одиноко, я заплакал. Я чувствовал себя ребенком, который ждет, чтобы его кто-нибудь утешил. Я взглянул на дона Хуана. Тот пристально смотрел на меня. Сейчас было не до него; я закрыл глаза... и увидел мать. Нет, не в мыслях — я совершенно ясно увидел ее рядом с собой. Отчаяние охватило меня, я весь дрожал. Видение никак не вязалось с тем, чем был занят мой ум, — от этого мне было не по себе. Я мог открыть глаза и избавиться от видения, но вместо этого стал изучать его. Я не просто смотрел на мать, а как бы исследовал ее. Странное чувство, словно навязанное извне, охватило меня: я ощутил вдруг все невыносимое бремя материнской любви. Когда я услышал, как она зовет меня, у меня защемило сердце, но, вглядевшись в видение, я понял, что она всегда была мне чужой. Это открытие повергло меня в отчаяние. Лавина мыслей и образов хлынула на меня. Не помню, продолжал ли я видеть мать, — меня это уже не волновало, как и то, что делали в это время индейцы. Я вообще забыл про митоту. Меня захлестнул поток необычных мыслей — собственно, даже не мыслей, а цельных переживаний — ярких, неоспоримых изображений моих истинных отношений с матерью.
В какой-то момент они прекратились. Я стал думать о своих родственниках, но эти мысли образами не сопровождались. Потом посмотрел на дона Хуана. Он и остальные индейцы поднялись и двинулись в мою сторону — пить воду. Я встал и растолкал спящего мальчишку.
Едва мы сели в машину, я рассказал дону Хуану о своих необычных видениях. Он засмеялся, будто я сообщил что-то приятное, и сказал, что это — знак, знамение, не менее важное, чем моя первая встреча с Мескалито. Я вспомнил, как дон Хуан впервые давал мне пейотль и как я рассказывал о своих переживаниях. Тогда он тоже истолковал их как важное предзнаменование. Собственно говоря, потому он и взялся за мое обучение.
По словам дона Хуана, в последнюю ночь митоты Мескалито столь зримо пребывал рядом со мной, что заставил всех обернуться в мою сторону. Вот почему он так пристально глядел на меня.
Я захотел узнать, как он понимает мои видения, но дон Хуан не захотел их обсуждать. Что бы я ни видел, сказал он, по сравнению со знамением это ерунда. Он снова и снова возвращался к тому, как надо мной вспыхнул свет Мескалито и как это всех поразило.
— Вот на что следует обратить внимание, — сказал он. — Лучшее предзнаменование трудно и представить.
Я понял, что мы расходимся во взглядах: его интересовало знамение, меня — подробности видения.
— Меня не волнуют предзнаменования, — сказал я. — Я хочу знать, что со мной происходило.
Дон Хуан нахмурился, как бы от досады, и некоторое время не двигался. Потом взглянул на меня.
— Самое важное, — сказал он с нажимом, — невероятная доброта Мескалито. Он озарил тебя своим светом, дал тебе урок — хотя ты сам палец о палец при этом не ударил!
4
4 сентября 1968 года я приехал к дону Хуану в Сонору. Выполняя его просьбу, я заехал по пути в Эрмосильо, чтобы купить там баканору — самогонку из агавы. Просьба показалась мне странной: дон Хуан не жаловал выпивку. Тем не менее я купил четыре бутылки и положил в коробку, где лежали остальные подарки старику.
— Ого! Целых четыре! — засмеялся дон Хуан, открывая коробку.
— Я просил всего одну. Наверное, решил, что мне, а это — моему внуку Лусио. Сделай так, будто подарок от тебя.
С Лусио мы познакомились два года назад, тогда ему было двадцать восемь. Высокого роста, под метр восемьдесят, всегда изысканно одетый, пожалуй, даже экстравагантно, если учесть его заработки и сравнить с тем, как одевались его приятели. Большинство индейцев-яки носят армейские рубашки, джинсы, соломенные шляпы и самодельные сандалии гарачи; на Лусио была черная кожаная куртка с бахромой, ковбойская шляпа и сапожки ручной выделки с монограммой.
Лусио обрадовался подарку и тут же унес бутылки в дом. Дон Хуан как бы невзначай заметил, что не дело прятать водку и напиваться в одиночку. Лусио возразил, что у него такого и в мыслях не было — он отложил бутылки до вечера, чтобы распить их с друзьями.
Около семи вечера я зашел к Лусио. Стемнело. Под низким деревцем я разглядел два силуэта: это были Лусио и его приятель. Они поджидали меня и, освещая путь фонариком, повели в дом.
Жилище Лусио представляло собой шаткое сооружение из двух комнат с земляным полом и стенами из прутьев, обмазанных глиной. Дом был метров шесть в длину, опорой ему служили две тонкие мескитовые балки. Крыша, как и у всех домов, — плоская, крытая соломой; впереди — трехметровая рамада, нечто вроде веранды. Рамаду кроют не соломой, а ветками: они дают хорошую тень и обеспечивают циркуляцию воздуха.
Входя в дом, я включил спрятанный в портфеле магнитофон. Лусио стал знакомить меня с друзьями. Вместе с доном Хуаном в доме было восемь человек. Все расположились в комнате, которую освещала керосиновая лампа, висевшая на балке. Дон Хуан сидел на ящике. Я сел напротив, на краю двухметровой скамьи — толстой доски, прибитой к двум врытым в землю столбам.
Дон Хуан снял шляпу и положил ее на пол, у ног. В свете лампы его короткие седые волосы переливались серебром, морщины на лице углубились, он выглядел старше, чем обычно. Я посмотрел на других. В желтоватом свете все казались уставшими и постаревшими.
Лусио объявил по-испански, что сейчас мы разопьем бутылку баканоры, которую я привез ему из Эрмосильо. Он сходил в другую комнату, принес бутылку, откупорил и вручил мне вместе с жестяным стаканчиком. Я плеснул в него малость и выпил. Баканора была ароматней и крепче обычной текилы, я даже закашлялся. Бутылка пошла по кругу. Все выпили понемногу, кроме дона Хуана, который подержал бутылку и вернул ее Лусио.
Заговорили о вкусе и аромате баканоры, изготовленной не иначе как в горах Чихуахуа.
Бутылка пошла по второму кругу. Гости щелкали языком, выражая свое восхищение. Разгорелся спор о том, чем отличается текила из Гвадалахары от текилы с гор Чихуахуа.
Дон Хуан опять не стал пить, а лишь капнул в стаканчик, зато остальные наполняли до краев. Бутылка еще раз пошла по кругу и опустела.
— Лусио, принеси остальные, — сказал дон Хуан. Лусио заколебался, но старик как ни в чем не бывало объявил, что я привез его внуку целых четыре бутылки. Бениньо, с виду ровесник Лусио, покосившись на портфель, который я незаметно поставил позади себя, спросил, не торгую ли я текилой. Дон Хуан ответил: нет — и добавил, что я приехал в Сонору к нему в гости.
— Карлос постигает мудрость Мескалито, я обучаю его, — сказал он.
Все поглядели на меня и вежливо заулыбались. Бахея, дровосек, худощавый юноша с резкими чертами лица, вперился в меня взглядом и сказал, что лавочник божился, будто я — шпион американской компании, которая хочет добывать на земле яки полезные ископаемые. Присутствующие с возмущением отреагировали на это подозрение, тем более что все недолюбливали лавочника, который был «йори», то есть мексиканец.
Лусио сходил за второй бутылкой, открыл ее, налил себе до краев и пустил бутылку по кругу. Разговор, пошел о возможном появлении в Соноре американской компании и о том, что это принесет индейцам-яки. Бутылка вернулась к Лусио. Он поднял ее и посмотрел, много ли осталось.
— Успокой его, — шепнул мне дон Хуан. — Скажи, что привезешь еще.
Я наклонился к Лусио и пообещал привезти в следующий раз не меньше полудюжины бутылок. Постепенно разговор затих. Дон Хуан обернулся ко мне:
— Послушай, почему бы тебе не рассказать, как ты встречался с Мескалито? Это куда интереснее болтовни об американской компании.
— Дед, а Мескалито — это пейотль? — спросил Лусио.
— Так его называют многие, — ответил дон Хуан. — Но я предпочитаю называть Мескалито.
— От этой штуки сходят с ума, — сказал Хенаро, сухощавый мужчина в летах.
— Если бы это было так, — возразил дон Хуан, — на Карлоса давно бы напялили смирительную рубашку и он не разговаривал бы сейчас с вами. Он встречался с Мескалито, и, как видите, в полном порядке.
— Как знать, — протянул Бахея. Все рассмеялись.
— Посмотрите тогда на меня, — сказал дон Хуан. — Я почти всю жизнь встречаюсь с Мескалито, и он не причинил мне зла.
Никто не засмеялся, но было видно, что и эти слова не приняли всерьез.
— Конечно, — продолжал дон Хуан, — Мескалито может лишить людей рассудка. Но только тех, которые не знают, чего от них хотят.
Эскуере, старик одних лет с доном Хуаном, хихикнул:
— О каком знании ты все толкуешь, Хуан? В прошлый раз, когда мы виделись, ты тоже говорил о нем.
— Люди обалдевают, наевшись пейотля, — опять вступил дон Хенаро. — Я видел, как его ели индейцы-уичолы. Они просто взбесились: у одного пена на губах, другого рвет, третий мочится где попало. От этой гадости запросто падучую подхватить, а она, сами знаете, на всю жизнь.
— Был человек, стал скотина, — подал голос Бахея.
— Хенаро, ты видел только то, что хотел увидеть, — сказал дон Хуан. — И не потрудился узнать у индейцев, что значит встреча с Мескалито. Насколько мне известно, падучей от этого не бывает. По-твоему, все люди, познавшие Мескалито, — сумасшедшие?
— Если они выделывают такие штуки, значит, повернутые, — ответил Хенаро. — Или близки к этому.
— Ну хорошо, допустим. Тогда кто же за них работает? И как они не умирают с голоду? — спросил дон Хуан.
— Макарио, что приезжает к нам с «той стороны», из Штатов, — сообщил Эскуере, — говорил: кто испробовал пейотль, тот на всю жизнь получает отметину.
— Твой Макарио — врун, — возразил дон Хуан. — Болтает сам не знает что.
— Он и впрямь частенько привирает, — согласился Бениньо.
— Кто это Макарио? — спросил я.
— Индеец-яки, из местных, — ответил Лусио. — Уверяет всех, что родился в Аризоне, а во время войны побывал в Европе. Мастер на небылицы.
— Говорит, служил полковником, — вставил Бениньо.
Все рассмеялись и стали вспоминать всякие басни, которые рассказывал про себя Макарио. Но дон Хуан снова вернул разговор к Мескалито.
— Всем известно, что Макарио — врун, — сказал он, — однако его болтовне про Мескалито вы верите.
— Дед, это ты о пейотле? — спросил Лусио.
— О чем же еще, черт побери!
Дон Хуан ответил так резко и сердито, что Лусио даже отшатнулся. Всем стало как-то не по себе. Но дон Хуан тут же улыбнулся и продолжал спокойным голосом:
— Как вы не поймете, что Макарио не знает, о чем говорит? Можно ли вообще толковать о Мескалито, не познав его?
— Опять ты за свое, — протянул Эскуере. — На черта нам его знать? Ты хуже Макарио. Тот хоть говорит, что думает, а знает он, о чем говорит, или нет — это другой вопрос. Сколько уже лет от тебя слышу: знание, знание... Какое знание?
— Дон Хуан говорит, что в пейотле обитает какой-то дух, — сказал Бениньо.
— Пейотль-то я видел, а вот духов что-то не встречал, — сказал Бахея.
— Можете считать Мескалито духом, — стал объяснять дон Хуан. — Но чтобы понять, кто он на самом деле, надо с ним встретиться. Эскуере говорит, что я толкую об этом не первый год. Верно. Но разве я виноват, что вы не понимаете? Бахея считает: познавший Мескалито становится скотиной. А я так не считаю. По-моему, те, кто думает, что они лучше животных, живут хуже их. Возьмите моего внука. Он трудится не покладая рук. Можно сказать, живет только для того, чтобы работать. Как мул. Единственная разница — мул не пьет текилы!
Все покатились со смеху. Громче всех хохотал Виктор, совсем мальчишка. Один Элихио, молодой крестьянин, не проронил до сих пор ни слова. Он сидел на полу справа от меня, прислонившись к мешкам с минеральными удобрениями, которые спрятали в дом от дождя. Элихио дружил с Лусио с детства. Это был крепко сбитый парень, ростом пониже Лусио, но кряжистый. Судя по виду, Элихио всерьез обдумывал то, что говорил дон Хуан. Когда Бахея опять попробовал высказаться, Элихио прервал его.
— Каким образом пейотль может все это изменить? — спросил он. — Разве человек не затем и рожден, чтобы всю жизнь тянуть лямку, как мул?
— Мескалито изменяет все, — сказал дон Хуан, — даже если мы будем тянуть ту же лямку. Заключенный в Мескалито дух изменяет людей порой даже вопреки их желанию. Его можно увидеть, можно к нему прикоснуться.
— Пейотль сводит с ума, — сказал дон Хенаро, — потому и кажется, будто что-то в тебе изменилось. Так ведь?
— Как он может изменить нас? — продолжал допытываться Элихио.
— Он учит нас, как правильно жить, — сказал дон Хуан. — Он помогает и защищает тех, кто его знает. А жизнь, которую ведете вы, вообще трудно назвать жизнью. Вы не знаете, какое это счастье — делать что-либо с пониманием. У вас нет покровителя.
— Что ты несешь? — возмутился дон Хенаро. — Как это нет? А Господь наш Иисус Христос, а пресвятая Дева Мария, а святая Дева Гваделупская — разве не покровители?
— Целая охапка, — усмехнулся дон Хуан. — Ну и как, научили они вас правильно жить?
— Так это потому, что люди слушают не их, — возразил дон Хенаро, — а дьявола.
— Были бы они настоящими покровителями, вы бы их услышали, — возразил дон Хуан. — Когда покровителем становится Мескалито, его приходится слушать, хочешь этого или нет, потому что видишь его и поневоле ему внимаешь. Он умеет себя поставить. Не то, что ваши.
— Ты о чем, Хуан? — спросил Эскуере.
— О том, как вы обращаетесь к своим покровителям. Кто-то начинает пиликать на скрипке, танцор — надевает маску, навешивает на себя побрякушки, пляшет. Остальные в это время пьют. Бениньо, ты сам танцевал когда-то. Расскажи.
— Меня всего на три года хватило — работа не из легких.
— Спроси лучше Лусио, — ухмыльнулся Эскуере. — С него хватило и недели.
Все, кроме дона Хуана, рассмеялись. Лусио смущенно улыбнулся и сделал пару глотков.
— Это не столько трудно, сколько глупо, — сказал дон Хуан. — Спросите Валенсио — получает ли он удовольствие от того, что пляшет? Никакого! Привык, только и всего. Сколько лет вижу, как он танцует, — всегда одни и те же движения, да и те кое-как. А почему? Потому что не любит танцевать по-настоящему, просто повторяет из года в год давно заученное. И все, что было безобразным, так им и осталось. Он, конечно, этого не замечает.
— Его так научили, — сказал Элихио. — Я тоже танцевал в Ториме и знаю: нужно делать так, как тебя учат.
— Валенсио — танцор не из лучших, — промолвил Эскуере. — Есть и другие. Взять хотя бы Сакатеку.
— Сакатеку ты с ним не равняй, — сердито возразил дон Хуан. — Он — человек знания. Он танцует потому, что имеет к этому склонность. Я хотел сказать только то, что вам, не танцорам, танцы не приносят никакой радости. Возможно, если бы вы хорошо танцевали, некоторые из вас получали бы удовольствие. Но вы в танцах не разбираетесь, и радости вам от них никакой. Вот вы и напиваетесь. Взгляните на моего внука.
— Ну ладно, дед, хватит! — обиделся Лусио.
— Он не лентяй и не тупица, — продолжал дон Хуан, — но на что он способен, кроме выпивки?
— Скупает кожаные куртки, — подсказал дон Хенаро, и все покатились со смеху.
Лусио тем временем приложился к стаканчику.
— А как пейотль может все это изменить? — снова спросил Элихио.
— Если бы Лусио нашел покровителя, его жизнь стала бы совершенно другой. Не знаю какой, но другой, — сказал дон Хуан.
— Бросил бы пить? — не унимался Элихио.
— Возможно. Для настоящей жизни нужно кое-что еще, кроме текилы. И покровитель дал бы ему это.
— Должно быть, пейотль — вкусный? — спросил Элихио.
— Не сказал бы, — возразил дон Хуан.
— Тогда зачем же его едят?
— Он позволяет получить удовольствие от жизни.
— Какое же удовольствие, если он невкусный? — упорствовал Элихио. — Чушь какая-то.
— Никакой чуши, — горячо возразил дон Хенаро. — Пейотль сдвигает мозги, и жизнь представляется раем, что бы ты в это время ни выделывал.
Все засмеялись.
— Никакой чуши, — спокойно повторил дон Хуан, — если вспомнить, как мало мы знаем и как много еще предстоит узнать. Водка — вот что сводит с ума. Она туманит глаза. Мескалито же, наоборот, обостряет видение. Он дает прозрение!
Лусио и Бениньо посмотрели друг на друга и улыбнулись — слышим, мол, не первый раз. Хенаро и Эскуере заговорили о чем-то своем. Виктор громко смеялся. Кажется, только Элихио заинтересовался словами дона Хуана.
— Как же пейотль это делает? — спросил он.
— Прежде всего, — стал объяснять дон Хуан, — ты должен захотеть с ним познакомиться, и это главное. Затем ты отдаешься ему и встречаешься с ним много раз, прежде чем сможешь сказать, что познал его.
— А потом? — спросил Элихио.
— А потом съезжаешь с крыши — и задницей о землю! — не удержался Хенаро.
Все так и грохнули.
— Это целиком зависит от тебя, — невозмутимо продолжал дон Хуан. — Не бойся его, и он научит тебя, как правильно жить.
Наступило молчание; казалось, гости устали. Бутылка опустела. Лусио, поколебавшись, открыл следующую.
— А у Карлоса кто покровитель — пейотль? — спросил Элихио.
— Не знаю, — сказал дон Хуан. — Он трижды встречался с Мескалито, спросите его самого.
Все обернулись ко мне, и Элихио спросил:
— Ты в самом деле ел пейотль?
— Да.
Было похоже, что дон Хуан все-таки завладел вниманием собравшихся. Они не только перестали смеяться, но и захотели услышать от меня, что я испытывал при этом.
— Тебе не своротило рот? — спросил Лусио.
— Еще как, ужасная гадость.
— Зачем же ты ел? — спросил Бениньо.
Я стал объяснять, какой огромный интерес представляет учение дона Хуана о пейотле для западного человека. Я подтвердил, что все, сказанное им, — правда и каждый может проверить это на себе.
Но слушатели только улыбались. Я смутился. Я осознал всю бездарность моего рассказа и совсем растерялся. Дон Хуан пришел мне на помощь.
— Скажи, ты ведь не искал покровителя, когда впервые встретился с Мескалито?
Я ответил, что мною двигало только любопытство и желание познакомиться с ним.
Дон Хуан назвал мои стремления безупречными. Именно поэтому, сказал он, Мескалито так благотворно на меня подействовал.
— Тебя тоже рвало, и ты мочился на каждом шагу? — с подковыркой спросил Хенаро.
Я признался, что было и такое. Все засмеялись. Никто меня больше не слушал, кроме Элихио.
— А что ты видел? — спросил он.
Дон Хуан посоветовал вспомнить самое существенное, и я рассказал все по порядку. Когда я кончил, первым высказался Лусио:
— Судя по всему, пейотль — ужасная дурь, и я рад, что не баловался им.
— Как раз то, о чем я говорил, — молвил Хенаро. — Эта штука в момент лишает рассудка.
— Но Карлос его не лишился. Как ты это объяснишь? — спросил дон Хуан.
— Это еще как сказать, — возразил тот. Все засмеялись, в том числе дон Хуан.
— Тебе было страшно? — спросил Бениньо.
— Да.
— Зачем же ты тогда ел? — удивился Элихио.
— Он сказал, что стремился к знанию, — ответил за меня Лусио. — Карлос скоро станет как мой дед. Оба только и твердят о знании, а спросите, что они хотят знать, — ни тот, ни другой не объяснит.
— Что такое знание, словами не объяснишь, — сказал дон Хуан. — У каждого оно свое. Общее только то, что каждому человеку Мескалито раскрывает свои тайны лично. Если судить по речам Хенаро, я бы не советовал ему встречаться с Мескалито. Но, что бы он ни говорил, несомненно одно: Мескалито повлиял бы на него самым благотворным образом. Как именно? Узнать об этом он может только сам, и это я и называю знанием.
Дон Хуан поднялся.
— Пора домой, — сказал он. — Лусио пьян, а Виктор уже спит.
Через два дня, 6 сентября, Лусио, Бениньо и Элихио зашли за мной и позвали поохотиться. Они молча ждали, когда я кончу возиться со своими записями. Как бы предупреждая, что хочет сказать нечто важное, Бениньо хмыкнул себе под нос, потом сообщил:
— Лусио говорит, что хочет попробовать пейотль.
— Серьезно? — спросил я.
— Да, мне бы хотелось.
— Лусио говорит, что съест несколько шариков, если ты купишь ему мотоцикл.
Лусио и Бениньо переглянулись и захохотали.
— Почем в Штатах мотоциклы? — спросил Лусио.
Я сказал, что можно купить за сотню долларов.
— Совсем недорого, а? Ты вполне мог бы купить ему мотоцикл, — сказал Бениньо.
— Может, посоветуемся с твоим дедом? — предложил я Лусио.
— Ни в коем случае, — запротестовал Лусио. — Не говори ему об этом. Он — чокнутый и все дело; испортит. И вообще — старый и слабоумный дед, сам не понимает, что делает.
— Когда-то он был настоящим колдуном, — добавил Бениньо. — Понимаешь, настоящим. Мои родители рассказывали, он был одним из лучших. А потом пристрастился к пейотлю и стал никем. Да и состарился к тому же.
— Только и долдонит про свой пейотль, — сказал Лусио.
— Пейотль — дрянь, — вступил в разговор Бениньо. — Знаешь, мы его пробовали. Лусио стащил у деда мешочек, и мы попробовали. Ну и дерьмо!
— Вы его глотали? — спросил я.
— Нет, выплевывали, — сказал Лусио. — А потом выбросили весь мешочек к чертям.
Это воспоминание обоих развеселило. Между тем Элихио рта не раскрыл и даже не улыбнулся.
— Элихио, — спросил я, — а ты бы хотел попробовать пейотль?
— Нет, — ответил он, — даже за мотоцикл. Лусио и Бениньо сочли это очень смешным и захохотали.
— И все-таки, — добавил Элихио, — в старике что-то есть.
— Да брось ты, — прервал его Лусио, — мой дед выжил из ума.
— Не без того, — поддакнул Бениньо.
Их суждения о доне Хуане показались мне по-детски несерьезными. Я решил-заступиться и сказал, что дон Хуан был и остается одним из самых великих колдунов. Я напомнил, что дону Хуану уже за семьдесят, а он сильнее и подвижнее любого из нас, и поспорил, что они не сумеют подкрасться к нему незаметно.
— К деду не подкрадешься! — с гордостью сказал Лусио. — Он брухо.
Я заметил, что только что они называли дона Хуана старым и слабоумным.
— К брухо не подкрадешься, даже если он старый, — со знанием дела объяснил Бениньо. — Его можно одолеть только скопом, когда он спит. Как это сделали с Севикасом. Людям надоело его колдовство, и они его убили.
Я попросил рассказать подробнее, но оказалось, что это случилось давно: то ли еще до их рождения, то ли когда они были совсем детьми. Элихио добавил, что о Севикасе люди говорили, будто он всего-навсего дурак: настоящему колдуну зло причинить невозможно. Мне хотелось узнать, какого они вообще мнения о колдунах. Оказалось, что колдуны их не очень-то интересуют. К тому же они горели желанием отправиться на охоту и пострелять из привезенного мной ружья.
Мы молча отправились в густой чапараль. Шедший впереди Элихио обернулся и сказал:
— Может, мы и в самом деле придурки и дон Хуан прав. Подумать только, как мы живем!
Лусио и Бениньо стали ему возражать. Я выбрал середину. Согласился с Элихио и сказал, что не раз ловил себя на мысли, что живу не так, как надо. Бениньо удивился: мне ли жаловаться, когда у меня есть и деньги, и машина. Я заметил, что они ничуть не беднее: у каждого свой участок земли. Парни хором ответили, что хозяин их земли — государственный банк. Я сказал, что хозяин моей машины — тоже банк, который находится в Калифорнии. Моя жизнь не лучше, чем у них, просто она другая. Тут мы вошли в заросли.
Ни оленей, ни кабанов мы не встретили, зато подстрелили трех кроликов. На обратном пути зашли к Лусио, и он объявил, что его жена приготовит жаркое из крольчатины. Бениньо отправился в лавку купить бутылку текилы и содовой. Вернулся вместе с доном Хуаном.
— Никак дед себе в лавке пиво покупал? — со смехом спросил Лусио.
— Извините, что пришел незваный, — сказал дон Хуан. — Хочу узнать у Карлоса, не собирается ли он в Эрмосильо.
Я сказал, что думаю поехать туда завтра. Бениньо тем временем стал раздавать бутылки с содовой. Элихио отдал свою дону Хуану, и поскольку у яки отказаться от подарка — значит глубоко обидеть человека, дон Хуан ее спокойно принял. Я отдал Элихио свою, и тому пришлось ее взять. Тогда Бениньо отдал мне свою. А Лусио, который сразу понял, что к чему, уже свою бутылку прикончил. Он повернулся к Бениньо, на лице которого застыла трогательная гримаса, и со смехом проговорил:
— Плакала твоя бутылочка!
Дон Хуан сказал, что содовой не пьет, и отдал свою бутылку Бениньо. Мы молча уселись на веранде,
Элихио беспокойно теребил края шляпы. Было видно, что он нервничает.
— Я все думаю о твоих словах, — обратился он к дону Хуану. — Как пейотль может изменить нашу жизнь? Как?
Старик не ответил. Он пристально посмотрел на Элихио и вдруг запел песню на языке яки. Это была даже не песня, а как бы речитатив. Мы долго молчали. Я попросил дона Хуана перевести слова.
— Эта песня только для яки, — сказал он коротко.
Его отказ огорчил меня: я был уверен, что он пел о чем-то важном.
— Элихио — индеец, — сказал дон Хуан. — это значит, что у него ничего нет. Нам, индейцам, ничего не принадлежит. Все, что ты видишь, — собственность йори. У яки есть только гнев и то, что дает им земля.
Никто не проронил ни слова. Дон Хуан попрощался и ушел. Мы смотрели ему вслед, пока он не скрылся за поворотом. Всем было как-то не по себе. Лусио неуверенно предположил, что его дед терпеть не может жаркого, потому и не остался. Элихио сидел, погруженный в раздумья. Бениньо повернулся ко мне и громко сказал:
— Ох, накажет вас с доном Хуаном Господь Бог за ваши делишки!
Лусио засмеялся, а вместе с ним и Бениньо.
— Брось паясничать, Бениньо, — мрачно промолвил Элихио. — Твои слова гроша ломаного не стоят.
15 сентября 1968 года
Была суббота, девять часов вечера. Мы собрались у Лусио на веранде. Посреди сидели дон Хуан и Элихио, между ними лежал мешочек с пейотлем. Дон Хуан пел, слегка раскачиваясь вперед-назад. Лусио, Бениньо и я сидели у стены, метрах в полутора от Элихио. Было довольно темно. Время в ожидании дона Хуана мы провели в доме при свете керосиновой лампы. Наконец он появился, позвал нас на веранду и указал, где кому сесть. Я быстро привык к темноте и хорошо видел каждого. Элихио, как мне показалось, был вне себя от страха. У него стучали зубы, он весь дрожал.
Дон Хуан заговорил с ним, призывая успокоиться, довериться своему покровителю и ни о чем другом не думать. Затем как бы невзначай достал из мешочка шарик пейотля, протянул Элихио и велел медленно разжевать. Элихио заскулил, как щенок. Его дыхание участилось и походило на свист кузнечных мехов. Он сдернул шляпу, вытер ею лоб, потом закрыл лицо руками. Казалось, он плакал. Прошло несколько тяжелых минут, прежде чем Элихио в какой-то мере овладел собой. Он выпрямился, все еще прикрывая рукой лицо, взял шарик и стал жевать.
Я сам испытывал какое-то беспокойство и вдруг понял, что мне страшно не меньше, чем Элихио. Во рту пересохло, как после пейотля. Элихио продолжал жевать. Я весь напрягся и, сам того не желая, стал поскуливать. Мое дыхание участилось.
Дон Хуан запел громче и протянул Элихио еще один шарик. Тот его разжевал. Дон Хуан дал ему сушеных фруктов и велел съесть.
Элихио несколько раз вставал и уходил в кусты. Потом попросил воды. Пить дон Хуан не разрешил, позволил только прополоскать рот.
Элихио съел еще два шарика, и дон Хуан дал ему вяленого мяса.
К тому моменту, когда он одолел десятый шарик, я так разнервничался, что мне едва не стало дурно.
Вдруг Элихио повалился вперед и ударился лбом о землю. Он перекатился на левый бок и забился в конвульсиях. Я глянул на часы: двадцать минут двенадцатого. Больше часа Элихио метался, дергался и стонал. Наконец неподвижно замер на полу.
Дон Хуан сидел в прежней позе и чуть слышно пел. Бениньо, сидевший справа от меня, с безразличием смотрел на происходящее; Лусио, привалившись к нему, спал и похрапывал.
Элихио съежился в неестественной позе. Он лежал на правом боку, лицом ко мне, зажав ладони между коленей. Затем дернулся всем телом и перевернулся на спину. Его левая рука стала совершать легкие грациозные движения, а правая вторила ей. Руки словно перебирали струны арфы, движения становились все более порывистыми — двигались не только кисти рук, но и пальцы. Зрелище завораживало: ритмика Движений и работа мышц не поддавались никакому описанию.
Элихио стал медленно подниматься, будто борясь с какой-то противящейся силой. Тело его дрожало. Он сел на корточки, потом одним рывком выпрямился. Его руки, туловище и голова подергивались, будто через них пропускали ток. Какая-то сила заставляла его то замирать в причудливых позах, то опять двигаться.
Дон Хуан запел громче. Лусио и Бениньо проснулись, равнодушно посмотрели на происходящее и снова уснули.
Элихио, казалось, поднимался вверх, куда-то взбирался. Он хватался за что-то невидимое, подтягивался и, замирая, переводил дыхание.
Мне захотелось увидеть его глаза, и я подвинулся ближе, но, встретив сердитый взгляд дона Хуана, вернулся на прежнее место.
Вдруг Элихио прыгнул. Как видно, это был завершающий прыжок. Он весь напрягся, тяжело дышал и как бы цеплялся за уступ. Но что-то или кто-то настиг его. Он отчаянно закричал, хватка ослабла, он начал падать. Тело его дугой выгнулось назад, с головы до пят волной пробежала судорога. Конвульсия повторилась несколько раз, после чего тело обмякло, как пустой мешок.
Полежав некоторое время, Элихио выбросил вперед руки, словно прикрывая лицо. Он изогнулся и лежал на груди, приподняв над землей ноги, отчего казалось, будто он быстро скользит или летит. Голова была закинута назад, руки козырьком сомкнулись над глазами. Я услышал, как по его телу прошелестел ветер. От изумления у меня перехватило дыхание, я вскрикнул. Бениньо и Лусио проснулись и уставились на Элихио.
— Обещай, что купишь мне мотоцикл, и я хоть сейчас наглотаюсь шариков, — громко сказал Лусио.
Я взглянул на дона Хуана. Тот жестом приказал молчать.
— Сукин сын, — пробормотал Лусио и снова заснул.
Элихио встал и пошел. Сделав несколько шагов в мою сторону, он остановился, потом улыбнулся и засвистел. Свист получился глуховатым, но гармоничным. Это был мотив из двух тактов, который Элихио повторял снова и снова. Постепенно свист стал чище и, наконец, превратился в мелодию. Элихио стал напевать какие-то слова. Он пел несколько часов кряду. Простая песня, пожалуй несколько монотонная, но приятная.
Элихио пел, и мне казалось, что он все время куда-то смотрит. В какой-то момент он подошел ко мне вплотную, и я увидел в полутьме его глаза. Взгляд у него был остекленевший, он улыбался, хихикал, ходил, садился и снова ходил, вздыхал и стонал.
Вдруг его будто ударило в спину, тело его выгнулось, и он засеменил на цыпочках, касаясь земли руками. Затем повалился на спину и, вытянувшись во весь рост, застыл в оцепенении.
Постонав и поскулив немного, он захрапел. Дон Хуан прикрыл его рогожей. Было 5 часов 35 минут утра.
Лусио и Бениньо спали плечом к плечу, прислонившись спинами к стене. Дон Хуан и я долго сидели молча. Старик выглядел уставшим. Я заговорил первым, спросил об Элихио. Он сказал, что встреча Элихио с Мескалито была на редкость удачной: Мескалито с первого раза обучил его песне — небывалый случай!
Я спросил, почему бы не позволить Лусио есть пейотль за мотоцикл. Дон Хуан ответил, что встреча с Мескалито при таких условиях может стать для Лусио смертельной. Он признался, что давно собирался приобщить Лусио к пейотлю, рассчитывая на мои приятельские отношения с ним, которые надеялся использовать как главный козырь. Он сказал, что всегда заботился о Лусио; одно время они жили вместе и были очень близки. Но в семилетнем возрасте Лусио серьезно заболел, и сын дона Хуана, набожный католик, дал обет святой Деве Гваделупской, что, если она спасет мальчика, он отдаст его в религиозную общину, где учат танцам. Лусио выздоровел, и отцу пришлось исполнить обещание, но Лусио, пробыв в учениках всего неделю, сбежал оттуда. Он нарушил обет, и теперь ему не жить, решил он, собрал все свое мужество и целый день ждал смерти. Над мальчишкой потешались все кому не лень, этот случай запомнился ему навсегда.
Дон Хуан умолк. Было видно, что воспоминания его захватили.
— Я делал ставку на Лусио, — сказал он, — а нашел Элихио. Хотя давно знал: ничего у меня с Лусио не получится. Когда любишь, кажется, что человека можно изменить. В детстве Лусио был смелым мальчиком, но с возрастом растерял всю свою смелость.
— Дон Хуан, а ты бы мог его околдовать?
— Околдовать? Зачем?
— Чтобы он снова стал смелым.
— Колдовство смелости не прибавит. Или она есть у человека, или нет. Колдовством можно помешать злу, вызвать болезнь, лишить человека голоса. Но никакое колдовство не превратит человека в воина. Чтобы стать воином, нужно быть таким же чистым, как Элихио. Вот кто смелый человек!
Элихио мирно сопел под рогожей. Уже рассвело. Небо было голубым, без единого облачка.
— Многое бы я отдал, чтобы узнать о путешествии Элихио, — сказал я. — Ты не против, если Я попрошу его рассказать?
— Ни в коем случае!
— Почему? Я ведь рассказывал тебе обо всем, что со мной происходило.
— Ты — другое дело. У тебя нет привычки держать свое при себе. Элихио — индеец. Его путешествие — это все, что у него есть. Как все-таки жаль, что это не Лусио!
— И ничего нельзя сделать?
— Нет, это не в моих силах. Как ни старайся, у медузы не вырастут кости. Глупо было и надеяться.
Взошло солнце. От яркого света у меня стало расплываться в глазах.
— Дон Хуан, сколько раз ты говорил: колдун не может позволять себе глупостей. Я не предполагал, что ты способен на них.
Дон Хуан пристально глянул на меня, встал, посмотрел на Элихио, потом на Лусио и нахлобучил шляпу.
— Видишь ли, иногда есть смысл упорствовать, даже когда понимаешь, что это бесполезно, — сказал он улыбаясь. — Но сперва надо понять, что твои действия бесполезны, а потом поступать так, будто этого не знаешь. Мы, брухо, называем это управляемой глупостью.
5
3 октября 1968 года я снова приехал к дону Хуану — с единственной целью: расспросить о событиях, сопутствовавших посвящению Элихио. Я перечитал свои записи о том, что происходило той ночью, и у меня возникло немало вопросов. Чтобы получить на них точные ответы, я заранее составил вопросник, тщательно подобрав наиболее подходящие слова.
Начал с того, что спросил:
— Дон Хуан, а той ночью — я видел?
— Почти, — ответил он.
— А ты — видел, что я вижу движения Элихио?
— Да, я видел, что Мескалито позволил тебе увидеть часть того, чему он учил Элихио. Иначе ты бы только смотрел на того, кто сидит или лежит перед тобой, как это было на последней митоте. Ты ведь не заметил тогда, что собравшиеся что-то делают?
Я действительно не заметил, чтобы кто-нибудь из участников митоты вел себя необычно. Единственное, за что я мог поручиться и что у меня было записано: некоторые индейцы вставали и уходили в кустарник чаще, чем другие.
— А в этот раз ты видел почти весь урок, — продолжал дон Хуан. — Ты только подумай, сколь великодушен к тебе Мескалито! Не припомню, чтобы еще к кому-нибудь он был так добр. А ты такой неблагодарный! Ты отворачиваешься от него, как последний грубиян. Разве он это заслужил?
Дон Хуан опять припер меня к стенке. Мне нечего было на это сказать. Я считал, что бросил ученичество ради собственного спасения, но сам не знал, от чего именно спасаюсь. Я поспешил изменить ход нашего разговора и, отказавшись от заготовленных вопросов, ограничился тем, который казался самым важным.
— Дон Хуан, — спросил я, — не мог бы ты подробнее рассказать об управляемой глупости?
— Что именно ты хочешь узнать?
— Пожалуйста, расскажи, что это такое.
Дон Хуан громко рассмеялся и хлопнул себя по ляжке.
— Ведь мы как раз об этом и говорим! — И снова хлопнул.
— Извини, я не понял.
— Очень рад, что через столько лет ты наконец захотел узнать, что такое управляемая глупость.
А ведь не спроси ты о ней, я бы ничуть не огорчился. И все же я рад — как будто мне в самом деле важно, спросишь ты или нет. Вот это и есть управляемая глупость!
Мы оба расхохотались. Я обнял дона Хуана. Его объяснение привело меня в восторг, хотя я не совсем его понял.
Мы сидели, как обычно, возле дома, у двери. Было около девяти утра. Высыпав перед собой кучу семян, дон Хуан выбирал из них сор. Я вызвался ему помочь, но он решительно отказался. Объяснил, что это подарок для приятеля из Центральной Мексики и я не должен прикасаться к семенам, потому что не обладаю достаточной силой. После долгого молчания я спросил:
— Дон Хуан, а к кому ты применяешь управляемую глупость?
— К кому угодно, — улыбнулся он.
— И когда же ею пользуешься?
— Только ею и пользуюсь. Всегда.
Мне нужно было разобраться во всем, и я спросил, не означает ли это, что поступки дона Хуана — не вполне искренни, нечто вроде актерской игры.
— Мои поступки искренни, — ответил он, — но они всего лишь актерская игра.
— Выходит, все, что ты делаешь, — управляемая глупость? — удивился я.
— Именно так, — подтвердил он.
— Не верю, — запротестовал я. — Не верю, что все твои поступки — лишь управляемая глупость.
— Почему бы и нет? — загадочно взглянул он на меня.
— Потому что тогда тебе было бы на все наплевать, в том числе и на меня. Разве тебя не волнует, стану я человеком знания или нет, буду жить или умру?
— Представь себе, не волнует! Мои отношения с тобой, с Лусио, с кем угодно — все это управляемая глупость.
Я вдруг почувствовал полную опустошенность. В самом деле, с какой стати я должен волновать дона Хуана? Но, с другой стороны, если я не интересую его как личность, зачем он уделяет мне столько внимания? Может быть, он высказался так потому, что сердится на меня? Как-никак я бросил ученичество.
— Кажется, мы говорим о разных вещах, — сказал я. — Зря я привел себя в качестве примера. Я хотел сказать, что должно существовать нечто такое, к чему ты относишься абсолютно серьезно. По-моему, если все безразлично, то и жить незачем.
— Это верно для тебя, — сказал дон Хуан. — Ты различаешь важное и неважное. Ты спросил, что такое управляемая глупость, и я ответил: все мои поступки — глупость, потому что все безразлично.
— Но если все безразлично, как же ты живешь?
Он улыбнулся. Помолчал, словно решая, отвечать или нет, встал и направился на задний двор. Я двинулся следом.
— Погоди, дон Хуан, — настаивал я. — Мне бы хотелось, чтобы ты объяснил свои слова.
— Вряд ли это объяснишь, — сказал он. — Для тебя значение того или иного в жизни определяется тем, насколько это, по-твоему, важно. А для меня ничто не важно; я не придаю значения ни своим действиям, ни действиям других. А жить продолжаю потому, что у меня есть воля. Я закалял ее всю жизнь. Теперь моя воля стала цельной и безупречной, и мне не важно, что нет ничего важного. Моя воля управляет глупостью моей жизни.
Он присел на корточки и стал перебирать траву, разложенную на куске рогожи.
Я был сбит с толку. Такого направления разговора я никак не мог предвидеть. Поразмыслив немного, я сказал дону Хуану, что, по-моему, некоторые человеческие поступки имеют огромную важность. Самый впечатляющий пример — атомная война. Уничтожение жизни на Земле — разве это безумие ничего не значит?
— Это по-твоему, — сказал дон Хуан. — Ты о жизни думаешь, но не видишь.
— А если бы видел, то воспринимал бы все иначе?
— Научившись видеть, человек обнаруживает, что он в мире — один, и у него ничего, кроме глупости, нет.
Дон Хуан замолчал и взглянул на меня так, словно хотел узнать, какое впечатление произвели его слова.
— Твои поступки, как и поступки твоих ближних, представляются тебе важными потому, что ты научился думать, будто они важны.
Он произнес слово «научился» с такой интонацией, что мне снова пришлось просить разъяснений.
Дон Хуан оторвался от растений и посмотрел на меня.
— Сначала мы учимся обо всем думать, — сказал он, — а потом приучаемся смотреть на вещи так, как мы о них думаем. Мы думаем о своей значительности — и в результате начинаем ощущать ее. Но если человек научился видеть, ему не надо учиться думать о вещах, он воспринимает их непосредственно. А раз он о них не думает, они утрачивают для него свою важность.
Заметив мой удивленный взгляд, дон Хуан трижды повторил свои слова, чтобы их смысл лучше дошел До меня. Сказанное показалось мне чепухой, но после некоторого размышления представилось изощренным высказыванием об определенном аспекте восприятия. Я попытался подыскать вопрос, который заставил бы Дона Хуана выразиться понятнее, но так ничего и не придумал. Я выдохся и не мог сформулировать свои мысли четко.
Дон Хуан заметил это и потрепал меня по плечу.
— Выбери-ка сор из травы, — сказал он, — нарежь ее и собери вот в эту банку.
Дон Хуан вручил мне большую банку из-под кофе и ушел.
Вернулся он к вечеру. Я давно управился с травой и занимался своими записями. Увидав его, я тут же захотел задать несколько вопросов, но дон Хуан не был расположен к беседе. Он сказал, что очень голоден и должен сначала поесть. Он развел огонь в глинобитной печке и поставил на нее горшок с бульоном из костей. Заглянул в привезенные мной пакеты с продуктами, достал овощи, мелко нарезал и бросил в горшок. Потом улегся на циновку, скинул сандалии и велел мне сесть ближе к печке, чтобы поддерживать огонь.
Смеркалось. Оттуда, где я сидел, была хорошо видна западная часть неба. Края массивной гряды облаков отсвечивали ярко-желтым, середина же была черной.
Я открыл рот, чтобы похвалить красоту облаков, но дон Хуан опередил меня.
— Снаружи — пух, внутри — камень, — сказал он, указывая на них.
Его слова были настолько к месту, что я подпрыгнул.
— Я как раз собирался сказать про облака.
— Значит, я тебя обскакал, — засмеялся дон Хуан с детской непосредственностью.
Я спросил, в настроении ли он отвечать на мои вопросы.
— А что тебя интересует?
— Твои слова об управляемой глупости лишили меня покоя. Я так и не могу понять, что ты имел в виду.
— Неудивительно, — согласился он. — Ты думаешь об этом, и мои слова не соответствуют твоим мыслям.
— Конечно, думаю, — сказал я. — А как еще можно что-либо понять? Что, например, значат твои слова: если человек научился видеть, все для него становится никчемным.
— Я не говорил — никчемным, я сказал — неважным. Все уравнивается, одно оказывается не важнее другого. Я не могу, например, сказать, что мои действия важнее твоих или что одна вещь необходимее другой. Все они равны, а значит, и ничего нет важного.
Я спросил, следует ли понимать его слова так: то, что он называет «видеть», — намного лучше, чем просто «смотреть».
Дон Хуан ответил: наши глаза способны и на то, и на другое, и одно не лучше другого. Но, по его мнению, приучать глаза только смотреть — значит обкрадывать себя.
— Например, чтобы смеяться, надо смотреть, — сказал он, — потому что, только когда мы смотрим, мы способны воспринимать смешные стороны вещей. Когда же видим, все становится равнозначным и потому — не смешным.
— Значит, тот, кто видит, вообще не смеется?
Старик помолчал.
— Быть может, и есть люди знания, которые никогда не смеются, — сказал он, — но я таких не знаю. Те, кого я знаю, могут и видеть, и смотреть, и поэтому способны смеяться.
— А может человек знания плакать?
— Почему бы и нет? Раз наши глаза смотрят, значит, мы можем смеяться, плакать, веселиться, грустить, быть счастливыми. Сам я грустить не люблю, и если встречаю что-то, способное меня опечалить, то просто меняю зрение: не смотрю, а вижу. Но если сталкиваюсь с чем-то смешным, тогда смотрю — и смеюсь.
— В таком случае ты смеешься искренне, и, значит, твой смех — не есть управляемая глупость.
Дон Хуан пристально посмотрел на меня.
— Я разговариваю с тобой, потому что ты смешишь меня, — сказал он. — Ты напоминаешь мне степных крыс. Они имеют манеру засовывать хвост в нору, стараясь спугнуть оттуда других крыс и стянуть их еду, — тут-то и попадаются! Ты же попадаешься, задавая свои вопросы. Берегись! Этим крысам приходится иногда отгрызать себе хвост, чтобы вырваться на свободу.
Сравнение показалось мне забавным, и я рассмеялся. Когда-то дон Хуан показывал мне этих грызунов с пушистыми хвостами, похожих на белок. Зрелище мордастой крысы, лихорадочно отгрызающей себе хвост, было одновременно и мрачным, и смешным.
— Мой смех, как и все, что я делаю, — настоящий, — сказал дон Хуан. — Но он тоже — управляемая глупость, потому что бесполезен. Смех ничего не меняет, тем не менее я смеюсь.
— Дон Хуан, но ведь твой смех не без пользы, тебе от него хорошо.
— Отнюдь. Мне хорошо потому, что я предпочитаю смотреть на вещи, которые доставляют мне удовольствие. Тогда я вижу их смешные стороны и смеюсь. Я не раз говорил тебе: чтобы достичь совершенства, человек должен выбрать путь, у которого есть сердце, и тогда он сможет часто смеяться.
Я понял это так, что плач хуже смеха; во всяком случае, он ослабляет нас. Дон Хуан ответил, что между тем и другим нет существенной разницы: плач и смех — равны. Но он предпочитает смех: посмеявшись, он чувствует себя лучше.
Я возразил: если существует предпочтение, равенства быть не может. Если он предпочитает смеяться, а не плакать, значит, смех важнее, чем слезы.
Но дон Хуан упрямо твердил, что его предпочтение вовсе не означает различия между тем и другим. Тогда я сказал, что, придерживаясь этой логики, можно задаться вопросом: если все безразлично, то почему бы не выбрать смерть?
— Многие люди знания так и поступают, — сказал дон Хуан. — Просто исчезают в один прекрасный момент. Окружающие думают, что их кто-то подкараулил и убил. Ничего подобного. Они сами выбрали смерть, — им все равно. Но я предпочитаю жить и смеяться, и не потому, что это имеет значение, а потому, что такова моя природа. Я сказал «предпочитаю», потому что вижу, но это не значит, что я выбрал; моя воля заставляет меня жить независимо от того, что я вижу. Ты не поймешь меня, ты привык мыслить так, как смотришь, и идти на поводу у мысли.
Это утверждение меня заинтересовало, и я попросил дона Хуана объяснить его смысл.
Он повторил фразу несколько раз, но по-разному, а потом пояснил, что, говоря о мышлении, он имел в виду застывшие представления обо всем на свете. «Видение» избавляет от этого, и, пока я сам не научусь «видеть», я не пойму его слов вполне.
— Но если все не важно, почему важно учиться видению? — спросил я.
— Я уже говорил тебе, — ответил он, — что предназначение человека — учиться, будь это на пользу ему или во вред. Я научился видеть и говорю: нет ничего важного. Теперь твой черед. Возможно, когда-нибудь ты увидишь, и тогда сам узнаешь, так это или не так. Для меня ничто не важно, а для тебя, быть может, все будет важно. Пора бы усвоить: человек знания живет действием, а не размышлением о действии и не размышлением о том, что он будет думать, когда совершит действие. Человек знания избирает путь, у которого есть сердце, и идет по нему: он смотрит, радуется, смеется, он видит и познает. Он знает, что жизнь коротка, и знает, что, как и всякий другой, этот путь никуда не ведет. Он знает — ибо видит: нет ничего, что было бы важнее прочего. Иными словами, у человека знания нет ни чести, ни достоинства, ни семьи, ни родины, — есть только жизнь. И единственное, что связывает его с окружающими, — это управляемая глупость. Он тоже к чему-то стремится, пыхтит, потеет от натуги и с виду ничем не отличается от других. Кроме одного: глупость его жизни ему подвластна. Ничто для него не важно. Человек знания выбирает для себя дело и делает его так, будто действительно им увлечен. Глупость, которой он управляет, определяет то, как он говорит и как действует; но он-то знает, как все обстоит на самом деле, и потому, завершив свои дела, удаляется с миром, и ему все равно, хороши они или плохи, вышло из них что-нибудь или нет. С другой стороны, человек знания может предпочесть полное спокойствие и вообще ничего не делать, вести себя так, будто бездействие для него важнее всего. И опять же он будет прав, потому что и это — управляемая глупость.
Я попытался узнать у дона Хуана, что же побуждает человека знания действовать так, а не иначе, хотя он понимает равнозначность всех путей.
Дон Хуан усмехнулся и сказал:
— Ты обдумываешь свои поступки и приучил себя верить, что они по-своему важны. На самом деле ничего важного нет. Ничего! Но в таком случае, спросил ты меня, как жить? Проще умереть. Так ты сказал и веришь в это. Потому что думаешь о жизни так же, как думаешь о том, что такое видение. Тебе хотелось бы, чтобы я рассказывал о нем подробнее; тогда ты поразмышлял бы о нем, как и обо всем прочем. Но о видении размышлять бесполезно; я не могу объяснить, что такое видение. Теперь ты захотел узнать, что такое управляемая глупость. Я не могу объяснить это. Могу только сказать, что управляемая глупость сродни видению. Она не поддается осмыслению.
Он зевнул, улегся на спину и потянулся до хруста в суставах.
— Тебя слишком долго не было, — сказал он. — И ты слишком много думаешь.
Вскоре дон Хуан поднялся и направился в кусты, росшие близ дома. Я подкинул в печь хвороста, что-бы похлебка кипела, хотел зажечь керосиновую лампу, но решил посидеть в сумерках. На земле переливались рыжие блики, в их свете можно было писать. Я положил блокнот на землю и лег рядом. Мне было не по себе. Из разговора с доном Хуаном выяснилось, что я ему безразличен. Эта мысль причиняла мне боль. Сколько лет я всецело доверял ему! Не будь этого, меня бы давно парализовал страх перед его учением. Да, я всегда побаивался дона Хуана, но преодолевал страх, потому что доверял ему. Теперь он лишил меня опоры, и я почувствовал себя беспомощным. Мною овладело беспокойство. Я так разволновался, что стал расхаживать взад-вперед. Дона Хуана долго не было; я нетерпеливо ждал его.
Наконец он вернулся, сел на прежнее место у огня, и я излил ему свои страхи. Я боюсь, признался я, что уже не смогу измениться. Я сказал, что не только питал к нему доверие, но и научился уважать его образ жизни, признал его более разумным, чем свой собственный, но теперь его слова повергли меня в состояние полной растерянности. Чтобы он лучше понял меня, я поведал ему об одном знакомом старике. Когда-то тот был преуспевающим юристом, поддерживал консерваторов и жил с уверенностью, что борется за правду. В начале 30-х годов, с установлением «нового курса», он с головой ринулся в политическую неразбериху того времени, полагая, что перемены вредны стране. Верный своему образу жизни и убежденный в своей правоте, он поклялся бороться с тем, что считал политическим злом. Но поток событий оказался слишком мощным. Он боролся со злом десять лет: и в сфере политики, и в своей личной жизни, — но безуспешно. Вторая мировая война нанесла ему полное поражение. Потерпев политический и идеологический крах, этот человек двадцать пять лет провел в добровольном изгнании. Когда мы встретились, ему было восемьдесят четыре. Он вернулся в родной город, где доживал свои последние дни в доме для престарелых. Казалось невероятным, что он так много прожил, если учесть, что его жизнь была растрачена на горечь и жалость к самому себе. Почему-то ему понравилось мое общество, и мы часто и подолгу беседовали.
Наш последний разговор он закончил словами: «У меня было достаточно времени, чтобы оглянуться и оценить свою жизнь. События прежних лет превратились в историю, к тому же неинтересную. Я впустую потратил годы в погоне за нелепыми фантазиями. Они того не стоили, теперь я прекрасно это понимаю. Но сорок потерянных лет не вернешь».
Я объяснил дону Хуану, что мое смятение вызвано его словами об управляемой глупости.
— Если ничто не важно, — сказал я, — то человек знания волей-неволей приходит к той же пустоте, что и мой знакомый.
— Ничего подобного, — резко возразил дон Хуан. — Твой знакомый одинок потому, что состарился, так и не научившись видеть. Единственное, что он сделал в жизни, — это дожил до старости. Сейчас, вероятно, он жалеет себя еще больше, чем раньше.
Он решил, что потратил впустую сорок лет, ибо искал победу, а нашел поражение. Но он никогда не поймет, что победа и поражение — одно и то же.
Тебя испугали мои слова: «ты такой же, как прочие». Так чем же ты лучше ребенка? Предназначение человека — учиться, а к знанию идут так же, как идут на войну. Об этом я говорил сотни раз. И к знанию, и на войну человек идет со страхом, но и с полной уверенностью в себе. Доверяй себе, а не мне! Тебя испугала пустота жизни твоего знакомого. В жизни человека знания нет пустоты. Поверь мне, все в ней полно до краев.
Дон Хуан встал и протянул руки, словно ощупывая что-то невидимое.
— Все полно до краев, — повторил он, — и все равнозначно, Я не таков, как твой знакомый, который сумел лишь состариться. Когда я говорю: ничто не важно, то имею в виду совсем не то, что он. Для него борьба оказалась бессмысленной, потому что он проиграл. Для меня же не существует ни победы, ни поражения, ни пустоты — все полно до краев, все равнозначно, и потому моя борьба не напрасна.
Чтобы стать человеком знания, надо быть воином, а не хнычущим ребенком. Нужно напрячь все силы и не сдаваться, идти без жалоб, не отступая, пока не научишься видеть. И тогда поймешь: ничто не важно.
Дон Хуан помешал варево деревянной ложкой. Похлебка была готова. Он снял горшок с огня и поставил на глиняную тумбу, встроенную в стену, которая служила ему и столом, и полкой; подтолкнул к ней пару ящиков, пригласил меня сесть и налил миску похлебки. Он смотрел на меня с такой радушной улыбкой, будто мое присутствие доставляет ему огромное удовольствие. Придвинул миску. В этом жесте было столько доброты и тепла, что казалось — это призыв к прежнему доверию. Стараясь заглушить в себе ответный порыв, я стал искать ложку, но не нашел. Похлебка была слишком горячей, чтобы хлебать через край. Пока она остывала, я спросил: не приводит ли управляемая глупость к тому, что человек знания не может никого любить.
Дон Хуан перестал есть и засмеялся.
— Тебя чересчур волнует твоя любовь к людям и их любовь к тебе, — сказал он. — Человек знания любит — что-то или кого-то, — если хочет. Но благодаря управляемой глупости не позволяет этому чувству овладеть им полностью. У тебя же все наоборот. Любить и быть любимым — это еще не все, на что способен человек.
Он поглядел на меня, слегка наклонив голову.
— Поразмысли над этим.
— Дон Хуан, я хочу спросить вот о чем. Ты говорил: чтобы смеяться, надо смотреть. Но мне кажется, мы смеемся потому, что думаем. Ведь слепые тоже смеются.
— Нет, — возразил дон Хуан. — Слепые не смеются, а лишь вздрагивают от смеха. Слепые не видят смешных сторон жизни, им приходится их воображать. Хохотать они не могут.
На этом разговор кончился. Мне было спокойно и хорошо. Мы ели молча.
Вдруг дон Хуан громко рассмеялся — он заметил, что я вылавливаю овощи из похлебки прутиком.
4 октября 1968 года
Выбрав подходящий момент, я спросил дона Xyaна, не согласится ли он еще поговорить о «видении». Он задумался, а потом, улыбнувшись, сказал, что я опять на своем коне — рассуждаю вместо того, чтобы действовать.
— Если хочешь видеть, возьми в проводники дымок, — сказал он, как отрезал. — И довольно об этом.
Я стал помогать ему очищать от сора сухие корешки и траву. Долгое время мы работали молча. Когда мне приходится долго молчать, я чувствую себя не в своей тарелке, особенно рядом с доном Хуаном. Я не выдержал и обрушился на него с вопросом.
— Как человек знания использует свою управляемую глупость, когда умирает кто-нибудь, кого он любит?
Старик, застигнутый вопросом врасплох, удивленно посмотрел на меня.
— Взять, например, твоего внука Лусио, — сказал я. — Если бы он умер, ты бы и тогда прибег к управляемой глупости?
— Возьмем лучше моего сына Эулалио, — ответил дон Хуан. — Его завалило камнями, когда он работал на строительстве шоссе. То, что я сделал в момент его смерти, было управляемой глупостью. Когда я добрался до места, где взрывали скалы, он уже умирал, но в его теле оставалась сила, и он пытался двигаться. Я подошел и попросил дорожных рабочих оставить его на месте. Они послушались и обступили изувеченное тело. Я тоже стоял рядом, но не смотрел, а переключил зрение, чтобы видеть. Жизнь покидала его, рассеивалась, как туман или иней. Так я поступил в минуту смерти сына. Это было все, что я мог сделать, и это было управляемой глупостью. Если бы я смотрел на него, то видел бы подергивающееся тело, и все во мне оборвалось бы от слез: мне никогда больше не увидеть, как он идет по земле. Но вместо этого я видел его смерть, и потому не испытывал ни грусти, ни других чувств. Его смерть была равнозначна чему угодно.
Дон Хуан умолк и, казалось, поддался грусти, но тут же, улыбнувшись, потрепал меня по голове.
— Так что можешь считать: когда умирает любимый человек, управляемая глупость сводится к переключению зрения.
Я подумал о тех, кто мне дорог, и волна жалости к самому себе захлестнула меня.
— Ты счастливый, дон Хуан, — сказал я, — можешь переключать зрение. Мне дано только смотреть.
Он рассмеялся.
— Счастливый, как ломовая лошадь. Нелегкий это труд!
Тут рассмеялся и я. А потом вновь стал донимать дона Хуана вопросами — возможно, лишь затем, чтобы разогнать свою печаль.
— Если я правильно тебя понял, — начал я, — единственные действия человека знания, которые не являются управляемой глупостью, — это те, которые он совершает с помощью своего гуахо или Мескалито. Правильно?
— Правильно, — усмехнулся дон Хуан. — Гуахо и Мескалито — не чета нам, людям. Управляемая глупость приложима только ко мне самому и к тому, что я делаю, находясь среди людей.
— Но вполне логично допустить, что человек знания может воспользоваться управляемой глупостью по отношению к своему гуахо или Мескалито.
Дон Хуан уставился на меня.
— Вот куда завели тебя мысли, — сказал он. — Человек знания не думает, ему такое и в голову не придет. Начнем с меня. Я сказал, что управляемая глупость применима к тому, что я делаю, находясь среди людей. Это потому, что я могу видеть людей. А вот про своего гуахо я этого сказать не могу, он для меня загадка. Поэтому управляемая глупость здесь не работает. В отношениях с гуахо или Мескалито я — всего лишь человек, который научился видеть, который поражается тому, что ему открывается, и который никогда не поймет всего, что его окружает.
Теперь что касается тебя. Станешь ты человеком знания или нет — мне все равно. А для Мескалито это не так, иначе он не стал бы проявлять к тебе интерес. Я могу заметить его интерес и действовать соответственно, но понять его намерения не в силах.
6
5 октября 1968 года, когда мы, собравшись ехать в центральную часть Мексики, садились в машину, дон Хуан задержал меня.
— Я уже говорил, — сказал он серьезно, — что нельзя открывать людям ни имя колдуна, ни место, где он пребывает. Когда дело касается меня, ты, кажется, это выполняешь. Хочу попросить о том же и для моего друга, к которому мы едем. Можешь звать его Хенаро.
Я напомнил дону Хуану, что никогда не подводил его.
— Знаю, — согласился он. — Но иногда ты бываешь слишком беспечным.
Я стал возражать. Дон Хуан сказал, что хотел напомнить лишь одно: кто легкомысленно относится к колдовству, тот играет со смертью.
— Но довольно об этом, — сказал дон Хуан. — Как только сядем в машину, я и словом не обмолвлюсь о Хенаро. А тебе советую привести в порядок свои мысли. При встрече с ним голова должна быть ясной и свободной от сомнений.
— От каких сомнений?
— От любых. Когда встретишься с ним, будь прозрачным, как стекло. Помни: он тебя видит.
Эти странные предостережения меня напугали. Я сказал, что, может быть, мне вообще лучше не встречаться с его другом, а лишь подвезти дона Хуана и уехать.
— Ну зачем же так, это только предостережение, — ответил дон Хуан. — Однажды ты уже встречался с колдуном, и он чуть не убил тебя. Я говорю о Висенте. Так что берегись и на этот раз!
Добравшись до Центральной Мексики, мы потратили еще два дня, пешком пробираясь от места, где оставили машину, до жилища дона Хенаро — небольшой хижины на склоне горы. Дон Хенаро, словно поджидая нас, стоял в дверях. Я сразу узнал его, потому что видел его раньше, хотя и мельком, когда привозил дону Хуану свою книгу. Тогда мне показалось, что он одних лет с доном Хуаном; сейчас понял, что он моложе, лет шестидесяти с небольшим. Он был очень смуглый и жилистый, стройнее, чем дон Хуан, и ниже ростом. Густые, тронутые сединой волосы закрывали уши и лоб, лицо было круглое, с грубоватыми чертами, большой нос делал его похожим на хищную птицу.
Сперва дон Хенаро заговорил с доном Хуаном. Тот утвердительно кивал головой. Разговор был коротий и не на испанском, так что я ничего не понял. Затем повернулся ко мне.
— Прошу пожаловать в мою скромную хижину! — произнес он по-испански.
Эти слова мне приходилось слышать в разных уголках Мексики. Но, произнеся их, дон Хенаро вдруг без всякой причины засмеялся, и я понял: это управляемая глупость. Его, конечно же, ничуть не волновало, что его дом — скромная хижина. Дон Хенаро сразу мне понравился.
Первые два дня мы ходили в горы собирать травы. Отправлялись на рассвете втроем. Дон Хуан и дон Хенаро поднимались, вероятно, в какое-то заветное место, а меня оставляли в лесу. Там было хорошо; я не замечал, как бежит время, не тяготился одиночеством. Я целиком отдался поиску трав, которые указал мне дон Хуан.
Домой возвращались к вечеру. Я так уставал, что тут же засыпал.
Третий день был не похож на первые два. На этот раз мы остались втроем, и дон Хуан попросил дона Хенаро показать мне, как разыскивать некоторые растения. Вернулись вскоре после полудня. Старики уселись возле хижины и несколько часов провели в полном молчании, словно в трансе. А между тем они не спали: я прошелся раза два мимо и заметил, что дон Хуан смотрит на меня и дон Хенаро — тоже.
— Собирая растения, надо с ними разговаривать, — как бы ни с того ни с сего произнес дон Хуан. Он повторил сказанное трижды, желая, видимо, подчеркнуть важность своих слов.
— С растениями нужно разговаривать, чтобы их увидеть, — продолжал он. — Чтобы познакомиться с каждым. Тогда они расскажут все, что ты хочешь узнать.
День клонился к вечеру. Дон Хуан сидел на большом плоском камне, глядя на запад; дон Хенаро — рядом на соломенной циновке, лицом к северу. В первый же день дон Хуан объяснил, что это их «позы» и что я должен сидеть напротив них, лицом на юго-восток, а на них глядеть лишь мельком.
— Верно я говорю? — обратился дон Хуан к дону Хенаро. Тот утвердительно кивнул.
Я сознался, что не придерживался его наставлений, — разговаривать с растениями казалось мне нелепым.
— Ты никак не хочешь понять, что колдовство — не шутка, — строго сказал дон Хуан. — Когда колдун видит, он обретает силу.
Дон Хенаро глядел на меня в упор. Я делал записи, и, видимо, это его озадачило. Он улыбнулся, покачал головой, потом что-то сказал дону Хуану. Тот пожал плечами. Дон Хуан привык к тому, что я постоянно пишу, и вел разговор, не обращая на это внимания. Но дон Хенаро не мог унять смеха, и, чтобы не нарушать хода беседы, я отложил блокнот.
Дон Хуан повторил, что колдовство — не шутка, ибо на каждом шагу колдун играет со смертью. Потом обратился к дону Хенаро и рассказал, как в одну из ночных поездок я увидел огни настигающей нас смерти. Эта история почему-то развеселила дона Хенаро — он буквально катался по земле от смеха.
Дон Хуан извинился передо мной и сказал, что его друг подвержен приступам смеха. Я обернулся, думая, что дон Хенаро по-прежнему катается по земле, — и увидел его в необычной позе. Он стоял на голове без помощи рук и скрестив ноги, будто сидит. Зрелище было столь неожиданным и нелепым, что я подпрыгнул. Но прежде, чем я осознал, что дон Хенаро проделал нечто фантастическое с точки зрения механики человеческого тела, он уже сидел в прежней позе. Дон Хуан, видимо, знал, как это делается, и приветствовал трюк своего друга громким хохотом.
Заметив, что я ошеломлен, дон Хенаро дважды хлопнул в ладони и опрокинулся на спину. Он, несомненно, хотел привлечь мое внимание: несколько раз заваливался на спину, сохраняя позу сидящего человека и упираясь головой в землю. Потом с силой вытолкнул тело в вертикальное положение и «просидел» так какое-то время на собственной голове.
Наконец старики угомонились, и дон Хуан продолжил разговор. Я сел поудобнее. На этот раз он не улыбался, как бывало, когда я внимательно слушал его слова. Дон Хенаро снова уставился на меня, будто ждал, когда я примусь писать, но я не стал этого делать. Дон Хуан тем временем отчитывал меня за то, что, собирая растения, я с ними не разговариваю, как он велел. Ты погубил растения, сказал он, и они могли бы тебя погубить. Наверняка они рано или поздно навлекут на тебя болезнь. Ты решишь, что у тебя обычный грипп, и ни за что не догадаешься об его истинной причине.
Оба опять развеселились. Затем дон Хуан сказал серьезно:
— Если не будешь думать о смерти, то в жизни твоей не будет ни смысла, ни порядка. — Лицо у него было суровое.
— Что еще есть у человека, кроме жизни и смерти? — спросил он.
Эта мысль показалась мне интересной, и я открыл блокнот. Дон Хенаро с улыбкой уставился на меня. Потом откинул голову назад и раздул ноздри. Мышцами носа он владел мастерски и раздул ноздри вдвое против обычного.
В этой клоунаде самым комичным были не действия дона Хенаро, а его собственная реакция на них. Он опрокинулся на землю, захохотал и вновь оказался все в той же позе — вверх тормашками.
Дон Хуан смеялся до слез, я же лишь нервно похихикивал.
— Хенаро терпеть не может писанины, — объяснил дон Хуан.
Я убрал было блокнот, но дон Хенаро сказал, что ничего против не имеет. Я снова принялся писать. Дон Хенаро повторил свой трюк, и оба старика опять покатились со смеху.
Все еще смеясь, дон Хуан сказал, что Хенаро просто меня копирует, — когда я пишу, у меня раздуваются ноздри. А еще дон Хенаро считает, что изучать колдовство с помощью карандаша и бумаги — такая же чушь, как сидеть на голове. Вот он и принимает эту нелепую позу.
— Ведь и вправду забавно, — сказал дон Хуан. — Только Хенаро способен сидеть на голове, и только ты способен учиться колдовству по бумаге.
Оба покатились со смеху, и дон Хенаро повторил свои невероятные кувырки.
Он мне нравился; его движения были изящны и точны.
— Прошу меня извинить, дон Хенаро, — сказал я, раскрывая блокнот.
— Не за что, — хихикнул он.
Но писать я уже не мог. Старики стали толковать о том, как растения могут навлечь смерть и как колдуны используют их с этой целью. Разговаривая, они не сводили с меня глаз, словно опасаясь, не начну ли я писать снова.
— Карлос — как жеребец, который не любит седла, — сказал дон Хуан. — Его нужно объезжать медленно. Ты так его напугал, что теперь он за карандаш не возьмется.
Дон Хенаро раздул ноздри, сдвинул брови и взмолился:
— Пиши, Карлито, пиши! Пиши, пока пальцы не отвалятся.
Дон Хуан встал и, подняв руки, потянулся. Несмотря на преклонный возраст, тело его было сильным и гибким. Он направился в кусты, растущие возле хижины, а я остался наедине с доном Хенаро. Тот пристально посмотрел на меня, я в замешательстве отвел взгляд.
— Неужели не поглядишь на меня? — весело спросил дон Хенаро.
Он раздул ноздри, да так, что они задрожали. Потом встал и повторил движения дона Хуана — так же выгнул спину и вытянул руки, но при этом его тело искривилось в комической позе. Он мастерски совместил изысканную пантомиму с отчаянным шутовством. А в целом вышла великолепная карикатура на дона Хуана.
Дон Хуан как раз вернулся, сразу же понял, что к чему, и, посмеиваясь, сел на свое место.
— А куда у нас сегодня дует ветер? — ни с того ни с сего спросил дон Хенаро.
Дон Хуан кивком головы указал на запад.
— Схожу-ка я туда, куда ветер дует, — молвил дон Хенаро.
Он вдруг обернулся и ткнул пальцем в мою сторону.
— Если услышишь грохот, не пугайся. Когда дон Хенаро садится ср..., горы ходуном ходят.
Дон Хенаро скрылся в кустах, и тут же раздался оглушительный грохот. Я не знал, что и подумать, и вопросительно посмотрел на дона Хуана. Тот заходился от смеха.
17 октября 1968 года
Не помню, что побудило дона Хенаро рассказать мне об устройстве, как он выразился, «того мира». Он сказал, что великий колдун — это орел, вернее, он может принять облик орла, а злой колдун — «теколоте», сова. Злой колдун — дитя ночи; самые подходящие воплощения для него — пума и другие дикие кошки, а также ночные птицы, особенно сова. Он добавил, что «брухос лирикос», или колдуны-дилетанты, предпочитают других животных и птиц, в частности ворону. Дон Хуан, до сих пор не проронивший ни слова, засмеялся.
Дон Хенаро обернулся к нему:
— Истинную правду говорю, Хуан, ты и сам знаешь.
Дон Хенаро рассказал, что великий колдун может взять с собой в путешествие ученика и провести его через десять кругов того мира. Учитель-орел начинает с нижнего круга и проходит круги один за другим, пока не достигнет вершины. Злые колдуны и дилетанты способны пройти самое большее три круга.
Это продвижение дон Хенаро описал такими словами:
— Начинаешь с самого низа, потом учитель берет тебя с собой в полет, и — трах! — проходишь первый круг. Немного погодя — трах! — второй, и снова — трах! — третий... Так десять раз, и оказываешься в последнем круге того мира.
Дон Хуан лукаво глянул на меня.
— Говорить Хенаро не мастер, — пояснил он, — но, если хочешь, он покажет тебе искусство равновесия.
Состроив важную мину, дон Хенаро утвердительно кивнул. Старики поднялись.
— Тогда в путь. — сказал дон Хенаро. — Надо только заехать за Нестором и Паблито — по четвергам они в это время свободны.
Оба забрались в машину, дон Хуан сел спереди. Ни о чем не спрашивая, я завел мотор. Дон Хуан указывал путь. Мы приехали к дому Нестора; дон Хенаро вылез и вскоре вернулся с двумя парнями, Нестором и Паблито; это были его ученики. Все сели в машину, и дон Хуан велел ехать на запад, в горы.
Мы оставили машину на обочине проселочной дороги и пошли вдоль речки метров пяти-шести шириной к водопаду, который мы заметили еще из машины. Время было к вечеру. Над нами крышей нависла мрачная синяя туча — гигантский полукруг с четко очерченными краями. На западе, над Центральными Кордильерами, шел дождь. К востоку простиралось ущелье, над которым плыли редкие облака и сияло солнце. У подножия водопада мы остановились. Вода падала с высоты пятидесяти метров, и грохот стоял оглушительный.
Дон Хенаро подвязал пояс, на котором висело штук семь предметов, похожих на небольшие тыквы. Скинул шляпу, оставив ее болтаться на шнурке, обвязанном вокруг шеи, а на голову намотал повязку, которую достал из сумки. Повязка была из разноцветной шерсти; особенно бросался в глаза желтый цвет. В повязку дон Хенаро воткнул три пера — кажется, орлиных. В их расположении не было симметрии: одно позади правого уха, второе — надо лбом, третье — над левым виском. Снял сандалии, подвесил их к поясу, а пончо затянул ремнем, сплетенным из кожаных полосок. Затем направился к водопаду.
Дон Хуан повернул большой камень в устойчивое положение и сел на него. Парни уселись на камнях слева. Мне он указал место справа, велел притащить камень и сесть рядом.
— Нужно образовать линию, — сказал он, указав, что они все трое сидят в ряд.
Тем временем дон Хенаро достиг подножия водопада и стал взбираться по тропинке справа, цепляясь за кусты. Оттуда, где мы сидели, тропинка казалась очень крутой. В какой-то момент он оступился и едва не съехал вниз, словно земля была скользкой. Вскоре это повторилось, и у меня мелькнула мысль, не староват ли дон Хенаро для такого восхождения. Он еще несколько раз оступался и скользил, прежде чем добрался до конца тропинки.
Теперь он карабкался по камням, и мне стало не по себе. Я не мог понять, что он задумал.
— Что он делает? — шепотом спросил я дона Хуана.
Тот даже не взглянул на меня.
— Поднимается наверх, разве не видишь? — сказал он.
Он пристально наблюдал за доном Хенаро. Взгляд его застыл, веки были полуоткрыты. Он сидел выпрямив спину и положив руки на колени.
Я чуть подался вперед, чтобы взглянуть на парней, но дон Хуан жестом велел вернуться в прежнее положение. Я повиновался. Нестора и Паблито я увидел только мельком; они сидели так же сосредоточенно, как дон Хуан.
Дон Хуан указал рукой в сторону водопада. Я снова стал смотреть. Дон Хенаро взбирался по каменистому обрыву. Двигаясь очень медленно, по самому краю, он пытался обойти массивный валун, обхватив его руками. Так он продвигался вправо — и вдруг потерял равновесие. Я подавил невольный крик. На секунду тело дона Хенаро повисло в воздухе. Я не сомневался, что он упадет, но он не упал: уцепившись за что-то правой рукой, он в мгновение ока вновь очутился на краю обрыва. Однако, прежде чем двинуться дальше, он обернулся и глянул на нас. Взгляд был мимолетным, но движение головы настолько карикатурным, что я удивился. И тут же вспомнил: всякий раз, поскользнувшись, он так же поворачивался и глядел на нас, словно извиняясь за свою неловкость.
Он еще чуть-чуть приблизился к вершине, опять потерял равновесие и повис в опасной позе, уцепившись за выступ скалы. На этот раз он держался одной левой рукой. Обретя устойчивость, снова обернулся и посмотрел на нас. Наконец он достиг вершины. Ширина водопада на гребне достигала метров восьми.
Минуту дон Хенаро стоял неподвижно. Мне не терпелось спросить у дона Хуана, что он собирается там делать, но тот весь ушел в наблюдение, и я не посмел его отвлекать.
Вдруг дон Хенаро прыгнул на гребень водопада. Это было настолько неожиданно, что у меня засосало под ложечкой. Прыжок был умопомрачительный. На мгновение мне показалось, что я увидел ряд застывших фигур, располагавшихся одна за другой по плавной дуге.
Когда мое оцепенение прошло, я увидел, что дон Хенаро стоит на едва заметном отсюда камне.
Он простоял так долго; вероятно, боролся с силой потока. Дважды повисал над пропастью, и я никак не мог понять, за что он там держится. Восстановив равновесие, он присел на корточки. Затем — прыгнул, словно тигр. Я едва разглядел камень, на который он приземлился, — крохотный горбик в гребне потока.
Дон Хенаро стоял неподвижно минут десять. Его неподвижность завораживала, я начал дрожать. Хотелось встать и подвигаться. Дон Хуан заметил мою нервозность и велел успокоиться. Меня охватил ужас. Я чувствовал: если дон Хенаро останется в таком положении дальше, мне с собой не совладать.
Внезапно дон Хенаро снова прыгнул, теперь уже на другой берег, и, словно кошка, приземлился на руки и ноги. Мгновение он оставался в этой позе, но тут же выпрямился, оглянулся на водопад, а потом на нас. Он замер, прижав руки к бокам, словно держался за невидимые поручни. Его поза была поистине великолепна, тело казалось легким и хрупким. У меня мелькнула мысль: дон Хенаро с его повязкой и перьями, с темным пончо и босыми ногами, — самый прекрасный человек, которого я когда-либо видел.
Вдруг он вскинул руки, поднял голову и, колесом перевернувшись через левый бок, исчез за валуном, на котором стоял.
Неожиданно пошел дождь. Дон Хуан, а за ним и парни встали. Их торопливые движения сбили меня с толку. Изумительная ловкость дона Хенаро привела меня в восторг. Хотелось аплодировать.
Я уставился на левый берег, ожидая, когда дон Хенаро начнет спускаться. Но он не появлялся. Тогда я спросил, где же он. Дон Хуан не ответил.
— Надо скорее убираться отсюда, — сказал он. — Настоящий ливень. Завезем домой Нестора и Паблито и двинемся в обратный путь.
— Но я не попрощался с доном Хенаро!
— Зато он с тобой попрощался, — строго сказал дон Хуан.
Он пристально посмотрел на меня, потом его взгляд смягчился, он улыбнулся.
— И пожелал тебе всего наилучшего, — сказал он. — Ему было приятно провести время в твоем обществе.
— Но разве мы не будем ждать его?
— Нет! — ответил дон Хуан резко. — Где бы он ни был, пусть остается там. Быть может, сейчас он орел, летящий в иной мир, а может, умер там, наверху. Теперь это не важно.
23 октября 1968 года
Дон Хуан сообщил как бы ненароком, что снова собирается в Центральную Мексику.
— Хочешь повидать дона Хенаро? — спросил я.
— Пожалуй, — ответил он, не глядя на меня.
— Дон Хуан, с ним все в порядке? Ничего не случилось там, на водопаде?
— С ним ничего не случается, он крепкий орешек.
Мы поговорили о поездке, а потом я признался, что в восторге от дона Хенаро с его шутками. Дон Хуан улыбнулся и сказал, что дон Хенаро — истинный ребенок. Я долго молчал, подыскивая повод расспросить дона Хуана, как понимать урок дона Хенаро. Старик лукаво глянул на меня:
— Тебе ведь страсть как хочется узнать об уроке Хенаро. Верно?
Я смутился и засмеялся. Пытаясь понять, что произошло на водопаде, я снова и снова перебирал в памяти мельчайшие детали, которые удалось запомнить, и пришел к выводу: я наблюдал демонстрацию того, с каким совершенством можно управлять своим телом. Дон Хенаро — непревзойденный мастер равновесия; каждое его движение — наверняка часть какого-то ритуала и имеет сложное символическое значение.
— Честно говоря, — признался я, — я просто сгораю от любопытства.
— Вот что я скажу, — промолвил дон Хуан. — Для тебя это оказалось пустой тратой времени. Урок предназначался тем, кто способен видеть. Паблито и Нестор уловили суть урока, хотя видят они не блестяще. Ты же только смотрел. Я предупреждал Хенаро о твоей непробиваемости, но надеялся, что его урок пробьет в тебе брешь. Ничего подобного! Впрочем, видение — штука трудная. Мне не хотелось, чтобы после этого ты говорил с Хенаро, потому мы и уехали. Жаль, конечно. Но остаться было бы еще хуже. Показывая тебе удивительные вещи, Хенаро рисковал собой. Очень досадно, что ты не можешь видеть.
— Дон Хуан, расскажи, в чем суть урока; может статься, что я видел.
Он скорчился от смеха.
— Самое замечательное в тебе, Карлос, — твои вопросы, — сказал он.
Дон Хуан не был настроен на разговор. Как обычно, мы сидели перед его домом. Неожиданно он встал и вошел в дом. Я увязался следом. Я уговорил его выслушать, как я воспринял события на водопаде, и стал пересказывать все, что запомнил. Пока я говорил, с лица дона Хуана не сходила улыбка. Наконец я кончил, и он покачал головой.
— Видение — штука трудная, — повторил он.
Я попросил объяснить эти слова.
— Видение — не тема для разговора, — отрезал дон Хуан.
Ему, очевидно, не хотелось больше говорить со мной. Я отстал и отправился выполнять какое-то его поручение.
Когда я вернулся, уже стемнело. Мы перекусили и вышли на веранду. Едва мы сели, дон Хуан заговорил об уроке. Он застал меня врасплох. Я всегда ношу с собой блокнот, но из-за темноты писать было невозможно, а идти в дом за керосиновой лампой и нарушать ход его рассказа не хотелось.
Дон Хуан сказал, что дон Хенаро — мастер равновесия и может выполнять невероятные движения. Сидеть на голове — один из его трюков; так он пытался показать мне, что нельзя одновременно писать и видеть. По мнению дона Хенаро, писать о видении — такое же бесполезное и рискованное занятие, как сидеть на голове.
Дон Хуан пристально посмотрел на меня в полумраке и интригующим тоном сказал, что, когда дон Хенаро проделывал свой трюк, я находился на грани видения. Он это заметил и повторил трюк несколько раз — но без толку, ибо я уже потерял нить.
Затем, продолжал дон Хуан, дон Хенаро, движимый симпатией ко мне, попытался — далеко не безопасным для себя образом — вернуть меня на грань видения. После долгих раздумий он решил продемонстрировать свое искусство равновесия — переход через водопад. Он хотел показать: водопад подобен той грани, на которой я нахожусь. Он был уверен, что я смогу ее переступить.
Далее дон Хуан объяснил, что делал дон Хенаро. Как он уже не раз говорил, люди представляются тому, кто видит, существами, состоящими из нитей света. Нити находятся в постоянном движении и образуют как бы светящееся яйцо. По словам дона Хуана, самое удивительное в этих яйцеподобных существах — длинные световые волокна, выходящие из живота; они играют в жизни человека важнейшую роль. Этим-то волокнам и обязан своим искусством дон Хенаро; его урок не имел ничего общего с акробатическими прыжками — он достигал равновесия с помощью волокон-щупалец.
Дон Хуан прервал свой рассказ так же внезапно, как начал, и заговорил о чем-то другом.
24 октября 1968 года
Я опять подступился к дону Хуану с расспросами. Я заявил, что интуитивно чувствую: никто больше не даст мне урока равновесия. Поэтому он должен объяснить все его важные моменты, до смысла которых мне не додуматься. Дон Хуан ответил: я прав в том, что другого такого урока дон Хенаро мне не даст.
— О чем ты хочешь знать? — спросил он.
— Расскажи о волокнах-щупальцах.
— Эти щупальца выходят из человеческого тела и известны любому колдуну, который видит. Колдуны ведут себя по отношению к людям сообразно тому, какие у тех щупальца. У слабых людей они короткие и почти невидимые, у сильных — яркие и длинные. У Хенаро, к примеру, они такие яркие, что кажутся сплошным сиянием. По волокнам можно судить, здоров человек или болен, злой он или добрый, способен ли обмануть. По ним можно сказать, видит ли человек. Вот тут-то и зарыта собака. Когда Хенаро увидел тебя, он решил, как в свое время Висенте, что ты видишь. Когда я вижу тебя, получается то же самое, хотя я прекрасно знаю, что ты не можешь видеть. Странное дело! Хенаро не поверил, когда я ему это рассказал. Вероятно, захотел увидеть все сам и потому взял тебя на водопад.
— Дон Хуан, как ты думаешь, почему я произвожу такое впечатление?
Дон Хуан не ответил и надолго умолк. Но я не стал спрашивать ни о чем другом. Наконец он сказал, что знает причину, но не знает, как мне ее объяснить.
— Тебе кажется, что все на свете можно понять, — сказал он, — ибо то, чем ты занимаешься, просто для понимания. Увидев, как Хенаро перебирается через водопад, ты решил, что он — искусный акробат, потому что дальше этого не мыслишь. А Хенаро через водопад не прыгал. Прыгни он, и ему конец. Он делал вот что — балансировал на своих световых волокнах. Он растянул их настолько, что смог, скажем так, перекатиться по ним через водопад. Он показал, как можно удлинять щупальца и пользоваться ими. Паблито видел почти все движения Хенаро. Нестор — в общих чертах, упустив подробности. Ты же — совсем ничего не увидел.
— Может, если бы ты заранее предупредил, на что обратить внимание...
Дон Хуан перебил меня и сказал, что это могло повредить Хенаро. Знай я, что произойдет, мои волокна возбудились бы и стали помехой для дона Хенаро.
— Если бы ты видел, — сказал дон Хуан, — то сразу бы понял, что Хенаро не оскальзывался, когда поднимался вверх, а ослаблял свои щупальца. Дважды он обхватывал ими валуны и двигался по отвесной скале, словно муха. Добравшись до вершины и собираясь перейти водопад, он зацепился щупальцами за небольшой камень посреди потока и перебросил себя вслед за ними. Хенаро вовсе не прыгал, он не удержался бы на скользких камнях, едва выступающих из воды. Волокна — вот что удерживало его; они всякий раз надежно обхватывали нужный камень. На первом валуне Хенаро не задерживался долго потому, что уже зацепился волокнами за другой камень, поменьше, там, где поток был очень сильным; и щупальца перебросили его туда. Это и был самый отчаянный трюк. Камень совсем небольшой, и поток смыл бы Хенаро в пропасть, если бы он не закрепил часть щупалец на первом валуне. На втором камне он оставался долго: ему нужно было подобрать щупальца, цеплявшиеся за первый валун, и перекинуть их на другую сторону водопада. Трюк умопомрачительный. Наверное, только Хенаро на такое способен. Он едва не потерял равновесие, а может, просто дурачил нас. Поди узнай теперь. Сам-то я думаю, что вероятнее первое. Я понял это по тому, как он застыл и вдруг выбросил из себя ярчайший световой жгут; он-то и помог ему перебраться. Очутившись на том берегу, он собрал свои волокна прямо-таки в огненную гроздь — специально для тебя. Если бы ты видел, ты не смог бы этого не заметить... Хенаро стоял и глядел на тебя, а потом понял — ты не видишь.
УРОКИ ВИ'ДЕНИЯ
7
8 ноября 1968 года
Я приехал к дону Хуану в полдень; его не оказалось дома. Не зная, где его искать, я сел и стал ждать; почему-то я был уверен, что скоро он вернется. И правда, он вскоре пришел. Кивнул мне в знак привета; мы поздоровались. Выглядел он уставшим: зевая, лег на циновку.
Все последнее время меня преследовала идея «видения». Я решил снова прибегнуть к курительной смеси, но желал узнать, так ли это необходимо.
— Дон Хуан, я хочу научиться видеть, — заявил я решительно. — Но мне не хочется что-либо поедать или курить твою смесь. Можно научиться видению без этого?
Старик приподнялся, взглянул на меня и опять лег.
— Нет! — ответил он. — Без дымка тебе не обойтись.
— Но ты говорил, что у дона Хенаро я был на грани видения.
— Я имел в виду, что в тебе что-то светилось. Будто ты и в самом деле сознавал, что делал Хенаро. Что-то в тебе есть такое — похожее на видение. И все же ты не видишь. Ты какой-то скованный; тебе поможет только дымок.
— Но почему обязательно курить? Почему нельзя научиться видеть просто так? Я очень хочу. Разве этого мало?
— Мало. Видение — дело трудное, и только дымок придаст тебе быстроту, чтобы ты мог догнать и увидеть этот текучий мир. Без него будешь только глядеть.
— Что значит текучий?
— Мир, который видишь, совсем не таков, каким его себе представляешь. Он постоянно движется, меняется... Конечно, можно и самому научиться улавливать его суть, но это к добру не приведет: тело будет напрягаться и страдать. Дымок помогает сохранить силу, он разгонит тебя до нужной скорости — и ты уловишь движение мира.
— Согласен! — торжественно заявил я. — Хватит ходить вокруг да около. Я буду курить.
— Брось паясничать, — рассмеялся дон Хуан. — Думаешь, возьмешь дымок в проводники и сразу научишься видеть? Ошибаешься, для этого требуется многое другое.
Он стал серьезным.
— Я всегда был осторожен с тобой и обдумывал каждое действие, ибо сам Мескалито пожелал, чтобы ты стал моим учеником. Но у меня не хватит времени обучить тебя всему, чему хотелось бы. Я успею только указать путь, по которому следует идти. Что скрывать, ты ленивее и упрямее меня. У тебя на все свои взгляды, и я не способен предсказать, как пойдет дальше твоя жизнь.
Его спокойный голос вызвал знакомое чувство тревоги и одиночества.
— Скоро мы узнаем, где ты застрял, — сказал дон Хуан загадочно и замолчал.
Мы вышли из дому, и я не знал, что делать, — то ли присесть где-нибудь, то ли выгружать то, что я привез.
— Это опасно? — спросил я, чтобы что-нибудь сказать.
— Все опасно, — ответил он.
Похоже, дон Хуан не был настроен продолжать разговор. Он стал собирать пучки трав, сваленные в углу, и складывать в сетку. Я не решился предложить ему помощь, так как знал, что в случае необходимости он сам об этом попросит. Потом дон Хуан лег на циновку и посоветовал мне расслабиться и отдохнуть. Я улегся на свою циновку и попытался уснуть, но сна не было. Прошлой ночью я остановился в мотеле и проспал чуть ли не до полудня, зная, что через три часа езды доберусь до дона Хуана. Я видел, что он тоже не спит; глаза были закрыты, но он чуть подергивал головой, как будто что-то напевал про себя.
— Давай-ка поедим, — сказал он так неожиданно, что я вздрогнул. — Тебе понадобятся силы.
Он приготовил похлебку, но есть мне не хотелось.
На другой день дон Хуан дал мне чуть-чуть еды и велел отдыхать. Я пролежал все утро, так и не сумев расслабиться. Я не знал, что он задумал, и, самое скверное, не понимал, чего хочу сам.
Мы просидели на веранде до трех часов дня. Я сильно проголодался и несколько раз заикнулся о еде, но дон Хуан не обратил на мои намеки внимания.
— Уже три года тебе не приходилось готовить смесь, — вдруг сказал он. — Будешь курить мою, тебе потребуется немного. Выкуришь трубку и отдыхай. Тебе явится страж другого мира. Ничего не делай, просто наблюдай. Смотри, как он двигается, что делает. От твоего внимания может зависеть твоя жизнь.
Дон Хуан вдруг прервал наставления. Я не знал, что сказать, и пробормотал что-то невразумительное. Мысли разбегались. Наконец задал первый вопрос:
— Что это за страж?
Дон Хуан отказался что-либо объяснять. Я волновался и настойчиво требовал ответа.
— Сам увидишь, — только и сказал он. — Страж того мира.
— Какого мира? Мира мертвых?
— Нет, не мертвых, просто того мира. Рассказывать о нем бесполезно, надо увидеть.
Сказав это, дон Хуан пошел в дом. Я последовал за ним.
— Дон Хуан, погоди. Что ты затеял?
Он не ответил. Достал трубку и улегся на циновке посреди комнаты, с интересом глядя на меня.
— Ты ведь не боишься, — сказал он. — А делаешь вид, что боишься.
— Нет, мне в самом деле страшно.
— То, что ты чувствуешь, — не страх.
Я снова уверил его, что мне страшно; но он обратил мое внимание на то, что дыхание и сердцебиение у меня самые обычные. Так оно и было, и все же казалось, что он не прав. Я чувствовал, что во мне происходят типичные для страха изменения. Меня охватило отчаяние, как перед лицом смерти. Спазма свела желудок, я наверняка побледнел, руки вспотели. Но я заметил, что это было не то чувство страха, к которому я привык. Я шагал по комнате и говорил не умолкая, а дон Хуан сидел на циновке с трубкой в руке и выжидательно смотрел на меня. Анализируя свое состояние, я пришел к выводу, что это был не обычный страх, а боязнь того душевного хаоса, который могут вызвать галлюциногенные растения. Я продолжал расхаживать взад-вперед, пока дон Хуан не приказал сесть и успокоиться. Некоторое время мы сидели молча.
— Боишься потерять ясность ума? — спросил он вдруг.
— Вот именно.
Он довольно засмеялся.
— Ясность, второй враг человека знания, маячит перед тобой. Ты ничуть не боишься, но цепляешься за свою ясность и по глупости называешь это страхом.
Он усмехнулся и велел:
— Принеси-ка угольков.
Голос был ласковый и ободряющий. Я встал, пошел за дом, нашел там плоский камень и высыпал на него углей из печки, чтобы отнести в дом. Но дон Хуан уже расстилал мою циновку на веранде, где я обычно сижу. Я поставил перед ним угли, он раздул огонь. Велел сесть на край циновки, вложил уголек в трубку и подал. Я взял ее. От старика шел ток энергии, который подбадривал меня.
— Затянись, — сказал он спокойно. — На этот раз выкуришь всего одну.
Я затянулся — послышался треск возгоревшейся смеси. И тут же почувствовал, как похолодело во рту. Сделал еще затяжку — холод проник в грудь. Когда затянулся в последний раз, холод сковал все тело.
Дон Хуан взял у меня трубку, выбил пепел и, послюнив, как обычно, палец, обтер чашечку изнутри.
Тело мое онемело, но я мог двигаться и сел поудобнее.
— Что теперь будет? — спросил я, с трудом выговаривая слова.
Дон Хуан убрал трубку в чехол, завернул его в тряпицу, сел и стал глядеть на меня. Кружилась голова, глаза слипались. Дон Хуан встряхнул меня, приказал не поддаваться сну.
— Ты же сам знаешь, — сказал он, — стоит заснуть, и умрешь.
Его слова придали мне бодрости. Я вытаращил глаза. Старика это рассмешило; он сказал, что вот так и надо сидеть, не закрывая глаз. Тогда уж точно увидишь стража того мира.
Я почувствовал жар во всем теле и попробовал сменить позу, но понял, что не могу двинуться. Я попытался заговорить, — слова словно застряли где-то глубоко в горле. Я повалился на левый бок и обнаружил, что смотрю на дона Хуана, лежа на полу.
Он наклонился и прошептал, что глядеть надо не на него, а на циновку, прямо перед глазами. Смотреть следует левым глазом; рано или поздно я увижу стража.
Я вперился в циновку, но ничего особенного не заметил. Чуть погодя пролетел комар. Он сел на циновку так близко к моему лицу, что я видел его расплывчато. Неожиданно я сообразил, что стою. Это было удивительное ощущение, над которым стоило бы поразмыслить, но у меня не было на это времени. Мне казалось, что я стоя смотрю прямо перед собой, и то, что я увидел, потрясло все фибры моей души — иначе не скажешь. Прямо передо мной громоздился огромный чудовищный зверь. В самых необузданных фантазиях не встречал я подобного монстра! Я пришел в полное замешательство.
Прежде всего поражали размеры чудовища: метров тридцать в высоту, не меньше. Я заметил у него крылья — короткие и широкие. Зверь был такой огромный, что я не мог охватить его одним взглядом. Из туловища торчали пучки черных волос, морда была длинная, из пасти сочилась слюна, глаза навыкате, словно два белых шара.
Вдруг чудовище захлопало крыльями. Это были не взмахи, как у птиц, а какие-то вибрирующие подергивания. Зверь закружился передо мной; он не летел, а скорее скользил, чуть приподнявшись над землей. Зрелище поразительное! Движения монстра были одновременно уродливыми и стремительными. Чудовище дважды пронеслось по кругу, вибрируя крыльями и брызгая слюной, затем с невероятной скоростью заскользило прочь и скрылось из виду. Я продолжал смотреть в ту сторону, куда оно исчезло, словно приклеенный к месту.
Немного спустя я заметил вдали облако. Через мгновение зверь появился снова. Его крылья рассекали воздух все ближе и ближе и наконец ударили меня по лицу. Невероятная боль обожгла меня, я закричал изо всех сил.
Очнувшись, я обнаружил, что сижу на циновке, а дон Хуан растирает мне лоб. Он натер мне руки и ноги какими-то листьями и отвел к канаве позади дома. Раздел и несколько раз окунул с головой в воду. При этом он дергал меня за левую ногу, постукивая пальцами по пятке. Мне стало щекотно. Он это заметил и сказал, что я пришел в себя. Я оделся, мы вернулись в дом. Там я уселся на циновку и попробовал говорить, но понял, что не могу ни на чем сосредоточиться, хотя сознание было совершенно ясным. С удивлением обнаружил, сколько внимания требует обычный разговор. Я заметил, что мог произнести какую-нибудь фразу лишь после того, как переставал смотреть на окружающие предметы. Я словно сидел глубоко под водой, и, прежде чем сказать что-то, нужно было, как ныряльщику, вынырнуть на поверхность. Слова как бы выталкивали меня наверх. Но странное дело: эта безмолвная глубина мне нравилась; возможно, я приближался к тому, что дон Хуан называл «видением», и потому был счастлив.
Дон Хуан принес похлебку, кукурузные лепешки и велел поесть. Я принялся за еду, чувствуя, что не утрачиваю того, что счел «видением»; упражняясь в нем, я глазел по сторонам, пока не стемнело. Вконец уставший, я лег и уснул.
Проснулся я оттого, что дон Хуан накрыл меня одеялом. Голова раскалывалась, мутило. Потом стало лучше, и я крепко заснул до утра.
Утром я чувствовал себя отлично.
— Что со мной было? — спросил я дона Хуана. Он улыбнулся:
— Ты отправился искать стража и нашел его.
— Но кто он?
— Хранитель, привратник, страж иного мира, — серьезно ответил дон Хуан.
Я попробовал описать увиденное чудовище, но он прервал меня, сказав, что в моем видении не было ничего особенного, такое может случиться со всяким.
Я признался, что страж вызвал во мне ужас; не знаю, что о нем и думать.
Дон Хуан рассмеялся и стал иронизировать над моей склонностью сгущать краски.
— Чем бы это существо ни было, оно мне угрожало, — сказал я. — Оно было таким же реальным, как мы с тобой.
— Еще бы не реальным! И даже причинило тебе боль, не так ли?
Я вспомнил свои переживания и разволновался еще больше. Дон Хуан велел успокоиться. Он спросил, действительно ли я испугался чудовища, и сделал при этом ударение на слове «действительно».
— Буквально оцепенел, — ответил я. — Никогда в жизни не испытывал такого ужаса.
— Да брось ты! — со смехом сказал дон Хуан. — Не так уж было и страшно.
— Клянусь! — пылко возразил я. — Будь я в силах двигаться, опрометью бросился бы прочь.
Дону Хуану это показалось забавным, он захохотал.
— Скажи, — спросил я, — зачем нужно встречаться с этим страшилищем?
Он посерьезнел и внимательно на меня посмотрел.
— Это страж, — сказал он. — Если хочешь видеть, нужно его победить.
— Но как?! В нем тридцать метров росту! Дон Хуан смеялся до слез.
— Почему ты не позволишь мне рассказать об увиденном? — спросил я. — Может быть, тогда мы поняли бы друг друга.
— Валяй, если это доставит тебе удовольствие, — ответил он.
Я стал рассказывать все, что вспомнил, но это на него не подействовало.
— Ничего нового, — улыбнулся он.
— Ты считаешь, что я смогу одолеть эту тварь? — допытывался я.
Он помолчал, а потом сказал:
— Ты не испугался. Тебе было больно, но не страшно. — Он откинулся на мешки и заложил руки за голову. Я решил, что разговор окончен.
— Дело в том, — сказал он вдруг, глядя на крышу веранды, — что любой человек может «увидеть» стража. И кое-кому он представляется страшным чудовищем до небес. Тебе повезло: ты увидел всего-навсего тридцатиметрового зверя. А между тем секрет прост.
Он умолк и стал напевать себе под нос какую-то мексиканскую песню.
— Страж того мира — всего-навсего комар, — произнес он медленно, как бы вслушиваясь в свои слова.
— Не понял, — сказал я.
— Страж того мира — всего-навсего комар, — повторил он. — Вчера ты встретился с комаром, и этот комар будет стоять у тебя на пути, пока ты его не одолеешь.
Сначала я отказывался верить его словам. Но затем, припомнив увиденное, был вынужден признать, что сначала видел комара, а потом передо мной возникло чудовище.
— Но каким образом комар мог причинить мне такую боль? — спросил я.
— Это был уже не комар, — ответил дон Хуан, — а страж того мира. Когда-нибудь у тебя, быть может, достанет смелости его победить. Не сейчас. Сейчас для тебя это тридцатиметровый зверюга, брызжущий слюной. Но довольно разговоров! Не такой уж это подвиг — увидеть его. Если хочешь узнать стража лучше, ищи его снова.
Через два дня, 11 ноября, я курил опять. Я сам попросил дона Хуана об этом, чтобы еще раз встретиться со стражем, хотя сделал это не сразу, а после долгих раздумий. Мое любопытство перевесило страх перед утратой ясности сознания.
Ритуал был прежним. Дон Хуан набил трубку и, после того как я кончил курить, вычистил ее и убрал.
На этот раз дымок действовал гораздо медленнее. Едва я почувствовал головокружение, как дон Хуан подошел ко мне и, поддерживая голову, помог улечься на левый бок. Он велел вытянуть ноги и расслабиться, а затем взял меня за правую руку и повернул ее так, чтобы ладонь опиралась о циновку и на нее приходилась вся тяжесть тела. Я покорно подчинился ему.
Потом старик уселся напротив и посоветовал ни о чем не думать. Сказал, что скоро явится страж и что на этот раз у меня есть все шансы его увидеть. Он добавил, что страж может причинить сильную боль, но есть возможность этого избежать. Он указал на мою правую руку и объяснил, что нарочно придал ей такое положение: если понадобится, я могу, оттолкнувшись ею, быстро встать.
Едва он кончил говорить, как я почувствовал, что тело мое онемело. Я хотел сказать, что не могу подняться, так как не владею мышцами, но не смог произнести ни слова. Кажется, дон Хуан это предвидел и сказал, что все дело — в воле. Он напомнил, что когда несколько лет назад я курил впервые и упал, то поднялся благодаря своей воле. Я поднял себя мыслью — и это единственный способ встать.
Но я его не слушал, так как не мог вспомнить, как я действовал в тех обстоятельствах. Меня охватило отчаяние, я закрыл глаза.
Дон Хуан схватил меня за волосы, встряхнул и велел открыть глаза. Я не только открыл их, но и, к собственному удивлению, вполне членораздельно произнес:
— Не знаю, как я тогда встал.
Голос звучал монотонно, но был несомненно моим, а ведь только что я был уверен, что не могу говорить! Дон Хуан рассмеялся.
— Это не я говорил, — сказал я и снова поразился, услышав себя.
Говорить в таком состоянии мне понравилось. Я хотел попросить дона Хуана объяснить, как это получается, но на этот раз не смог произнести ни слова. Я изо всех сил старался заговорить — безрезультатно. Наконец сдался — и в то же мгновение непроизвольно вымолвил:
— Кто это говорит? Кто это говорит?
Дон Хуан захохотал, шлепая себя по бедрам. По-видимому, я мог произносить простейшие фразы, если точно знал, что хочу сказать.
— Это я говорю? Это я говорю? — спросил я. Дон Хуан заявил, что, если я не перестану валять дурака, он оставит меня одного.
— Я не валяю дурака, — возразил я. Действительно, я был серьезен. Сознание было ясное, но тела я по-прежнему не чувствовал, не мог управлять им, зато мог разговаривать. Мне пришло в голову, что если я могу говорить, то смогу и встать.
— Встать! — приказал я себе и в мгновение ока оказался на ногах.
Дон Хуан удивленно покачал головой и вышел из дому.
— Дон Хуан! — трижды прокричал я. Он вернулся.
— Уложи меня, — попросил я.
— Сам ложись, — сказал он. — Похоже, у тебя это отлично получается.
Я приказал себе: лечь! И тут же перестал что-либо видеть, но через некоторое время различил стены комнаты и увидал дона Хуана. Должно быть, я упал лицом вниз, а дон Хуан перевернул меня.
— Бла-го-да-рю, — по слогам произнес я.
— Не сто-ит то-го, — передразнил он со смехом и принялся растирать мне руки и ноги какими-то листьями.
— Что ты делаешь? — спросил я.
— Я тебя растираю, — ответил он, подражая моему монотонному голосу, и рассмеялся. Его тело содрогалось от смеха, а глаза глядели ласково и сияли. Я тоже хотел смеяться с ним, но не мог. Вдруг на меня накатило веселье, и я засмеялся, но таким ужасным смехом, что дон Хуан оторопел.
— Пойдем-ка лучше в канаву, — сказал он, — а то доконаешь себя своим шутовством.
Он поднял меня и велел пройтись по комнате. Шаг за шагом я стал ощущать ноги, а потом и все тело. На плечи навалилась непомерная тяжесть, что-то сильно давило на темя.
Дон Хуан отвел меня за дом и спихнул в канаву, прямо в одежде. От холодной воды сразу полегчало.
Вернувшись в дом, я переоделся, сел на циновку и снова почувствовал какое-то отчуждение, желание молчать. На этот раз сознание не было ясным и сосредоточенным; меня охватили меланхолия и усталость. Потом я заснул.
12 ноября 1968 года
Утром мы с доном Хуаном отправились на окрестные холмы собирать травы. Прошли километров десять. Я очень устал, присели отдохнуть. И тут дон Хуан сказал, что доволен моими успехами.
— Сейчас-то я уверен, — сказал я, — что говорил сам. А тогда готов был поклясться, что говорил кто-то другой.
— Ну конечно сам, — подтвердил дон Хуан.
— Почему же я себя не узнал?
— Это все дымок... Человек может говорить и не замечать этого; перенестись за тысячу километров и тоже не заметить. Так же проходят сквозь предметы. Дымок лишает человека тела; делает его свободным, как ветер. Даже свободнее — ветер могут остановить скала или стена. Дымок делает человека свободным, как воздух. Еще свободнее — воздух можно замуровать, и он станет затхлым. Если твой помощник — дымок, тебя невозможно ни остановить, ни запереть.
От его слов мне стало неловко, будто я в чем-то провинился.
— Дон Хуан, неужели все это возможно на самом деле?
— А ты как думаешь? Или тебе удобнее считать, что ты сошел с ума? — язвительно спросил он.
— Ты легко принимаешь такого рода вещи, а я не могу.
— Мне тоже непросто, мы с тобой на равных. Такие вещи одинаково трудно принять и тебе, и мне, и кому угодно.
— Но ты-то здесь как рыба в воде.
— Да, но чего мне это стоило? Я должен был бороться — и, пожалуй, еще больше, чем ты. Тебе невероятно везет. Ты не представляешь, с каким трудом далось мне то, чего ты достиг вчера. Тебе на каждом шагу что-то помогает, иначе не объяснишь ту легкость, с какой ты познаешь силы. Так было с Мескалито, так и сейчас, с дымком. Ты владеешь редким даром. Вот об этом и думай, а прочие мысли отбрось.
— Послушать тебя, так все просто, — сказал я. — А на деле совсем не так. Я разрываюсь на части.
— Ничего, скоро соберешь их вместе. Ты совсем не думаешь о своем теле. Потолстел... Я не хотел это говорить. Негоже говорить другим, что им делать. И столько лет не появлялся!.. Помнишь, я говорил когда-то, что ты вернешься? Вот ты и вернулся. Со мной было то же самое — однажды я забросил учебу на пять с половиной лет.
— Почему?
— По той же причине, что и ты: разонравилась.
— А почему вернулся?
— А ты почему? Потому что иного пути в жизни нет.
Эти слова меня потрясли. Я и сам пришел к мысли, что, пожалуй, иного пути в жизни нет, но никогда и ни с кем ею не делился. И вдруг дон Хуан высказал ее слово в слово.
Я долго молчал, а потом спросил:
— Чего же я достиг вчера?
— Смог встать, когда захотел.
— Но я не знаю, как мне это удалось!
— Чтобы научиться, требуется время. Главное, ты знаешь, как это делается.
— Не знаю!
— Неправда, знаешь!
— Дон Хуан, уверяю тебя...
Он не дал мне закончить — поднялся и вышел.
Позже мы снова заговорили о страже того мира.
— Если считать, что все, что я испытал, существует на самом деле, — начал я, — тогда страж — гигантское чудовище, способное причинять неимоверную боль. И если поверить, что усилием воли можно переноситься на огромные расстояния, то отсюда следует вывод: усилием воли я могу заставить это чудовище исчезнуть. Верно?
— Не совсем, — возразил дон Хуан. — Усилием воли ты не заставишь стража исчезнуть, но можешь не позволить ему причинить тебе вред. Если это удастся, путь открыт: ты минуешь стража, и он тебя не тронет, даже не сможет приблизиться.
— А как это сделать?
— Ты уже знаешь. Теперь нужна только практика.
Я сказал, что мы недопонимаем друг друга, так как по-разному воспринимаем мир. Для меня знать что-либо — это четко осознавать, что именно я делаю, и при желании суметь повторить. Так вот: я не имею ни малейшего представления о том, что делал под влиянием дымка, и не смог бы повторить те действия, даже если бы от них зависела моя жизнь.
Дон Хуан внимательно посмотрел на меня, потом снял шляпу и почесал голову, как делал всегда, когда хотел выразить изумление.
— Зато ты можешь нагородить уйму слов, ничего при этом не сказав. Не так ли? — рассмеялся он. — Я уже говорил: чтобы стать человеком знания, надо все время к этому стремиться. А ты стремишься к тому, чтобы заморочить себе голову загадками. Всему ищешь объяснение, как будто мир состоит из вещей, поддающихся объяснению. Сейчас ты столкнулся со стражем. Кроме того, ты должен научиться передвигаться усилием воли. А тебе приходило в голову, как мало вообще в мире можно объяснить? Когда я говорю, что страж загораживает тебе путь и действительно может тебя погубить, я знаю, что говорю. И когда говорю, что можно двигаться усилием воли, тоже знаю, что говорю. Я собирался шаг за шагом учить тебя двигаться, но, оказывается, ты и сам знаешь, как это делается.
— Честное слово, не знаю, — возразил я.
— Знаешь, дурья башка! — строго сказал дон Хуан и улыбнулся. — Ты напоминаешь мне одного парня по имени Хулио. Как-то его посадили на комбайн. И представь себе: он мастерски управлял машиной, хотя никогда раньше не имел с ней дела!
— Кажется, я догадываюсь, что ты имеешь в виду. И все же сомневаюсь, что смогу проделать это снова, так как не понимаю, как я это делал.
— Плохой колдун берется объяснить все на свете, но сам не верит своим объяснениям, — сказал дон Хуан. — Поэтому все у него — колдовство. Ты не лучше: стараешься объяснить все по-своему, а своим объяснениям не веришь.
8
Неожиданно для меня дон Хуан поинтересовался, не собираюсь ли я домой в конце недели. Я ответил, что думаю отправиться в понедельник утром. Дело было около полудня в субботу, 18 января 1969 года. Мы сидели на веранде: отдыхали после похода по холмам.
Дон Хуан встал и ушел в дом, а вскоре позвал меня. Он сидел посреди комнаты, рядом лежала моя соломенная циновка. Жестом предложив мне сесть, он молча развернул холстину с трубкой, вынул трубку из чехла, набил куревом и разжег,
Дон Хуан не стал спрашивать, хочу ли я курить, а просто подал мне трубку и велел затянуться. Он верно угадал мое страстное желание побольше узнать о страже. Я не заставил себя ждать и без лишних уговоров быстро выкурил трубку.
Реакция была такой же, как и раньше, и дон Хуан вел себя по-прежнему, но на этот раз он не помогал мне, а просто сказал, чтобы я оперся правой рукой о циновку и лег на левый бок, и посоветовал сжать руку в кулак.
Я последовал совету. Опираться кулаком оказалось легче, чем ладонью. Спать совсем не хотелось; сначала было тепло, но вскоре я перестал что-либо чувствовать.
Дон Хуан лег на бок лицом ко мне, подперев голову правой рукой. На этот раз я не испытывал ни малейшего беспокойства; наоборот — пребывал в полном покое.
— Как хорошо! — произнес я. Дон Хуан вскочил на ноги.
— Перестань болтать чепуху! — прикрикнул он. — Помолчи, а то растратишь все силы на разговоры и страж раздавит тебя как букашку. — Он засмеялся, но тут же прервал смех. — Не разговаривай больше, — сказал он строго.
— И не собираюсь, — возразил я; и это было правдой.
Дон Хуан оставил меня и отправился за дом. Вскоре я заметил, что на циновку сел комар. Это вызвало неизвестное мне ранее беспокойство — смесь восторга, боли и страха. Я понимал, что сейчас на моих глазах совершится нечто невероятное. Комар, стерегущий иной мир! Я чуть не рассмеялся, но тут же сообразил, что смех может повредить: я прозеваю момент перехода, суть которого собираюсь уяснить. В прошлый раз я разглядывал комара левым глазом — и вдруг оказалось, что стою на ногах и смотрю обоими глазами. Я не уловил, как это произошло.
Комар ползал по циновке прямо перед моим лицом, и я следил за ним обоими глазами. Вскоре он подполз так близко, что я мог видеть его лишь одним глазом. Едва я изменил фокус, как тут же понял, что стою на ногах — и обнаружил перед собой огромного зверя! Он был блестяще-черный, покрытый спереди пучками длинных черных волос, которые, словно иглы, торчали из-под каких-то гладких, поблескивающих чешуек. Туловище — массивное, толстое, округлое; крылья — короткие и широкие; два белых глаза навыкате и продолговатая морда. На этот раз он походил на крокодила. Кажется, у него были длинные уши или рога; из пасти текла слюна.
Я сосредоточил взгляд на чудовище и понял, что вижу его не так, как обычно вижу окружающий мир. Я не мог отделаться от ощущения, что каждая частица его тела живет независимо от остальных, как у людей живут, например, глаза. Впервые я вдруг осознал, что глаза — единственное в человеке, по чему можно судить, жив он или нет. Так вот, страж был, так сказать, «тысячеглазым».
Это было важное открытие. До него я пытался найти какое-нибудь сравнение для чудовища и остановился на следующем: «как насекомое под микроскопом». Оно оказалось недостаточным — страж выглядел гораздо сложнее, чем во много раз увеличенное насекомое!
Страж покружил передо мной и замер. Я понял, что он разглядывает меня. Я обратил внимание на то, что он двигается совершенно бесшумно. Страж танцевал молча. Его облик вызывал благоговейный ужас: глаза навыкате, мерзкая пасть, брызжущая слюна, торчащая во все стороны щетина, невероятные размеры... Я наблюдал, как бесшумно вибрируют его крылья, как он скользит над землей, словно огромный конькобежец.
Созерцая кошмарную тварь, я, как ни странно, почувствовал приток сил и понял, что сумею ее одолеть. Это чудовище — всего-навсего движущееся изображение на немом экране, говорил я себе. Оно выглядит страшным, но не может причинить мне зла. Страж продолжал меня разглядывать. И вдруг, затрепетав крыльями, повернулся задом. Его спина напоминала ярко раскрашенный панцирь. От блеска слепило глаза: сочетание цветов было неприятным до тошноты. Страж замер, снова затрепетал крыльями и исчез из виду.
Я был в растерянности. Вроде бы я одолел зверя, сообразив, что он — страшная картинка. Мою уверенность подкрепляли слова дона Хуана о том, что я знаю больше, чем мне кажется. Итак, страж побежден, путь свободен. Но я не знал, что делать дальше; дон Хуан об этом ничего не говорил. Я попробовал обернуться и глянуть назад, но не смог пошевелиться. Зато прекрасно видел пространство перед собой — бледно-желтый горизонт, подернутый дымкой. Все было залито желтым, словно я оказался на какой-то равнине среди сернистых испарений.
Вдруг из-за горизонта вновь появился страж, описал большой круг и стал приближаться. Широко распахнув пасть, он, как бык, бросился на меня и ударил крыльями мне по глазам. Я закричал от боли и — взлетел. Я как бы выбросил себя вверх — и полетел прочь от стража, от желтой равнины — в другой мир, мир людей. Очнувшись, увидел, что стою посреди комнаты.
19 января 1969 года
— Кажется, я победил стража, — сказал я дону Хуану.
— Ошибаешься, — ответил он.
Со вчерашнего дня он не проронил ни слова, но меня это не беспокоило. Я пребывал в какой-то полудреме, и мне вновь показалось, что, если всмотреться в окружающий мир внимательнее, я смогу «видеть». Ничего нового я не увидел, но молчание придало сил.
Дон Хуан попросил последовательно описать вчерашние события. Почему-то больше всего его интересовала раскраска стража.
— Тебе повезло, что эти цвета оказались у стража на спине, — промолвил он. — Окажись они спереди или; еще хуже, на голове, ты бы погиб. Ни в коем случае не пытайся больше видеть стража. С твоим характером ту равнину не пересечь, хотя мне казалось, что ты на это способен. Давай забудем об этом. Есть и другие пути.
Но в его голосе я уловил горечь.
— А что случится, если я снова попытаюсь увидеть стража?
— Он унесет тебя. Схватит в пасть, унесет на ту равнину и оставит там навсегда. Страж понял, что у тебя не тот характер, и предупредил об этом.
— Почему ты так думаешь?
Дон Хуан посмотрел на меня долгим взглядом.
— Твои вопросы всегда застают меня врасплох, — сказал он с улыбкой. — Согласись, ты спросил не подумав.
Я стал уверять, что его слова озадачили меня. Откуда стражу известен мой характер? Дон Хуан сверкнул глазами:
— Разве ты не раскрыл себя стражу?
В его тоне было столько комической серьезности, что мы оба рассмеялись. Немного спустя дон Хуан сказал, что стражу, хранителю того мира, известно много тайн и он может посвятить в них брухо.
— После чего брухо способен видеть, — сказал он. — Но раз это не для тебя, какой смысл об этом говорить?
— А что, курение — единственный способ увидеть стража? — спросил я.
— Нет, можно обойтись без него, и многие обходятся. Я предпочитаю дымок — он и действует сильно, и не так опасен. Можно увидеть стража без дымка, но тогда меньше шансов вовремя убраться с его дороги. Что, например, случилось с тобой? Страж предупредил тебя, повернувшись спиной и показав враждебные тебе цвета. Потом исчез, а когда вернулся и увидел, что ты еще там, напал. Хорошо, что ты был к этому готов и прыгнул. Это дымок тебя защитил. Окажись ты в том мире без защиты дымка, ты бы не высвободился из хватки стража.
— Почему?
— Потому что ты бы двигался слишком медленно. Чтобы выжить в том мире, нужно быть быстрым как молния. Зря я оставил тебя одного. Мне хотелось, чтобы ты перестал болтать. У тебя язык без костей, и ты говоришь даже вопреки собственному желанию. Будь я рядом, я бы хорошенько встряхнул тебя. Но ты и сам прыгнул, а это еще лучше. И все же зря рисковать не стоит; стража так просто не одурачишь!
9
Три месяца дон Хуан избегал разговоров о страже. За это время я приезжал четырежды; всякий раз он нагружал меня какими-нибудь поручениями, а когда я выполнял их, попросту отсылал домой. Наконец, в четвертый раз, 24 апреля, когда мы пообедали и сидели возле очага, я решил поговорить начистоту. Сказал, что не понимаю, почему он так себя ведет. Я готов учиться, а он не желает меня видеть. Неужто я зря насиловал себя, преодолевая свое отвращение к галлюциногенным грибам? Он ведь сам говорил, что времени терять нельзя.
Дон Хуан терпеливо выслушал мои жалобы.
— Ты еще слаб, — объяснил он. — Торопишься, когда надо ждать, и медлишь, когда следует торопиться. И слишком много думаешь. Сейчас тебе кажется, что зря теряешь время, а ведь недавно ты вообще хотел бросить курить. Ты живешь шалтай-болтай и не настолько крепок, чтобы встречаться с дымком. Я за тебя отвечаю — и не хочу, чтобы ты сгинул, как последний идиот, так ничего и не поняв.
Его слова смутили меня.
— Что же делать, если у меня нет терпения?
— Живи. Живи как воин! Воин полностью отвечает за свои действия, даже за самые пустяковые. А ты живешь только умом. Поэтому и перед стражем спасовал.
— То есть как — спасовал?
— А вот так. Тебе бы только о чем-нибудь поразмыслить. Стал размышлять о страже — и не смог его одолеть. Запомни самое главное — ты должен жить как воин.
Мне хотелось сказать что-нибудь в оправдание, но дон Хуан жестом остановил меня.
— У тебя есть все, что нужно, — продолжал он. — Тебе дано больше, чем Нестору и Паблито, ученикам Хенаро. Однако они видят, а ты нет. И куда больше, чем Элихио, но и он, похоже, увидит раньше тебя. Меня это поражает. Даже Хенаро не может этого понять. Ты послушно выполняешь все, что я велю. Все, что мой благодетель дал мне на первой ступени, я передал тебе. Закон незыблем: ступени перепрыгивать нельзя. Ты делаешь все, что нужно, — и не видишь. Но тем, кто видит, вроде Хенаро, — кажется, что ты видишь. И я на этом попался. Тебя постоянно заносит в сторону, и ты ведешь себя как последний дурак.
От этих слов мне стало больно, я едва не заплакал. Почему-то заговорил о своем детстве, и меня захлестнула волна жалости к самому себе. Дон Хуан бросил на меня беглый взгляд и отвел глаза в сторону. Взгляд был настолько цепким, что показалось, будто кто-то осторожно сжал меня, словно букашку, двумя пальцами. Все мое тело зачесалось, живот обдало жаром, и я заметил, что уже не говорю, а что-то бессвязно лепечу. Я замолчал.
— Возможно, все дело в твоей клятве, — после долгого молчания произнес дон Хуан.
— Не понимаю тебя.
— В клятве, которую ты дал очень давно.
— В какой клятве?
— Ты сам о ней расскажешь. Помнишь ее?
— Не знаю, о чем ты говоришь.
— Однажды ты дал себе важную клятву. Кажется, это она мешает тебе видеть.
— О чем ты, дон Хуан?
— О твоей клятве. Ты должен ее вспомнить.
— Может, ты сам расскажешь, раз ты все знаешь?
— Нет. Это бесполезно.
Я спросил, не имеет ли он в виду мое решение бросить ученичество.
— Нет, — ответил он. — Я говорю о том, что случилось очень давно.
Я засмеялся, так как был уверен, что дон Хуан меня разыгрывает. Про мою несуществующую клятву он знает не больше меня. Он импровизирует, говорит наугад, и я решил ему подыграть.
— Так кому я дал клятву? Дедушке?
— Нет! — возразил он. — Не дедушке и не бабушке.
Его шутливый тон рассмешил меня еще больше. Старик готовит ловушку, подумал я. Посмотрим, что будет дальше. Я стал перечислять разных людей, кому я мог в свое время в чем-нибудь поклясться. Дон Хуан отклонил всех по очереди, а потом перевел разговор на мое детство.
— Почему твое детство было несчастливым? — спросил он очень серьезно.
— Оно не было несчастливым, — ответил я. — Разве что немного трудным.
— Каждый так думает, — сказал дон Хуан. — В детстве я был очень несчастен и всего боялся. У ребенка-индейца тяжелое детство. Но память о детстве больше меня не тревожит. Оно было тяжелым — и все. О трудностях жизни я перестал думать еще раньше, чем научился видеть.
— Я тоже не думаю о детстве, — заявил я.
— Почему же ты так загрустил? И едва не заплакал?
— Не знаю. Может, потому, что, когда я думаю о детстве, то жалею и себя, и вообще всех на свете. Вспоминаю свою беспомощность и беззащитность.
Дон Хуан внимательно посмотрел на меня, и вновь меня, словно букашку, осторожно сжали двумя пальцами. Дон Хуан глядел отсутствующим взглядом куда-то сквозь меня. Помолчав, он сказал:
— Эту клятву ты дал себе в детстве.
— Да что же это за клятва?
Дон Хуан сидел закрыв глаза и не отвечал. Мне стало страшно и смешно. Я знал: он ищет в потемках, но желание подыгрывать почему-то пропало.
— В детстве я был кожа да кости, — сказал он вместо ответа, — и всего боялся.
— Я тоже.
— Мне не забыть того дня, когда мексиканские солдаты убили мою мать, — чуть слышно произнес дон Хуан, словно вспоминать ему было больно. — Простую бедную индианку. Может, и к лучшему, что она тогда умерла... Я хотел умереть вместе с ней, цеплялся за ее тело; солдаты стали бить меня по пальцам хлыстом. Мне было не больно, но они сломали мне суставы. Мои пальцы разжались, и они оттащили меня прочь.
Дон Хуан замолк. Его глаза были по-прежнему закрыты, и я уловил чуть заметное дрожание губ. Меня охватила печаль. В памяти стали выплывать картины собственного детства.
— Сколько лет тебе было, дон Хуан? — спросил я, чтобы прервать тяжелое молчание.
— Семь. Индейцы-яки хотели постоять за себя. Внезапно нагрянули мексиканские солдаты. Мать готовила еду. За нее некому было заступиться. Солдаты убили ее ни за что... Если вдуматься, не все ли равно, как она умерла? А мне было не все равно. Не могу объяснить почему, но не все равно... Я думал, что солдаты убили и отца, но ошибся: его только ранили. Затем нас, как скот, загнали в вагон и заперли. Несколько дней продержали в вагоне, изредка бросая внутрь еду. Отец скончался от ран. У него начался жар, он бредил и без конца твердил, что я должен выжить. Повторял это до последнего вздоха... Обо мне позаботились добрые люди, старуха знахарка срастила кости на руке. Как видишь, я выжил... Жизнь не была ко мне ни добра, ни зла; она была тяжела. Жизнь тяжела, а для ребенка она может быть ужасной.
Долгое время мы сидели молча. Прошло не меньше часа. Я не мог разобраться в своих чувствах. Чувствовал какую-то удрученность, но почему — не понимал. Что-то вроде раскаяния. Только что собирался подшутить над доном Хуаном, но вот он рассказал о себе, и мое настроение резко изменилось. Образ ребенка, которому больно, всегда глубоко трогал меня. Мое сочувствие к дону Хуану сменилось резким отвращением к себе. Мне стало стыдно. Я вел свои записи так, словно жизнь дона Хуана была чем-то вроде истории болезни... Я подумал, не уничтожить ли их, как вдруг дон Хуан легонько ткнул меня в ногу. Он сказал, что «видит» во мне огонь насилия — не собираюсь ли я его поколотить? Мы рассмеялись — это была разрядка.
— Порой ты бываешь вспыльчив, — заметил дон Хуан. — Но, поскольку сердце у тебя не злое, твой гнев оборачивается против тебя.
— Ты прав, — согласился я.
— Конечно, — с улыбкой ответил он и попросил меня рассказать о своем детстве.
Я стал рассказывать о годах страха и одиночества и увлекся, описывая свою борьбу за выживание и духовное самоутверждение. Дон Хуан улыбнулся при словах «духовное самоутверждение».
Говорил я долго. Старик внимательно слушал. В какой-то момент он снова «схватил» меня взглядом; я смутился и замолчал. Помедлив, дон Хуан сказал:
— Тебя никогда по-настоящему не унижали, поэтому в тебе нет злости. Ты ни разу не испытал поражения.
Он повторил эти слова несколько раз, и я наконец спросил, что это значит.
— Люди, — объяснил дон Хуан, — либо побеждают, либо терпят поражение и в зависимости от этого становятся угнетателями или жертвами. Эти состояния неизбежны до тех пор пока человек не начинает «видеть». «Видение» рассеивает иллюзии победы, поражения и страдания.
Он добавил, что я должен учиться «видеть», если мне везет в жизни, чтобы потом не пришлось нести бремя унижений.
Я возразил, что мне не везет и никогда не везло ни в чем и что иначе как поражением мою жизнь не назовешь.
Дон Хуан засмеялся и бросил на пол шляпу.
— Если твоя жизнь — сплошное поражение, потопчи мою шляпу! — в шутку предложил он.
Я принялся с жаром отстаивать свои слова. Дон Хуан перестал улыбаться, его глаза сжались в узкие щелочки. Он сказал, что я считаю свою жизнь поражением вовсе не по тем причинам, о которых говорю. Затем ни с того ни с сего зажал мою голову в руках и вперился в меня каким-то неистовым взглядом. От испуга у меня перехватило дыхание. Старик отпустил меня и, не отводя взгляда, откинулся к стене. Все произошло настолько быстро, что я не успел глазом моргнуть. У меня закружилась голова.
— Я вижу малыша, который плачет, — проговорил вдруг дон Хуан.
Я подумал, что он говорит обо мне, и пропустил эти слова мимо ушей. Дон Хуан повторил фразу несколько раз.
— Ты слышишь? — крикнул он. — Я вижу малыша, который плачет.
Я спросил, не обо мне ли идет речь. Нет, возразил он. Тогда я спросил: из чьей жизни этот малыш — из моей или из его собственной? Дон Хуан ничего не ответил, только повторил:
— Я вижу малыша. Он все плачет и плачет.
— Я знаю его?
— Да.
— Мой сын?
— Нет, не он.
— Он и сейчас плачет?
— Да.
Я подумал, что дону Хуану привиделся кто-нибудь из детей моих знакомых, и стал называть их по именам. Дон Хуан сказал, что они не имеют никакого отношения к моей клятве, а плачущий — имеет.
Его слова показались мне совершенной нелепостью. В детстве я в чем-то поклялся, и этот плачущий сейчас малыш каким-то образом связан с моей клятвой. Я сказал, что не нахожу в его словах смысла. Дон Хуан лишь повторил, что видит мальчика, который плачет. И добавил:
— Ему очень больно.
— Сдаюсь, — сказал я. — Ума не приложу, кто этот ребенок и в чем я мог поклясться.
Дон Хуан снова впился в меня своими глазами-щелками.
— Это ребенок из твоего детства, — сообщил он.
— Ребенок из моего детства, а плачет сейчас? — поразился я.
— Да, сейчас, — настаивал он.
— Дон Хуан, ты понимаешь, что говоришь?
— Конечно.
— Но ведь это бессмыслица! Как он может быть ребенком сейчас, если прошло столько лет?
— Он ребенок и плачет сейчас, — повторил дон Хуан.
— Объясни, дон Хуан.
— Ты сам должен объяснить.
Хоть убей, я не мог понять, о чем говорит дон Хуан.
— Он плачет, плачет, — завораживающим голосом повторял дон Хуан. — А теперь прижимается к тебе. Ему больно! Он смотрит на тебя. Чувствуешь его взгляд? Он стоит на коленях и прижимается к тебе. Он меньше тебя. Он прибежал к тебе. У него сломана рука. Чувствуешь боль в его руке? У этого малыша нос как кнопка.
У меня зазвенело в ушах, и я забыл, где нахожусь. Слова «нос как кнопка» мгновенно перенесли меня в детство. Я знал малыша с носом-кнопкой! Дон Хуан проник в один из тайников моей жизни. Теперь я понял, о какой клятве идет речь. Меня обуял благоговейный ужас: откуда дон Хуан узнал об этом мальчишке?
Мне было тогда восемь лет. Два тяжких года после отъезда матери я прожил у многочисленных теток, которые по очереди присматривали за мной. У каждой была большая семья; и как ни пеклись они обо мне, как ни старались не дать в обиду, против меня была армия двоюродных братьев и сестер — общим числом человек в двадцать.
Их жестокость превосходила всякие границы. Я постоянно был окружен врагами и вел с ними войну. В конце концов, не знаю каким образом, мне удалось одолеть всех своих малолетних родственников. Кажется, и впрямь мне везло, хотя я не подозревал об этом. Не в силах прекратить начавшуюся войну, я продолжал ее в школе.
Я учился в сельской школе, где в одной комнате занимались сразу несколько классов, и лишь проход между партами отделял первый класс от третьего. Здесь я и повстречал первоклассника с крохотным вздернутым носом. Все дразнили его Кнопкой. Я тоже дразнил — просто так, ради забавы. Несмотря на мои выходки, он ко мне почему-то привязался. Ходил за мной по пятам, знал о многих моих проделках, бесивших директора, и хранил их в тайне. Но я не оставлял его в покое.
Однажды я из шалости опрокинул тяжелую классную доску. Она упала на малыша. Стол, за которым он сидел, частично погасил удар; и все же доска переломила ему ключицу. Он упал на пол. Я помог ему подняться. Цепляясь за меня здоровой рукой, малыш смотрел широко раскрытыми глазами, полными испуга и боли. Этот взгляд я не мог вынести.
Годами я сражался с двоюродными братьями и сестрами и победил их. Поверг всех своих врагов и чувствовал себя сильным. Но вид плачущего малыша не оставил от моих побед камня на камне. С этого момента я прекратил войну. Мне пришло в голову, что малышу отрежут руку, и я поклялся, что, если этого не случится, я ни с кем больше воевать не буду. Ради него я отказался от побед.
Дон Хуан вскрыл мою застарелую рану. Я был подавлен; воспоминание о малыше Хоакине с носом-кнопкой причинило мне такую боль, что я заплакал. Я рассказал дону Хуану, как терзался своим поступком. У родителей Хоакина не было денег на врача, и сломанная кость срослась неправильно. Мои детские победы, принесенные ему в жертву, не помогли...
— Успокойся, чудак, — сказал дон Хуан. — Твоя жертва вполне искупает вину. Победы были настоящими и принадлежат тебе по праву. Теперь тебе нужно освободиться от клятвы.
— Но как? Надо что-то сказать?
— Слов здесь мало. Ты должен сам узнать, как освободиться от клятвы. И тогда, возможно, ты увидишь.
— Ты можешь мне подсказать?
— Надо терпеливо ждать. Знать, что ты ждешь, и знать, чего ты ждешь. Таков путь воина. Придет время, когда ожидание кончится, и ты освободишься от клятвы. В любом случае тому малышу ты уже ничем не поможешь. Он сам постоит за себя.
— Каким образом?
— Научившись уничтожать свои желания. До тех пор, пока он будет считать себя жертвой, его жизнь будет сплошной мукой. И, пока ты будешь видеть в нем жертву, твоя клятва останется в силе. Желание — вот причина наших несчастий. Научись мы уничтожать свои желания, любой пустяк станет для нас подарком. Не терзайся, ты сделал Хоакину прекрасный подарок. Бедность или нужда — всего лишь наше представление; и такие же представления — ненависть, голод, боль...
— Я не могу в это поверить. Разве голод и боль — только наши представления?
— Для меня — да. И сила воли — единственное, что позволяет нам противостоять стихийной игре жизни; без воли мы — сор, пыль на ветру!
— Не сомневаюсь, дон Хуан, что тебе удалось этого достичь. А как быть обычному человеку — вроде меня или Хоакина?
— Игре жизни может противостоять любой. Сколько раз я говорил тебе: живи как воин! Воин знает, что он ждет, и знает, чего он ждет. Только воин может выжить. Когда он ждет, он ничего не хочет, и потому самый ничтожный дар кажется ему огромным. Если ему надо поесть, он найдет еду, ибо не голоден. Если он ранен, он сумеет излечиться, ибо не испытывает боли. Голод и боль означают, что человек потерял власть над собой, перестал быть воином. В этом случае силы голода и боли уничтожат его.
Я хотел было возразить, но не стал, и вдруг подумал, не для того ли я хочу затеять спор, чтобы забыть о чуде, которому оказался свидетелем. Как Хуан узнал? Быть может, я рассказал историю о малыше, когда находился под воздействием галлюциногенов?
— Дон Хуан, как ты узнал о моей клятве?
— Я увидел ее.
— Когда? Когда я встречался с Мескалито? Когда я курил?
— Я видел ее только что.
— Во всех подробностях?
— Опять ты за свое! Я же говорил, что пересказать видение невозможно. Слова — ничто.
Я не стал больше расспрашивать: эмоционально я был убежден. Немного спустя дон Хуан сказал:
— Однажды я тоже дал клятву: Обещал отцу, что выживу и отомщу его убийцам. Годами я жил этой клятвой, но теперь свободен от нее. Я не хочу никого убивать, у меня нет ненависти к мексиканцам. Нет ненависти ни к кому. Я понял: все пути, которыми человек идет по жизни, одинаковы. В конце пути и мучитель, и жертва встречаются и понимают одно: жизнь обоих была слишком коротка. Мне грустно сейчас не потому, что мои отец и мать погибли, а потому, что они были индейцами. Жили как индейцы и умерли как индейцы, так и не узнав, что они — прежде всего — люди.
10
Я приехал к дону Хуану 30 мая 1969 года и без обиняков заявил, что хочу еще раз попытать счастья в «видении». Он с улыбкой покачал головой и сказал, что нужно набраться терпения, ибо время еще не пришло. Я настаивал на своем, утверждая, что вполне готов.
Кажется, мои докучливые просьбы ничуть ему не досаждали, и все же он попытался изменить тему разговора. На это я не поддался и спросил, как мне перебороть свое нетерпение.
— Поступай как воин, — ответил он.
— Как именно?
— Это познается на деле, а не на словах.
— Ты говорил, что воин думает о собственной смерти. Я думаю о ней непрерывно, а толку никакого.
Дон Хуан громко причмокнул — видимо, начал сердиться. Я заявил, что не собираюсь ему надоедать и вообще, если мешаю, могу вернуться в Лос-Анджелес. Дон Хуан ласково похлопал меня по спине и сказал, что ничуть на меня не сердится; просто я и без него знаю, что значит быть воином.
— Скажи, что надо делать, чтобы жить как воин? — спросил я.
Дон Хуан снял шляпу, поскреб в голове и пристально посмотрел на меня.
— Очень ты любишь, чтобы тебе все разжевали, — усмехнулся он.
— Так уж устроен мой ум, — сказал я.
— Вот и плохо.
— Так скажи, каким образом его изменить! Я потому и спрашиваю, как стать воином; если бы я знал, то сумел бы перемениться.
Мои слова очень его рассмешили, и он снова похлопал меня по спине.
Я боялся, что дон Хуан в любой момент спровадит меня из дому, и потому быстро уселся перед ним на свою циновку и стал задавать вопросы. Меня интересовало, почему я должен ждать.
Он объяснил это так. Если я поспешу увидеть, не «залечив ран», полученных в битве со стражем, то наверняка встречусь с ним опять. Дон Хуан уверял, что в моем нынешнем состоянии эта встреча станет для меня гибельной.
— Прежде чем предпринять новую попытку видеть, нужно забыть о страже, — заявил он.
— Как его забыть?
— Для этого воину служат терпение и воля. Собственно, кроме терпения и воли, у воина ничего нет; зато с ними он творит все, что захочет.
— Но я — не воин.
— Ты начал изучать колдовство и лишен возможности к отступлению или сожалению. Тебе остается жить, как живет воин, и воспитывать в себе терпение и волю, хочешь ты того или не хочешь.
— А как их воспитывать? Дон Хуан задумался.
— Это не объяснить словами. Особенно о воле. Воля — нечто особое, таинственное. Невозможно рассказать, как ею пользоваться, но плоды ее поразительны. Главное, что следует знать: волю можно совершенствовать. Зная это, воин умеет ждать. Твоя слабость в том, что ты не знаешь, что ждешь созревания воли. Мой благодетель говорил, что воин знает, что он ждет, и знает, чего он ждет. Ты знаешь только то, что ты ждешь. Прошли годы, а ты не знаешь, чего ждешь. Обычному человеку трудно, а то и невозможно знать это. У воина здесь нет трудностей: он знает, что ждет созревания воли.
— Так что же такое воля? Может, настойчивость? Вроде той настойчивости, с которой твой внук Лусио мечтает о мотоцикле?
— Нет, — усмехнулся дон Хуан. — Настойчивость — это не воля. Лусио лишь потакает своим слабостям. Воля чиста и могущественна, она способна направлять наши действия. Воля — это то, что позволяет воину выиграть сражение, которое, по всем расчетам, проиграно.
— Значит, воля сродни мужеству.
— Нет, мужество — нечто другое. Мужественные люди — люди надежные и благородные, окруженные восторженными почитателями. Но мало кто из них обладает волей. Эти смелые люди способны на отважные с точки зрения здравого смысла поступки. Обычно они внушают окружающим опасения и страх. Воля же позволяет совершать такое, во что здравый смысл верить отказывается.
— Значит, воля — это власть над собой?
— В какой-то степени да.
— Как ты думаешь, можно воспитать волю, воздерживаясь от тех или иных вещей?
— Вроде твоих вопросов? — произнес старик таким ехидным голосом, что я оторвался от записей. Мы рассмеялись.
— Конечно нет, — продолжал дон Хуан! — Отказывать себе в чем-то — это значит тоже потакать своим слабостям. Я тебе это не советую и потому разрешаю задавать любые вопросы. Находить удовлетворение в воздержании — вещь довольно вредная. Ты думаешь, что совершаешь великое дело, а на самом деле лишь глубже увязаешь в себе. Воздержание — не есть проявление воли, о которой я говорю. Воля — это сила, а значит, ею нужно управлять, для чего требуется время. Я знаю это и потому терпелив с тобой. В твои годы я был таким же несдержанным, теперь стал другим.
Воля действует независимо от того, потакаем мы себе или нет. Твоя воля, например, постепенно приоткрывает в тебе щель.
— Какую щель?
— У каждого человека есть щель, как у младенца на темени. Только у младенца она с годами зарастает, а эта по мере развития воли открывается.
— Где она находится?
— В том месте, откуда выходят светящиеся нити. — Дон Хуан указал на живот.
— А как она выглядит? И для чего служит?
— Это отверстие, через которое воля стрелой устремляется наружу.
— Значит, воля — нечто вещественное?
— Нет. Я сказал так, чтобы ты лучше понял. Колдуны называют волей заключенную в нас силу. Не мысль, не вещество, не желание, а силу. Воздержание от вопросов — не сила и не воля, ибо оно связано с мыслью и желанием. Воля — это то, что позволяет побеждать, когда разум твердит о поражении. Воля делает колдуна неуязвимым, позволяет ему проникать сквозь стены, перемещаться в пространстве, путешествовать на луну, если он пожелает.
Больше мне ни о чем не хотелось расспрашивать; я устал и боялся, что дон Хуан выпроводит меня. Но он вдруг встал и сказал:
— Пойдем-ка на холмы.
Дорогой он продолжал говорить о воле, посмеиваясь над тем, что я не могу записывать на ходу.
Дон Хуан сказал, что воля — это сила, связывающая людей с миром. Мир — это все, что мы воспринимаем. Мы вольны выбирать любой способ восприятия, которое есть сложный процесс, совершающийся с помощью наших чувств и воли.
Я спросил, не является ли воля шестым чувством. Дон Хуан ответил: нет, скорее это взаимодействие человека с миром. Я попросил его остановиться, чтобы я мог записать сказанное. Он засмеялся и продолжал идти.
Дон Хуан позволил мне остаться у него на ночь, а утром, после завтрака, вернулся к разговору о воле.
— То, что ты называешь волей, — это характер или решимость, — сказал он. — Воля колдуна — это сила, исходящая из него и связывающая его с внешним миром. А исходит она вот отсюда, где находятся светящиеся нити. — Он показал себе на живот. — Ее можно почувствовать.
— Почему ты называешь это волей?
— Потому что так делал мой благодетель, да и другие люди знания.
— Вчера ты сказал, что мир воспринимают чувствами и волей. Разве такое возможно?
— Обычный человек способен ухватить то, что есть в мире, руками, глазами или ушами. Колдун может «хватать» еще и носом, языком и волей, особенно волей. Я не могу объяснить, как это происходит, но ведь и ты не можешь объяснить, как ты слышишь. Мы говорим о том, что слышим, а не о том, как слышим. Воспринимая мир, колдун использует волю, но она ничуть не похожа на слух. Когда мы смотрим или слушаем, создается впечатление, что мир реален и находится вне нас; когда же воспринимаем мир волей, он оказывается не таким внешним и реальным, как мы думаем.
— Дон Хуан, воля — это и есть видение?
— Нет, воля — это сила, воздействие. Видение — не сила, а скорее проникновение в суть вещей. Колдун может обладать сильной волей и все же не видеть. Только человек знания воспринимает мир чувствами и волей и, кроме того, видит его.
Я сказал, что все меньше понимаю, как воля могла бы помочь мне забыть стража. Мой растерянный вид рассмешил дона Хуана.
— Сколько раз я тебе говорил: когда пускаешься в рассуждения, заводишь себя в дебри, — сказал он. — Но теперь ты, по крайней мере, знаешь, что ждешь созревания воли, хотя и не знаешь, что это такое и как она у тебя появится. Поэтому присматривайся ко всему, что делаешь. Развить волю тебе помогут самые заурядные дела.
Все утро дон Хуан отсутствовал. Вернулся он после полудня с охапкой сухой травы и кивком головы попросил моей помощи. Мы долго молча разбирали траву. Закончив работу, присели отдохнуть. Старик с улыбкой посмотрел на меня, словно приглашал поговорить.
Я признался, что перечитал свои записи, но так и не понял, что значит быть воином и в чем идея воли.
— Воля — не идея, — поправил дон Хуан. Помолчал немного и продолжил: — Мы с тобой не похожи друг на друга, и характеры у нас разные. У тебя натура буйная, несдержанная; я в твои годы был спокойнее, но злее. Ты похож на моего благодетеля: он вполне подошел бы тебе в учителя. Великий был колдун — но не видел, как вижу я или Хенаро. Я живу, руководствуясь видением. Мой благодетель жил как воин. Когда человек «видит», ему не нужно быть воином или еще кем-то, он видит вещи такими, каковы они есть, и сообразно этому направляет свою жизнь. Судя по характеру, ты вряд ли научишься видеть, и потому тебе лучше жить как воину.
Мой благодетель говорил: вступая на путь колдовства, человек все яснее понимает, что обычная жизнь навсегда осталась позади, что познание — страшное занятие, что силы обычного мира больше ему не защита, и если он хочет выжить, то должен приспособиться к новому образу жизни. Первое, что он должен сделать, это захотеть стать воином. Ничего другого, собственно, не остается, ибо ему открылась устрашающая природа знания. Кроме того, он начинает понимать, что смерть — его постоянный спутник: в каждой крупице знания, которая становится силой, заключен зародыш смерти. Все, к чему прикасается смерть, становится силой.
Идущего по пути колдовства на каждом шагу, на каждом повороте подстерегает гибель, вот почему он всегда помнит о смерти. Иначе он стал бы обычным человеком, втянутым в обычные дела, и утратил бы ту сосредоточенность, которая придает колдуну неодолимое могущество.
Итак, воин всегда должен помнить о смерти. Но постоянные размышления о ней приводят к тому, что человек замыкается в себе, и это его ослабляет. Следующее, что нужно приобрести, чтобы стать воином, — это отрешенность. Тогда мысль о постоянном присутствии смерти будет не навязчивой, а безразличной.
— Тебе это понятно? — спросил он и замолчал.
Я понял, что хотел сказать дон Хуан. Одного только не мог представить: каким образом достичь отрешенности. Я сказал, что уже пережил момент, когда испугался познания. Мог бы добавить, что перестал искать опоры в обыденной жизни. Я хотел — более того, нуждался в том, чтобы жить как воин.
— Теперь ты должен отрешиться, — сказал дон Хуан.
— От чего?
— От всего.
— Но это невозможно. Я не собираюсь быть отшельником.
— Быть отшельником — это самоублажение. Я имею в виду другое. Отшельника нельзя считать отрешенным, ибо он намеренно отказывается от себя, чтобы стать отшельником. По-настоящему отрешенным человека делает постоянная мысль о смерти; в этом случае он уже ни в чем себе не отказывает. Такой человек ничего не желает, ибо обрел сокровенную страсть к жизни во всех ее проявлениях. Он знает: смерть крадется за ним по пятам, она не позволит ему ни к чему прилепиться. Поэтому, не поддаваясь желаниям, он не отказывается ни от чего.
У отрешенного человека, который знает, что ему нечем оградиться от смерти, остается лишь одна опора: сила его решений. Он должен стать истинным хозяином своего выбора. Он должен ясно понимать: только он в ответе за то, что выбрал, и, если он на что-то решился, бесполезно тратить время на сожаления и самобичевание. Его решения окончательны по той простой причине, что смерть не позволит ему ни за что ухватиться.
Таким образом, вооруженный сознанием своей смерти, отрешенностью и силой своих решений, воин становится устроителем собственной жизни. Сознание смерти направляет его и наделяет отрешенностью и сокровенной страстью к жизни; сила окончательных решений позволяет выбирать без сожаления и наилучшим образом; в результате все, что ему приходится делать, он делает охотно и радостно. О таком человеке можно с уверенностью сказать: он обрел терпение и стал воином.
Дон Хуан остановился и спросил, не хочу ли я что-нибудь спросить. Я заметил: на выполнение той задачи, о которой он рассказал, может уйти вся жизнь. Он ответил, что мне просто нравится ему возражать, но он-то знает, что в своей жизни я стараюсь поступать как воин.
— Клыки у тебя острые, — усмехнулся он. — Можешь скалить их время от времени, я не обижусь.
Я оскалился и зарычал. Дон Хуан засмеялся. Потом, откашлявшись, продолжил:
— Воин, который обрел терпение, — на правильном пути к воле. Он научился ждать. Смерть сопровождает его, словно друг, и тайно советует, какой путь выбрать и чего придерживаться. И воин ждет. Я бы сказал, воин учится не спеша, потому что знает, что ждет созревания воли. И однажды ему удается совершить нечто такое, что считается невозможным. Он может не заметить этого, но с ним и дальше будут происходить необычные вещи. И тогда воин поймет: это действует исходящая из него сила. Сила, что исходит из его тела по мере продвижения по пути знания. Сначала он чувствует зуд в животе или жжение, потом боль, которая бывает настолько сильной, что вызывает судороги. Это может продолжаться несколько месяцев. Но чем сильнее боль, тем лучше; истинной силе всегда предшествует боль. Когда боль и судороги проходят, воин замечает, что воспринимает мир необычным образом: он буквально дотрагивается до окружающих вещей чем-то, исходящим из живота. Если воин способен схватывать так внешний мир, значит, он обрел волю и стал колдуном. Исходящая из него сила и есть воля. Старик умолк и, видимо, ждал вопросов. После долгих колебаний я спросил, предстоит ли и мне пережить боль и судороги. Он усмехнулся, словно ждал этого вопроса, и сказал, что боль необязательна. Он, например, ее не испытал, воля пробудилась в нем совсем неожиданно.
— Как-то я был в горах, — рассказывал он, — и наткнулся на большую голодную пуму. Я бросился бежать, она за мной. Я успел вскарабкаться на скалу и стал швырять в нее камни, но она зарычала и изготовилась к прыжку. Вот тут-то впервые и проявилась моя воля. Я остановил пуму, не дал ей прыгнуть. Она застыла на месте, и силой, исходившей из меня, я стал ее ласкать. Буквально трогал ее за соски, поглаживал их. Глаза у нее затуманились, она опустилась на землю, а я бросился бежать без оглядки.
Дон Хуан смешно скорчился и изобразил человека, который удирает со всех ног, придерживая на бегу шляпу.
— Меня совсем не радует, — заметил я, — что на пути к обретению воли меня ожидают судороги или, на худой конец, голодная пума.
— Мой благодетель был великим колдуном, — продолжал дон Хуан. — И настоящим воином, воля была лучшим его достижением. Но человек может пойти дальше: он может научиться видеть. Тогда ему не нужно быть ни воином, ни колдуном. Научившись видеть, он может, становясь ничем, стать кем угодно.
Он, так сказать, исчезает и одновременно возрастает. Может стать, кем захочет, и обрести, что пожелает. Но ему совершенно ничего не надо, и, вместо того чтобы играть с людьми, как с игрушками, он добровольно принимает правила их игры. Единственная разница между ними: человек, который видит, управляет своей глупостью, а его ближние — нет. Тот, кто видит, не вмешивается в жизнь окружающих; видение отрешает его от всего, чем он жил прежде.
— Уже одна мысль о том, что можно от всего отрешиться, приводит меня в ужас, — заметил я.
— Ты шутишь! Куда ужаснее всю жизнь знать, что тебе придется заниматься одним и тем же! Представь себе человека, который всю жизнь, до глубокой старости, выращивает кукурузу. Силы иссякли, и ему ничего не остается, как лежать, словно старый пес, и глазеть по сторонам. А мысли, чувства и желания продолжают вертеться вокруг того, чему была отдана жизнь, — вокруг кукурузы. Жизнь прожита впустую; по-моему, это ужасно. Мы — люди; наше предназначение — учиться и проникать в новые, невообразимые миры.
— Неужели они и впрямь существуют? — спросил я не без иронии.
— Глупый ты человек! — вздохнул дон Хуан. — Мы еще ничего толком не познали. Видение — для людей совершенных. А пока умерь свой пыл, стань воином, научись видеть, и тогда сам узнаешь, что новым мирам нет конца.
11
Я выполнил поручения дона Хуана, но он не отправил меня домой, как делал в последнее время, а позволил остаться. Наутро, 28 июня 1969 года, он сказал, что я буду курить.
— Чтобы увидеть стража? — спросил я.
— Нет, попробуем другое. — Дон Хуан неторопливо набил трубку, разжег и подал мне.
На этот раз я был спокоен. Затянувшись, сразу же почувствовал приятную сонливость. Когда я выкурил трубку, дон Хуан спрятал ее и помог мне встать. До этого мы сидели на циновках лицом друг к другу. Он сказал, что надо прогуляться, и, слегка подталкивая меня, заставил идти. Едва я шагнул, как мои ноги подкосились и я повалился на колени, но боли не почувствовал. Дон Хуан ухватил меня под мышки и снова поставил на ноги.
— Иди, иди, как в тот раз, — сказал он. — Где твоя воля?
Я словно прирос к земле; наконец шагнул — и потерял равновесие. Дон Хуан поддержал меня, опять подтолкнул. Ноги совсем не слушались, и я упал бы на пол, не подхвати он меня вовремя. Я уже ничего не ощущал, понимал только, что положил голову дону Хуану на плечо, так как видел комнату под углом. Он вытащил меня на веранду и дважды провел по ней, но, видно, я совсем отяжелел, и старик опустил меня на землю. Казалось, тело мое налито свинцом. Дон Хуан не стал больше со мной возиться, а только окинул взглядом. Лежа на спине, я пытался улыбнуться. Он расхохотался, потом наклонился и шлепнул меня по животу. Ощущение было странным: не болезненным, но и не приятным — вообще никаким, шлепок, и все. Дон Хуан перекатил меня по земле, но я ничего не чувствовал и сообразил это только потому, что видел веранду под разными углами. Придав мне нужное положение, дон Хуан отошел в сторону.
— Встань! — приказал он. — Встань, как в прошлый раз. Не валяй дурака, ты знаешь, как подняться. Ну, вставай же!
Я пытался вспомнить прежние действия, но никак не мог сосредоточиться. Мысли текли сами по себе, совершенно мне не повинуясь. Наконец мелькнула догадка — если я скажу, как тогда: «Встать!» — то обязательно встану. Я громко выкрикнул: «Встать!» — но из этого ничего не вышло.
Дон Хуан с досадой посмотрел на меня и направился к двери. Я лежал на левом боку, спиной к двери, поэтому, когда дон Хуан миновал меня, я решил, что он вошел в дом.
— Дон Хуан! — крикнул я, но он не ответил. Меня охватило отчаяние. Снова и снова повторял я, словно заклинание: «Встать!» — и каждый раз безрезультатно. Я готов был биться головой о землю, рыдать — но лежал неподвижно, как парализованный. Мне мучительно хотелось двигаться или говорить.
— Дон Хуан, помоги! — промычал я наконец. Он подошел и, посмеиваясь, сел рядом. Сказал, что я впал в истерику и поэтому у меня ничего не получается. Потом поднял мне голову, глянул в глаза и велел ничего не бояться.
— Ты слишком усложнил себе жизнь, — сказал он. — Надо отбросить все, что мешает. Полежи спокойно, приди в себя.
Дон Хуан опустил мою голову на землю, переступил через меня и удалился, шаркая сандалиями. На мгновение я вновь испытал страх, но тут же погрузился в совершенно безмятежное состояние. И вдруг понял причину всех моих жизненных сложностей: мой сын. Больше всего на свете мне хотелось стать настоящим отцом. Мне нравилось лепить его характер и во время прогулок незаметно учить жизни. Вместе с тем я боялся к чему-либо его принуждать, а ведь делал я именно это — то прямо, то прибегая к хитростям.
«Я не имею права вмешиваться, — подумал я. — Почему я не оставлю его в покое?»
Меня охватила меланхолия, я заплакал. Из-за слез я ничего не видел; мучительно хотелось встать, разыскать дона Хуана, рассказать о сыне... Внезапно я понял, что стою на ногах. Я оглянулся и увидел дона Хуана. Вероятно, он все время находился возле дома. Я не чувствовал своих шагов, но, кажется, направился к нему. Дон Хуан взял меня под руки и, улыбаясь, сказал:
— Молодец!
В этот момент я понял, что со мной творится что-то странное. Сначала я вспомнил то, что случилось много лет назад. Тогда после курения мне показалось, что дон Хуан смотрит на меня как бы сквозь толщу воды. Его лицо было огромным, подвижным, как ртуть, и светилось. Тогда видение было настолько мимолетным, что я не запомнил подробностей. Теперь же лицо дона Хуана оказалось совсем рядом, и я мог не торопясь его разглядеть. Когда я встал и оглянулся, я несомненно увидел дона Хуана; но когда сосредоточил взгляд на лице, не узнал его. Передо мной было нечто незнакомое. Я понимал, что это лицо дона Хуана, но в этом меня убеждали не органы чувств, а скорее память и логика. Я видел необычный светящийся предмет, нечто округлое, светящееся, подвижное... Это напоминало пульсирующий поток, заключенный в самом себе, не покидающий своих пределов и вместе с тем струящийся в каждой своей точке. Я подумал: это струится жизнь. Зрелище было завораживающим, я полностью отдался созерцанию и вскоре перестал понимать, что передо мной такое.
Внезапно меня тряхнуло, светящийся предмет задрожал, потускнел, обрел плоть — и я увидел обычное смуглое лицо дона Хуана. Он улыбался. Через мгновение его лицо снова засверкало, заискрилось, заструилось. Это был, пожалуй, не свет и не сияние, а неуловимо быстрое движение и мерцание. Светящийся предмет задергался вверх-вниз, потускнел и опять превратился в «настоящее» лицо дона Хуана. В тот же момент я осознал, что дон Хуан трясет меня и что-то говорит. Сначала я не понял слов, но в конце концов разобрал.
— Не смотри на меня! — повторял он. — Смотри в сторону.
По-видимому, поэтому он и тряс меня; когда я отводил взгляд чуть в сторону, то видел его обычное лицо, но стоило вглядеться чуть пристальней, как оно начинало светиться и мерцать.
— Не смотри на меня! — строго приказал дон Хуан.
Я отвел взгляд и уставился в землю.
— Не задерживай взгляд ни на чем, — велел дон Хуан и отступил в сторону, чтобы мне легче было идти. Я не ощущал своих шагов и вообще не понимал, как иду, но тем не менее вскоре мы оказались на заднем дворе, у канавы.
— Теперь гляди на воду, — приказал дон Хуан.
Я никак не мог сосредоточиться — отвлекало движение воды. Дон Хуан в шутливом тоне призывал меня развивать «силу взгляда». Я взглянул на его лицо: оно уже не светилось. По всему телу у меня пошел зуд: так покалывает рука или нога, когда отлежишь ее во сне. Дон Хуан толкнул меня, и я полетел в воду. Но он держал меня за руку и, когда я оказался в канаве, вытащил обратно.
Не скоро пришел я в себя. После возвращения в дом я попросил дона Хуана объяснить, что со мной было. Переодеваясь в сухую одежду, возбужденно говорил о виденном, но дон Хуан прервал меня словами, что ничего особенного не произошло.
— Эка невидаль! — усмехнулся он. — Свечение увидел!
Я стал расспрашивать, но он поднялся и сказал, что ему надо уйти. Было около пяти вечера.
Назавтра я опять попытался заговорить о происшедшем. Я спросил:
— Дон Хуан, кажется, я видел?
Дон Хуан загадочно улыбнулся. Я добивался ответа. Наконец он сказал:
— Видение похоже на это. Ты смотрел на мое лицо, и оно светилось, но все-таки это было лицо. Дымок иногда так действует.
— Но что же такое видение?!
— Когда видишь, все вокруг становится незнакомым. Все оказывается новым, происходит впервые, весь мир становится невероятным.
— Почему?
— Исчезает все знакомое. На что ни глянь — все исчезает. Вчера ты не видел. Ты смотрел на мое лицо и заметил, что оно светится. Я не испугал тебя, как страж, я был приятен тебе и интересен. Но по-настоящему ты не видел, ибо я не обратился в ничто. Впрочем, ты неплохо поработал, ты сделал первый шаг к видению. Единственной ошибкой было то, что ты на мне сосредоточился. Я стал таким же препятствием, что и страж; в обоих случаях ты спасовал — и не видел.
— Неужели вещи в самом деле исчезают?
— Они не исчезают, то есть не пропадают, если ты это имеешь в виду. Просто становятся ничем, продолжая вместе с тем существовать.
— Разве такое возможно?
— Карлос, что за дурацкая привычка болтать! — строго воскликнул дон Хуан. — Или я неправильно понял твою клятву? Похоже, что ты поклялся никогда не закрывать рта!
Судя по голосу, он был очень серьезен, но тут же рассмеялся. Я объяснил, что, когда молчу, мне становится не по себе.
— Пойдем-ка прогуляемся, — предложил дон Хуан. Мы отправились к каньону в часе ходьбы от дома.
После короткой передышки дон Хуан двинулся через густые заросли к высохшему роднику. Теперь на этом месте была лишь ложбинка.
— Сядь сюда, — сказал он. Я сел и спросил:
— А ты?
Он присмотрел себе место на каменистом склоне, метрах в пятнадцати, и сказал, что будет наблюдать за мной. Велел подсунуть под себя левую ногу, а правую согнуть, выставив колено вверх. Правой рукой, согнутой в кулак, упереться в землю, левую положить на грудь. Сидеть расслабившись и смотреть на него.
Дон Хуан достал из сумки какой-то белый шнурок с петлей на конце, набросил петлю себе на шею, а конец сильно оттянул левой рукой. Он тронул шнурок правой рукой — раздался глухой ноющий звук. Сказал, что будет играть на струне. Если я увижу, что ко мне кто-то приближается, нужно немедленно выкрикнуть заветное слово.
Я спросил, кто именно может появиться; но дон Хуан велел молчать. Прежде чем взяться за шнурок, он предупредил еще об одном. Если я увижу что-нибудь угрожающее, я должен принять боевую позу, которой он обучил меня несколько лет назад. Следовало, пританцовывая, бить о землю носком левой ноги и шлепать рукой по правому бедру. Боевая поза была одним из приемов защиты, который колдун применяет в случае крайней опасности.
На мгновение мне стало страшно. Я хотел спросить, зачем мы сюда пришли, но не успел раскрыть рта, как дон Хуан дернул шнурок. Он щипнул несколько раз, с интервалами секунд в двадцать, с каждым разом натягивая шнурок сильнее. От натуги у него дрожали руки и шея. Звук становился все чище. Дергая струну, дон Хуан издавал какой-то необычный крик, который сливался со звуком струны и усиливал его.
Ничего особенного не произошло, но, наблюдая за движениями дона Хуана и слушая звуки, я постепенно впал в транс.
Дон Хуан ослабил натяжение шнурка и посмотрел на меня. До этого он стоял ко мне спиной, повернувшись, как и я, лицом на юго-восток.
— Не смотри на меня, когда я играю, — сказал он, — но глаза ни в коем случае не закрывай. Смотри на землю перед собой и слушай.
Он дернул за шнурок. Я смотрел на землю, сосредоточенно вслушиваясь. В жизни не слышал ничего подобного! Мне стало страшно. Жуткое гудение заполнило узкий каньон, отражаясь от каменистых склонов. Звук струны становился все выше. Эхо затихло, непонятным образом собравшись в одной точке, к юго-востоку от меня.
Дон Хуан постепенно ослабил натяжение шнурка; наконец раздался последний глухой звук. Он убрал шнурок в сумку, подошел ко мне и помог встать. Мышцы рук и ног у меня окаменели; я весь покрылся потом.
Дон Хуан повел меня прочь. Я попытался что-то сказать, но он зажал мне рот рукой. Мы выбрались из каньона окольным путем и молча пошли к дому. Вернулись, когда стемнело. Я опять попытался заговорить, но дон Хуан снова зажал мне рот.
Мы не ужинали, даже не зажигали лампу. Дон Хуан бросил на пол мою циновку и кивком указал на нее. Я послушно лег и заснул.
— Я тебе нашел дело, — сказал дон Хуан, едва я проснулся. — Начнешь сегодня; времени, сам знаешь, мало.
Поколебавшись, я спросил:
— Что ты со мной вчера делал? Дон Хуан рассмеялся:
— Знакомил с духом родника. Его можно вызывать после того, как родник высохнет, а сам он удалится в горы. Вчера я пробудил его от спячки. Но он не рассердился и указал, какая сторона тебе благоприятна. Оттуда слышался его голос.
Дон Хуан указал на юго-восток.
— А что это за шнурок?
— Манок для духа.
— Можно взглянуть?
— Нет, я сделаю тебе другой. А еще лучше, если сделаешь его сам, когда научишься видеть.
— Дон Хуан, из чего он?
— Мой — из жилы кабана. Когда обзаведешься своим, поймешь, что он живой. Он научит тебя звукам, которые ему нравятся, и со временем ты сумеешь извлекать из него музыку, полную силы.
— Зачем ты взял меня на поиски духа?
— Скоро узнаешь.
Около полудня мы уселись на веранде, и дон Хуан приготовил все для курения.
Когда мое тело онемело, он велел встать. Я встал на удивление легко. Дон Хуан помог мне походить. После этого я стал прохаживаться самостоятельно, хотя дон Хуан шел рядом. Затем он отвел меня к канаве, посадил на краю и велел, ни о чем не думая, глядеть на воду.
Я попробовал сосредоточить на чем-нибудь взгляд, но движение воды отвлекало, и я стал глазеть по сторонам. Дон Хуан встряхнул меня и снова приказал глядеть на воду, ни о чем не думая. Трудно сосредоточить взгляд на текучей воде, сказал он, но надо постараться. Я сделал три попытки; всякий раз что-нибудь отвлекало, и дон Хуан легонько меня встряхивал. Наконец удалось удержать внимание на воде. Она показалась более густой, чем раньше, и приобрела серовато-зеленый оттенок. Рябь на ее поверхности была отчетливой и резкой. Внезапно я обнаружил, что вижу не текучую воду, а ее неподвижное изображение. Вода перед моими глазами застыла. Я мог разглядеть каждую ее складку. Рябь замерла — и засветилась зеленоватым туманным свечением. Туман разрастался, делался ярче, и наконец зеленое сияние заполнило все вокруг.
Не знаю, сколько времени я провел у канавы. Светящийся зеленый туман завораживал и успокаивал, все мысли и чувства куда-то исчезли. Остались зелень, свет, покой.
Из забытья меня вывел ужасный холод. Далеко не сразу я понял, что лежу в канаве. Я хлебнул воды и закашлялся. До слез щекотало в носу. Поднявшись на ноги, я несколько раз чихнул, да так сильно, что даже пустил ветры.
Дон Хуан захохотал и захлопал в ладоши.
— Пердишь — значит, жив! — проговорил он сквозь смех и кивком позвал в дом.
Я заставил себя успокоиться. Боялся, что впаду в замкнутое угрюмое состояние, однако не испытывал ни меланхолии, ни усталости, а, наоборот, чувствовал себя бодро. Я мигом переоделся и даже начал что-то насвистывать. Дон Хуан раскрыл рот и вытаращил глаза, изображая крайнее удивление. Гримаса была такой смешной, что я расхохотался.
— Ты с ума сошел! — сказал он, сам хохоча до упаду.
Я объяснил, что стараюсь не поддаться дурному настроению, какое бывает после курения. И добавил, что после первых попыток встретиться со стражем пришел к выводу, что могу вызывать у себя способность «видеть», — для этого нужно долго и пристально смотреть на окружающие предметы.
— Видеть — это не просто смотреть, — возразил дон Хуан. — Это умение, которому надо учиться. Впрочем, некоторые обладают им без всякого обучения. — Он посмотрел на меня так, будто я из числа этих «некоторых».
— Ты можешь идти? — спросил он вдруг.
Я ответил, что чувствую себя прекрасно. Я не испытывал голода, хотя весь день не ел. Дон Хуан бросил в заплечный мешок хлеб и несколько кусков вяленого мяса, вручил мне мешок и жестом велел следовать за ним.
— Куда мы идем? — поинтересовался я. Он кивнул головой в направлении холмов.
Мы достигли каньона с высохшим родником, но туда не пошли, а повернули направо, в горы. Солнце уже клонилось к горизонту. Жары не было, но мне не хватало воздуха, я задыхался. Дону Хуану пришлось остановиться и подождать, пока я догоню. Он сказал, что я в ужасном состоянии и потому дальше идти неразумно. Позволил часок отдохнуть; выбрал гладкий валун и велел лечь на него, указав позу: руки и ноги свешиваются с камня, спина изогнута, шея расслаблена, голова почти висит. Я пролежал минут пятнадцать, после чего дон Хуан велел мне заголить живот. Он набрал каких-то листьев и веток и набросал их на живот. Вскоре я почувствовал, как по всему телу разлилось тепло. Дон Хуан ухватил меня за ноги и развернул на камне головой к юго-востоку.
— Попробуем вызвать духа родника, — сказал он. Я хотел повернуть голову и взглянуть на него, но он ухватил меня за волосы и сказал, что я слаб и должен лежать неподвижно. Листья на животе — для защиты; сам он будет рядом — на всякий случай.
Дон Хуан стоял возле меня; подняв глаза кверху, я мог его увидеть. Он достал шнурок, натянул его и тут заметил, что я гляжу на него. Тогда он стукнул меня костяшками пальцев по голове и приказал не закрывая глаза смотреть в небо и сосредоточиться на звуках. Помолчав, он добавил: если я увижу, что кто-то приближается, нужно немедленно прокричать слово, которому он меня научил.
Дон Хуан принялся щипать манок, натягивая его все сильнее и сильнее. Вначале слышались глухие ноющие звуки, потом с юго-восточной стороны к ним добавилось эхо. Дон Хуан и манок прекрасно дополняли друг друга. Струна издавала низкий звук, дон Хуан, «подпевая», усиливал его интенсивность, доводил до пронзительного воя. Завершающим звуком был жуткий визг, подобного которому я никогда не слыхал. Визг прокатился по горам и возвратился к нам эхом. Меня прошиб холодный пот, зубы выстукивали дробь. Ко мне действительно кто-то приближался. Небо почернело. Охваченный страхом, я прокричал заветное слово.
Дон Хуан тут же ослабил натяжение струны, но легче не стало.
— Заткни уши, — посоветовал он.
Я закрыл уши руками. Через несколько минут манок смолк, и дон Хуан подошел ко мне. Он убрал с моего живота ветки и листья и помог подняться. Положил ветки на валун, где я лежал, поджег. Пока они горели, он растирал мой живот листьями, которые достал из сумки. Я хотел пожаловаться на головную боль, но он зажал мне рот.
Мы дождались, пока сгорят все листья, и двинулись вниз. Стемнело. По дороге у меня невероятно разболелся живот.
Когда мы подошли к канаве, дон Хуан сказал, что с меня достаточно, задерживаться в этих местах больше нельзя. Я попросил рассказать о духе родника, но он обещал поговорить об этом в другой раз, а вместо этого стал толковать о «видении». Я высказал сожаление, что не могу записывать в темноте. Он сказал, что это к лучшему: записывая, я пропускаю слова мимо ушей.
Он говорил о «видении» как о явлении, не связанном ни с гуахо, ни с колдовством. Колдун, говорил он, может повелевать гуахо и таким образом пользоваться его силой для собственных целей. Но это не значит, что колдун «видит». Я напомнил дону Хуану, что совсем недавно он говорил: без гуахо «видеть» невозможно. На это дон Хуан спокойно ответил, что он пришел к выводу, что «видеть» можно и без гуахо. Почему бы и нет, если «видение» никак не связано с колдовством? Колдовство воздействует на окружающих; «видение» никак на них не влияет.
Голова больше не болела, я не ощущал ни сонливости, ни усталости, исчезли и рези в животе. Я проголодался и, едва мы вернулись домой, с жадностью набросился на еду. Поев, попросил дона Хуана подробнее рассказать о «видении». Он улыбнулся и сказал, что я вполне пришел в себя.
— Как это понимать: видение не влияет на окружающих? — спросил я.
— Я уже объяснил, что видение — не колдовство, — ответил он. — Но их легко спутать, потому что тот, кто видит, может управлять гуахо, а значит, стать колдуном. Обратное неверно: можно приручить гуахо и стать колдуном, но это еще не значит, что колдун видит.
Видение противоположно колдовству. Благодаря видению человек обнаруживает, насколько все не важно.
— Что не важно?
— Все.
Мы замолчали. Я очень ослаб и не хотел продолжать разговор. Положив под голову куртку, удобно расположился на циновке и долго занимался своими записями при свете керосиновой лампы. Вдруг старик заговорил снова:
— В этот раз ты вел себя отлично. Ты понравился духу родника, он тебе помогал.
Только сейчас я сообразил, что не рассказал ему о происшедшем, и тут же начал. Дон Хуан прервал:
— Я знаю, что ты видел зеленый туман.
— Откуда?
— Я тебя видел.
— А что я делал?
— Ничего. Сидел и глядел на воду, пока не появился зеленый туман.
— Я видел?
— Не совсем, но почти.
Эти слова меня взволновали, я хотел узнать подробности. Дон Хуан посмеялся над моей нетерпеливостью.
— Увидеть зеленый туман — не достижение, — сказал он. — Это может всякий, так как, подобно стражу, тумана не избежать. Я сказал, что ты вел себя отлично, потому что ты не струсил, как тогда со стражем. Если бы с тобой что-нибудь случилось, то я растолкал бы тебя и вернул назад. Когда ученик входит в зеленый туман, его благодетель должен находиться поблизости — на случай, если тот попадет в ловушку. От стража можно ускользнуть, а вот из объятий тумана, по крайней мере вначале, самому не вырваться. Потом ты этому научишься; а пока нам надо кое-что выяснить.
— Что именно?
— Способен ли ты видеть воду.
— А как я это узнаю?
— Узнаешь... Ты сбиваешь себя с толку, только когда говоришь.
12
При разборе записей у меня возникло немало вопросов.
8 августа 1969 года мы снова сидели с доном Хуаном на веранде, и я расспрашивал:
— Нужно ли побеждать туман, как стража, чтобы овладеть видением?
— Конечно, — ответил он. — Все нужно побеждать.
— А как?
— Точно так же, как стража, — обратив в ничто.
— Что для этого нужно?
— Ничего. С туманом тебе совладать гораздо легче, чем со стражем. Духу родника ты понравился, а страж — не для твоего характера. Ты даже не увидел его по-настоящему.
— Наверное, потому, что он был мне отвратителен. А что, если бы страж мне понравился? Наверняка есть люди, которые нашли бы его привлекательным. Они бы одолели его?
— Совершенно не важно — нравится тебе страж или внушает отвращение. Скорее наоборот! Пока ты испытываешь к нему какие-то чувства, он остается все тем же стражем — ужасным, привлекательным, еще каким-нибудь. Но если никаких чувств к нему нет, он обратится в ничто, хотя и будет оставаться перед твоими глазами.
Мысль о том, что такая махина, как страж, может превратиться в ничто, оставаясь в то же время видимой, показалась мне бессмысленной. Возможно, это одна из иррациональных предпосылок знания дона Хуана. Я попросил разъяснений.
— Ты решил, что в какой-то степени знаешь стража, — сказал он.
— Именно так!
— Ты думал: он уродлив, огромен, страшен... Смысл этих слов тебе известен, а значит, в какой-то мере известен и страж. Поэтому ты его и не видел. Пойми: страж должен превратиться в ничто и в то же время оставаться. Оставаться — и превратиться в ничто.
— Но, дон Хуан, разве это возможно? То, что ты говоришь, — бессмысленно.
— Пусть так. Таково видение. Говорить о нем невозможно, видение постигается только видением. С водой у тебя, кажется, нет проблем, — продолжал он. — Ты ее почти видел. Вода — твой «корень». Теперь остается лишь усовершенствовать мастерство видения. У тебя есть могущественный помощник — дух родника.
— Я хочу поговорить о нем.
— В этих местах лучше этого не делать, — возразил дон Хуан. — Да и вообще постарайся о нем не думать. А то заманит в ловушку, и тогда уж ничто тебе не поможет. Держи язык за зубами и думай о чем-нибудь другом.
На следующее утро, часов в десять, дон Хуан достал из чехла трубку, набил курительной смесью, подал мне и велел идти к канаве. Держа трубку обеими руками, я ухитрился расстегнуть рубашку, засунул трубку под нее и прижал к телу. Дон Хуан принес обе циновки и черепок с углями. День выдался жаркий. Мы уселись у самой воды, в тени невысоких деревьев. Дон Хуан положил в трубку уголек и велел курить. На этот раз я был совершенно спокоен. Я вспомнил, какой благоговейный трепет испытывал в тот раз, когда вторично пытался «увидеть» стража. Сейчас, хотя дон Хуан и предупредил о реальной возможности «увидеть» воду, я не был по-настоящему взволнован, просто полон любопытства.
Дон Хуан заставил выкурить трубку дважды. Потом наклонился и прошептал в правое ухо, что будет учить меня передвигаться с помощью воды. Велел не всматриваться вглубь, а сосредоточиться на поверхности воды, пока она не превратится в зеленый туман. Он несколько раз повторил, что все внимание следует сосредоточить на тумане, больше ни на чем.
— Смотри на воду, но не вслушивайся в плеск, а то он увлечет тебя и я не смогу вернуть тебя обратно. А теперь входи в зеленый туман и слушай мой голос.
Я прекрасно все слышал и понимал. Глядя на воду, я испытывал необъяснимое наслаждение, но никакого зеленого тумана не видел. Мой взгляд то и дело рассеивался, с большим трудом удавалось удерживать его на воде. В конце концов я совершенно утратил способность сосредоточиваться и, кажется, не то мигнул, не то закрыл глаза. Именно в этот момент водная рябь застыла, замерла наподобие рисованного изображения. Потом поверхность воды заискрилась, словно в шипучке лопались пузырьки газа. Искрящаяся водяная масса позеленела, раздалась и превратилась в ярко-зеленый туман.
Туман поглотил меня. Я оставался в нем до тех пор, пока не услышал пронзительный крик: «Э-э-эй!!» Туман рассеялся, я снова увидел воду. Кричал дон Хуан. Он велел мне вернуться в туман и ждать, пока он не позовет обратно.
— О'кей! — ответил я по-английски и услышал его смех.
— Никаких «о'кей», — проговорил дон Хуан. — Пожалуйста, помолчи.
Я отлично его слышал — голос звучал мелодично и очень дружелюбно. Я понял это не размышляя.
Голос дона Хуана велел сосредоточиться на тумане, но не поддаваться ему. Он несколько раз повторил: воин ничему не поддается, даже смерти. Я вновь погрузился в туман и заметил, что это — совсем не туман или, по крайней мере, какой-то необычный туман. Он состоял из массы пузырьков, которые то оказывались в поле моего «зрения», то исчезали из него. Какое-то время я следил за их движением, но вскоре послышался громкий крик, и я перестал их различать. Осталось аморфное свечение, светящийся туман. Снова послышался громкий крик, туман рассеялся, я увидел воду. Голос дона Хуана приблизился и велел не забывать о нем, единственном моем проводнике. Он приказал смотреть на край канавы, прямо перед собой. Я видел место, где дон Хуан брал воду, и осоку. Немного спустя голос велел вернуться в туман, продолжая внимательно прислушиваться к нему. Повторил, что будет учить меня передвигаться. «Когда увидишь пузыри, — сказал голос, — оседлай один из них и позволь ему себя унести».
Я повиновался указаниям. Меня вновь окружил зеленый туман, затем появились пузыри.
— Садись на пузырь! — услышал я громоподобный голос дона Хуана, и пузыри тут же исчезли.
Я старался сосредоточить взгляд на зеленых пузырьках и не прослушать голос и вскоре убедился, что могу делать и то и другое одновременно. Пузыри медленно двигались в поле моего зрения. Дон Хуан снова потребовал, чтобы я догнал и оседлал один из них.
Я стал соображать, как это сделать, и машинально произнес: «Как?» Мне показалось, что это слово лежало где-то внутри меня и выскочило наружу, как буек со дна на поверхность. Мой голос напоминал собачий вой. В ответ дон Хуан тоже завыл по-собачьи, потом затявкал койотом и захохотал. Мне стало невероятно смешно.
— Возвращайся! — приказал дон Хуан. — Назад, в туман!
Я заметил, что движение пузырей замедлилось и они стали увеличиваться, достигнув размеров мяча. Я мог рассмотреть каждый. Они не напоминали ни пузыри, ни шары, ни вообще какие-либо сферические тела. Они казались пустыми и в то же время чем-то наполненными. Да и круглыми они не были, хотя, увидав их впервые, я мог поклясться, что они круглые, и потому мне в голову пришло слово «пузыри». Я наблюдал за пузырями как бы из окна; оконная рама мешала взгляду следовать за ними, я видел только, как они появляются в поле моего зрения и исчезают из него.
Едва я перестал воспринимать их как пузыри, я понял, что могу следовать за ними. Я ухватился за один, и мы поплыли; я сам стал пузырем или той штукой, что напоминала пузырь.
Резкий крик дона Хуана вывел меня из этого состояния. Казалось, он говорит в мегафон. Я разобрал некоторые слова.
— Смотри на берег! — потребовал голос. Я увидел перед собой широкую гладь воды. Вода быстро текла, слышался ее плеск.
— Смотри на берег! — повторил голос. Я увидел... бетонную стену.
Плеск стал оглушительным; звук поглощал меня. Внезапно он смолк, словно его отрезали. Вокруг потемнело; мне захотелось спать.
Очнувшись, я обнаружил, что лежу в канаве. Дон Хуан брызгал мне в лицо водой и что-то негромко напевал. Потом окунул в воду, но голову оставил на поверхности и, держа меня за воротник, вытянул на берег. Я чувствовал приятную истому в руках и ногах. Зато глаза болели и чесались. Я двинул правой рукой, чтобы потереть их; она была как свинцовая. С трудом вытащил руку из воды, а когда вытащил, увидел вокруг нее зеленое облако. Я торопливо вскочил на ноги и, стоя посреди канавы, осмотрел свое тело. Грудь, руки, ноги — все мерцало темно-зеленым светом! Свечение было таким плотным и густым, что казалось каким-то вязким веществом. Я напоминал фигурку, которую дон Хуан вырезал когда-то из корня.
Дон Хуан приказал мне вылезти из канавы.
— Я — зеленый, — сообщил я.
— Брось болтать! — прикрикнул дон Хуан. — Вылезай скорее, не то вода поглотит тебя! Скорее! Скорее!
Поддавшись панике, я выскочил из воды.
— Расскажи, что с тобой случилось, — потребовал дон Хуан, как только мы оказались дома. Его интересовала не последовательность событий, а лишь то, что я видел, когда он велел смотреть на берег. Я рассказал о стене.
— Она была слева или справа? — спросил он. Я видел стену прямо перед собой, но дон Хуан настаивал, что в тот момент, когда я ее увидел, она была или слева, или справа.
— Закрой глаза, — предложил он, — и не открывай, пока не вспомнишь.
Я закрыл глаза. Дон Хуан поднялся и развернул меня лицом к востоку; в таком положении я сидел на краю канавы. Он спросил, в какую сторону я двигался. Я ответил, что все время вперед и прямо. Он потребовал, чтобы я вспомнил тот момент, когда еще воспринимал воду в виде пузырей.
— В какую сторону они двигались?
Наконец я припомнил, что пузыри двигались слева направо, но не был в этом абсолютно уверен. Когда я впервые их увидел, они двигались направо, но, увеличившись в размере, стали разбегаться куда попало. Одни направлялись прямо ко мне, другие вверх и вниз: они окружали меня со всех сторон. Вдруг я вспомнил, как они шипели, — значит, я не только видел, но и слышал их! Когда пузыри увеличились в размере и я оседлал один из них, я увидел, что они трутся друг о друга, словно воздушные шары.
По мере того как я вспоминал подробности, мое возбуждение росло, но дона Хуана мой рассказ, казалось, совсем не интересовал. Я сообщил о шипящих пузырях. Нельзя сказать, что я только видел или только слышал их, скорее воспринимал одновременно зрением и слухом, и к тому же невероятно отчетливо. Я сам был частью шипения и движения.
Припомнив все это, я так разволновался, что стал трясти дона Хуана за руку. Я понял, что у пузырей не было внешних границ и в то же время они были ограничены, меняли свою форму, становились неровными, рваными. Пузыри возникали и исчезали с невероятной быстротой, и вместе с тем их движения были медленными. Они двигались одновременно быстро и медленно.
Следующее воспоминание касалось их цвета. Пузыри были прозрачные, очень яркие и совершенно зеленые, хотя это не было цветом в привычном мне смысле.
— Ты уклоняешься в сторону, — прервал меня дон Хуан. — Не о том вспоминаешь. Самое главное — направление.
Мне казалось, что я перемещался без всякого направления, но дон Хуан пришел к выводу, что, так как пузырьки двигались сначала направо, то есть на юг, юг — это и есть искомое направление. Он снова попросил вспомнить, справа или слева была стена. Я напряг память. Когда дон Хуан позвал меня и я, так сказать, вынырнул на поверхность, стена была, кажется, слева. Я оказался рядом с ней и различил следы пазов и выступов опалубки, в которую заливали бетон. Стена была очень высокая. Я видел только один ее край и вспомнил, что он кончался не углом, а закруглением.
Дон Хуан немного помолчал, а потом сказал, что все это — ерунда и я не сделал того, на что он рассчитывал.
— А что я должен был сделать? — спросил я. Он ответил не сразу, а только пошевелил губами.
— Ты вел себя как надо, — сказал он. — Сегодня ты узнал, как брухо передвигается с помощью воды.
— А я видел?
Старик посмотрел на меня с выражением крайнего удивления, закатил глаза и ответил, что мне придется еще не раз путешествовать в зеленом тумане, прежде чем я сам отвечу на этот вопрос. Он незаметно переменил тему разговора и сообщил, что я не научился еще передвигаться с помощью воды, а только узнал, что брухо способен это делать.
— Двигался ты быстро, — добавил он, — словно это тебе не впервой. Я едва поспевал за тобой.
Я попросил объяснить, что со мной происходило с самого начала. Дон Хуан рассмеялся и медленно покачал головой, как бы удивляясь.
— Во всем ты ищешь начало, — сказал он. — Никакого начала нет, оно — только в твоих мыслях.
— Я считаю началом тот момент, когда я сел у воды и стал курить, — сказал я.
— А до этого, — возразил дон Хуан, — я уже знал, что делать с тобой. А этим действиям предшествовали другие. Так что лучше не думай о начале.
— Тогда расскажи, что произошло после того, как я сел у воды.
— Ты ведь сам уже все рассказал! — со смехом ответил дон Хуан.
— В моих действиях было что-нибудь важное?
Он пожал плечами.
— Ты послушно следовал моим указаниям — и потому легко входил в туман и выходил из него. Слушал мой голос и возвращался на поверхность всякий раз, когда я звал. Остальное — просто. Ты позволил туману унести себя, словно знал, как это делается. Когда ты удалился, я позвал тебя и попросил поглядеть на берег, чтобы ты увидел, как далеко тебя занесло. Потом я вернул тебя назад.
— Ты хочешь сказать, что я в самом деле путешествовал?
— Конечно, и притом очень далеко.
— Куда?
— Ты не поверишь.
Я попытался уломать его, но дон Хуан оборвал разговор, сказав, что должен уйти. Я попросил хотя бы намекнуть о расстоянии.
— Не люблю, когда меня держат впотьмах, — сказал я.
— Ты сам себя держишь, — возразил он. — Подумай как следует о стене, которую видел. Посиди спокойно и припомни каждый ее кусочек, тогда, возможно, поймешь, где побывал. Скажу только одно: ты был далеко и вернуть тебя оказалось нелегко. Не окажись меня поблизости, ты вряд ли вернулся бы; остался бы от тебя только труп в канаве... А может быть, вернулся бы самостоятельно, кто знает. Судя по тому, с каким трудом я тебя вернул, ты, должно быть, был...
Он сделал долгую паузу.
— Сам я добираюсь обычно до Центральной Мексики. Не знаю, где побывал ты, — возможно, в Лос-Анджелесе, а может, и в Бразилии.
Дон Хуан вернулся лишь на следующий вечер. За это время я успел записать все, что сумел вспомнить. Мне пришло в голову пройтись вверх и вниз по течению канавы и поискать что-нибудь похожее на бетонную стену. Я заподозрил, что дон Хуан провел меня в сомнамбулическом состоянии вдоль канавы и указал на какую-нибудь стену поблизости. Прикинув время с момента, когда я увидел туман, до момента, когда выскочил из канавы, я пришел к выводу, что вряд ли прошел больше четырех километров. Я обследовал берега канавы на пять километров вверх и вниз, тщательно выискивая что-либо похожее на стену. Увы, это была самая обычная канава для орошения, шириной в полтора метра. Мне не удалось отыскать ничего такого, что хотя бы отдаленно напоминало бетонную стену.
Когда вернулся дон Хуан, я начал было читать ему вслух записи, но он не стал слушать, заставил меня сесть и сел сам — лицом ко мне. Взгляд его был устремлен вдаль; казалось, он о чем-то размышляет.
— Теперь ты, вероятно, понимаешь, — сказал он очень серьезным тоном, — насколько все опасно. Вода — не лучше стража, и если не будешь с ней настороже, она тебя проглотит. Вчера это едва не случилось. Но в ловушку попадает только тот, кто сам этого хочет. Твоя слабость в том, что ты слишком легко отдаешься на произвол случая.
Я не понял, о чем говорит дон Хуан, так внезапно обрушился он на меня, и попросил объяснений. Он сказал, что ходил в каньон и «видел» духа родника, и добавил, что я упустил возможность «увидеть» воду.
— Когда? — удивился я.
— Дух — сила, — ответил дон Хуан, — и признает только силу. В его присутствии никакие послабления недопустимы.
— А когда я позволил себе послабление?
— Вчера, когда позеленел в воде.
— Но это не так! Напротив, я решил, что это — важный момент, потому и рассказал тебе о нем.
— Кто ты такой, чтобы решать, что важно, а что нет? Что тебе известно о силах, с которыми ты сталкиваешься? С тобой был дух родника, он помогал тебе до тех пор, пока ты не проявил слабость. Не знаю, чем это кончится. Ты уступил духу, и теперь он может овладеть тобой в любой момент.
— Что особенного в том, что я позеленел?
— Ты утратил власть над собой, отдался на волю случая, сказал себе: будь что будет. В этом твоя ошибка. Я уже говорил не раз и повторяю снова: чтобы выжить в мире брухо, нужно стать воином. Воин ко всему относится с почтением. Вчера у тебя его не было. Обычно ты ведешь себя правильно, но вчера поддался слабости — и едва не поплатился своей жизнью. Запомни, воин никому не уступает, даже собственной смерти. Если воин что-то делает, можешь быть уверен: он знает, что делает.
Я не знал, что ответить: казалось, дон Хуан не на шутку рассердился. Я редко видел его таким и потому встревожился. Я сказал, что даже не подозревал, что делаю что-то неправильно. Старик долго молчал, потом снял шляпу, улыбнулся и сказал, что мне нужно уметь управлять своими слабостями. И добавил:
— Три-четыре месяца держись подальше от воды.
— Но мне не обойтись без душа! — воскликнул я.
Дон Хуан расхохотался:
— Не обойтись без душа! Да ты никак смеешься? А ведь дело нешуточное. В те минуты, когда ты теряешь контроль над собой, силы твоей жизни легко тобой овладевают.
Я возразил, что невозможно все время держать себя под контролем. Дон Хуан сказал, что воин держит под своим контролем все. Я напомнил о случайностях и сказал, что происшедшее со мной в канаве — из числа таких случайностей. Есть люди, на которых обрушиваются несчастья, и иначе как случайностью этого не объяснишь. Взять хотя бы старого индейца Лукаса: его грузовик перевернулся и он сильно покалечился — разве это не случайность?
— От случайности не уберечься, — настаивал я. — Невозможно контролировать все, что происходит вокруг.
— Верно, — согласился дон Хуан. — Но не всякое происшествие случайно. Лукас — не воин. Если бы он был воин, тогда бы он знал, что он ждет и чего он ждет, и не садился бы пьяный за руль. Лукас налетел на скалу, потому что был пьян, и стал калекой из-за собственной глупости. Жизнь воина, — добавил он, — постоянное упражнение в правильном поведении. Ты вот все спрашиваешь о смысле жизни, а воина это не волнует. Будь Лукас воином — а он, как и любой из нас, может им быть, — он бы отстоял себя. И даже став калекой, нашел бы способ жить по-человечески. Будь Лукас воином, он боролся бы до конца, а не подыхал бы в своей вонючей хибаре с голоду.
Я спросил: а что, если бы дон Хуан сам попал в катастрофу? Скажем, лишился обеих ног. Что бы он тогда предпринял?
— Если бы я не смог жить как человек, — ответил дон Хуан, — то я присоединился бы к тем, кто ожидает нас за пределами этого мира.
Дон Хуан широким взмахом руки обвел вокруг.
Я сказал, что он меня не понял. Я имел в виду, что человек не в силах предусмотреть все случайности, подстерегающие его в обыденной жизни.
— На это я тебе скажу, — произнес дон Хуан строго, — что воина врасплох не застанешь. Он — не из тех, кто стоит разинув рот на дороге; он избегает столкновения с непредвиденным. Случайностей, о которых ты говоришь, избежать не так уж трудно, если, конечно, ты не глупец и не разиня.
— Но постоянно жить настороже невозможно, — не сдавался я. — Представь, что кто-то подкарауливает тебя с винтовкой с оптическим прицелом. С расстояния триста метров он легко уложит тебя на месте. Что бы ты стал делать?
Дон Хуан недоверчиво взглянул на меня и рассмеялся.
— Что бы ты стал делать? — домогался я.
— Если бы кто-то поджидал меня с винтовкой? — переспросил он, явно подсмеиваясь надо мной.
— Да, если бы кто-то поджидал тебя в засаде. У тебя не было бы шанса остаться в живых. Ты ведь не можешь остановить пулю?
— Нет. Но я не понимаю, о чем ты толкуешь.
— О том, что в этой ситуации никакое «правильное поведение» не поможет.
— Почему же? Если кто-то подкарауливает меня с винтовкой, я в тех местах просто не появлюсь!
13
Очередную попытку «видеть» я предпринял 3 сентября 1969 года. Дон Хуан дал мне выкурить две трубки смеси; ее воздействие было таким же, как и в последний раз. Когда мое тело онемело, дон Хуан взял меня под руку и повел в чапараль; колючий пустынный кустарник простирался вокруг дома на многие километры. Не помню, как мы шли и что делали; наконец оказались на вершине какого-то невысокого холма. Дон Хуан велел мне сесть и сам сел, поддерживая меня, рядом. Рук его я не чувствовал, но видел старика краешком глаза. Он что-то говорил. Слов не помню, но тогда я отлично их воспринимал. Они напоминали вагоны уносящегося вдаль поезда, и последнее слово было тормозным вагоном. Я понимал, о чем оно, но не мог ни выговорить его, ни даже обдумать. Я пребывал в полудремотном состоянии и, словно во сне, видел поезд из слов.
Потом услышал, как дон Хуан очень тихо проговорил:
— Посмотри на меня! — Он повторил эти слова трижды и повернул мне голову так, чтобы я его видел.
Я тут же увидел свечение — такое же, как наблюдал раньше. Зрелище завораживало: волнообразный струящийся свет. Четкие границы у него отсутствовали, и вместе с тем он не покидал какие-то пределы. Я скользнул взглядом по сияющему нечто; свет потускнел, и выплыло, как бы наложенное поверх него, лицо дона Хуана. Я снова сосредоточил взгляд; лицо тут же расплылось, свечение усилилось. Я перевел взгляд туда, где угадывался левый глаз: струение света было здесь сильнее и напоминало искрящиеся вспышки. Вспышки ритмически повторялись и выбрасывали лучи света, которые то устремлялись ко мне, то возвращались, словно на резиновых нитях, назад. Вероятно, дон Хуан опять повернул мне голову: я увидел перед собой вспаханное поле.
— Смотри вперед, — услышал я его голос. Впереди, метрах в ста пятидесяти, виднелся большой покатый холм со вспаханными склонами. От подошвы холма до его вершины параллельными рядами тянулись борозды. Однообразие борозд нарушали три больших валуна и множество мелких камней. Прямо передо мной росли кусты, они мешали разглядеть овраг или каньон у подошвы горы. На фоне пустынного холма овраг казался зеленым шрамом — по-видимому, на дне его росли деревья. Легкий ветерок дул мне в лицо. Не слышно было ни щебета птиц, ни жужжания насекомых. Мною овладели глубокий покой и умиротворение.
Дон Хуан заговорил снова, но я не сразу его понял.
— Видишь человека на поле? — повторил он. Я никого не видел и не мог произнести ни слова.
Дон Хуан взял меня сзади за голову и стал медленно поворачивать ее из стороны в сторону.
— Подмечай каждую мелочь, — твердил он. — От этого может зависеть твоя жизнь.
Он повернул мою голову раза четыре. Вдруг мне показалось, что слева по полю кто-то идет. Я уловил движение краем глаза, сосредоточился на нем и разглядел человека, бредущего вдоль борозды. Одет он был как мексиканский крестьянин: сандалии, светлосерые штаны, рубаха с длинными рукавами, соломенная шляпа, мешок на лямке через плечо.
Дон Хуан понял, что я кого-то заметил, и стал спрашивать, куда он смотрит и не идет ли в мою сторону. Я хотел ответить, что человек удаляется, так как видел его со спины, но смог произнести лишь слово «нет». Дон Хуан предупредил: если он направится ко мне, надо закричать. Тогда дон Хуан повернет мне голову и тем самым защитит.
Я наблюдал, не испытывая ни малейшего страха. Посреди поля человек остановился. Поставил правую ногу на валун, вытащил из мешка какую-то веревку, обвязал левую руку. Потом, по-прежнему спиной ко мне, стал медленно поворачивать голову, будто осматривая холмы. Я увидел его в профиль, затем он повернулся всем телом и посмотрел в мою сторону. Его голова дернулась, и я понял, что он меня заметил. Протянув вперед левую руку, он двинулся ко мне.
— Идет! — закричал я.
Дон Хуан, видимо, тут же повернул мне голову: я увидел перед собой заросли кустарника. Дон Хуан велел смотреть на предметы «вскользь», не сосредоточиваясь. Предупредил, что отойдет от меня и снова вернется; я должен внимательно наблюдать за ним, пока не увижу свечение.
Он отошел метров на пятнадцать с такой проворностью, что я не мог поверить, что это дон Хуан. Повернулся и велел смотреть на него.
Лицо дона Хуана излучало снопы света. Казалось, я прищурив глаза гляжу на яркую лампу. Свет струился по его груди до пояса. Вероятно, дон Хуан приблизился: свет стал ярче и интенсивнее. Он что-то сказал. Пытаясь понять сказанное, я перестал видеть сияние: рядом сидел обычный дон Хуан. Я сосредоточился на его лице и опять увидел свечение. Словно кто-то направлял на меня крохотные зеркальца; чем ярче свет, тем сильнее расплывалось лицо, пока не превратилось в мерцающее свечение. Снова возникли пульсирующие вспышки света, исходящие, вероятно, из левого глаза. Я не стал задерживать свой взгляд и перевел его, угадав по соседству правый глаз. Здесь был прозрачный источник, жидкий свет.
Я понял, что воспринимаю его не одним зрением, но всеми чувствами. В источнике темного жидкого света угадывалась невероятная глубина. Свет был «дружеским», «добрым» и не вспыхивал, а переливался, медленно закручивался внутрь. Сияние завораживало и успокаивало.
Дон Хуан, должно быть, опять повернул мне голову: я увидел вспаханный склон холма и услышал, что он велит наблюдать за человеком.
Тот стоял у валуна и смотрел на меня. Шляпа закрывала ему лицо, я не мог его разглядеть. Постояв немного, он поправил мешок и двинулся направо. Дойдя почти до края пахоты, он резко изменил направление и сделал несколько шагов к оврагу. Я перестал контролировать взгляд, и человек исчез, а вместе с ним весь окружающий пейзаж... Я увидел прежние заросли кустарника.
Не помню, как мы вернулись домой и что дон Хуан делал, «возвращая меня назад». Проснулся я на своей циновке: у меня кружилась голова, с желудком творилось что-то неладное. Дон Хуан помог встать и повел в кусты за дом. Меня вырвало, и сразу стало легче. Я взглянул на часы: одиннадцать часов вечера. Я отправился спать. Назавтра пришел в себя лишь к часу дня.
Дон Хуан то и дело спрашивал, как я себя чувствую. Я ни на чем не мог сосредоточиться, был очень рассеян, и, заметив это, он вывел меня прогуляться возле дома. Вскоре меня опять потянуло в сон.
Проснувшись под вечер, я обнаружил, что лежу на куче каких-то листьев. Они издавали неприятный запах; я вспомнил, что чувствовал этот запах во сне. На этот раз мне было гораздо лучше.
Я отправился на задний двор и нашел дона Хуана возле канавы. Увидев меня, он криком и жестами вернул меня назад и вскоре сам появился в доме.
— Не смей меня разыскивать! — приказал он. — Если я тебе нужен, сиди и жди.
Я извинился. В ответ он заметил, что извинениями делу не поможешь. Потом сказал, что с большим трудом «вернул меня». Предложил выкупаться. Я стал уверять, что чувствую себя отлично, но он внимательно поглядел на меня и повторил:
— Пойдем, окуну тебя.
— Но я отлично себя чувствую! Смотри, могу даже писать, — возразил я.
Дон Хуан силой стащил меня с циновки.
— Без капризов! — сказал он. — В любой момент ты можешь заснуть, и неизвестно, сумею ли я тебя добудиться.
Мы отправились за дом. По пути к канаве дон Хуан велел мне закрыть глаза и не открывать, пока он не позволит. Он добавил, что если я взгляну на воду, то могу умереть. Потом схватил за руку и с головой окунул в воду.
Он продержал меня в канаве не меньше часа; все это время я не открывал глаз. Купание взбодрило меня: все плохое куда-то исчезло, оставив ощущение бодрости и благополучия. Зато в нос набралось изрядно воды, я расчихался. Дон Хуан вытащил меня из канавы и, по-прежнему не позволяя открыть глаза, повел домой. Он заставил меня переодеться, усадил на циновку, развернул в нужном направлении и только тогда разрешил открыть глаза.
То, что я увидел, заставило меня отпрянуть назад и вцепиться ему в ногу. Дон Хуан стукнул костяшками пальцев мне по макушке; удар был не сильным, но болезненным.
— Что с тобой? Ты что-то увидел? — спросил он. Я не знал, что и сказать. Открыв глаза, я увидел знакомый пейзаж и человека на поле. На этот раз он стоял совсем рядом, почти касаясь меня. Лицо показалось мне знакомым, я почти узнал его. Как только дон Хуан стукнул, видение исчезло.
Я посмотрел на дона Хуана. Он засмеялся и, подняв кулак, спросил, не желаю ли я получить еще. Я отпустил его ногу и опустился на циновку. Старик велел смотреть прямо перед собой, ни в коем случае не поворачиваться в сторону канавы.
Только сейчас я заметил, что в комнате совершенно темно, и даже потрогал глаза руками, — они были открыты. Я громко позвал дона Хуана и заявил, что у меня что-то случилось со зрением: я ничего не вижу, хотя минуту назад видел, как он собирается стукнуть меня по голове. Дон Хуан засмеялся и зажег лампу. Комната выглядела как обычно: глинобитные стены, развешанные на них пучки трав, крыша из тростника, свисающая с балки керосиновая лампа. Сотни раз видел я эту комнату, но сейчас вдруг почувствовал, что и в ней, и во мне появилось что-то новое. Впервые в жизни я усомнился в «реальности» своего восприятия. Я и раньше был близок к сомнению, не раз об этом размышлял, но никогда не испытывал так всерьез. Я перестал верить в то, что комната «реальна», и на мгновение мне даже показалось: если дон Хуан стукнет меня по голове еще раз — все, что я сейчас вижу, исчезнет.
Меня трясло и подергивало, как от холода; позвоночник свело; голова налилась тяжестью, особенно затылок. Я пожаловался дону Хуану и рассказал об увиденном. Он рассмеялся и ответил, что поддаваться страху — глупый каприз.
— Подумаешь, событие — увидел гуахо! Подожди, столкнешься с ним нос к носу, тогда и наложишь в штаны.
Дон Хуан велел мне встать, идти к машине, не поворачиваясь в сторону воды, и там ждать; он прихватит лопату и веревку. Потом мы куда-то ехали, а приехав, стали выкапывать в темноте огромный пень. Копали долго, но так и не выкопали, зато я почувствовал себя гораздо лучше. Вернулись домой, поужинали, и снова все стало «реальным» и привычным.
— Что со мной было вчера? — спросил я. — Что я делал?
— Курил. Сначала — меня, потом — гуахо, — ответил дон Хуан.
— Извини, не понял...
Старик рассмеялся и сказал, что сейчас я попрошу его рассказать все с самого начала.
— Ты курил меня, — повторил он. — Глядел в мои глаза, видел, как светится лицо. Я — колдун, ты увидел это по моим глазам, но ничего не понял, потому что ты Увидел впервые. У людей разные лица и разные глаза, скоро ты сам это поймешь. Потом ты курил гуахо.
— Ты имеешь в виду того человека в поле?
— Это не человек, а гуахо. Он звал тебя.
— Где мы были, когда я его увидел?
Старик кивком головы указал на окрестности за домом и сказал, что водил меня на холм. Я заметил что, в пейзаже, который я видел, чапараля не было, на что дон Хуан ответил, что звавший меня гуахо — не из этих краев.
— Откуда он?
— Скоро мы туда отправимся.
— А как понимать то, что я видел?
— Ты учился видеть, только и всего. А теперь испугался из-за собственного каприза и чуть штаны не потерял. Кажется, тебе и в самом деле нужно выговориться.
Я стал рассказывать, каким видел его лицо, но дон Хуан прервал меня и сказал, что это совершенно не важно.
— То есть как? — удивился я. — Ты выглядел как «светящееся яйцо», значит, я тебя почти видел!
— Почти не считается, — усмехнулся дон Хуан. — Видение потребует у тебя еще немало времени и усилий.
Его больше интересовали подробности о вспаханном поле и человеке, который шел по нему.
— Гуахо позвал тебя, — сказал он. — Я повернул тебе голову в сторону — не потому, что он опасен, а просто пока лучше подождать. Не надо спешить. Воин никогда не бездействует и никогда не спешит. Встретиться с гуахо не подготовившись — все равно что сесть на ежа голым задом.
Сравнение мне понравилось, и мы посмеялись.
— А если бы ты не повернул мне голову?
— Тебе пришлось бы сделать это самому.
— Ну а если бы не сделал?
— Гуахо перепугал бы тебя до смерти. Окажись ты один, он мог бы тебя даже убить. Пока не научишься защищаться, нельзя ходить одному ни в горы, ни в пустыню. Гуахо подстережет и сделает из тебя котлету.
— Что означают его действия?
— Посмотрев на тебя, он таким образом тебя приветствовал. Показал, что тебе пора обзавестись манком для духа и сумкой, но искать их следует не в наших краях. Три валуна — три препятствия на твоем пути. Овраг, указанный гуахо, означает, что обретать силу тебе лучше всего в оврагах или каньонах. Остальное поможет определить место, где ты найдешь гуахо. Я знаю, где оно находится. Скоро мы туда отправимся.
— Ты хочешь сказать, что это место есть на самом деле?
— Конечно!
— Где?
— Не скажу.
— А как же я его найду?
— И этого не скажу. И не потому, что не хочу, а просто не сумею.
Я попросил его объяснить то, что я увидел, находясь в доме. Дон Хуан засмеялся и изобразил, как я вцепился ему в ногу.
— Гуахо подтвердил, что ты ему нужен. В очередной раз показал свое благорасположение.
— А его лицо?
— Оно знакомо тебе потому, что ты его уже видел. Возможно, это лицо твоей смерти. А испугался ты по собственной глупости. Хорошо, что я был рядом и успел тебя стукнуть, а то бы тебе не поздоровилось. Чтобы противостоять гуахо, надо быть настоящим воином, иначе гуахо рассвирепеет и уничтожит тебя.
Наутро дон Хуан отговорил меня возвращаться в Лос-Анджелес. Вероятно, ему показалось, что я не совсем пришел в себя, и он посоветовал для восстановления сил посидеть дома, лицом на юго-восток. Сам сел слева, протянул блокнот и сказал:
— На этот раз ты связал меня по рукам и ногам. Я вынужден не только сидеть с тобой, но и разговаривать. В сумерки отведу тебя к воде, — продолжал он. — Ты еще не окреп, сегодня тебе нельзя оставаться одному.
Его озабоченность меня встревожила.
— Я сделал что-то не так? — спросил я.
— Потревожил гуахо.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Сегодня нельзя говорить о гуахо, поговорим о чем-нибудь другом.
Разговаривать не хотелось — меня охватила непонятная тревога. Дону Хуану мое состояние показалось забавным.
— Только не уверяй меня, что тебе нечего сказать, — со смехом произнес он.
Его веселость меня успокоила, и я тут же вернулся к размышлениям о гуахо. Лицо было знакомым, хотя я никогда не видел его раньше. В чем дело? Едва я начинал думать о лице, как меня отвлекали самые разные мысли, словно какая-то часть моего сознания знала секрет, но противилась тому, чтобы он раскрылся. Воспоминание о знакомом лице было настолько мучительным, что я впал в меланхолию. К тому же дон Хуан сказал, что это, возможно, лицо моей смерти.
— Дон Хуан, что такое смерть? — выпалил я после долгих раздумий.
— Не знаю, — улыбнувшись, ответил он.
— У каждого человека есть какое-то представление о смерти. Я хотел бы узнать о твоем.
— Не понимаю, что ты имеешь в виду.
В багажнике у меня лежала «Тибетская книга мертвых», и я решил воспользоваться ею для беседы о смерти. Я сказал дону Хуану, что почитаю ему, и хотел встать, но он не разрешил мне двигаться и сам сходил за книгой.
— Нет хуже времени для колдунов, чем утро, — сказал он, объясняя, почему я должен сидеть дома. — Ты слишком слаб, чтобы выходить наружу; а здесь защищен. Если выйдешь, может случиться несчастье. Гуахо убьет тебя, а после твое тело найдут на дороге или в кустах и скажут, что ты умер таинственным образом или пал жертвой несчастного случая.
Мне не хотелось обсуждать эти слова. Все утро я читал и объяснял дону Хуану «Книгу мертвых». Он слушал внимательно, не перебивая. Мы прервали чтение лишь дважды, когда он выходил за едой и питьем. Вернувшись, тут же попросил продолжить. Кажется, книга его заинтересовала.
Когда я кончил читать, дон Хуан сказал:
— Не понимаю, почему эти люди говорят о смерти так, словно она похожа на жизнь.
— Так они себе ее представляют. Как по-твоему, дон Хуан, тибетцы видят?
— Вряд ли. Когда человек видит, он ничему не придает особого значения. Нет ничего, что было бы для него важнее всего остального. Если бы тибетцы видели, они так бы и написали: ничто не остается прежним. Когда мы видим, ничто не остается таким, каким было.
— Но быть может, люди видят по-разному?
— Конечно. Все равно это не значит, что жизнь важнее всего остального.
— Дон Хуан, тибетцы считают, что смерть похожа на жизнь. А как по-твоему?
— По-моему, смерть вообще ни на что не похожа. Возможно, тибетцы толкуют не о смерти, а о чем-то другом.
— О чем?
Тебе лучше знать — я ведь читать не умею.
Я хотел возразить, но он вдруг сказал:
— А может, они и вправду видят и поняли, что видеть нет никакого смысла. Потому и нагородили всю эту чепуху, что им все равно. В таком случае то, что они написали, — не такая уж чепуха.
— Меня интересует не то, что хотели сказать тибетцы, — возразил я, — а то, что скажешь ты. Что ты думаешь о смерти?
Дон Хуан комически выпучил глаза и высоко поднял брови.
— Смерть, — проговорил он, — это вихрь. Смерть — это лицо гуахо, белое облако над горизонтом, шепот Мескалито в твоих ушах. Смерть — это беззубая пасть стража, Хенаро, стоящий на голове, Карлос со своим блокнотом. Смерть — это ничто. Ничто! Она здесь — и ее нет.
Старик рассмеялся. Его смех напоминал песню — в нем был какой-то завораживающий ритм.
— Думаешь, я несу чушь? — спросил дон Хуан. — Я не способен объяснить, на что похожа смерть. Но могу рассказать кое-что о твоей собственной смерти. По крайней мере о том, на что она будет похожа.
Это предложение меня испугало, и я возразил, что меня интересует его мнение о смерти вообще, а не об обстоятельствах чьей-то смерти, пусть даже моей собственной.
— О смерти вообще я говорить не умею, — заявил дон Хуан. — Ты захотел услышать о смерти? Пожалуйста! Почему бы не поговорить о твоей смерти?
Я признался, что для такого разговора у меня слабоваты нервы. Я готов поговорить о смерти вообще, как когда-то дон Хуан рассказывал о смерти своего сына Эулалио. Тогда он сказал, что жизнь и смерть соединяются в неком инеистом тумане.
— Я хотел сказать, что жизнь, заключенная в моем сыне, в момент смерти раскрылась. Я не имел в виду смерть вообще, я говорил о смерти моего сына. В смерти, какой бы она ни была, его жизнь раскрылась.
Я снова попытался отклонить разговор от частностей — и рассказал дону Хуану, что читал о людях, которых удалось оживить вскоре после их смерти. Все они утверждали, что ничего не помнят, что в памяти у них провал.
— Так оно и есть, — сказал дон Хуан. — У смерти две ступени, и первая из них — провал в памяти. На этой ступени сознание отключается: она напоминает начало действия Мескалито, когда человек испытывает легкость и счастье и все кажется ему простым и ясным. Но вскоре это состояние проходит, и человек попадает в мир, где царят жестокость и насилие. Вторая ступень — настоящая встреча с Мескалито. Смерть сродни ей. На первой ступени отключается сознание, на второй происходит встреча со смертью, когда человек, придя в себя после беспамятства, обнаруживает, что он — тот же, кем был. В это мгновение смерть с яростью бросается на него и не отступает до тех пор, пока не распылит его жизнь в ничто.
— Почему ты уверен, что говоришь именно о смерти?
— У меня есть гуахо. Дымок показал мне, какой будет моя смерть. Вот почему я могу говорить не о смерти вообще, а о чьей-то смерти.
От его слов мне стало не по себе. Я испугался, что сейчас дон Хуан примется в подробностях описывать мою смерть и расскажет, где и когда я умру. Мысль о том, что я могу это узнать, повергла меня в отчаяние и одновременно возбудила любопытство. Конечно, я мог бы попросить дона Хуана рассказать о его собственной смерти, но эта просьба показалась мне слишком жестокой. У меня был такой растерянный вид, что дон Хуан расхохотался.
— Ну так как, хочешь узнать о своей смерти или нет? — спросил он с лукавой миной.
— Ладно, говори, — сказал я дрогнувшим голосом.
Дон Хуан скорчился в приступе смеха; ухватившись за живот, он завалился на спину и стал меня передразнивать: «Л-ладно, г-г-говори!» Затем сел, как истукан, и с притворной суровостью произнес:
— Вторая ступень твоей смерти будет такой...
Он уставился на меня, высоко подняв брови. Я засмеялся, поняв, что своим шутовством дон Хуан снимает лишний драматизм.
— Ты много ездишь, — продолжал он, — и после смерти окажешься за рулем. У тебя не будет даже времени понять, что с тобой случилось. Ты сидишь в машине, как бывало тысячи раз, и вдруг замечаешь впереди что-то странное. Приглядевшись, видишь, что это то ли облако, то ли светящийся вихрь, то ли чье-то лицо... Облако постепенно удаляется и превращается в светлую точку, потом возвращается, набирает скорость и в мгновение ока пробивает ветровое стекло. Но ты силен. Чтобы добить тебя, смерти придется разогнаться еще раз.
Тем временем ты, возможно, поймешь, где ты и что с тобой. Вот смерть превратилась в точку на горизонте и снова разгоняется, чтобы добраться до тебя. Она врывается, проникает в тебя, и ты узнаешь: смерть — это лицо гуахо, мои слова, твои записи. И одновременно смерть — ничто. Она ничто, точка, затерявшаяся на страницах твоего блокнота. Но она ворвется в тебя с неодолимой силой и сначала расплющит тебя, а потом распылит над землей, в небе, за его пределами; она превратит тебя в инеистый туман, разлетающийся, исчезающий...
Картина моей собственной смерти заворожила меня, долгое время я не мог произнести ни слова. Дон Хуан продолжал:
— Смерть входит в нас через живот, через щель воли. Это место — самое главное, самое уязвимое в человеке. Здесь сосредоточена воля, здесь брешь, через которую проникает смерть. Я знаю это потому, что мой гуахо довел меня до этой ступени. Колдун, упражняя волю, позволяет смерти овладеть им. И когда он начинает распадаться, его непоколебимая воля берет верх над смертью и превращает туман в человека.
Дон Хуан сделал странный жест: растопырил обе ладони веером и, подняв их, коснулся большими пальцами боков, затем медленно свел к животу, чуть выше пупа, и напряг до дрожи. Снова поднял, коснулся средними пальцами лба и резко вернул в прежнее положение. Проделал он это не без изящества.
— Воля колдуна возвращает его к жизни, — произнес он. — Но к старости колдун слабеет, а вместе с ним слабеет воля, и неизбежно наступает время, когда он не способен более управлять своей волей. Ему нечего больше противопоставить смерти, и его жизнь, как и жизнь обычных людей, распыляется в туман.
Дон Хуан пристально поглядел на меня и встал. Меня била дрожь.
— Можешь сходить в кусты, — сказал он. — Уже полдень/Только не подходи близко к воде. Я окуну тебя еще раз сам.
Позже дон Хуан попросил меня съездить с ним в ближний городок. Я охотно согласился, подумав, что поездка поможет мне рассеяться. Мне по-прежнему было не по себе: мысль о том, что колдун в буквальном смысле слова играет с собственной смертью, повергла меня в смятение.
— Быть колдуном — дело не из легких, — заметил дон Хуан, словно угадав, о чем я думаю. — Куда лучше научиться видеть. Колдун по сравнению с тем, кто видит, — нищий.
— Дон Хуан, что такое колдовство?
Старик долго глядел на меня, чуть покачивая головой.
— Колдовство — это направленное действие воли. Колдун отыскивает ключевую точку того, на что хочет воздействовать, и направляет на нее свою волю. Колдун не обязан видеть, ему достаточно умело применять волю.
Я спросил, что такое ключевая точка. Вместо ответа дон Хуан спросил, что такое автомобиль.
— Ну, это машина, механизм.
— А главное в нем свеча зажигания. Это и есть ключевая точка — я могу приложить к ней свою волю, и машина не тронется с места.
Дон Хуан уселся в машину, устроился поудобнее и позвал меня.
— Смотри, что я делаю, — сказал он. — Я — ворона, мне надо распушить перышки.
Дон Хуан задрожал всем телом, словно воробей, который плещется в луже. Потом склонил голову, как птица, опустившая в воду клюв.
— До чего ж приятно! — воскликнул он и засмеялся.
Смех был какой-то странный, завораживающий. Я вспомнил, что и раньше его слышал, но не придавал особого значения — вероятно, потому, что дон Хуан никогда не смеялся так долго, как сейчас.
— А теперь ворона повертит головой, — объявил он и завертел головой, касаясь щеками плеч. — Осмотрится — сначала одним глазом, потом другим...
Дон Хуан покачал головой, как бы приглядываясь к окружающему то одним глазом, то другим. Он засмеялся еще громче, и у меня возникло нелепое ощущение, будто он и впрямь превратится сейчас в ворону. Я хотел смехом стряхнуть наваждение, но не мог засмеяться, словно меня сковала какая-то неведомая сила. Ни страха, ни головокружения, ни сонливости я не испытывал. Насколько я мог судить, ничто во мне не изменилось.
— А теперь заводи мотор! — потребовал дон Хуан.
Я включил стартер и нажал на педаль газа. Стартер взвыл, но мотор почему-то не завелся. Смех дона Хуана напоминал кудахтанье. Я снова и снова пытался завести мотор. Старик продолжал смеяться. Промучившись минут десять, я бросил это занятие и с тяжелой головой откинулся на сиденье.
Дон Хуан перестал смеяться, и тогда я понял: его смех вызвал у меня состояние транса. Хотя я полностью отдавал себе отчет в происходящем, мне казалось, что я — это не я. Заводя машину, я чувствовал, что одеревенел, как будто дон Хуан проделал что-то не только с автомобилем, но и со мной. Как только он перестал смеяться, я понял, что все кончилось, и снова включил стартер. Краешком глаза я заметил, что старик с интересом поглядывает на меня.
Дон Хуан похлопал меня по спине и сказал, что злость «укрепила» меня, так что купаться в канаве нет нужды.
— Да ты не стесняйся, — посоветовал он, — лягни свою телегу как следует, она и заведется!
Он разразился смехом, на этот раз обычным, и мне ничего не оставалось, как глупо захихикать. Тогда дон Хуан объявил, что отпускает мою машину на свободу. И надо же, она тут же завелась!
14
28 сентября 1969 года
Приехав к дону Хуану, я не обнаружил его возле дома. Это показалось мне странным, и я решил, что он спрятался где-то поблизости, чтобы напугать меня.
Я позвал его, а потом, набравшись смелости, вошел в дом. Дона Хуана там не было. Я поставил сумки с продуктами на пол и сел его дожидаться, как приходилось уже не раз. Но впервые за все годы мне вдруг,стало страшно оставаться в доме одному. Казалось, здесь был кто-то еще, невидимый. Вспомнив, что несколько лет назад уже испытал подобное чувство, я вскочил и выбежал из дому.
Приехал я пожаловаться дону Хуану, что попытки овладеть «видением» сказались на мне дурно. Я плохо себя чувствовал, быстро уставал, постоянно испытывал какую-то беспричинную тревогу.
Страх перед одиночеством в доме дона Хуана напомнил мне об одном событии из прошлого...
Это случилось несколько лет назад, когда дон Хуан столкнул меня с ведьмой по имени Каталина. 23 ноября 1961 года, приехав к дону Хуану, я застал его с вывихнутой лодыжкой. Он объяснил случившееся кознями врага — его пыталась убить ведьма, которая умеет превращаться в черного дрозда.
— Как только смогу ходить, покажу ее тебе, — пообещал он. — Ты должен ее знать.
— Зачем ей тебя убивать?
Он только пожал плечами и ничего не ответил.
Десять дней спустя я снова навестил дона Хуана. Он уже не хромал и бойко повертел лодыжкой, продемонстрировав, что она зажила. Свое быстрое выздоровление он объяснил действием особой повязки.
— Хорошо, что ты здесь, — сказал дон Хуан. — Сегодня мы немного прогуляемся.
Он указал, куда ехать, и мы покатили в какую-то совершенно безлюдную местность. Там я заглушил мотор. Дон Хуан, вытянув ноги, удобно устроился на сиденье, словно собирался вздремнуть. Мне он велел расслабиться и сидеть тихо, объяснив, что до наступления ночи нам нельзя выдавать свое присутствие.
Сумерки — самое опасное время для дела, ради которого мы приехали.
— Что это за дело? — спросил я.
— Мы караулим Каталину.
Когда совсем стемнело, мы выбрались из машины и, стараясь не шуметь, медленно двинулись в заросли чапараля. Слева и справа чернели силуэты холмов — мы находились посреди широкого и отлогого каньона. Дон Хуан показал мне, как прятаться в кустах, и научил позе, которую назвал «сторожевой». Правую ногу следовало подсунуть под левую ляжку, а левую согнуть и выставить вперед. Он объяснил: если потребуется быстро вскочить, правая нога действует как пружина. Потом посадил меня лицом на запад — в той стороне находился дом ведьмы. Сам сел справа и шепотом велел наблюдать за кустами, ожидая порыва ветра. Как только зашелестит листва — надо взглянуть вверх и увидеть колдунью во всем ее, как он выразился, «злодейском великолепии».
Я спросил, как это понимать, но дон Хуан лишь повторил:
— Когда зашелестит листва, смотри вверх. Ведьма в полете — столь редкое зрелище, что ни в каких объяснениях не нуждается.
Дул слабый ветерок, и мне то и дело мерещился шелест листвы. Снова и снова вскидывал я голову, готовый увидеть что-то невероятное, но все зря. А дон Хуан, едва ветер пробегал по кустам, с силой бил ногой по земле, вертелся волчком и рассекал руками воздух. Он двигался с бешеной энергией.
Так и не увидев «ведьму в полете», я смирился с тем, что ничего особенного не произойдет. К тому же дон Хуан столь эффектно продемонстрировал «силу», что я ничуть не жалел о бессонной ночи.
На рассвете дон Хуан присел рядом со мной. Похоже, он вконец измучился и едва двигался. Улегшись на спину, он пробормотал, что ему не удалось «проткнуть эту бабу». Его слова меня удивили; он повторил их несколько раз, под конец совсем уныло и безнадежно. Я с легкостью поддался настроению дона Хуана — мною овладел беспричинный страх.
Прошло несколько месяцев. Дон Хуан ни словом не обмолвился о Каталине; быть может, он уже расправился с ней. Но однажды я застал его в сильном возбуждении. В манере, которая никак не вязалась с присущим ему спокойствием, он сообщил, что прошлой ночью в его доме гостил «черный дрозд», которого он прозевал. Колдовство Каталины было таким искусным, что дон Хуан даже не почувствовал ее присутствия и проснулся лишь по счастливой случайности. Пришлось выдержать ужасную битву за свою жизнь. Он говорил взволнованно, почти трагически. Меня захлестнула волна сочувствия.
Мрачным тоном дон Хуан заявил, что ему не защититься от Каталины, и если она появится вновь, это будет последний его день. Я совсем сник и едва не заплакал. Заметив мое состояние, дон Хуан улыбнулся и похлопал меня по спине:
— Не стоит так убиваться, не все потеряно, есть еще козыри на руках. Воин живет мудро, — добавил он с улыбкой, — и никогда не взваливает на себя ношу, которую ему не снести.
Его улыбка обладала удивительной силой. Сразу отлегло от сердца, я улыбнулся в ответ. Он взъерошил мне волосы.
— А знаешь, — сказал дон Хуан, глядя мне прямо в глаза, — мой последний козырь — это ты.
— Что? — удивился я.
— Ты — мой главный козырь против ведьмы. Он объяснил: Каталина меня не знает, и если я точно выполню его указания, то наверняка сумею ее «проткнуть».
— То есть как — «проткнуть»?
— Убить ее ты не сможешь, а потому должен проткнуть — как воздушный шарик. Если это тебе удастся, она оставит меня в покое. Только не думай об этом. Настанет время, я скажу, что надо делать.
Прошло еще несколько месяцев. Я забыл о нашем разговоре и в один из своих приездов был застигнут врасплох. Дон Хуан выбежал мне навстречу и даже не позволил вылезти из машины.
— Немедленно езжай назад, — прошептал он. — Слушай внимательно. Купи или возьми у кого-нибудь ружье. Только свое не привози, понял? Раздобудь где-нибудь ружье и возвращайся поскорей.
— Зачем тебе ружье?
— Езжай скорее!
Я уехал и вернулся с ружьем. На новое у меня не было денег, я выпросил у приятеля старый дробовик. Дон Хуан, даже не глянув на ружье, со смехом объявил, что спровадил меня потому, что у него на крыше в это время сидел черный дрозд — Каталина; она не должна была меня видеть.
— Едва я заметил птицу, как мне пришло в голову, чтобы ты привез ружье и «проткнул» ее, — с жаром заговорил дон Хуан. — Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось, поэтому ружье должно быть новым или чужим. Когда дело будет сделано, дробовик придется сломать.
— Какое дело?
— Ты должен «проткнуть» Каталину ружьем. Дон Хуан велел протереть ружье какими-то остро пахнущими листьями, ими же он натер два патрона и зарядил ружье. Объяснил, что нужно спрятаться перед домом и ждать, когда на крышу сядет черный Дрозд. Потом как следует прицелиться и выстрелить сразу из обоих стволов. Каталину сразит не дробь, а внезапность выстрела. Если я буду действовать точно и решительно, Каталина оставит дона Хуана в покое; ее «проткнет», моя решительность.
— Когда будешь стрелять, кричи, — велел он. — Как можно громче.
Метрах в трех от веранды дон Хуан навалил кучу веток и хвороста и предложил мне привалиться к ней. Поза была удобной, я видел всю крышу.
Старик пояснил, что время для ведьмы еще раннее и что до сумерек мы успеем закончить все приготовления. Он собирался спрятаться в доме — дабы привлечь Каталину и спровоцировать ее нападение. Мне посоветовал расслабиться и отыскать самое удобное положение для стрельбы. Попросил несколько раз прицелиться и, придя к выводу, что я вскидываю ружье и прицеливаюсь слишком медленно, соорудил подпорку. Острой железкой вырыл в земле две ямки, в каждой из них укрепил по рогульке, а поперек положил жердь — это сооружение надежно удерживало ружье, нацеленное на крышу.
Дон Хуан глянул на небо и сказал, что ему пора идти в дом. Перед уходом напомнил: дело нешуточное, птицу необходимо сразить с первого выстрела.
После его ухода сразу же стемнело, как будто ночь только и ждала, когда я останусь один. Я сосредоточил взгляд на крыше. Сначала ее силуэт был виден на фоне неба, но когда стемнело, он стал едва различим. Прошло несколько часов: я не сводил с крыши взгляда. На север пролетели две совы; по размаху крыльев спутать их с дроздами было невозможно. Наконец я заметил, как на крышу села небольшая птица. Мое сердце бешено забилось, в ушах зазвенело. Я прицелился и нажал сразу на оба спусковых крючка. Грохнул выстрел, ружье сильно отдало в плечо, и в то же мгновение я услышал с крыши пронзительный человеческий крик. Меня бросило в дрожь. Только сейчас я вспомнил, что дон Хуан велел в момент выстрела крикнуть.
Я подумал, не перезарядить ли дробовик, но тут из дома выбежал дон Хуан с керосиновой лампой в руках. Он был непривычно взволнован.
— Кажется, попал, — произнес он. — Надо найти мертвую птицу.
Он принес лестницу и заставил меня влезть наверх и осмотреть крышу. Там ничего не оказалось. Полез искать сам — с тем же результатом.
— Должно быть, ее разнесло в клочья, — предположил дон Хуан. — В таком случае поищем хотя бы перья.
При свете керосиновой лампы мы осмотрели землю возле веранды, затем стали шарить вокруг дома. Рассвело. Мы обыскали все заново. Часов в одиннадцать дон Хуан прекратил поиски, присел и удрученно сказал, что я не сумел поразить врага и что теперь, если Каталина захочет отомстить, его жизнь гроша ломаного не стоит.
— Ты-то в безопасности, — успокоил он меня, — тебя Каталина не знает.
По пути к машине я спросил, нужно ли уничтожить ружье. Дон Хуан ответил, что от ружья никакого толку не было, так что можно вернуть его владельцу. Лицо старика выражало отчаяние, и я расстроился почти до слез.
— Чем я могу тебе помочь? — спросил я.
— Ничем.
Мы долго молчали. На душе у меня было скверно.
— Ты действительно хочешь мне помочь? — спросил вдруг дон Хуан с каким-то детским простодушием.
Я заверил, что на меня можно положиться: я так привязался к нему, что готов сделать для него что угодно.
Дон Хуан повторил вопрос; я подтвердил свое желание помочь ему.
— В таком случае у меня есть шанс, — сказал дон Хуан.
Его настроение сразу улучшилось: он широко улыбнулся, и несколько раз хлопнул в ладони, как делал всегда, когда был чем-то доволен. Резкая перемена в его настроении захватила и меня. Я почувствовал, что боль моя исчезла и жизнь снова стала привлекательной. Дон Хуан сел, я устроился рядом. Он долго смотрел на меня, потом неторопливо поведал, что я — единственный человек, который может ему помочь, и что мне предстоит опасное и неотложное дело.
Он помолчал, словно ожидая согласия, и я еще раз высказал свое твердое намерение помочь ему.
— Я дам тебе оружие, которым ты ее проткнешь, — сказал дон Хуан. Он вытащил из своего мешка что-то продолговатое. Я взял предмет в руки, а разглядев, чуть не выронил. Это была ссохшаяся передняя нога дикого кабана! Копыто сохранилось целиком; две его половинки слегка разошлись. От прикосновения к щетине меня едва не стошнило. Нога выглядела довольно мерзко; дон Хуан тут же спрятал ее обратно.
— Ты должен проткнуть ее прямо в пуп, — сказал он.
— Что-о?
— Ты должен взять кабанью ногу в левую руку и проткнуть ею Каталину. Она — ведьма, поэтому дикий кабан войдет ей в живот, и никто, кроме другого колдуна, не увидит, как он там застрянет. Это не просто драка, это схватка двух колдунов. Ты подвергаешься огромной опасности: если сразу не проткнешь Каталину, она может убить тебя на месте или отомстит позже. А если повезет, выйдешь из сражения без единой царапины. Дикий кабан устроит ей веселую жизнь, и она оставит меня в покое.
Мне стало не по себе. Я всем сердцем привязался к дону Хуану, восхищался им, считал его жизнь достойной подражания. Разве можно позволить такому человеку погибнуть? Но, с другой стороны, разумно ли рисковать собственной жизнью? Я углубился в размышления и не заметил, как старик встал. Он похлопал меня по спине.
— Когда поймешь, что готов мне помочь, возвращайся, — сказал он, улыбаясь. — Но не раньше. Если вернешься, я скажу, что надо делать. А теперь поезжай. Если не вернешься, я это пойму.
Я сел в машину и поехал. Дон Хуан развязал мне руки. Я мог уехать; я был свободен, но эта мысль не приносила мне облегчения. Я проехал еще немного, развернулся и покатил обратно.
Дон Хуан по-прежнему сидел на веранде. Мое возвращение ничуть его не удивило.
— Садись, — сказал он. — Смотри, какой закат! Скоро стемнеет. Сиди тихо, позволь сумеркам войти в тебя. Можешь думать о чем угодно, но, когда я дам знак, взгляни на облака и попроси у сумерек спокойствия и силы.
Я просидел часа два, любуясь облаками. Все это время дон Хуан находился в доме и вышел, когда стало смеркаться.
— Сумерки наступают, — сказал он. — Встань! Гляди прямо на облака. Подними руки вверх, растопырь пальцы и прыгай с ноги на ногу.
Я последовал его указаниям. Дон Хуан подошел сбоку, вложил мне в левую руку кабанью ногу и велел придерживать ее большим пальцем. Затем опустил мои руки так, чтобы они указывали на пламенеющие на западе облака. Пальцы он развел веером и попросил не сгибать. Он сказал, что это чрезвычайно важно: прямые пальцы означают просьбу к сумеркам о даровании спокойствия и силы, а согнутые — жест угрозы. Бег на месте должен быть неторопливым и ровным.
В ту ночь я не сомкнул глаз. Сумерки не дали мне спокойствия, а, наоборот, взбудоражили.
— У меня столько незаконченных дел! — начал я жаловаться. — Столько нерешенных проблем!
Дон Хуан усмехнулся.
— В жизни нет ничего незаконченного, — сказал он. — Ничто не завершено, но все решено. Давай-ка спать.
Его слова удивительным образом меня успокоили.
Наутро, часов около десяти, мы позавтракали и сели в машину. Дон Хуан прошептал, что до полудня надо добраться до Каталины. Идеальное время — раннее утро, когда ведьмы теряют силу и осторожность. Но в это время никакая ведьма не покинет свой дом, свое укрытие. Я ни о чем не расспрашивал.
Дон Хуан велел выехать на шоссе; вскоре мы остановились на обочине, где предстояло дожидаться Каталину.
Я глянул на часы: без пяти одиннадцать. Я то и дело зевал, очень хотелось спать, в голове было пусто.
Вдруг дон Хуан выпрямился и толкнул меня локтем.
— Она!
Я увидел на краю возделанного поля женщину, которая направлялась в сторону шоссе. В правой руке она держала корзину. Только сейчас я заметил, что мы остановились на перекрестке. Вдоль шоссе, по обе стороны, тянулись тропинки; еще одна, широкая и утоптанная, его пересекала. Естественно, всякий, кто шел по ней, должен был выйти на шоссе.
Когда женщина приблизилась, дон Хуан велел мне вылезти из машины.
— Действуй! — решительно произнес он.
Я поспешил к женщине и быстро поравнялся с ней. Приблизившись почти вплотную, выхватил изпод рубашки кабайью ногу и изо всех сил ткнул женщину в живот.
Удар не встретил никакого сопротивления. Перед моими глазами быстро метнулась тень, будто передернули занавес. Я резко повернулся и увидел, что женщина стоит уже на противоположной стороне шоссе, метрах в пятнадцати от меня: молодая, смуглая, с сильным, плотно сбитым телом. Она безмятежно улыбалась, прищурив глаза, словно от ветра. В руке она по-прежнему держала корзину.
В полной растерянности я оглянулся назад. Дон Хуан делал отчаянные жесты. Я побежал к нему. Откуда-то появились вдруг трое или четверо мужчин и погнались за мной. Я вскочил в машину, мы покатили прочь.
Я хотел расспросить дона Хуана о случившемся, но не мог сказать ни слова. Уши заложило, я задыхался. А дона Хуана моя неудача неожиданно развеселила, словно не имела к нему ни малейшего отношения. Я вцепился окоченевшими руками в баранку: ноги так одеревенели, что я не мог оторвать их от педалей.
Дон Хуан похлопал меня по спине и велел расслабиться. Мало-помалу я пришел в себя.
— Что произошло? — вымолвил я наконец. Вместо ответа дон Хуан засмеялся и спросил: видел ли я, как Каталина переметнулась через дорогу? Он похвалил ее проворность, чем вновь привел меня в замешательство. Он хвалит Каталину! Дон Хуан сказал, что она — враг сильный, беспощадный. Я удивился: неужели его не тревожит моя неудача? Чему он может радоваться?
Дон Хуан попросил остановить, машину. Свернув к обочине, я заглушил мотор. Старик положил мне руку на плечо и заглянул в глаза.
— Все, что я сегодня проделал с тобой, была уловка, — сказал он. — Есть такое правило: человек знания должен заманить своего ученика в западню. Мне это удалось.
Я не знал, что и подумать. Дон Хуан повторил: вся история с Каталиной — уловка. Эта женщина никогда и ничем ему не угрожала. Просто он свел меня с ней, чтобы в схватке я испытал состояние отрешенности. Дон Хуан похвалил мою решимость и назвал ее проявлением силы. По его словам, я дал ведьме понять, что обладаю незаурядной волей. Возможно, это и не совсем так, добавил он, но мне удалось пустить ей пыль в глаза.
— Пусть ты и пальцем ее больше не тронешь, — сказал он, — но зубы свои показал. Она поняла, что ты не из робкого десятка. Ты бросил ей вызов. Я использовал Каталину в качестве приманки, потому что она сильна, злопамятна и беспощадна. Мужчин, как правило, отвлекают разные дела, и они забывают о мести.
Я невероятно разозлился и заявил, что дон Хуан не имел права издеваться надо мной и играть на моих лучших чувствах.
Старик хохотал до слез. В эту минуту я его ненавидел. Мне безумно хотелось избить его и выкинуть из машины. Но смех завораживал — я буквально пальцем не мог пошевелить.
— Не надо сердиться, — сказал дон Хуан примирительно. И объяснил, что вовсе не издевался надо мной; что он сам прожил несколько лет впустую, прежде чем благодетель заманил его в ловушку, и что благодетель, человек жестокий, относился к нему совсем не так, как он ко мне. Добавил, что Каталина и в самом деле пробовала на нем свою силу, пыталась убить.
— Теперь-то она поняла, что я ее разыграл, — рассмеялся дон Хуан, — а возненавидит за это тебя. Мне она ничего не сделает, зато тебе достанется. Но силы твои ей неизвестны, и она будет тебя понемногу испытывать. Так что ничего не остается, как учиться, иначе не сумеешь защитить себя и станешь ее жертвой. С этой бабой шутки плохи.
Дон Хуан напомнил, как она ускользнула.
— Не сердись на меня, — сказал он. — Это не просто уловка; таково правило.
Действительно, в том, как она ускользнула, было нечто умопомрачительное. Я собственными глазами видел: она перелетела через дорогу в мгновение ока! С этого дня я все чаще мысленно возвращался к случившемуся, и вскоре мне стало казаться, что Каталина меня преследует. Под влиянием непреодолимого страха пришлось оставить ученичество.
Я вернулся к дому дона Хуана после полудня. Судя по всему, он меня поджидал. Едва я вылез из машины, как старик подошел, окинул меня любопытным взглядом и даже обошел вокруг.
— Что тебя беспокоит? — спросил он прежде, чем я раскрыл рот.
Я рассказал, что утром почувствовал вдруг, как ко мне подкрался кто-то незримый. Дон Хуан сел и задумался. Вид у него был очень серьезный. Я сел напротив и стал перелистывать свои записи.
После долгого молчания дон Хуан просветлел лицом и улыбнулся.
— Утром тебе напомнил о себе дух родника, — сказал он. — Я говорил, что надо быть готовым к такого рода встречам, и решил, что ты меня понял.
— Я понял.
— Почему же тогда боишься? Я промолчал.
— Дух преследует тебя, — сказал дон Хуан. — Он дал о себе знать, когда ты был в воде, и наверняка проделает это снова. Если ты не подготовишься, встреча с ним станет для тебя гибельной.
— А что мне делать?
— Короткая же у тебя память! — заметил дон Хуан. — Путь знания — это путь принуждений. Чтобы научиться, надо подгонять себя. На пути знания мы постоянно с кем-то сражаемся, кого-то избегаем, к чему-то готовимся. И этот кто-то всегда непостижим, велик, могуч... Тебя встречают неведомые силы: сегодня — дух родника, завтра — гуахо. Ничего не остается, как быть готовым к любой встрече.
Мир полон таинственных сил, и мы — беспомощные существа, окруженные непостижимыми и неумолимыми силами. Обычный человек по своему неведению думает, что эти силы можно объяснить и покорить: он не знает, как это сделать, но надеется, что рано или поздно люди раскроют все тайны. Колдун не думает о покорении и объяснении; он подстраивается к силам, приспосабливается и таким образом использует их. Такова его уловка. Когда научишься ей, колдовство перестанет быть чудом. Колдун совсем немногим превосходит обычного человека. Колдовство не облегчает ему жизнь, но чаще мешает. Жизнь колдуна тяжела и полна опасностей: посвятив себя знанию, он становится уязвимее, чем обычный человек. С одной стороны, окружающие ненавидят его, боятся и готовы сжить со свету; с другой стороны, неведомые и неодолимые силы, окружающие нас с первых дней жизни, грозят колдуну еще большей опасностью. Удар ножом — это, конечно, несладко, но по сравнению со сражением с гуахо — сущая ерунда. Посвящая себя знанию, колдун сталкивается с неодолимыми силами, и у него лишь один способ устоять — воля. Еще раз повторяю: только воин может выжить на пути знания.
Мое дело — научить тебя видеть. Не потому, что я этого хочу, а потому, что ты избран. На тебя указал Мескалито. Что касается лично меня, то я хочу сделать из тебя воина. Я убежден: быть воином — самый правильный путь для тебя. Потому-то и пытаюсь показать тебе силы, с которыми сталкиваются колдуны. Только под их угрозой человек способен стать воином. Тому, кто не стал воином, видение только во вред. Оно ослабляет, делает мягким и уступчивым; тело начинает разрушаться из-за безразличия к нему. Моя задача — сделать тебя воином, не позволить опуститься.
Ты не раз говорил, что готов к смерти. Я считаю это твоей слабостью. Воин должен быть готов только к одному: к сражению. Еще ты говорил, что твой дух сломили родители. Дух человека сломить нетрудно, но его ломает не то, что ты думаешь. Родители испортили тебя, воспитав слабым, самолюбивым и капризным.
Воин не позволяет себе слабостей, не поддается капризам. Ему не нужна победа, ему нужна битва. Каждая битва для него — последняя в жизни, и потому ее исход ему безразличен, и дух воина парит легко и свободно. Начиная сражение, воин знает, что воля его несгибаема, и потому радость его беспредельна. Кончив писать, я взглянул на дона Хуана.
— Неужели ты все записываешь? — улыбнулся он, качая головой. — Хенаро говорит, что не может без смеха смотреть на тебя, когда ты пишешь. И впрямь, как можно быть с тобой серьезным?
Дон Хуан хмыкнул и заключил:
— Впрочем, это не важно. Если научишься видеть, все пойдет по-другому.
Он встал и глянул на небо. Было около полудня. Он сказал, что еще не поздно отправиться в горы на охоту.
— На кого мы будем охотиться? — поинтересовался я.
— Там видно будет, — ответил дон Хуан. — На оленя, на кабана, возможно, на пуму.
Он помолчал и добавил:
— Или на орла.
Я встал и пошел за ним к машине. Старик сказал, что на первый раз мы лишь осмотрим место и выберем дичь. Он уже залез в машину, как вдруг что-то вспомнил, улыбнулся и заявил, что поездку придется отложить. Прежде чем отправиться на охоту, я должен кое-что узнать.
Мы снова уселись на веранде. Я собирался расспросить о многом, но дон Хуан не дал мне и рта открыть.
— Вот что еще нужно знать о жизни воина; — сказал он, словно продолжая прерванный разговор. — Воин сам выбирает, из чего состоит его мир. Когда ты увидел гуахо и мне дважды пришлось окунать тебя в воду, знаешь, в чем заключалась твоя ошибка?
— Нет.
— Ты потерял свои щиты.
— Какие щиты?
— Воин сам выбирает, из чего состоит его мир. Выбирает сознательно, ибо то, что он выбирает, — это щиты, заслоняющие его от нападения сил, которые он хочет приручить. Например, от собственного гуахо. Обычный человек тоже окружен невидимыми силами, но недосягаем для них, ибо и у него есть щиты, хоть и не те, что у воина.
Я по-прежнему не понимал, о чем идет речь.
— Какие щиты?
— Их дела.
— Например?
— Оглянись вокруг. Люди заняты повседневными делами — это и есть щиты. Когда колдун сталкивается с какой-либо из неведомых и неодолимых сил, о которых мы говорили, в нем открывается щель. Я уже рассказывал, что через эту щель входит смерть; и если щель открылась, ее нужно заполнить волей. Только воин способен на это. А если человек — не воин, вроде тебя, то ему ничего не остается, как с головой уйти в повседневные дела. Тогда исчезнут мысли о встрече с неведомыми силами, исчезнет страх — и щель закроется. В тот день, когда ты встретил гуахо, ты был зол. Тебя рассердило то, что я остановил твою машину, ты замерз после купания. Холод и злость закрыли щель, и таким образом ты оказался защищен. Но сейчас щиты, служившие прежде, тебе не помогут. Ты слишком много знаешь о неведомых силах и потому должен действовать как воин. Старые щиты не спасут.
— Но что мне делать?
— Действуй как воин и тщательно выбирай вещи, которыми себя окружаешь. Нельзя относиться к ним спустя рукава. Я говорю вполне серьезно: прежний образ жизни тебя не защитит.
— Дон Хуан, что значит: выбирать вещи, которыми себя окружаешь?
— Воин встречается с неведомыми и неодолимыми силами, ибо намеренно их ищет и потому всегда готов к встрече. Ты к ней не готов. Встреча застигнет тебя врасплох. Страх распахнет щель, и твоя жизнь уйдет через нее. Прежде всего нужно быть ко всему готовым. Гуахо может появиться в любой момент, и ты должен быть к этому готов. Встреча с гуахо — не развлечение; воин обязан себя защитить. Если какая-нибудь сила овладеет тобой и откроет щель, нужно постараться закрыть ее. У тебя должно быть то, что приносит тебе покой и радость; с помощью этого ты прогонишь страх, закроешь щель и станешь неуязвимым.
— Что же это такое?
— Когда-то я говорил, что в своей повседневной жизни воин выбирает путь, у которого есть сердце. Этот выбор отличает воина от обычного человека.
Воин знает: если путь дает покой и радость, то у этого пути есть сердце.
— Но ведь ты сказал, что я не воин. Как же я выберу путь с сердцем?
— До сих пор ты мог жить как угодно, но отныне все меняется: теперь ты должен окружить себя тем, что принадлежит пути с сердцем. Все остальное отбрось, иначе следующая встреча с гуахо тебя погубит. Да и не надо сейчас специально стремиться к этой встрече. Гуахо сам явится в любой момент — во сне, когда ты болтаешь с друзьями, когда пишешь...
— Дон Хуан, уже много лет я стараюсь жить по твоему учению, но это мне не удается. Как быть?
— Ты слишком много думаешь и слишком много говоришь. Надо прекратить разговор с собой.
— Как это?
— Ты только и делаешь, что говоришь с собой. И ты — не исключение; все этим заняты. Мы постоянно говорим сами с собой. Подумай: что ты делаешь, когда остаешься один?
— Думаю.
— О чем?
— Не знаю. О том о сем...
— Я скажу о чем. О собственном мире. Мы создаем этот мир, разговаривая сами с собой.
— Как это происходит?
— Всякий раз, когда мы прекращаем внутренний разговор, мир становится таким, каков он на самом деле. Разговаривая с собой, мы строим его заново, мы его оживляем. Мы и путь свой выбираем, говоря с собой. До самой смерти повторяем один и тот же выбор, ибо до последнего дня ведем с собой один и тот же разговор. Воину это известно — и потому он прекращает разговор с собой. Вот что нужно знать, если хочешь жить как воин.
— Как прекратить разговор с собой?
— Прежде всего научись доверять слуху. С рождения мы привыкли воспринимать мир глазами. Говорим с людьми и с собой главным образом о том, что видим. Зная об этом, воин вслушивается в мир, слушает его звуки.
Я отложил записи в сторону. Дон Хуан засмеялся и сказал, что не надеется сразу изменить мои привычки. Учиться слушать мир надо постепенно, с большим терпением.
— Воин знает: как только он перестанет говорить с собой, мир изменится. К этой великой перемене нужно быть готовым.
— Что это значит?
— Мир представляется нам таким, а не иным, только потому, что мы убеждаем себя, что он таков. Перестань мы убеждать себя в этом, и мир окажется другим. Не уверен, что ты готов к такому потрясению, но начать постепенно перестраивать свой мир ты вполне способен.
— Не понимаю!
— Вся загвоздка в том, что ты путаешь мир с делами людей. И в этом ты не исключение, это присуще всем. Дела людей — щиты от окружающих сил. Дела служат опорой, вселяют уверенность. То, что люди делают, и в самом деле важно — но только как щит. Мы не желаем понять, что дела человеческие — всего-навсего щиты, и позволяем им господствовать над нами, сокрушая нашу жизнь. Дела становятся важнее самого мира.
— Что ты называешь миром?
— Мир — это все, что здесь, — ответил дон Хуан, топнув ногой о землю. — Жизнь, смерть, люди, гуахо — все, что нас окружает. Мир непознаваем, нам никогда его не понять, никогда не решить его загадок — и потому мы должны воспринимать мир как тайну.
Обычный человек думает иначе, мир для него никогда не будет тайной, и когда наступает старость, он убежден, что жить больше не для чего. Вместо того, чтобы посвятить себя миру, человек растрачивает себя на дела. Не слишком ли дорогая цена за щиты?
Воин знает это и учится правильно ко всему относиться. Человеческие дела для него — не важнее самого мира. Он видит в мире бесконечную тайну, а в делах людей — нескончаемую глупость.
15
Следуя наставлениям дона Хуана, я начал учиться слушать «звуки мира» и занимался этим два месяца. Поначалу слушать, а не смотреть, было трудно, но еще труднее оказалось воздерживаться от внутреннего разговора с собой. И все же за два месяца я научился прерывать его и вслушиваться в звуки.
10 ноября 1969 года в девять часов утра я приехал к дону Хуану. Он предложил не откладывая отправиться в горы. Я немного отдохнул; мы сели в машину и поехали на восток, к склонам гор. Там жил один знакомый дона Хуана, под присмотром которого мы оставили машину. Сами двинулись дальше в горы. Дон Хуан захватил в рюкзаке немного галет и свежих лепешек. Провизии было дня на два. На мой вопрос, не мало ли еды, он отрицательно покачал головой.
Шли долго. День выдался жаркий. Я нес фляжку с водой, которую довольно быстро опустошил; дон Хуан приложился к ней лишь дважды. Когда вода кончилась, он посоветовал пить воду из ручьев и посмеялся над моей нерешительностью. В конце концов жажда одолела мои предубеждения.
Вскоре после полудня мы остановились в небольшой долине у подножия густо заросших холмов. За ними, на востоке, на фоне облаков вырисовывались силуэты высоких гор.
— Можешь писать о наших разговорах и о том, что ты испытал, но ни словом не упоминай об этих местах, — предупредил дон Хуан.
Когда мы отдохнули, дон Хуан вынул из-за пазухи сверток, достал из него свою трубку, набил куревом, сверху положил зажженный прутик и велел ее раскурить. Без уголька это оказалось непросто; прежде чем смесь занялась, мы сожгли не один прутик.
Когда я выкурил трубку, дон Хуан сказал, что теперь я узнаю, на какую дичь мне охотиться. Несколько раз он повторил, что самое главное для меня — обнаружить «дыры». Он сделал ударение на слове «дыры» и добавил, что в них колдун находит знамения и указания.
Я хотел спросить, о каких «дырах» идет речь, но дон Хуан, опередив меня, заметил, что описывать их бесполезно, ибо они принадлежат видению. Он несколько раз подряд призвал меня сосредоточиться на звуках и особенно — на «дырах» между ними и предупредил, что будет четыре раза играть на манке для духа. Жуткие завывания манка должны помочь мне в розысках гуахо, который когда-то уже проявил свою благосклонность ко мне; гуахо научит меня всему, в чем я нуждаюсь. Дон Хуан посоветовал быть начеку, ибо совершенно неизвестно, как гуахо будет себя вести.
Я сидел прислонившись спиной к скале и внимательно слушал. Руки и ноги оцепенели и утратили чувствительность. Дон Хуан велел мне не закрывать глаза. Я прислушался и вскоре различил пение птиц, шелест ветра в листве, жужжание насекомых. Сосредоточившись на этих звуках, я смог выделить четыре вида птичьего щебета, оценить на слух скорость ветра, разобрать три разновидности шелеста листвы.
Жужжание насекомых меня потрясло: в нем смешалось столько звуков, что я не мог ни расчленить, ни подсчитать их!
Погрузившись в необычный мир звуков, я не заметил, как стал заваливаться на бок, однако выпрямился прежде, чем дон Хуан меня поддержал. Старик подвинул меня к углублению в скале, прислонил к ней затылком и отбросил мелкие камешки из-под ног.
Он велел смотреть на горы, возвышающиеся на юго-востоке. Я вперился в них, но дон Хуан объяснил, что надо скользить по горам и деревьям рассеянным взглядом, и несколько раз повторил, что все внимание следует сосредоточить на звуках.
Все вокруг полнилось звуками; я не столько прислушивался к ним, сколько они притягивали к себе мой слух. В верхушках деревьев подул ветер, пробежал по долине. Сначала коснулся листвы высоких деревьев, и она зашелестела густо, сочно, с потрескиванием, словно объятая пламенем; потом выплеснул целый фонтан разноречивых звуков из кустов, готовых заглушить своим шорохом все вокруг. Мне пришло в голову, что я похож на этот шорох — такой же раздражительный и назойливый: сходство меня огорчило. Ветер вихрем пронесся по земле — не шелест, а скорее свист или жужжание. Прислушиваясь к шуму ветра в листве, я понял, что все три его разновидности звучат одновременно, и удивился, что могу различать их. В ту же секунду я вновь услышал пение птиц и жужжание насекомых. Только что царил ветер, а теперь на меня обрушилась лавина других звуков. Странно: ведь они не смолкали и тогда, когда мне слышался один ветер!
Я не мог пересчитать все голоса птиц и насекомых, но, несомненно, слышал каждый звук в отдельности. Все вместе они составляли изумительное сочетание, вернее, узор, где каждому звуку находилось свое место.
Вдруг раздался громкий протяжный вой; я вздрогнул. Все звуки на мгновение смолкли. Эхо прокатилось по долине, покинуло ее, и вновь возник знакомый звуковой узор. Прислушиваясь к нему, я вспомнил совет дона Хуана наблюдать за «дырами» между звуками и неожиданно обнаружил, что в промежутках между звуками возник своеобразный узор молчания! Птичье пение и другие звуки образовали кружево с паузами-дырами, а шелест листьев как бы связывал остальные звуки своим однообразным шумом. Каждый звук был составным элементом единого звукового орнамента, а паузы, когда я обращал на них внимание, — «дырами» в нем.
Снова послышался пронзительный вой манка. На этот раз я не вздрогнул, но все звуки на мгновение пропали, и возникшая тишина показалась огромной звуковой дырой. Мое внимание переключилось со слуха на зрение. Я глядел на холмы, поросшие буйной зеленью, и вдруг обнаружил на склоне одного из них дыру, сквозь которую виднелись очертания дальних гор! Я никак не мог понять, откуда она взялась, и решил, что она каким-то образом связана со звуковой «дырой». Но вот я опять услышал звуки, а дыра на склоне холма осталась. Я еще отчетливее различил звуковой орнамент, взаимное расположение звуков и пауз. Я услышал невероятное количество отдельных звуков, пожалуй, все звуки и все паузы между ними. В какой-то момент паузы кристаллизовались и образовали свой узор, который я воспринимал не зрением и не слухом, а каким-то не известным мне чувством.
Дон Хуан в очередной раз дернул струну; звуки снова исчезли, образовав в звуковом орнаменте «дыру», которая как будто совместилась с дырой в холме. Я видел обе дыры и одновременно слышал их! Я был потрясен: дыра господствовала над моим восприятием, и весь звуковой узор словно возникал из нее.
Снова раздался жуткий вой манка. Все звуки смолкли, обе дыры озарились ярким светом, и я увидел вспаханное поле, а на нем — гуахо! Я видел его так ясно, словно нас разделяли каких-нибудь полсотни метров. Только лицо не удалось разглядеть — его скрывала шляпа. Гуахо, медленно поднимая голову, двинулся ко мне. Сейчас я увижу его лицо! Мне стало жутко. Я понял, что должен немедленно его остановить. Всем телом я почувствовал прилив «силы», хотел повернуть голову в сторону, чтобы оборвать видение, но не смог. В эту отчаянную минуту я вдруг вспомнил слова дона Хуана о щитах, о «пути, у которого есть сердце», и страстно захотел совершить в своей жизни что-нибудь замечательное, яркое. Это желание наполнило меня чувством радости и покоя; я понял, что гуахо меня не осилит, — и отвернулся прежде, чем увидел его лицо.
Тут же послышались шелест ветра, щебет птиц, жужжание насекомых, но теперь звуки были громкими, резкими, пронзительными, словно злились на меня. Звуковой узор превратился в беспорядочную какофонию визга и скрежета, от которых зазвенело в ушах. Казалось, голова не выдержит и вот-вот лопнет. Я встал, закрыв уши ладонями.
Дон Хуан повел меня к ручью, помог раздеться, окунул в воду. Потом положил на мелководье и окатил водой из своей шляпы.
Звон в ушах быстро прекратился; на «купание» ушло всего несколько минут. Дон Хуан одобрительно кивнул головой и сказал, что на этот раз я «отвердел» почти сразу. Я оделся и вернулся на прежнее место. Чувствовал я себя отлично. Выслушав подробности, дон Хуан сказал:
— Гуахо сообщается с колдуном через «дыры» в звуках.
Он отказался объяснять свою фразу, заявив, что, поскольку у меня нет гуахо, объяснения могут только навредить.
— Для колдуна все имеет смысл, — продолжал он. — Дыры есть не только в звуках, но во всем, что нас окружает. У людей просто не хватает скорости, чтобы уловить их, и потому они идут по жизни без защиты. Черви, птицы, деревья могут сообщить нам невероятные сведения, если достичь скорости, на которой их сообщение становится понятным. Для этого и используют дымок: он разгоняет человека. Но при этом мы должны находиться в хороших отношениях со всеми живыми существами. Вот почему разговаривают с растениями перед тем, как их выкопать, и просят прощения за причиненную боль. Точно так же разговаривают с животными, на которых собираются охотиться. Следует брать лишь то, что необходимо, иначе убитые нами растения, звери и черви восстанут против нас и вызовут всевозможные болезни и несчастья. Воин знает об этом и старается их умиротворить, поэтому, когда он глядит в дыру, деревья, птицы и черви его не обманывают.
Но все это сейчас не важно. Важно то, что ты видел гуахо. Это и есть твоя дичь! Когда я позвал тебя на охоту, я думал, что ты увидишь зверя, на которого будешь охотиться. Сам я когда-то увидел кабана: поэтому мой манок — кабан.
— Ты хочешь сказать, он сделан из кабаньей жилы?
— Нет, я не о том. Колдун никогда не делает что-то из чего-то. Все остается самим собой. Если ты как следует знаешь кабана, то поймешь, что мой манок — и есть кабан.
— Почему мы пришли сюда?
— Гуахо достал из сумки манок и показал тебе. Чтобы вызвать гуахо, нужен манок.
— А что это такое?
— Жила. С ее помощью я могу вызвать своего гуахо или других гуахо, а также духов родников, рек, гор. Мой манок — дикий кабан, он кричит по-кабаньи. Я уже пользовался им дважды — вызывал для тебя духа родника. И дух появлялся, как сегодня явился твой гуахо. Ты его, правда, не видел, потому что тебе недостает скорости. Впрочем, когда я привел тебя к роднику, ты почувствовал духа рядом с собой, хотя и не увидел его. Эти духи — помощники. Ими трудно управлять, они могут быть опасными. Нужна безупречная воля, чтобы справиться с ними.
— А как выглядят духи?
— Каждый видит их по-своему, как и гуахо. Тебе он является в облике человека, которого ты, возможно, когда-то знал или узнаешь в будущем. Такова особенность твоего характера — ты любишь загадки и тайны. Я — другой; в моем гуахо нет ничего загадочного.
Духи родников обитают в особых местах. Тот, которого я позвал тебе на помощь, мне хорошо известен: он живет в каньоне и не раз уже мне помогал. С тобой он обошелся довольно сурово, но не потому, что сам этого хотел — у духов вообще нет желаний, — а потому, что ты оказался очень слабым, слабее, чем я предполагал. И чуть не поплатился за это жизнью. Помнишь, как ты светился в канаве? Дух застал тебя врасплох, ты едва не стал его добычей. В таких случаях дух обычно возвращается — и наверняка вернется за тобой. К несчастью, чтобы окрепнуть после дымка, тебе необходима вода; и это ставит тебя в очень трудное положение. Откажешься от воды — можешь умереть; не откажешься — станешь добычей духа родника.
— А если найти воду в другом месте?
— Не поможет. Пока нет манка, дух родника будет преследовать тебя повсюду. Вот почему гуахо показал манок, дав понять, что он тебе необходим. Он держал его в левой руке, а потом, указав на каньон, направился к тебе. Сегодня, как и в прошлый раз, он снова хотел показать манок. Ты правильно сделал, что отвернулся — для гуахо ты еще слабоват.
— А как мне обзавестись манком?
— Гуахо сам тебе его вручит.
— Каким образом?
— Не знаю. Придется тебе отправиться на поиски гуахо. Он дал знать, где искать манок.
— Где же?
— На холмах, где была дыра.
— А самого гуахо я увижу?
— Нет. Впрочем, он уже приветствовал тебя, а дымок открыл путь к нему. Когда-нибудь ты встретишься с ним лицом к лицу, но сперва нужно как следует его узнать.
16
15 декабря 1969 года, под вечер, мы снова пришли в знакомую долину. Пока пробирались через чапараль, дон Хуан объяснял, что в действиях, которые мне предстоят, особую роль играют стороны света.
— Как только поднимешься на вершину холма, повернись лицом туда. — Он указал на юго-восток. — Это твое направление, и ты должен его придерживаться, особенно в минуты опасности. Помни об этом.
Мы остановились у подошвы холма, откуда я видел «дыру». Дон Хуан показал, куда мне сесть, сам сел рядом и стал негромко меня инструктировать. Когда я взберусь на холм, нужно вытянуть вперед правую руку ладонью вниз, а пальцы растопырить, кроме большого, который прижать к ладони. Затем повернуть голову на север и положить руку на грудь так, чтобы ладонь тоже указывала на север. После этого потанцевать: занести левую ногу за правую и бить носком о землю. Как только почувствую в левой ноге тепло, медленно двинуть рукой с севера на юг и обратно.
— Место, над которым ладонь потеплеет, — то самое, где нужно сесть. Она же укажет направление, куда смотреть. Если это будет восток или юго-восток, все сложится наилучшим образом; если север, тебе предстоит серьезная схватка, которую можно выиграть; если юг, жди настоящей битвы с дурным исходом.
На первых порах рукой надо двигать четыре раза, пока не почувствуешь, что она потеплела. Потом достаточно будет и одного. Обнаружил место — садись. Это первая точка. Если окажешься лицом к северу или к югу, решай: хватит ли у тебя сил остаться. Сомневаешься — встань и уйди. Решил остаться — расчисти место для костра, метрах в полутора от первой точки. Костер — вторая точка, он должен быть в той стороне, куда ты смотришь. Собери все ветки, которые окажутся между двумя точками, и разожги костер. Потом сядь на первую точку и гляди на огонь. Рано или поздно тебе явится дух, ты увидишь его.
Если после четырех движений ладонь не потеплеет, еще раз медленно проведи ею с севера на юг, затем повернись и протяни ее на запад. Если почувствуешь тепло — беги не мешкая. Беги вниз и, что бы ни услышал за спиной, не оборачивайся. Внизу остановись, пусть даже будешь умирать со страху. Упади на землю, стащи куртку, обвяжись ею и катайся по земле, прижав колени к животу. Уши заткни пальцами, руки прижми к ляжкам и так лежи до утра. Если выполнишь эти советы, никто не причинит тебе зла.
Если не сможешь сбежать вниз, бросайся на землю там, где стоишь. Тебя ждет трудное испытание; но если сохранишь спокойствие, не пошевелишься и не откроешь глаз, то выберешься изо всех передряг целым и невредимым.
Если ладонь не потеплеет даже тогда, когда протянешь ее на запад, снова повернись на восток и беги в этом направлении, пока не выбьешься из сил. Остановись и повтори все сначала. Так делай до тех пор, пока ладонь не потеплеет.
Закончив наставления, дон Хуан заставил повторить их несколько раз, пока они прочно не запали в мою память. Потом мы долго сидели молча. Несколько раз я порывался заговорить, но каждый раз он прерывал меня повелительным жестом. Когда начало темнеть, дон Хуан поднялся и, не проронив ни слова, стал взбираться на холм. Я двинулся за ним. На вершине холма проделал все положенные движения. Дон Хуан стоял неподалеку и пристально наблюдал. Я старался засечь сколько-нибудь ощутимое тепло в ладони, но ничего не почувствовал. Тогда я побежал на восток.
К этому времени уже стемнело, но я бежал, не задевая кустов. Довольно быстро выбился из сил и остановился. Я невероятно устал и почувствовал, как свело предплечья и икры.
Я повторил все действия, и снова безрезультатно. Сделал еще пару пробежек в темноте, снова стал водить рукой с севера на юг, и на этот раз, когда ладонь указывала на восток, почувствовал в ней тепло. Резкая перемена температуры меня поразила. Я сел, дождался дона Хуана и сообщил ему о происшедшем. Он велел действовать дальше. Я собрал все ветки, какие нашел, и разжег костер. Дон Хуан сел рядом слева.
В огне костра плясали странные силуэты. Языки пламени становились то радужными, то голубыми, то ослепительно белыми. Необычную игру цвета я объяснил химическими свойствами веток, брошенных в огонь. Другой примечательной особенностью были искры. Стоило подбросить в костер прутик, как он взрывался снопом искр, огромных, как теннисные мячи.
Я пристально смотрел на огонь, как велел дон Хуан, пока не закружилась голова. Старик протянул мне тыквенную флягу с водой. Я сделал пару глотков и почувствовал себя лучше.
Дон Хуан наклонился и прошептал мне на ухо, что глядеть в огонь надо не пристально, а рассеянно. Я просидел так целый час и из-за сырости совсем продрог. Наклонившись за очередной порцией прутиков, краем глаза заметил, как между мной и костром что-то мелькнуло. Я отпрянул и глянул на дона Хуана. Кивком головы тот велел смотреть на огонь. Мгновение спустя тень метнулась в обратном направлении.
Дон Хуан вскочил на ноги и принялся закидывать горящие ветки комками земли, пока не затушил костер, проделав это так быстро, что я не успел ему помочь. Он притоптал землю на углях и повел меня вниз, а затем прочь из долины. Шел торопливо, не оборачиваясь, не позволяя ничего говорить.
Часа через два мы добрались до машины, и я спросил дона Хуана, что это была за тень. Он только сердито мотнул головой, и мы поехали, не обменявшись более ни словом.
Домой вернулись утром; дон Хуан сразу прошел в дом. Я попробовал было заговорить, но он велел мне молчать.
Когда я проснулся, дон Хуан сидел во дворе. По-видимому, он поджидал моего пробуждения: не успел я выйти, как он заговорил. Сказал, что тень, которую я видел вчера, — дух, сила того места, где я разжег костер, но дух бесполезный.
— Он обитает там, только и всего, — пояснил он. — Тайные силы ему неведомы, так что оставаться нам смысла не имело. Всю ночь только бы и видели, как он снует туда-сюда. Но если тебе посчастливится встретить других духов, они откроют тайну силы.
Мы молча позавтракали и уселись перед домом.
— Есть три вида духов, — продолжил дон Хуан. — Одни ничего не могут дать, ибо им нечего дать; другие пугают людей; третьи открывают тайны. Вчера ты видел духа-молчуна, которому нечего было тебе открыть; это всего-навсего тень. По соседству с молчунами обитают духи второго рода; вот почему надо было поскорее оттуда убраться. Эти пакостники увязываются за человеком, проникают в его дом и делают жизнь несносной. Я знавал людей, которым пришлось из-за них бросить дом. Кое-кто считает, что эти твари могут принести пользу, но это неправда. Такие люди стараются привадить духа и ходят за ним из угла в угол, надеясь, что он поведает им какие-то тайны. А дух только поджидает момент, чтобы как следует их напугать. Я знаю человека, который сошел из-за этого с ума. Наблюдал за духом несколько месяцев, пока сам не превратился в тощую тень. Вытаскивать его из дому пришлось силой. Самое лучшее — вообще забыть о духе-пугале, не обращать на него внимания.
Я поинтересовался, как приманивают духа. Дон Хуан объяснил: сначала узнают, где он обычно появляется. Потом оставляют на его пути какое-нибудь оружие — в надежде, что он его коснется. Духи любят все, связанное с войной. Любой предмет, которого коснулся дух, становится предметом силы. Дух-пугало никогда ничего не трогает, только шумит. Я спросил, как он пугает. Дон Хуан сказал, что чаще всего он появляется в виде тени, похожей на человеческую, и бродит по дому, издавая внезапные стуки или подражая разным голосам.
Только духи третьего вида — настоящие гуахо, хранители тайн. Они обитают в пустынных, труднодоступных местах, и искать их нужно в одиночку. Достигнув нужного места, следует проделать все необходимые действия. Если искатель духа сядет у костра и увидит тень, он должен немедленно уйти. Но если налетит сильный ветер и задует костер, и искателю духа четырежды не удастся его разжечь, или если у ближнего дерева обломится ветка, то следует остаться. При этом ветка должна действительно обломиться, а не просто треснуть.
Другим знаком могут быть падающие или летящие в костер камни и любой продолжительный шум. В этом случае надо встать и идти в том направлении, откуда послышался шум или падают камни, пока дух себя не проявит.
Дух может устроить воину настоящее испытание. Например, возникнет перед ним в жутком облике или схватит сзади и на несколько часов пригвоздит к земле. Или повалит на него дерево. Хотя в открытом единоборстве человека ему не одолеть, он может напугать до смерти, или сбросит что-нибудь тяжелое, или внезапным появлением заставит потерять равновесие на краю пропасти.
Дон Хуан предупредил, что я ни в коем случае не должен вступать с духом в борьбу, иначе он убьет меня или похитит душу. При встрече с ним нужно броситься ничком на землю и лежать так до утра.
— Когда ты встретишься с гуахо, хранителем тайн, следует собрать все свое мужество и схватить его раньше, чем он схватит тебя. Или пуститься за ним в погоню, пока он не погнался за тобой. Бежать следует не останавливаясь. Затем наступает черед битвы.
Воин должен повергнуть духа на землю и не отпускать до тех пор, пока не получит от него силу.
Я спросил, телесны ли духи, можно ли до них дотронуться. В моем представлении «дух» — это что-то бесплотное.
— Это не духи, — уточнил дон Хуан. — Это гуахо, неведомые силы.
Он умолк и лег на спину, подложив руки под голову. Я продолжал допытываться, насколько телесны эти существа.
— Какая-то оболочка у них, пожалуй, есть, — сказал дон Хуан, помолчав. — Когда борешься с ними, они кажутся плотными, однако недолго. Эти существа любят попугать человека, но, если с ними борется воин, быстро теряют свою упругость. Воин забирает ее себе.
— Что еще за упругость?
— Это и есть сила. Когда их схватишь, они кажутся сгустком силы, но только кажутся. Если не ослаблять хватку, их упругости приходит конец.
— Что же, они становятся бесплотными?
— Нет, скорее вялыми. Телесность они сохраняют, но не совсем ту, к которой мы привыкли.
В тот же день вечером я спросил: не было ли то, что я видел краем глаза, мотыльком? Дон Хуан рассмеялся и объяснил, что, кружа возле электрической лампы, мотыльки не опаляют себе крылья, зато в огне костра немедленно сгорают. Кроме того, тень была очень большой и загораживала весь костер. Так оно и было, но из-за внезапности случившегося как-то выпало из моей памяти. Далее дон Хуан напомнил, что искры были огромными и летели справа налево. Я предположил, что их сдувало ветром, но дон Хуан сказал, что никакого ветра не было. И правда: ночь была совершенно безветренной.
И еще одно вылетело у меня из головы: зеленоватое сияние над костром, на которое жестом указал дон Хуан, когда тень появилась в первый раз. Дон Хуан напомнил о нем и добавил, что я вообще зря называю духа тенью. В действительности он имеет округлую форму и напоминает скорее пузырь, чем тень.
Спустя два дня дон Хуан как бы между прочим объявил, что теперь я знаю достаточно, чтобы самому отправиться на холмы за манком. Я должен действовать один, уверял он, чужое присутствие только помешает.
Я уже собрался в путь, как вдруг дон Хуан передумал:
— Ты еще слаб, я провожу тебя.
Когда мы оказались в долине, где я видел гуахо, дон Хуан глянул на меня, потом на холмы, в которых появилась дыра, и сказал, что мы пойдем на юг, в горы: гуахо обитает на самом краю той местности, что была видна сквозь дыру.
Я посмотрел в южном направлении и увидел голубоватые контуры далеких гор. Мы двинулись на юго-восток и через несколько часов, к вечеру, добрались до места, где, по словам дона Хуана, обитал гуахо.
Мы уселись на камни. Я устал и проголодался — за весь день съел всего одну лепешку. Внезапно дон Хуан поднялся, поглядел на небо и велел идти в благоприятном для меня направлении. Следовало запомнить место, где мы находились, чтобы по окончании всего снова сюда вернуться. Дон Хуан пообещал, что будет ждать меня.
Обеспокоенный, я спросил, как долго может продолжаться добывание манка.
— Кто знает? — загадочно улыбнулся дон Хуан. Я двинулся на юго-запад и, несколько раз оглянувшись, увидел, что дон Хуан медленно удаляется. Взобравшись на вершину холма, я поискал его взглядом. Нас разделяло метров двести. Старик не оборачивался. Я спустился в ложбину между холмами и оказался один. Присел ненадолго и задумался: что, собственно говоря, я здесь делаю? Поиски манка показались мне вдруг смехотворным занятием. Я вернулся на вершину холма, чтобы глянуть на дона Хуана — того нигде не было. Я торопливо спустился на то место, откуда видел его в последний раз. Хотелось бросить все и вернуться домой. Я казался себе идиотом.
— Дон Хуан! — кричал я снова и снова.
Его нигде не было. Я поспешил на вершину другого холма — с тем же результатом — и долго бесцельно бродил туда-сюда. Дон Хуан исчез. Я направился назад, к месту, где мы расстались. Во мне еще теплилась надежда: он сидит там и посмеивается.
— Какого черта я здесь делаю? — пробормотал я, хотя понимал, что начатое уже не остановишь. Я не имел ни малейшего представления, как вернуться к машине. По пути сюда дон Хуан несколько раз менял направление, так что ориентация по сторонам света не помогла. Не хватало еще заблудиться в горах! Я сел на землю и впервые в жизни со всей остротой понял: нет возврата к тому, от чего ушел. Дон Хуан говорил, что я во всем пытаюсь найти начало, а никакого начала нет. Здесь, среди гор, я понял, что он имел в виду. Начало — я сам; дона Хуана нет и не было, он лишь призрак, скрывшийся за холмом.
Я услышал шелест листьев и уловил какой-то необычный запах. В ушах чуть-чуть звенело. Солнце скрылось за облаками на горизонте, окрасив их в оранжевый цвет; минуту спустя оно появилось снова — окутанный дымкой малиновый шар — и наконец исчезло за темными силуэтами гор.
Я лег на спину. Мир вокруг казался спокойным и безмятежным и вместе с тем таким чужим и равнодушным! Глубоко взволнованный, я не мог сдержать слез.
Я пролежал так несколько часов, не в силах подняться. На каменистой почве подо мной не росло ни травинки — разительный контраст с яркой зеленью окрестных холмов.
Стемнело. Мне стало легче. Полумрак всегда меня успокаивает; грусть развеялась, я был почти счастлив.
Я встал, поднялся на вершину невысокого холма и проделал движения, которые показал дон Хуан. После семи пробежек в восточном направлении я почувствовал, что ладонь потеплела. Развел костер и стал смотреть на огонь, стараясь подметить каждую мелочь. Прошло несколько часов. Я устал и замерз. Подбросив в костер новую порцию хвороста, подсел ближе. Напряженное созерцание утомило меня; я стал клевать носом. Дважды засыпал, просыпаясь от того, что голова падала набок. Я уже не мог следить за костром. Отхлебнул воды и плеснул в лицо, чтобы не заснуть, но побороть сонливость не удалось. Мало-помалу меня охватило уныние. Оставаться здесь было бессмысленно: я устал, был голоден, хотел спать, до смерти надоел сам себе. Наконец бороться со сном не стало сил — я подбросил в костер побольше хвороста и улегся. Охота на гуахо казалась в эту минуту нелепейшим занятием; на этом я заснул.
Разбудил меня громкий треск над левым ухом (я лежал на боку). Я сел, оглушенный силой и близостью звука, — в левом ухе еще звенело: сна как не бывало.
Судя по веткам, ярко пылавшим в костре, проспал я недолго. Никаких звуков больше не слышалось, но я сидел настороже, подбрасывая хворост в огонь. Я подумал: не выстрел ли это? Что, если кто-то следит за мной и стреляет? Наверняка эта земля — чья-то собственность, а раз так, меня могут принять за вора и убить. Или застрелить с целью грабежа, пусть даже и поживиться нечем. Я с ужасом подумал о своей беззащитности. Немного спустя ощутил сильную тяжесть в спине и шее и стал вертеть головой туда-сюда, пока не хрустнули шейные позвонки. Я по-прежнему смотрел на огонь, но ничего особенного не замечал. И звуков больше не слышал.
Постепенно я успокоился и подумал: а не проделки ли это дона Хуана? Наверняка его. Эта мысль меня развеселила. Должно быть, дон Хуан заподозрил, что я не хочу оставаться в горах один, а может, наблюдал за тем, как я его разыскиваю. Спрятался в какой-нибудь укромной пещере или за кустом, потом последовал за мной. А когда я заснул, подкрался и сломал у меня над ухом ветку, чтобы разбудить. Я подбросил в огонь хвороста и стал осторожно оглядываться, надеясь обнаружить старика, хотя понимал, что, если он прячется, мне его не увидеть.
Вокруг было тихо, лишь стрекотали сверчки, шелестела листва да слабо потрескивали ветки в костре. Из пламени летели искры, самые обыкновенные.
Вдруг раздался громкий треск, будто переломили толстый сук. Звук прозвучал слева. Затаив дыхание, я прислушался. Через несколько секунд треск повторился, на этот раз справа. Затем вдали послышалось негромкое потрескивание, словно кто-то ступал по сухим веткам. Звуки были мощные, резкие; они постепенно приближались. Я растерялся и не знал, что делать — то ли слушать дальше, то ли вставать. Внезапно треск раздался совсем рядом, послышался со всех сторон. Я вскочил на ноги, быстро затоптал костер и побежал с холма вниз.
Почва была неровная и каменистая; я продирался сквозь кусты, прикрывая глаза руками. На полпути к подножию холма я вдруг почувствовал, что кто-то коснулся моей спины. Нет, это были не ветки — кто-то преследовал меня по пятам! Я похолодел от страха. Сорвал куртку, обмотал вокруг себя и упал на землю, подобрав, как учил дон Хуан, ноги к животу и закрыв глаза ладонями. Все вокруг стихло, наступила мертвая тишина. Я дрожал от страха. Снова раздался треск, сначала далеко, но отчетливо, потом все ближе и ближе... Короткое затишье, и — словно взрыв над головой! Звук был столь громкий и неожиданный, что я вскочил и чуть не упал. Несомненно, это переломилась ветка — перед тем, как она сломалась, я слышал шелест листвы.
И тут пошла сплошная трескотня, ветки ломались со всех сторон. К моему удивлению, вместо того, чтобы оцепенеть от ужаса, я громко засмеялся. Я был искренне уверен, что все это — проделки дона Хуана. Он где-то поблизости и, зная, что я от страха головы поднять не смею, развлекается такими шуточками. Одного я не мог понять. Дон Хуан один. Мы не расставались с ним несколько дней; ни времени, ни возможности подыскать себе сообщников у него не было. Но один он не может издавать столько звуков сразу! К тому же физические возможности человека ограничивают их разнообразие. Тем не менее я был уверен: все происходящее — лишь игра и единственный способ остаться на высоте — воспринимать ее без лишних эмоций. Я даже решил сам принять в ней участие, угадывая очередной ход партнера, и попытался представить, что бы я сделал на месте дона Хуана.
Мои размышления прервало громкое чавканье. Я прислушался. Чавканье повторилось. Что это? Похоже, лакает воду какой-то зверь. Чавканье послышалось рядом. Оно напоминало причмокивание провинциальной девчонки, жующей жевательную резинку. Не успел я удивиться, как дону Хуану удается издавать такой звук, как чавканье раздалось справа. Будто кто-то передвигался по болоту, увязая то одной ногой, то другой. На мгновение звуки прекратились, затем послышались снова, метрах в трех от меня. Теперь словно какой-то грузный человек бежал по грязи в сапогах. Я не мог понять, каким образом можно издавать такие звуки. Новая пробежка, чавканье позади меня, сбоку. Шум слышался со всех сторон; какие-то существа чавкали, ходили по болоту, месили грязь...
Меня одолело сомнение. Если все это — проделки дона Хуана, то как ему удается передвигаться с такой быстротой? Нет, без сообщников здесь не обойтись. Я стал прикидывать, кто бы ими мог быть: шум мешал мне сосредоточиться. Страха я не испытывал; необычные звуки удивляли — и только. Я воспринимал их как вибрацию, ощущал животом, точнее, нижней его частью. Постепенно меня охватила паника: «А если это не дон Хуан?» Я напряг живот и изо всех сил прижал к нему колени.
Словно догадавшись о моей растерянности, чавканье усилилось: от дрожи в животе меня стало мутить. Я сделал несколько глубоких вдохов и запел песню пейотля. Меня вырвало — чавканье мгновенно стихло. Слышались только стрекотание сверчков, шелест листвы, отдаленное тявканье койотов. Воспользовавшись передышкой, я попробовал разобраться в происходящем. Только что я полагал себя наблюдателем какой-то игры. И что же: все мои предположения расползались по швам! Даже если у дона Хуана были сообщники, они физически не могли издавать звуки, действующие на мой живот: для звуковых вибраций такой силы необходима специальная аппаратура. По-видимому, дон Хуан здесь ни при чем.
Мое тело свела судорога, нестерпимо захотелось перевернуться на спину и вытянуть ноги. Я стал переворачиваться направо, чтобы не видеть своей рвоты. В то же мгновение над ухом раздался едва слышный писк. Я застыл. Писк послышался с другой стороны, будто скрипнула дверь. Я замер, но ничего больше не услышал. Снова попробовал отодвинуться — меня немедленно захлестнул поток звуков: дверной скрип, мышиный писк, поросячий визг. Звуки были негромкими, но отзывались во мне приступами тошноты и прекратились так же внезапно, как возникли.
Немного спустя я услышал шум, похожий на хлопанье крыльев крупной птицы. Она кружила прямо надо мной. Опять раздался скрип и писк. Теперь летела целая стая птиц. Скрип и хлопанье крыльев смешались, волной нахлынули на меня. Огромная волна обняла меня и закачала. Я чувствовал звуки всем телом: хлопанье крыльев давило сверху, мышиный писк — снизу и со всех сторон.
Я уже не сомневался, что мои неправильные действия навлекли на меня нечто ужасное. Стиснул зубы, глубоко вдохнул — и запел песню пейотля. Мешанина звуков продолжалась еще долго, я сопротивлялся ей как мог. Наконец она стихла; я опять услышал стрекотание насекомых и шелест листвы. Но молчание казалось еще хуже, чем звуки: подумав о своем положении, я впал в панику. У меня не было ни сил, ни умения, чтобы защититься. Я беспомощно скрючился на земле и заплакал. Хотелось подумать о своей жизни, но я не знал, с чего начать. Все, что я делал, казалось мне сейчас мелким и незначительным, вспоминать было нечего. Это было поразительное открытие. С тех пор как я в последний раз испытал подобный страх, я изменился. Я был опустошен, у меня не осталось никаких привязанностей.
Я спросил себя: как бы в такой ситуации поступил воин? — но не мог дать однозначного ответа. Что-то важное было связано с животом: звуки целили в живот. Мысль о том, что это — шутки дона Хуана, казалась теперь совершенно неуместной.
Живот свело, хотя судорог больше не было. Я снова запел, глубоко дыша, и почувствовал, как мягкое тепло волнами окутывает тело. Ясно было одно: если я хочу выжить, необходимо следовать наставлениям дона Хуана. Я мысленно повторил их. Припомнил, где скрылось солнце, и, убедившись, что правильно определил стороны света, начал поворачиваться, чтобы направить голову в «благоприятную» сторону, на юго-восток. Вдруг я почувствовал, что кто-то быстро коснулся моей шеи, как будто шлепнул по ней. Я невольно вскрикнул и замер. Потом несколько раз глубоко вздохнул, напряг живот и запел песню пейотля. Последовал новый шлепок — я съежился от страха. Что-то мягкое, шелковистое, похожее на огромную кроличью лапу, коснулось меня и заскользило по шее вверх-вниз. Как будто запрыгала стая молчаливых невесомых кенгуру. Я слышал мягкое шлепанье лап. Было не больно, но страшно. Я сказал себе: надо что-то делать, иначе я сойду с ума, и стал медленно поворачиваться. Шлепки участились. Я испугался еще больше и, дернувшись всем телом, развернулся в новом направлении. Прикосновения сразу прекратились. Чуть позже я услышал отдаленное потрескивание ветвей, которое слилось с шелестом листвы, словно над холмом пронесся сильный ветер. Все кусты вокруг трепетали, хотя никакого ветра не было! Весь холм шуршал и потрескивал, как будто был объят пламенем огромного костра. Мое тело одеревенело, покрылось испариной; стало жарко — и я действительно поверил, что холм горит. Я не мог встать, не мог открыть глаза. А ведь сейчас это было главное — подняться и убежать прочь от огня. Каждый вдох отзывался в животе болью. Я сосредоточился на дыхании и после долгих усилий сделал несколько глубоких вдохов. Шелест листвы стих, потрескивание отдалилось, стало реже, наконец совсем прекратилось.
Я с трудом открыл глаза и осмотрелся. Уже рассвело. Полежав некоторое время в прежней позе, я перевернулся на спину. Над холмами поднималось солнце.
Прочло несколько часов, прежде чем я смог встать. Я побрел туда, где мы расстались с доном Хуаном, примерно в миле отсюда, и лишь к полудню достиг опушки леса. Дальше идти не было сил. Вспомнив о хищниках, я попробовал залезть на дерево, но не смог. Я понимал, что пума или другой зверь может меня растерзать; у меня не было сил даже швырнуть камень. Ни голода, ни жажды я не испытывал. Вскоре добрел до какого-то ручья и напился, но сил от этого не прибавилось. Все стало мне безразлично, страх исчез. Я прилег возле ручья и заснул.
Проснулся я оттого, что кто-то меня тряс. Это был дон Хуан. Он помог мне сесть; дал воды и кукурузную лепешку. Со смехом заявил, что я похож на покойника. Я хотел рассказать о случившемся, но он велел молчать. Сказал, что я метров сто не дошел до места, где мы договорились встретиться. Потом почти поволок меня вниз с холма. Объяснил, что ведет к ручью. По пути он заткнул мне уши какими-то листьями из своей сумки, на глаза прилепил по листу и примотал тряпкой. У ручья помог раздеться, велел закрыть глаза и уши руками, потом натер листьями тело и окунул в воду. Ручей был глубокий, я не доставал до дна. Дон Хуан поддерживал меня за руку. Сперва я не чувствовал холода, но мало-помалу озяб. Холод стал невыносимым. Дон Хуан вывел меня на берег и растер остро пахнущими листьями. Я оделся, мы пошли дальше и миновали порядочное расстояние, прежде чем дон Хуан снял листья с моих глаз. Он спросил, хватит ли у меня сил дойти до машины. Я чувствовал себя на удивление бодрым и, чтобы доказать это, пустился по холму бегом.
Несколько раз я спотыкался, и каждый раз дон Хуан смеялся. Я заметил, что чем больше он смеется, тем лучше я себя чувствую.
На следующий день я поведал дону Хуану о вчерашних событиях начиная с того момента, как мы расстались. Слушая, он заходился от хохота, особенно когда я признался, что заподозрил во всем его.
— Тебе всегда кажется, что тебя дурачат, — сказал он. — Ты слишком полагаешься на себя и ведешь себя так, будто все знаешь. А ведь ты ничего не знаешь, друг мой, ровным счетом ничего.
Дон Хуан впервые назвал меня другом, и я смутился. Заметив это, он улыбнулся. В его голосе была удивительная теплота, и я совсем загрустил. Сказал, что как был тупицей, так и останусь, ибо таким родился на свет. Мне никогда не понять его учения. Дон Хуан заверил меня, что на этот раз я вел себя отлично.
Я спросил о смысле происшедшего.
— А никакого смысла и не было, — ответил дон Хуан. — Такое может случиться со всяким. Особенно с теми, у кого, вроде тебя, щель уже открылась. Обычное явление. Любой воин, ходивший на поиски гуахо, многое может рассказать о его проделках. С тобой еще мягко обошлись. Щель открыта, вот и нервничаешь. Но за одну ночь все равно воином не станешь. Так что поезжай домой и не возвращайся, пока не придешь в себя, пока щель твоя не закроется.
17
Несколько месяцев я не был в Мексике, посвятив все свое время обработке полевых записей. Впервые за десять лет учение дона Хуана стало обретать для меня смысл. Я понял, что долгие перерывы в учебе оказались для меня полезными: они позволили пересмотреть собранный материал и расположить новые сведения в определенном логическом порядке. Однако то, чему я стал свидетелем во время последней поездки к дону Хуану, пошатнуло мою уверенность в том, что я стал что-то понимать.
Последняя запись помечена 16 октября 1970 года. События этого дня я воспринял как рубеж в ученичестве; они завершали один круг наставлений и открывали новый, настолько не похожий на предыдущий, что я понял: здесь я должен поставить точку.
Подъехав к дому дона Хуана, я увидел старика на обычном месте на веранде. Я вылез из машины, вытащил портфель и сумку с продуктами и направился к нему со словами приветствия. Только сейчас я заметил, что он не один — за кучей хвороста сидел какой-то мужчина. Оба оглянулись. Дон Хуан махнул рукой, незнакомец тоже. Судя по одежде, это был не индеец, а мексиканец: джинсы, светло-коричневая рубашка, шляпа с широкими полями, ковбойские сапожки. Я заговорил с доном Хуаном, а потом глянул на незнакомца. Он улыбался.
— Вот так Карлос! — обратился он к дону Хуану. — Не хочет со мной разговаривать. Наверное, сердится.
Оба громко засмеялись, и только теперь до меня дошло, что незнакомец — не кто иной, как дон Хенаро.
— Что, не узнал? — продолжая смеяться, спросил он.
Я признался, что его одежда сбила меня с толку, и спросил:
— Как тебя сюда занесло, дон Хенаро?
— Приехал подышать суховеем, — ответил за него дон Хуан. — Верно?
— Именно, — поддакнул дон Хенаро. — Ты даже не представляешь, что жаркий ветер выделывает с моим дряхлым телом!
Я уселся между ними.
— Что же он выделывает с твоим телом, дон Хенаро?
— Сообщает ему удивительные способности. Верно я говорю? — повернулся он к дону Хуану. Тот кивнул головой.
Я признался, что период, когда дует суховей, для меня отвратительное время года; странно, что дон Хенаро приехал специально ради него.
— Карлос не выносит жары, — пояснил дон Хуан. — Когда жарко, он задыхается.
— Зады — что?
— Зады — хается.
— Ах он бедняжка! — с притворным состраданием воскликнул дон Хенаро и состроил гримасу отчаяния.
Дон Хуан объяснил, что я долго не появлялся потому, что не мог оправиться после встречи с гуахо.
— Неужто встретился с ним? — удивился дон Хенаро.
— Похоже на то, — с сомнением подтвердил я. Оба старика покатились со смеху. Дон Хенаро шлепнул меня по спине.
Прикосновение было легким, и я воспринял его как дружеский жест. Он положил мне руку на плечо, и тут произошло что-то непонятное. Вдруг показалось, что он взвалил мне на спину что-то увесистое, вроде огромного булыжника. Тяжесть лежавшей на моем плече руки была такой, что я согнулся и стукнулся лбом о землю.
— Надо помочь нашему Карлосу, . — сказал дон Хекаро и с видом заговорщика глянул на дона Хуана. Тот смотрел в сторону, будто ему нет до меня дела.
Дон Хенаро молча посмеивался, словно ожидая, как я отреагирую на его проделку. Я попросил его снова положить руку, но он отказался. Тогда я попросил объяснить, как он это сделал, но дон Хенаро только ухмыльнулся. Я повернулся к дону Хуану и пожаловался, что дон Хенаро едва не сломал мне кости.
— Ничего не знаю, — отмахнулся дон Хуан. — На меня он рук не накладывал.
И оба зашлись от хохота.
— Дон Хенаро, что ты со мной сделал? — не унимался я.
— Всего-навсего положил руку на плечо, — невинным тоном ответил он.
— Положи еще раз.
Он отказался. Тут вмешался дон Хуан и попросил меня рассказать дону Хенаро о моих ночных странствиях по холмам. Я решил изложить ход событий как можно подробнее. Но чем серьезнее становился мой рассказ, тем громче они смеялись. Два-три раза пришлось даже остановиться, но старики требовали продолжать.
Когда я кончил, дон Хуан обратился ко мне:
— Тебе не придется приманивать гуахо, он явится нежданно-негаданно. Сидишь себе, поплевываешь в потолок или думаешь о женщинах. Вдруг — кто-то хлоп тебя по плечу. Оборачиваешься, а это гуахо.
— Что мне в таком случае делать?
— Погоди-ка! — воскликнул дон Хенаро. — Не так спрашиваешь. Сам ты ничего не сделаешь. Спроси лучше, что в таком случае может сделать воин.
Он вытаращился на меня, высоко подняв брови и склонив голову набок.
Я взглянул на дона Хуана, чтобы по его виду узнать, не разыгрывают ли они меня, но его лицо оставалось серьезным.
— Хорошо, — согласился я. — Что в таком случае делать воину?
Дон Хенаро сморщился и зачмокал губами, словно подыскивал верное слово.
— Воину следует немедленно наделать в штаны! — проговорил он с самым серьезным лицом.
Старики затряслись от смеха: дон Хуан закрыл лицо ладонями, а дон Хенаро согнулся в три погибели. Наконец оба успокоились, и дон Хуан сказал:
— Одолеть страх невозможно. Если воина застигли врасплох, он не раздумывая бежит от гуахо прочь. Воин не поддается чувствам и не умирает от страха, он позволяет гуахо являться к нему лишь тогда, когда сам полон сил и готов к встрече. Если воин готов к схватке, он открывает свою щель, бросается на гуахо, хватает его, прижимает к земле и смотрит на него, не отводя взгляда, столько, сколько необходимо, а потом отпускает. Воин, друг мой, — всегда воин.
— А что случится, если смотреть на гуахо слишком долго? — спросил я.
Дон Хенаро вперился в меня так, словно играл в гляделки.
— Не знаю, — ответил дон Хуан. — Может, Хенаро расскажет, как это с ним было.
— Может, и расскажу, — усмехнулся дон Хенаро.
— Дон Хенаро, прошу тебя.
Дон Хенаро поднялся, потянулся, хрустнув суставами, и округлил глаза так, что они стали совсем безумными.
— Хенаро идет сотрясать землю, — сообщил он и скрылся в зарослях.
— Хенаро готов помочь тебе, — объяснил дон Хуан. — Как в прошлый раз, когда мы были у него. Тогда ты почти видел.
Я подумал, что дон Хуан имеет в виду водопад. Оказывается, речь шла о громоподобном звуке, который я слышал возле дома дона Хенаро.
— Кстати, что это было? — спросил я. — Мы тогда вволю посмеялись, но ты не объяснил, в чем суть.
— А ты и не спрашивал.
— Спрашивал.
— Спрашивал о чем угодно, только не об этом. — Дон Хуан глянул на меня с упреком. — Это искусство, которым владеет один Хенаро. И ты тогда почти видел.
Я сказал, что мне и в голову не пришло соотнести видение с тем странным грохотом.
— А почему бы и нет? — с удивлением спросил он.
— Видение связано со зрением, — объяснил я.
— Я никогда не говорил, что видят только глазами.
— Но все же как он это делает? — не унимался я.
— Он говорил тебе как, — буркнул дон Хуан. В этот момент раздался грохот. От неожиданности я вскочил, а дон Хуан засмеялся. Грохотало, как при горном обвале. Прислушиваясь, я с удивлением обнаружил, что моя «азбука звуков» явно заимствована из кино. Громовые раскаты, которые я услышал, напоминали звуковое сопровождение к эпизоду обвала в горах.
Дон Хуан схватился за бока, словно ему стало больно от смеха. Громоподобные раскаты сотрясали землю; я отчетливо слышал громыхание огромного валуна, катящегося прямо на меня. На мгновение я растерялся. Все мышцы моего тела напряглись, я приготовился бежать. Бросил взгляд на дона Хуана. Тот внимательно наблюдал за мной. Что-то тяжелое ухнуло о землю сразу за домом. Земля содрогнулась. И тут произошло нечто удивительное. Я «увидел» за домом валун величиной с гору! Точнее говоря — порожденный ужасным грохотом образ гигантского валуна, переворачивающегося с боку на бок. Я видел грохот! Ощущение было столь непривычным, что мне стало страшно и захотелось убежать. Дон Хуан схватил меня за руку и приказал не двигаться, а смотреть в ту сторону, куда скрылся дон Хенаро. Я подчинился, но ничего особенного больше не заметил.
Через несколько минут вернулся дон Хенаро. Он сел на свое место и спросил, «видел» ли я. Я не знал, что ответить, и вопросительно посмотрел на дона Хуана.
— Кажется, да, — ответил он за меня и усмехнулся.
Я хотел сказать, что не понимаю, о чем они толкуют, но совершенно растерялся и очень на себя обозлился.
— Пусть посидит один, — сказал дон Хуан. — Карлос упивается своим непониманием.
Они поднялись и ушли.
Несколько часов я провел в одиночестве. У меня хватило времени и на записи, и на размышления о происшедшем. Я пришел к выводу, что с того момента, как я увидел дона Хенаро, события приобрели комический оттенок. Чем больше я думал, тем больше склонялся к тому, что дон Хуан передал бразды правления дону Хенаро. От этой мысли стало не по себе.
Старики вернулись, когда стемнело, и уселись по обе стороны от меня. Дон Хенаро подвинулся ко мне вплотную. Ощущение было таким же, как в тот раз, когда он положил мне на плечо руку. Под тяжестью незримого груза я согнулся и рухнул дону Хуану на колени. Он помог мне выпрямиться и весело спросил, не собираюсь ли я вздремнуть.
— Я напугал тебя, Карлито? — с явным сочувствием спросил дон Хенаро.
— Ты похож на дикого жеребенка.
— Расскажи ему о своей встрече с гуахо, — предложил дон Хуан, — это единственный способ его успокоить.
Они немного отодвинулись и стали с интересом меня разглядывать. В сумерках их глаза казались тусклыми омутами, в которых скрывалось нечто ужасное, нечеловеческое. Я не мог выдержать эти взгляды и, хотя не боялся ни дона Хуана, ни дона Хенаро, испытал вдруг такой ужас, что задрожал. Я был в смятении.
Помолчав, дон Хуан вновь попросил дона Хенаро рассказать, как он пытался выдержать взгляд своего гуахо. Дон Хенаро сидел, не произнося ни слова. Я посмотрел на него: его глаза были раз в пять больше обычного! Они излучали свет и притягивали к себе. Дон Хенаро напоминал огромную кошку. Он шевельнулся — и мне стало жутко. Совершенно непроизвольно, словно мне это не впервые, я принял «боевую позу» и зашлепал рукой по ляжке. Я не сразу сообразил, что делаю, а спохзатившись, в смущении оглянулся на дона Хуана. Тот одобрительно глянул на меня и громко засмеялся. Дон Хенаро, мурлыкнув, поднялся и скрылся в доме.
Дон Хуан сказал, что дон Хенаро могуч и не любит заниматься пустяками и что сейчас он задал мне своими глазами задачу. Всякий, кто занимается колдовством, особо опасен в сумерки, и колдуны вроде дона Хенаро могут творить в это время чудеса.
Мы помолчали. Стало легче. Разговор с доном Хуаном успокоил меня и вернул уверенность. Дон Хуан сказал, что сейчас мы перекусим и пойдем втроем прогуляться. Дон Хенаро поучит меня, как надо прятаться.
Я попросил объяснить, что он имеет в виду, но дон Хуан заявил, что объяснять — значит потакать моим слабостям.
Мы вошли в дом. Дон Хенаро сидел при зажженной керосиновой лампе и ел. Поужинав, мы отправились в чапараль. Дон Хуан шел рядом со мной, дон Хенаро — в нескольких шагах впереди.
Ночь была ясная. Несмотря на густые облака, света от луны было достаточно. Немного спустя дон Хуан остановился и велел мне идти следом за доном Хенаро. Я замешкался, но он подтолкнул меня, сказав, что все будет хорошо и что надо больше себе доверять.
Я двинулся за доном Хенаро и часа два пытался его догнать, но, как ни старался, не догнал. Фигура дона Хенаро маячила впереди, то исчезая из виду, словно он свернул с тропы в сторону, то снова появляясь. Прогулка в темноте показалась мне странной и бессмысленной, и я продолжал ее лишь потому, что не знал дорогу обратно. Я не мог понять, что делает дон Хенаро, и подумал, что он ведет меня в густые заросли чапараля, где, по словам дона Хуана, будет учить прятаться. В какой-то момент мне вдруг показалось, что дон Хенаро позади меня. Я обернулся, заметил сзади человеческую фигуру и вздрогнул. Приглядевшись, я различил метрах в пятнадцати силуэт стоящего человека. Человек почти сливался с кустами; казалось, он прячется. Мне пришло в голову, что это — дон Хуан, который наверняка шел за нами. Как только я это подумал, силуэт исчез, и, кроме темной массы чапараля, ничего не было видно.
Я пошел туда, где заметил фигуру, но там никого не оказалось. Дона Хенаро тоже нигде не было. Дорогу назад я не знал и поэтому сел и стал ждать. Через полчаса появились дон Хуан и дон Хенаро и громко позвали меня. Я поднялся и присоединился к ним.
Обратный путь прошел в долгом молчании, но я был этому даже рад: нужно было прийти в себя. Я пребывал в каком-то странном состоянии. Дон Хенаро выбил меня из привычной колеи, я никак не мог сосредоточиться. Я понял это, когда сидел, ожидая стариков, у тропинки. Мой мозг будто отключили. Вместе с тем я как никогда остро воспринимал происходящее. Ни о чем не думал, ни о чем не беспокоился. Казалось, мир пребывает в полном равновесии: ничего к нему не прибавить, ничего не убавить.
Вернувшись домой, мы расстелили циновки и легли спать. Я хотел поделиться своими впечатлениями с доном Хуаном, но он слушать не стал.
18 октября 1970 года
— По-моему, я понял, чего добивался вчера дон Хенаро, — сказал я дону Хуану. Я хотел вызвать его на разговор, упорное молчание старика меня раздражало.
Дон Хуан улыбнулся и кивнул головой, что можно было принять за внимание к моим словам, если бы не насмешливые искорки в его глазах.
— Ты мне не веришь?
— Ну почему же? Ты понял, что Хенаро все время был позади тебя. Но понять — это еще не самое главное.
Слова о том, что дон Хенаро все время был позади, поразили меня, и я попросил объяснений.
— Твой ум, — сказал дон Хуан, — устроен так, что ты воспринимаешь лишь одну сторону происходящего...
Дон Хуан подобрал с земли прутик и провел им по воздуху так, словно легонько протыкал воздух или выбирал из кучки семян сор. Обернулся ко мне. Я пожал плечами, выражая недоумение. Он подвинулся ближе и, повторив прежние движения, обозначил на земле восемь точек. Первую из них обвел.
— Ты находишься вот здесь, — указал он. — Да и все мы тоже. Это сознание; мы движемся отсюда — сюда. — Он обвел вторую точку, расположенную над первой, и стал водить прутиком от точки к точке, изображая интенсивное движение.
— А между тем есть еще шесть точек, которые человек способен достичь, — продолжал дон Хуан. — Большинству людей они неизвестны.
Он пошевелил прутиком между первыми двумя точками.
— Движение между этими двумя точками ты называешь пониманием и занимаешься им всю жизнь.
Дон Хуан соединил точки между собой; получилась вытянутая трапеция с пересекающимися внутри линиями.
— Каждая из шести точек — целый мир, подобно двум твоим мирам — сознанию и пониманию, — сказал он.
— А почему их всего восемь? — спросил я. — Почему не бесконечное число, как в окружности?
Я нарисовал на земле круг. Дон Хуан улыбнулся.
— Насколько мне известно, человек способен овладеть только этими восемью точками. Видимо, больше ему не дано. «Овладеть», а не «понять», улавливаешь разницу?
Я рассмеялся: дон Хуан пародировал мое пристрастие к точному словоупотреблению.
— Главное для тебя — все понять, а это невозможно. Настаивая на понимании, ты забываешь о своем человеческом предназначении. Твой камень где лежал, там и лежит. За все эти годы ты почти ничего не сделал. Только пробудился от спячки; но это лишь начало.
Дон Хуан сказал, что мы поедем к каньону с высохшим родником. Когда мы сели в машину, из-за дома вышел дон Хенаро и присоединился к нам. Проехав часть пути, мы пошли пешком через овраг. Дон Хуан предложил отдохнуть в тени большого дерева.
— Однажды ты рассказывал, — начал он, когда мы сели, — что наблюдал со своим другом, как с верхушки клена падал лист. Твой друг сказал, что один и тот же лист с дерева дважды не падает, даже если пройдет вечность.
Я вспомнил, что действительно рассказывал этот случай.
— Мы сидим у корней дерева, — продолжал дон Хуан. — Взгляни на дерево напротив, и ты увидишь, как с его верхушки упадет лист.
На краю оврага росло высокое дерево с сухими пожелтевшими листьями. Дон Хуан кивнул головой в его сторону. Я посмотрел и увидел, как с верхушки дерева сорвался лист и стал медленно падать на землю. Он несколько раз ударился о ветки и скрылся в подлеске.
— Ну как, видел?
— Да.
— Ты утверждаешь, что один лист дважды не падает?
— А как же иначе?
— Вот видишь, для тебя иначе и быть не может. А теперь гляди еще раз.
Я глянул на дерево и увидел, как с его верхушки упал лист. Он задел точно те же ветки, что и предыдущий, словно это был повтор на телеэкране. Я внимательно следил за волнообразным падением листа, пока тот не достиг земли. Поднялся, чтобы проверить, не два ли там листа, но подлесок мешал разглядеть, куда они упали.
Дон Хуан засмеялся и велел мне сесть.
— Гляди, — кивнул он на верхушку дерева, — снова падает тот же лист.
Я проследил за падением еще одного листа, точь-в-точь повторившего движение двух предыдущих. Не успел он приземлиться, как, догадавшись, что дон Хуан снова предложит посмотреть на верхушку, я глянул вверх — лист падал опять. Я обратил внимание на то, что только в первый раз видел, как лист отломился, а когда поднимал голову остальные три раза, лист уже падал. Я сказал об этом дону Хуану и попросил объяснения.
— Не понимаю, — сказал я, — каким образом тебе удается повторить то, что я уже видел. Как ты это делаешь?
Он засмеялся, но ничего не ответил, а я продолжал настаивать на объяснении. Я сказал, что с точки зрения моего разума это невозможно.
— С точки зрения моего — тоже, — согласился дон Хуан. — Но ведь ты сам видел, как лист падал. Верно я говорю? — обратился он к дону Хенаро. Тот посмотрел на меня, но ничего не ответил.
— Это невозможно! — почти закричал я.
— Ты прикован к собственному разуму, — сказал дон Хуан. — Все очень просто: один и тот же лист падает снова и снова. Но тебе этого мало, тебе нужно еще понять: как, зачем и почему. А здесь понимать нечего, да и все равно не понять.
В этот момент дон Хенаро неожиданно вскочил на ноги, мельком глянул на дона Хуана и принялся размахивать передо мной руками.
— Гляди, Карлито, — проговорил он, — гляди!
Он издал какой-то необычный резкий звук — словно что-то с треском разорвалось, и в животе у меня екнуло, как будто я куда-то падал. Через несколько секунд это ощущение исчезло, зато начался неприятный зуд в коленях. И тут я стал свидетелем еще одного невероятного явления. Я увидел дона Хенаро — на вершине горы, километрах в пятнадцати отсюда. Видение длилось недолго и исчезло так неожиданно, что я не успел его как следует разглядеть. Не смог запомнить ни величину фигуры, ни даже того, действительно ли это дон Хенаро, но в ту минуту был абсолютно уверен: я вижу дона Хенаро на вершине горы. Как только я подумал, что увидеть человека на таком расстоянии невозможно, видение исчезло.
Я обернулся к дону Хенаро, но он как сквозь землю провалился. Не зная, что и подумать, я совершенно растерялся.
Дон Хуан поднялся и заставил меня положить руки на живот и сесть на корточки, плотно прижав колени к груди. Какое-то время мы сидели молча, затем дон Хуан сказал, что объяснять ничего не собирается, ибо колдуном можно стать только действуя. Он советует мне побыстрее уехать отсюда, иначе дон Хенаро, стараясь помочь, может ненароком меня убить,
— Нужно изменить направление, — сказал он, — только тогда ты сбросишь цепи.
Дон Хуан повторил, что в действиях колдунов вообще понимать нечего и что необычное дается колдунам без труда.
— Мы с Хенаро действуем вот здесь, — сказал он, указав на одну из точек в своем чертеже. — Здесь нет понимания, и тем не менее все понятно.
Я хотел сказать, что не понимаю, о чем он говорит, но дон Хуан, опередив меня, поднялся и жестом позвал за собой. Он шел быстро. Стараясь не отстать от него, я вскоре стал задыхаться и покрылся потом.
Залезая в машину, я оглянулся по сторонам, все еще надеясь увидеть дона Хенаро.
— Где же он? — спросил я.
— Сам знаешь не хуже меня.
Перед отъездом я, как обычно, сидел с доном Хуаном на веранде. Я еще не терял надежды, что он объяснит, как исчез дон Хенаро. Старик был прав: объяснения — моя слабость.
— Дон Хуан, а где сейчас дон Хенаро? — спросил я.
— Ты и сам знаешь, — ответил он. — И всякий раз терпишь неудачу, потому что жаждешь понимания. Например, вчера знал, что Хенаро все время шел позади. Даже обернулся и увидел его.
— Да не знал я этого, — возразил я, — не знал!
Мне незачем было хитрить, я говорил вполне откровенно. Мой ум отказывался воспринимать такого рода явления как реальные, хотя после десяти лет ученичества у дона Хуана я перестал доверять традиционным критериям «реального». Вместе с тем возникающие у меня представления о реальном оставались интеллектуальными построениями; именно поэтому поступки дона Хуана и дона Хенаро завели мой ум в тупик.
Дон Хуан смотрел мне в глаза. В его взгляде было столько грусти, что я заплакал. Слезы лились не переставая. Впервые в жизни я со всей остротой осознал бремя собственного разума. Нестерпимая душевная боль овладела мной. Не в силах сдержаться, я припал к старику и обнял его. Дон Хуан легонько стукнул меня по темени костяшками пальцев.
— Ты слишком поддаешься настроению, — сказал он негромко. В его голосе не было ни сожаления, ни упрека.
ЭПИЛОГ
Дон Хуан медленно обошел вокруг меня. Казалось, он колеблется, сказать мне еще что-нибудь или не надо.
— Вернешься ты или нет, — произнес он наконец, — это не важно. Тебе остается одно: жить, как подобает воину. Ты знал это и раньше, но сейчас у тебя нет другого выхода. Это знание не пришло само; ты был вынужден бороться за него, сражаться с самим собой. Но не забывай: ты — по-прежнему светящееся существо. Тебя по-прежнему ждет смерть, как ждет она всех остальных. Помнишь, когда-то я рассказывал о светящемся яйце и о том, что в нем ничего нельзя изменить.
Дон Хуан замолчал. Я чувствовал, что он смотрит на меня, но боялся встретиться с ним взглядом.
— В тебе ничего не изменилось, — закончил он. — Ровным счетом ничего...

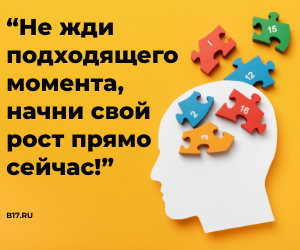

Комментарии к книге «Особая реальность», Карлос Кастанеда
Всего 0 комментариев