Самуил ЛУРЬЕ
Муравейник
Фельетоны в прежнем смысле слова
СОДЕРЖАНИЕ
ОЧЕНЬ СТРАННОЕ МЕСТО
ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ КРУГОЗОР
ДОРОГА К ХАМУ
ПРОТОКОЛЫ СИАМСКИХ БЛИЗНЕЦОВ
ОГНИ БОЛЬШОГО ДОМА
ГОРОД В ОТСУТСТВИЕ АНГЕЛА
РИМСКИЙ ПАПА И АБСУРД
ОДИССЕЙ В АРХИПЕЛАГЕ
БЕЗ СУЩЕСТВЕННЫХ ОСАДКОВ
ХОР НИЩИХ
РАЗГАДКА ШАРАДЫ
ИЗ ЖИЗНИ СЛОВ
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА КАК СОСТОЯНИЕ УМА
ТЕМА ЛИШНЕГО ЧЕЛОВЕКА
МЕЛАНХОЛИК В СТОЛИЧНОЙ СУЕТЕ
ПО КРУГУ, ПО КРУГУ
ЧАЙНИК С ЦВЕТОЧКАМИ
КОВЧЕГ ПЛЫВЕТ
ПАРТИЯ ТРОМБОНА
О ПОДЗЕМНОЙ ПОГОДЕ
ПОДВИГ ПОДКОЛЕСИНА
В СТИЛЕ COUNTRY
ИДИЛЛИЯ КАПУСТНИЦ
МИФОЛОГИЯ РАЗБИТОГО ЯЙЦА
ПОШЛОСТЬ КАК СУДЬБА
ЧТО-ТО О ВАВИЛОНЕ
РОГ СОБЫТИЙ
В СТИЛЕ ДИАМАТА
ИЛИ ПРИСТИПОМА?
ОРЕЛ ДА ЩУКА
БЕСПОРЯДОЧНОЕ ЧТЕНИЕ
Письмо I
Письмо II
Письмо III
Письмо IV
Письмо V
Письмо VI
Письмо VII
Письмо VIII
Письмо IX
Письмо X
Письмо XI
Письмо XII
Письмо XIII
Письмо XIV
Письмо XV
Письмо XVI
Письмо XVII
Письмо XVIII
Письмо XIX
Письмо XX
Письмо XXI
Письмо XXII
Письмо XXIII
Письмо XXIV
Письмо XXV
Письмо XXVI
Письмо XXVII
Письмо XXVIII
Письмо XXIX
Письмо XXX
Письмо XXXI
Письмо XXXII
Письмо XXXIII
Письмо XXXIV
Письмо XXXV
Письмо XXXVI
Письмо XXXVII
Письмо XXXVIII
Письмо XXXIX
Письмо XL
Письмо XLI
Письмо XLII
Письмо XLIII
Письмо XLIV
Письмо XLV
Письмо XLVI
Письмо XLVII
Письмо XLVIII
Письмо XLIX
Письмо L
Письмо LI
ИМЕНИНЫ ПРИВИДЕНИЙ
Страна им. Ф. М. Достоевского
Воспоминание о Диккенсе
Погасшая звезда
Пустыня славы
Громкоговоритель
Тютчев: ночь, день, ночь
Звезда пленительного счастья, или Теоремы Чаадаева
Друг человечества печально замечает
Играть Блока
Откровение Константина
Под знаком Тельца
Главный свидетель
Памятник призраку
Парадокс Чернышевского
Осенний романс
Имена Музы
Миндальное Дерево Железный Колпак
Стиль как овеществленное время
Прописка Годивы
Частности
Причина смерти
Железный колпак
Шесть слов
Клоун, философ, закрытое сердце
Похвала меланхолии
Цена победы
Перед заходом солнца
Фольклор
Философия слога
В пустыне, на берегу Тьмы
НЕТЛЕННЫЙ МУРАВЕЙНИК
"Фельетонъ - статьи легкаго содержанiя,
помещаемыя въ газетахъ".
Справочный общедоступный энциклопедический
словарь под редакцией А. Н. Чудинова.
СПб., 1901
ОЧЕНЬ СТРАННОЕ МЕСТО
Из лекции, читанной в ленинградском
Доме журналистов 13 апреля 1988 года
... Как раз в этой местности, где мы с вами находимся, совсем еще недавно обитали исключительно литорины, брюхоногие моллюски. Их было страшно много, и море, в котором они обитали, называлось Литориновое. Как ни странно, это было тогда, когда в Египте уже существовало Среднее Царство, пирамиды уже стояли, их заносило песком; в Вавилоне уже создавалась бюрократическая письменность, и головы слетали с плеч, словно капустные кочаны... А тут, у нас, било в берега пустынное море. Потом оно отступило, дно поднялось на два-три метра, образовалась какая-то суша, и первый раз на нее глянуло солнце.
Нева ведь не река - протока; не разливается, и у нее нет высокого берега.
Действие романа Голдинга "Наследники" может быть приурочено именно к нашей местности, потому что именно здесь жили уже в историческую эпоху доисторические люди, питавшиеся ракушками-литоринами...
Этот город имеет нулевую точку отсчета - мы можем точно назвать время, когда его не было, не было ничего, просто была вода, потом она отступила, и появилась суша, жалкий клочок, из-за которого в течение ряда столетий велись войны, совершенно как в "Гамлете" Шекспира. Это был, наверное, единственный такой уголок Европы (подобное было в Америке, и Вильям Пейн, основатель Пенсильвании, как раз в одно время с Петром высадился на пустынный берег и тоже затеял строительство, но за его спиной не стояло мощное государство, как за Петром Великим). И это странное пространство попало в руки к человеку, который обращался с ним, как мальчик, перед которым стол и кубики, - строй, что хочешь. Дикое, не имевшее постоянного населения пространство досталось во власть и в собственность человеку, одержимому идеей просвещения - и всемогущества человеческого ума: тоже странное обстоятельство.
А затем этот город сделался столицей - странной столицей, не похожей на свою страну: другая архитектура, другой способ жить, другое самочувствие, и даже произношение отдельных слов.
Этот город стал неким чудовищным фурункулом, стянувшим к себе всю бюрократию страны, всю силу власти, но одновременно чуть ли не всю литературу и науку. И затем в нем произошли катаклизмы, известные под названием "Трех революций", а затем он стал бывшей столицей, репрессированной, опальной, ненавидимой; и затем его постигло чудовищное бедствие в годы войны, тоже небывалое в истории.
Если бы рассказывали о человеке, который выиграл в лотерею миллион, а потом женился на принцессе, а потом попал в руки разбойников и бежал от них, а потом потерпел кораблекрушение, но выплыл на берег, - если бы такие невероятные происшествия случились с человеком, а не с городом, то мы бы говорили: ему на роду написано совершить что-нибудь великое, необычайное.
В XVIII-XIX веках население Петербурга на три четверти состояло из всяких пришлых людей, которые летом уходили на сезонные работы, а осенью возвращались - в прислугу, в извозчики, официантами в трактиры, строительными рабочими. Здесь всегда было больше мужчин, чем женщин, - в соотношении примерно 3 к 1. И здесь всегда заключалось наименьшее количество браков. Как написано в старинной книге:
"Вообще трудно найти другой город, где так мало бы замечалось среди жителей матримониальных устремлений, как в Петербурге".
Мы не знаем почти ни одного крупного русского писателя (до Блока), который бы здесь родился. Сюда приезжали, получив образование в других местностях, - люди приезжали сюда и становились петербуржцами. Даже самые петербургские люди - герои романов Достоевского, - даже они откуда-нибудь приехали, чтобы поступить в университет или на службу. Люди приезжали сюда, а потом здесь умирали. И так было на протяжении всего XIX века, причем тогда уже делались попытки объяснить характер петербургского человека вот этим что он чужой: он приехал и уедет, он здесь не живет, этот город не для него. И, в частности, про ипохондрию, черту типически петербургскую, говорилось так:
"В Петербурге, где бльшая часть населения составлена из людей, проводивших первые лета юности или за границей, или внутри России, ипохондрия - почти обыкновенная болезнь. Воспоминания о родине, сердечные утраты, обманутые надежды, так долго услаждавшие нас, разочарования в наслаждениях удовольствиями жизни превращают в ипохондриков людей, даже не показывавших признаков болезни, которая при геморроидальных припадках еще более усиливается".
С двадцатых годов XX века город подвергся такому настойчивому, непрекращающемуся террору, что, по-видимому, очень немного осталось таких семейств, члены которых могут числить себя ленинградцами или петербуржцами в четвертом или пятом поколении.
Отсюда и ужасный вид наших старинных кладбищ. Они именно потому так разорены и поруганы, что над ними не простирается охраняющая воля родственников. Наследников нет.
... Но если население сменялось, если сам город, вообще-то говоря, не был рассчитан на население, то что же все-таки связывает нас с восемью или девятью поколениями тех, кто жил и умер в этом городе, удобрил его своими костями, наполнил его своим дыханием и делами своих рук?
По всей видимости, это архитектура, литература и петербургские адреса.
Нет ни у кого из нас, наверное, более высокого и прекрасного момента в жизни, чем когда удается постоять одному на Неве, - скажем, на Дворцовом мосту, - и отовсюду вас охватывает бесконечно стройное, исключительно хорошо темперированное пространство. Эту минуту, или похожую на нее, описывал Достоевский. Эта минута - очень странная. Вы действительно чувствуете, что жизнь как бы имеет смысл. Река и эта дивная, разнообразная архитектура состоят между собой - и с вами - в каких-то особенных отношениях. Наверное, их можно описать пропорцией: ширина Невы - высота дворцов - человеческий рост. В этом летучем соотношении (здесь еще, как вы знаете, очень активно участвует свет) вас охватывает удивительное, прекрасное чувство, которое является мечтой, ну, какого-нибудь Шеллинга, что ли. Вы находитесь внутри художественного произведения. Это ситуация, которая заслуживает философского осмысления. Вы находитесь как бы внутри картины, или, может быть, на огромной сцене пустого театра, где с необыкновенным искусством выписан задник. Получается так, что все это устроено для зрителя, - жить в этом нельзя, на это можно только смотреть. Это огромная декорация, в которой вы рабочий сцены. А если это картина - то вы стаффаж. Город не для вас, в нем невозможно жить, им можно любоваться. Зимний дворец, Биржа, Дворцовая площадь, Сенатская - ни одно из этих зданий не имеет в виду какого-то удобства для заказчика, вообще не предполагает никакой жизни. Многие говорят, что никогда наш город не был так красив, как в разруху двадцатых годов или как сразу после блокады. Чем безлюднее, тем лучше. Он вообще не рассчитан на эти массы населения. Когда идешь по нему белой ночью часа в четыре, это очень заметно.
Обе стороны канала Грибоедова, Фонтанка, все эти кварталы так называемого центра - совсем другой слой окаменевшего времени, но столь же необыкновенный. Вы можете, спеша по делу или гуляючи, внезапно поднять глаза и увидеть, что стоите у дома, на который потрачена масса сил; масса художественной воли излучается на вас - архитектор старался, он изукрасил фасад какими-то лопатками, рустами, тягами, наличниками, маскаронами, картушами, волютами - все это красиво, но прохожий, как правило, не видит этого, потому что здания поставлены таким образом, так пригнаны к красной линии, так вогнаны в плоскость, что вы не смотрите на них, - это здания, которыми не любуются. Но вместе с тем и не такие, чтобы в них жить. Когда вы входите в ворота, вас встречает двор, где все окна смотрят друг на друга и вниз; черные лестницы, парадные лестницы, квартиры, как бы собранные из причудливых, неудобных, странно прилаженных друг к другу комнат; потемки, дурные запахи, какие-то гулкие звуки...
Говорят, что вот-де наступление капитализма породило всю эту эклектичную архитектуру - но ведь это очень странный капитализм. В любом европейском городе вы можете увидеть другие примеры - в Таллинне, в Риге. Там тоже наступал капитализм. И вот человек, разбогатев, строил для себя дом. Он себя с этим домом отождествлял, ему хотелось в этом доме жить. Этот дом должен был отражать его потребности, привычки, вкусы, интересы... Подобных домов здесь нет. Вообще, петербургские домовладельцы - таинственное племя, они даже в литературе не фигурируют. Непонятно, кто это были. Они составляли ничтожное меньшинство; остальные нанимали квартиры, причем очень многие сдавали в этих нанятых квартирах комнаты. Все население этого города проживало на чужой жилплощади. Снимали угол в комнате, комнату в квартире, квартиру в доме... Фасады доходных домов скрывали от чужого взгляда этот неуют и беспорядок, пуская пыль в глаза.
Здания в центре города были эмблематическими постройками, нечто знаменовавшими: морскую мощь, как Адмиралтейство, воинскую мощь, как Петропавловская крепость, пышность государства, как Зимний дворец, процветание искусств, как Академия художеств. Они все приподнимались на цыпочки и что-нибудь знаменовали. Но сейчас город выглядит не таким, как задуман. Тому три причины (перемноженные друг на друга, они громко именуются Временем).
Во-первых, болотистая почва, в которую уходят метра на полтора, а кое-где и на два, эти здания. Они стали ниже ростом. Вы можете посмотреть на старинных гравюрах, как выглядел какой-нибудь Строгановский дворец: огромный, он высился на берегу Мойки, он господствовал, - а сейчас стал такой маленький. Это касается очень многих зданий, все мы видим эти первые этажи, утопленные в асфальт. Земля поднимается, потому что на ней нарастают остатки нашей жизни. Земля поднимается, дома уходят в нее.
Потом - растительность. Она очень многое погубила, почти все о чем мечтал, в частности, Росси: этот первоначальный импульс осмысленной прямоугольности, эту концепцию, что все на свете поддается математическому измерению и что прямые линии, параллельные друг другу, не пересекаются нигде. А Росси был гениальный строитель заборов. Сами здания его не так замечательны, чтобы взгляда не оторвать. Коринфского ордера заборы, невероятная способность оградить пространство; он мыслил площадями, был у него этот дивный дар. И на нем иссякла эта творческая воля к прямоугольному, перпендикулярному, к геометрическому мышлению. Росси, в котором не меньше, чем в композиторе Глинке, приподнятого над землей торжественного оптимизма, Росси окончательно погублен нашей простой, чахлой ингерманландской растительностью. В частности, таким образом совершенно погибла площадь Островского - перед Александрийским театром. Вы можете увидеть на акварелях Садовникова и на старинных гравюрах, что это была величественная площадь, это было огромное пространство - теперь съежилось вокруг бронзовой юбки.
Наконец - человеческая глупость, и в частности глупость отцов города.
У нас есть общий предрассудок, что глупость - это слабость ума. Но это не так. На самом деле глупость гораздо сильнее ума. Это, собственно говоря, сила ума, сила его тяжести, что ли. Эта сила метафизическая....
Глупость видоизменила наш город, и очень заметно. Один из самых характерных примеров - дореволюционный, судьба Адмиралтейства. В 1874 году Городская дума приняла решение, что для озеленения, для свежего воздуха и вообще для красоты необходим - от Сенатской до Дворцовой - сад. Александр II лично прикоснулся к первому дубку, и будущий сад Трудящихся назвали Александровским. В результате южный фасад Адмиралтейства на сегодняшний день вообще не существует. Мы не можем судить, был ли Захаров, как некоторые считают, гениальным архитектором, или он был просто начальник чертежной мастерской. Адмиралтейство заслонено деревьями (за воротами, в глубине двора, сверкает золотой или серебряной краской чья-то статуя - наверное, Дзержинского, - эффект не слабый, но вряд ли Захаров рассчитывал именно на него). И та же Дума в том же году отдала обывателям с торгов участки на набережной, и северный фасад Адмиралтейства, обращенный к Неве, тоже погиб. Вот здание - одно из лучших, как говорят специалисты, и вот его не существует, просто на наших глазах оно как бы ушло под землю.
Кстати, Росси в свое время предлагал правительству замечательный проект устройства Адмиралтейской набережной, с какими-то невероятными арками, с каналами, по которым будут ходить суда. Но к 1872 году принципы Росси уже не действовали, а была фасетчатость мышления: во-первых, тут сегодня нужен проезд, во-вторых, нужны деньги для того, чтобы этот проезд построить, а в-третьих, зеленые насаждения полезны и красивы.
Таким же образом обращались отцы города на протяжении всей истории Петербурга и со всем остальным. Немецкими бомбами уничтожено меньше архитектурных памятников, чем обыкновенными постановлениями Ленгорисполкома. Я лично был свидетелем многих преступлений такого рода: последнее из них взрыв церкви Бориса и Глеба на Калашниковской набережной. Или вот была такая церковь - памятник в честь 300-летия Дома Романовых. Понятно, Романовы ненавистная династия, и можно было снести купол, ободрать мозаику, снять иконы и превратить храм в молочный завод - это ничего, как раз это допустимо, потому что горы злобы и ненависти, как известно, накопились у населения. Но ведь там какой-то человек, наверное, архитектор, вместо купола возвел, пренебрегая даже симметрией, слепой, оштукатуренный кубик - это так странно, так удивительно, этому нет никаких объяснений.
... А вот дворец Бобринских на Красной улице. Тут факультет университета, были какие-то институты, студенческий театр Вадима Голикова ставил замечательные спектакли, и пока студенты сидели на подоконниках, пока они писали свои телефоны и фамилии на стенках, пока что-то происходило и люди жили и дышали, это здание не выглядело мертвым. А сейчас - постойте возле него или обойдите его: за полчаса, что вы там пробудете, оно стремительно постареет, оно оплывает на ваших глазах, как снежная гора на солнце; оно уходит в землю, его не будет вот-вот, а ведь это 1790-е годы, это архитектор Руска, одно из немногих строений усадебного типа в Петербурге. Погибает, и погибнет непременно. Потому что у нас денег на это нет, у нас есть деньги на то, чтобы лозунги вывешивать на каждом здании. А на ремонт самого здания нет денег, и все.
... На Мойке - нет, уже на Пряжке! - дворец великого князя Алексея Александровича (архитектор Месмахер). Еще несколько лет назад он как-то держался, потом выехало последнее учреждение. И вдруг он весь поник. Это было красивое здание, уверяю вас. Занятный такой игрушечный замок с флюгерами, решетками. А сейчас... Статуя, снятая с крыши, стоит на помойке. Вдруг из-за нее вылезает некто: справлял нужду. Это ужасно странно, и все-таки это тоже Петербург...
Мы все будем жить на проспектах Ветеранов и Наставников, а в центре города будут жить начальники, в домах, замечательно реставрированных, - а не нужные им дворцы старинной архитектуры разрушатся, на этот счет у меня нет сомнений. Но нам останется все-таки мир петербургских слов.
Вы знаете, вот этот наш "умышленный" город является в некотором смысле одним из самых естественных ландшафтов, какие только существуют в мире: потому что пятую часть его площади занимает вода. Проточная вода - и под мостами, под мостиками, в речках и каналах. И море находится в двухстах шагах, но только мы от него отгорожены насильственно - заводами... Видимо, это противоречие между неколебимой логикой архитектуры и вечным молчаливым движением природы - оно и создает такое чувство, будто в мире существуют вещи, которые поважнее нашего с вами существования, важнее самой жизни. Это город, в котором мерещится смысл. И потому этот город - не только герой русской литературы, но и автор ее. Ясно, что многие страницы нашей литературы не могли быть написаны ни в каком другом городе, и многие страницы невозможны без него - просто непонятны. Я даже не представляю себе, как читает Гоголя, или Достоевского, или Мандельштама человек, родившийся и живущий во Владивостоке. Ему эти писатели представляются совсем иными, не такими, как нам. Эти страницы для него облечены совсем иным смыслом. В этом отношении нам повезло. Мы связаны с миром классических литературных ассоциаций. Мы прописаны в романах Достоевского, в стихах Блока.
.. Как можно скорей отменить одно-единственное постановление Ленгорисполкома от 15 декабря 1952 года - и это сразу вернет нам более шестидесяти старинных названий. Их отмена, задуманная как подарок товарищу Сталину, - это была такая акция, которая имела в виду как можно больше унизить репрессированную бывшую столицу. Этот подарок надо отобрать. А то ведь скоро совсем все забудется: и Мошков переулок, и Харламов мост, и Сенная площадь...
Историческая память горожанина зацепляется за какой-то предмет и дальше развивается по принципу нарастания контекста. И это интересней всякой фальши.
Однажды, много уже лет назад, на Литераторских мостках я случайно поскользнулся, разбив замерзшую лужу каблуком, - и увидел под водой: "Николай Семеновичъ Лhсковъ", - и понял, что Лесков действительно существовал. Сейчас взамен доски, ушедшей в землю - вполне приличное надгробие. Мне иногда представляется, будто на Волковом кладбище, на Литераторских мостках, ночью разъезжают какие-нибудь скреперы и, готовясь к завтрашним экскурсиям, тасуют надгробные плиты, как визитные карточки, с таким расчетом, чтобы сатирики лежали в одном ряду, а народники - в другом. Известно, что Белинский просил его похоронить рядом с его приятелем Языковым, а Тургенев просил, чтобы его похоронили рядом с Белинским, и что Тургенев и Салтыков-Щедрин друг друга ненавидели. И вот: никакого Языкова нет и в помине, а Тургенев и Салтыков-Щедрин принуждены весь остаток вечности смотреть друг на друга, потому что так гораздо красивее, - мол, два классика рядом, - и Гончаров тоже здесь, потому что тоже классик, хотя на самом деле был похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Вот лежит плита, и написано: "Иван Иванович Панаев", - и это тоже неправда. Тут сработала логика глупости: как же, тут Панаева-Головачева, вот Головачев, ее второй муж, а где же первый? Пускай и первый тут лежит, хотя в действительности он упокоился на кладбище Фарфорового завода, там, где теперь метро "Ломоносовская", и мы, поднимаясь на эскалаторе, плывем сквозь призрачный объем его могилы.
Мне даже нравится, что меня обманывают, потому что меня не обманешь. Здесь есть какое-то внутреннее противоречие, и оно дает многим объектам жизнь.
Наши дети уже не обязаны знать, что Блок не был похоронен на Волковом кладбище. Экскурсоводы станут их уверять, будто на площади Восстания всегда стоял топорно сработанный обелиск, а Красная улица не называлась Галерной, и на ней никогда не было дворца Бобринских. Построят новый "Англетер", совершенно такой же, как был, и напрочь забудут, как его сносили. Но мы-то, пока живы, не забудем, и призрак того дома, что стоял рядом, тоже останется для нас явственным и проступит сквозь любую декорацию. В нем жил Лев Толстой, а напротив - Достоевский, в нескольких шагах, через несколько лет. Пусть нет доски, на которой это написано. Мне важно, что тут жил сочинитель и герои его произведений бродят неподалеку, - и через пространственный образ я перехожу в какие-то другие времена...
И это ощущение, что тебя обманывают, а ты не даешься в обман, - это тоже, мне кажется, очень петербургское ощущение.
Я думаю, что пока Нева течет между своих берегов, пока солнце освещает наш город под этим углом, пока вы можете идти по какой-то улице - пусть она называется Воинова или Шпалерная, все равно! - к Смольному собору и, глядя на него, испытывать странное чувство, что где-то впереди, там, на невероятной высоте, существует мир ценностей, более важных, чем ваша собственная жизнь, - до тех пор петербуржцы не переведутся в Ленинграде. Хотя все делается для того, чтобы их не было.
Остальное не так существенно: что нечем дышать, что тесно, что злые лица, что транспорт унизительный - все равно...
Так получается, что вдали от этого города человек обязательно тоскует по нему, и никто из нас не хочет умереть в какой бы то ни было другой точке мирового пространства. Потому что, как говорит Алиса в Стране чудес, - "это очень, очень странное место".
ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ КРУГОЗОР
ДОРОГА К ХАМУ
Что это за дорога, нам с вами, разумеется, известно слишком даже хорошо: мы на ней стоим. Вот именно стоим, как на эскалаторе, уносящем в бездну. И кружится голова, и бесполезно цепляться за поручень, да и поручень-то срезан удалым и предусмотрительным Хамом.
Но странно устроен человек: даже падая, все-таки вглядываешься - в сущности, против воли, - в стремительно мрачнеющий пейзаж. Иллюзия такая: пока способен различать, еще не все пропало. Вот когда пролетающие факты сгустятся до полной тьмы...
У каждого - свой набор таких фактов, таких знаков падения. Я - собираю публичные высказывания, в которых злая воля, невежество или алчность проявлены в особо дерзкой форме: с таким бесстыдством, точно на свете никого уже и не осталось, кроме дураков.
Вот слушаю недавно "Радио России". Невинный спортивный репортаж. Прослышав, что какая-то безвестная московская команда выиграла в Париже чемпионат по контактному, что ли, каратэ, корреспондент отправляется на поиски. Вот уже он беседует с тренером этой команды - ее название "Булики" неким Евгением С-вым, по образованию футболистом (не шучу, это дословно: закончил заочное отделение такого-то спортивного вуза по специальности "футболист"). С-в подтверждает: "Булики" действительно одержали внушительную победу на парижском чемпионате, выиграли почти во всех весовых категориях, нанесли противникам несколько травм (поединки полагались настоящие боевые) и привезли домой семьдесят тысяч долларов, так что с лихвой хватило расплатиться с одним СП - спонсором, обеспечившим проезд туда-обратно и прочее. Чемпионат был мероприятием скорее коммерческим, чем спортивным, - но неважно, не в этом дело.
Тренер держится приветливо и просто, ничуть не хвастлив, хотя достижений добился потрясающих: юноши самые обыкновенные, с посредственными физическими данными, всего за какой-нибудь год превратились в бойцов неустрашимых, неуязвимых, непобедимых. "Как это удалось?" - допытывается журналист. И Евгений С-в, не чинясь, рассказывает.
Ему в жизни часто приходилось сталкиваться с дебилами. И он никак не мог смириться с тем, что дебил, как правило, превосходит храбростью и силой нормального человека, даже специально подготовленного, с высшим образованием. Он понял: это потому, что дебил не размышляет о последствиях, не соразмеряет своих сил с возможным противодействием. "Просто дерется. Как животное". Животное, почти любое (речь, наверное, о крупных), тоже одолеет в схватке едва ли не любого человека. Потому что не думает. Если бы человек умел не думать, он был бы чудовищно силен, сильнее всех.
Увлекаясь историей восточных единоборств, Евгений С-в обратил внимание на знаменательное обстоятельство: в Китае, в Японии за малейшую ошибку древние мастера били учеников палками, всегда палками. Этот обычай, следовало полагать, укоренился неспроста...
Зависть к физической мощи дебилов и тайна палок не давали С-ву покоя. И в один прекрасный день его мысль соединилась: "Искра проскочила..." Он совершил открытие.
- Видите ли, в голове есть такой центр... Под теменной костью, слева... Если его отключить, вы станете страшно сильным. Неуязвимым и неустрашимым. Как дебил.
Тут же корреспонденту показывают, как это делается. Приводят мальчика, ставят на колени в центре ковра. Приносят палку, торжественно вручают С-ву. Тренер идет к ученику, читает над ним заклинание на неизвестном языке. Потом, - сообщает журналист слегка изменившимся голосом, - С-в резко, сильно бьет мальчика палкой по голове. Тот не падает, остается в прежней позе, глаза закрыты. - Вот и все, - возвратившись к микрофону, объявляет весело-небрежно, как хирург после несложной, но изящно проведенной операции, герой репортажа. Паренек посещал занятия почти целый год, научился ударам и приемам, а сегодня, вот минуту назад, на ваших глазах сделался буликом.
- Это от слова "бульдозер", сами ребята придумали. Знаете: прет, как бульдозер? Ребятам нравится.
- Можно с ним поговорить, с этим мальчиком?
- Сейчас не стоит. Недели через две - пожалуйста.
- А скажите, - робко любопытствует корреспондент, - вредных последствий не может произойти? С головой, с психикой то есть, ничего плохого не случится?
- Нет, - отвечает человек с высшим заочным футбольным образованием. И уточняет, помедлив:
В общем, нет.
Следует музыкальная заставка.
Как жутко было слушать этот репортаж! Как болезненно жаль этого мальчика и остальных - и тех, что уже превращены в буликов, и тех, кого превратят сегодня, завтра... Несчастные их родители. Сказать по правде, и самого компрачикоса нельзя не пожалеть - вдруг он и впрямь не ведает, что творит. Самоучка-изобретатель, восхищенный своим открытием. Чт ему до будущности подопытных (и кто ее предскажет? уж не медицина ли?), когда он самое природу перехитрил? Она, природа-то, несправедлива, к дебилам пристрастна, - но шалишь! Сильный, резкий удар по темени палкой - и нормальный минуту назад человек ничем отныне не уступает самому свирепому дебилу. Раз, два, три! - справедливость восстановлена - и добрый волшебник, улыбаясь, дает интервью. Это само по себе свидетельствует о невинности сердца, о чистой совести.
Но еще и о том, что стало вполне безопасно, прилично, удобно, приятно даже - сознаваться во всеуслышание в таких действиях, которые возмутили бы общественное мнение любой страны, где оно существует, а у нас, всего несколько лет назад, - официозную мораль.
В России сегодня нет ни того, ни другого, и слишком многие с каким-то сатанинским восторгом спешат поразить современников (нас, бедных) цинической откровенностью чувств, поступков, мыслей. Как в самом странном из сочинений Достоевского:
"- Ах, давайте, давайте ничего не стыдиться! - послышались многие голоса".
Вот другой случай - из той же коллекции, но позабавней предыдущего. На Невском проспекте, почти на каждом углу, продают широкоформатную такую листовку под названием "Астролог". Основной текст - заурядная, так сказать, гороскопия, но есть и объявления. Среди них одно начинается так: "Вы хотите содержать или быть на содержании у идеально подходящего Вам по гороскопу любовника или любовницы?" Желающим предлагается сообщить свои данные, а также требования к партнеру, "в том числе четкие финансовые", по такому-то адресу, а потом - "в случае нахождения для Вас варианта" - перевести тысячу рублей до востребования гражданину К-ву Кириллу Владимировичу в обмен на какое-то письмо - наверное, с телефоном-адресом идеальной содержательницы, или содержанки.
Цена, согласимся, умеренная. Правда, это из октябрьского "Астролога", в нынешний заглянуть я поленился. Но подорожали, нет ли услуги К. В. К-ва какая разница. Гораздо интересней вообразить этого предприимчивого человека: вот он прилег на кушетке - перечитывает "Анжелику"; вот, одевшись потеплей, наведывается в почтовое отделение - не пришел ли перевод... А почему бы в самом деле не прийти этому переводу? Судя по слогу, образование у нас не выше среднего, но что же требуется в данном случае, кроме десятичных дробей? Даже только один процент дураков - это в пятимиллионном городе страшно подумать какие перспективы.
Не посчитайте только, будто я осуждаю бизнес г-на К-ва или его нравственные принципы. Бизнес как бизнес. Принципы тоже - как бы сказать? не удивительные. Недавно весьма почтенный человек - народный артист! - в "Известиях" напечатал статью, развивая очень похожую идею, хотя и в других масштабах. Вот если бы, говорит, наше государство назначило бы нашей культуре щедрое содержание, то-то были бы счастливы оба, не то что нынче жалкие подачки в обмен на случайные ласки... Ей-Богу, инициатива безвестного астролога ничуть не предосудительней. На месте культуры - если ей так уж приспичило - я и обратился бы лучше к нему: вдруг по звездам отыщет ей покровителя побогаче, без военно-промышленных комплексов и не такого ревнивого.
И все же, все же... Что-то не так. Эскалатор явно движется. Безграмотная безвкусица прокламации нашего звездочета нарочито и преднамеренно оскорбительна. Есть тексты, которые приемлемей выглядят на заборе, нацарапанные гвоздем, чем в полиграфическом исполнении. Презираете человечество - презирайте на здоровье, но зачем же расстегиваться в общественных местах? Тут дети ходят, Пушкина читают, и не все еще в булики посвящены. Или это-то вас и гложет?
"- Шпага, сударь, есть честь! - крикнул было генерал, но только я его и слышал. Поднялся долгий и неистовый рев, бунт и гам, и лишь слышались нетерпеливые до истерики взвизги Авдотьи Игнатьевны.
- Да поскорей же, поскорей! Ах, когда же мы начнем ничего не стыдиться!"
Это опять "Бобок" Достоевского. Странно, правда?
Но я упомянул о заборе. Последний замечательный текст из моей коллекции - подарок именно подзаборной прессы. Знаю, что читать ее - дурное дело, и все-таки иногда читаю (даже невзоровскую программу иногда смотрю): тайна злой воли меня занимает. Но атеистическому сознанию этот феномен, боюсь, не разгадать: не сводится данный фактор всемирной истории к тем или иным дефектам человеческого ума.
Впрочем, статейка, о коей идет речь, представляет собой именно насмешку над умом, причем такую свирепую, что даже и Свифту не снилось ничего подобного. Поверьте - не шучу. Какие шутки на эскалаторе.
Итак, в несчастном нашем городе издается листок под названием "Отечество". Вместе с другими точно такими же продается под забором у Гостиного двора и в пригородных электричках. Вышло четыре или пять номеров. И вот во втором - труд некоего Егора Щукина "Потомственные ниспровергатели".
Вы, конечно, уже подумали, что это обычная юдофобская стряпня (чуть не забыл: редактор листка - Е. Щекатихин, полковник, знаток Талмуда, что и доказал статьями в газете "На страже Родины"). Так вот - ошибаетесь. Попали пальцем в небо. Ход мысли тут много изысканней.
Предмет исследования - "Алфавитный список лиц, разыскиваемых циркулярами департамента полиции", разосланный по жандармским управлениям в 1910 году.
В списке - пять с половиной тысяч человек. Среди них - подумать только - нашлись однофамильцы некоторых нынешних политиков и литераторов именно тех, кого Егор Щукин считает самыми опасными или вредными. Это позволяет ему выдвинуть такой тезис: "разрушительный характер деятельности однофамильцев хранится в веках!" Следуют доказательства:
"Ну, судите сами. Балтянский Моисей Шлемович ниспровергал царизм ради Советов, а Болтянский Андрей Владимирович сотрясает обличительными речами Ленсовет. Болдырев Петр Тихонович приводил в негодование царскую охранку, а Болдырев Юрий Юрьевич разоблачает компартию..."
Зловредных фамилий десятка полтора. Тут и Собчак, и Станкевич, и Старовойтова, и Калугин, и - почему-то - Лукьянов, и даже - хотите верьте, хотите нет - Лурье. (Ума не приложу, как это вышло. За что Лукьянову такая немилость, за что мне такая честь? И какие же мы с ним сотрясатели Вселенной?)
Перечислив нас и тем самым покончив с прямыми доказательствами, человек безупречной фамилии обращается к аргументам от противного: "А вот Лигачевых, Полозковых, Макашовых в розыскном списке нет. Это уж точно". Потом идет проверка аргументов от противного: "Нет и Ельциных. Зато есть Элъкина Фаня Фейга Осиповна, она же Шульц".
Рабочая гипотеза звучит так: "сотрясатели Вселенной, ниспровергатели основ должны обладать определенным кругом фамилий". Теоретическое обоснование: "Удел некоторых ниспослан им свыше: ломать, крушить, ниспровергать и хаять". И, наконец, практический вывод: "Лишь один вопрос пора задать сверхтерпеливым россам: доколе позволять будем?"
Вот эта фраза меня заинтриговала. Остальное - не очень. Мало ли какие у кого умственные способности. В конце концов, уши выше лба не растут. Но здесь он поднимает голову, наш мыслитель, и смотрит в упор, играя желваками. И мы с изумлением читаем в этом взгляде не тупую ярость фанатика - ничего похожего - злорадное торжество. Представился человеку случай сказать скверность на весь троллейбус, вот он и ликует, сохраняя - так слаще серьезную мину, и ликуют его дружки (без них - не осмелился бы). А чего стесняться в своем отечестве? Чего смотришь, сверхтерпеливый росс?
Сказано же черным по белому: хорош терпеть! Враги разрушают отчизну. Чтобы ее спасти, надо с ними что-нибудь сделать. Как избавить страну от миллионов нежелательных сограждан с их детьми? Как добиться, чтобы остались только такие, чьи однофамильцы и предки все до единого при всех режимах служили в тайной полиции? Не догадался еще, сверхтерпеливый росс?
Так наслаждаются, напоказ обнажая непристойное сознание - свободное от здравого смысла.
Так одержимый безумием или корыстью обманщик ищет глупца, чтобы растлить, обратить в насильника. Да не потихоньку ищет, как бывало всегда, нет, во все горло кличет.
И движется эскалатор - вниз, вниз, во тьму, где булики разминаются, хохоча.
Февраль 1992
ПРОТОКОЛЫ СИАМСКИХ БЛИЗНЕЦОВ
Писательницу Нину Катерли обвинили печатно ни больше ни меньше как в намерении взорвать coбор Петропавловской крепости. Некто С. С. Болотов поместил такой доносик в некоей газетке "Националист".
Вообще-то полагается к подобному обвинению, да еще из такого подземелья, отнестись примерно, как если бы птичка капнула на плащ. Но никто не знает будущего: а вдруг и мы рождены, чтоб Кафку сделать пылью? Одного ленинградского профессора в 37-м расстреляли как раз под таким предлогом, что он якобы задумал прорыть подземный ход от истфака Университета к Петропавловке или к Эрмитажу, не помню точно. Перед смертью еще и пытали: чтобы назвал сообщников.
Являясь историческим пессимистом и к тому же имея привычку заступаться за моих друзей, я раздобыл упомянутый печатный орган и ознакомился с названным произведением. Прочитаю, - думал, - и опровергну клевету своим свидетельством. Прочитал - и руки опустились.
"Они, эти человеконенавистники с мозгами пигмея, готовы сравнять с землей наш родной город только лишь потому, что свастика является своеобразной визитной карточкой его архитектурного облика. В частности, Нина Катерли в конфиденциальных беседах не раз заявляла, что лично готова нажать рычаг взрывного устройства, разрушившего бы Петропавловский собор, решетки которого в качестве декоративного элемента имеют свастику. В открытую эта литераторша подобное заявление сделать боится, так как понимает, что будет нести уголовную ответственность за последствия..." (?)
Ну что, скажите, тут опровергать? Конечно, даже самый пристрастный из наших правоохранителей не сумел бы уберечь С. С. Болотова (если только он существует) от судебного преследования за клевету и неминуемого штрафа; другое дело - что процесс затянулся бы года на три, а штраф не превысил бы пяти рублей, и так называемый С. С. Болотов это знает не хуже нас с вами и нисколько не боится. Ну, спросят его: когда это и где удостоила вас конфиденциальной беседой не знакомая с вами Нина Катерли? А он вместо ответа как забьется в судорогах: долой сионистское крючкотворство, даешь народный самосуд! Какая разница, кто с кем знаком, - по фамилии, что ли, нельзя определить, кто да кто родимую нашу свастику на дух не переносит; а русскому патриоту без свастики не прожить ни одной минуты, так и в газете напечатано черным по белому:
"Наиболее распространенным и глубоко почитаемым символом, максимально выражающим арийскую ментальность, народную душу, военную традицию наших предков, является свастика".
Суд, разумеется, тотчас отложит заседание, назначив как минимум четыре экспертизы: одну - чтобы установить родословную свастики, другую - для обследования решеток Петропавловского собора, третью - для изучения архитектурного облика старого Петербурга, четвертую - для объективной оценки антифашистского журнала "Барьер", в котором Нина Катерли сотрудничает, из-за чего "Националист" и возбудился до такой степени.
Правовое же государство у нас. Униженных и оскорбленных просят не беспокоиться. Тем более что все так дорожает - кроме чести и жизни.
Ну и пусть. Это даже к лучшему. То есть мало хорошего, конечно, что закон - тайга, медведь - прокурор, судьи назначены той еще компартией, а общество развивается под лозунгом: "Умри ты сегодня, а я завтра". Но раз уж так вышло - давайте оставим всех этих с. с. болотовых наедине с их совестью, какова бы она ни была.
Впрочем, пока что она - в летаргии, судя по газетке. Ну и газетка, доложу я вам! Для интеллектуального меньшинства - объедение, должно быть.
В одной статейке обличают о. Александра Меня: сомнительное, мол, у него православие (что о. Александра уже зарубили топором - об этом ни слова). В другой статейке извещают, что Дева Мария прижила Иисуса Христа в незаконной связи с каким-то греком Пандерой, - и это, мол, так славно: по крайней мере один из родителей Христа не был иудеем, а может статься - вот радость-то! что и "мать Христа была не еврейской" - так и написано! - "а сирийкой".
... Какой-то Доброслав заклинает вернуться к мудрости волхвов, к зрелому язычеству, поскольку "западная иудео-материалистическая цивилизация изжила себя"...
Какой-то юноша - судя по портрету - типичный комсомольский вожак, но с чубчиком под Гитлера, - особенно свежие звуки издает:
"Мы, русские, - трепещет искренний басок, - должны стать первыми из тех, кто за более чем 2000 лет верно ответит на "еврейский вопрос". Духом войны пропитано все человеческое существование. Борьба за жизнь всеохватывающая и выходит за земные пределы, сотрясая все вселенское пространство. Все слабое сбрасывается на обочину или в бездну небытия, а выживает и обретает достойную судьбу лишь принявший правила этой войны и воспитывающий непоколебимую волю к самоутверждению".
21 год студенту - а уже все понимает! Романтик и шалун.
"Русская нация должна быть красивым и благородным Хищником, а не жертвенным ягненком! Если же мы упустим свой шанс, то недалек будет тот день, когда имя Русского народа останется лишь на страницах прошедшей истории и надгробной плите, которую наверняка осквернят евреи и другие подлецы".
Мне говорят: плюнуть и забыть. Все равно этот бред никто не читает - а кто читает, заболеет несварением мозга. Это же не газета - так - одноразовое бумажное знамя, опознавательный ярлык: не подходить! Тут копошатся наши, оттачивая клыки! Мне говорят: эти якобы печатные органы так нестойки в своей назойливо-бесстыжей наготе; от малейшего знака негодования или испуга угрожающе разбухают, зато равнодушная улыбка приводит к увяданию. Мне говорят: откупори шампанского бутылку, иль перечти "Женитьбу Фигаро".
А я по неосторожности перечитал роман Альбера Камю "Чума". Там, знаете, что написано?
"... Кое-кто все еще надеялся, что эпидемия пойдет на спад и пощадит их самих и их близких. А следовательно, они пока еще считали, что никому ничем не обязаны. Чума в их глазах была не более чем непрошеной гостьей, которая как пришла, так и уйдет прочь. Они были напуганы, но не отчаялись, поскольку еще не наступил момент, когда чума предстанет перед ними как форма их собственного существования и когда они забудут ту жизнь, что вели до эпидемии. Короче, они находились в ожидании. Чума довольно-таки причудливым образом изменила их обычные взгляды на религию, как, впрочем, и на множество иных проблем, и это новое умонастроение было равно далеко и от безразличия, и от страстей, и лучше всего определялось словом "объективность"".
Такие-то дела, граждане. Такие дела.
На всякий случай - считаю долгом официально заявить: Нина Катерли не покушалась на Петропавловский собор. И, между прочим, всемирного еврейского заговора тоже не существует. Если бы существовал - я о нем знал бы. Проговорился бы кто-нибудь, или я сам как-нибудь проник бы в тайну за целую-то жизнь. Уверяю вас.
Ужас в том, что всем это известно, и продавцам чумы - лучше всех. И что же?
Сентябрь 1993
ОГНИ БОЛЬШОГО ДОМА
Все думаю: стоит ли разрушать Большой Дом - зловещее творение Ноя Троцкого на Литейном - этот собор, так сказать, Пляса-на-Крови?
Разрушить до основания, вернее - вырвать с корнем, с подземными этажами - размолоть в щебень, вывезти и торжественно захоронить в безлюдной местности груду праха, впитавшего кровь, боль, унижение, отчаяние бесчисленных жертв, - да, это мечта заманчивая. Здание, где совершено столько злодейств, как бы излучает угрозу, а точнее - внушает страх. Это же не просто штаб-квартира преступной организации, погубившей значительную часть населения нашей страны. И даже не просто фабрика смерти, где главный конвейер хоть и простаивает пока, но вполне исправен... Наш Ноев ковчег архитектурный символ массового психоза, дирижируемого полицейским государством...
Но разрушать символы - утеха дикарей. Большой Дом сияет огнями в потемках души каждого взрослого советского человека. На Литейном в декабрьских сумерках ужасен он в окрестной мгле, но уж лучше пусть возвышается там Большой Дом, чем призрак Большого Дома.
Давайте устроим там самый поучительный в мире мемориал - Музей Большого террора. Пригласим лучших историков и дизайнеров. Какой для них откроется простор! Кабинеты, камеры, карцеры, расстрельные подвалы с красным асфальтовым полом. Столовая для начальников и костюмерная топтунов. Орудия пыток и канцелярские принадлежности. На стенах, на стендах, в специальных витринах - партийные постановления, газеты, плакаты, портреты сексотов и генсеков, картины и книги мастеров социалистического реализма, доносы, протоколы допросов, приговоры. Для советских вход бесплатный, для иностранцев - за огромные деньги.
Давайте поспешим. Переоборудуем здание, пока оно еще только плачет по нас.
Декабрь 1993
ГОРОД В ОТСУТСТВИЕ АНГЕЛА
Полгода не дожив до девяноста восьми - в одночасье - за рабочим столом - над корректурой словаря крылатых латинских выражений - умер Яков Маркович Боровский. Учитель множества ученых, гроссмейстер классической филологии, переводчик и толкователь бесчисленных античных текстов, один из основателей Римской академии живой латыни, всемирно известный автор стихотворений на латинском и древнегреческом... Последний деятель эры гуманизма. Праведник науки.
Вообще-то в нашем веке и тем более в нашей стране провести столько времени на свободе, с утра до вечера занимаясь исключительно любимым делом, - чистая жизнь, мгновенная смерть, - счастливый жребий.
И если загробное существование - не сказка, и справедливость - не пустой звук, то вполне вероятно, что в данную минуту Яков Маркович беседует, например, с Плутархом о стихах, допустим, Горация, - и жалеть надо, скорее, провожающих на перроне под мокрой метелью. Кто знает - осталось ли в Петербурге достаточно праведников, чтобы город уцелел?
Библиотека Боровского завещана Античному кабинету - и это хороший предлог перейти к новости отрадной. На Васильевском острове создано независимое Общество содействия развитию классической филологии. У него даже есть комната в Первой санкт-петербургской классической гимназии. Самый настоящий Античный кабинет: научная библиотека на всех европейских языках, древних и новых; семинары и конференции; контакты с иностранными университетами; специальный журнал; альманах "Древний мир и мы", - словом, все как у людей. Правда, журнал и альманах - пока еще мечта, - но и мечта какая человеческая!
Как бы хотелось продолжать в том же духе и еще хоть немного поговорить о высоком и прекрасном. Но для этого следовало во вторник пойти в дом Державина на Фонтанке: там был вечер Н. А. Львова (помните - архитектор, композитор, поэт). Очень уютное, должно быть, получилось бы времяпрепровождение: Львов был едва ли не гений, а дом Державина - волшебное место, и притом иногда кажется из наших дней, что в позапрошлом веке образованные люди только и делали, что влюблялись под клавесин. Ну вот, а я вместо всего этого отправился в Дом журналиста на организационное собрание Антифашистского союза. Как-то совестно было не явиться.
Сверх всякого ожидания, народу набилось - человек сорок пять. Одних писателей я насчитал пятнадцать. Не так уж это и удивительно - европейский же город. Пять миллионов жителей.
И взамен клавесинной музыки послушал я сообщение о том, какими ресурсами располагают в европейском городе организации фашистского толка. Никаких особенных неожиданностей. Кто же сомневается, что все у них в избытке - деньги, оружие, боевики, сочувственный интерес молодежи (наверное, не всей - а много и не надо); вся советская история работала на них, и все нынешние обстоятельства им благоприятствуют.
Что собираются противопоставить им сорок пять не очень-то молодых мужчин и женщин? Что вообще может возразить пуле - мишень?
"Антифашистский союз ставит только одну практическую цель - не допускать прихода к власти сил тоталитаризма в России. Эта цель будет достигнута противодействием распространению фашизма и коммунизма всеми конституционными методами активной пропаганды в соответствии с международными соглашениями".
Что тут скажешь? Это, без сомнения, правильный путь. Единственно верный. Если идти по нему, никуда не сворачивая - и, главное, не нарушая международных соглашений, - можно уверенно надеяться, что лет через шестьсот - а то и через шестьдесят - общественное мнение в России скажет фашизму громкое, дружное: "Нет!"
Немножко жаль, что не раньше. Вот журнал "Молодая гвардия" в аккурат к октябрьским событиям прошлого года напечатал "Протоколы сионских мудрецов" роковую, зловещую книгу. Без нее Гитлер не так легко свел бы с ума Германию. Растлить другие цивилизованные страны оказалось трудней - в частности, потому, что году так в 1934-м в городе Берне состоялся суд над шайкой негодяев, тиснувших "Протоколы" в Швейцарии. Изучив книгу и заслушав многочисленных экспертов и свидетелей, суд признал "Протоколы" непристойным сочинением, пропагандистской фальшивкой. Отчеты о процессе, продолжавшемся года два, публиковались во всех газетах мира - кроме германских и советских. И наваждение прошло.
Поступок "Молодой гвардии" дал, казалось бы, повод провести подобный судебный процесс в России. Двое интеллигентов (интересно, сколько их у нас всего?) даже обратились с таким предложением в прокуратуру. Не тут-то было. В четверг на этой неделе получили по рукам.
"Сообщаю, что по факту публикации "Протоколов сионских мудрецов" в журнале "Молодая гвардия" (№ 10, 1993 г.) Кировской межрайонной прокуратурой г. Москвы проведена проверка и вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ст. 5 УПК РСФСР, то есть за отсутствием в действиях состава преступления.
Оснований для отмены принятого решения не имеется.
Начальник отдела по надзору за исполнением законов о международных отношениях.
Л. Н Садовников"
Так что лет шестьдесят придется потерпеть. Или шестьсот. Но зато через шестьсот эту прокуратуру родная КПСС не узнает. А до тех пор - слабонервных просят не беспокоиться.
Но ведь и нельзя сказать, что наблюдается сколько-нибудь заметное беспокойство. Страна, похоже, освоилась с мыслью, что придется пройти еще и фашизмом - как выразился бы Герцен.
Я соскользнул на тему, всем надоевшую. Гораздо лучше было бы рассказать, какая замечательная вещь - "Полет" Гайто Газданова. Лично для меня самое важное событие прошедшей недели - что наконец дошли руки до журнала "Дружба народов", где этот роман.
Но что поделать? Бывает, знаете, такое небо, такая игра лучей... Погода слякотная. У Гостиного двора торгуют почему-то оренбургской газетой с заголовками типа "Слава патриотам-черносотенцам!". На столе анонимное письмо, сегодня полученное: неизвестный доброжелатель в последний раз предупреждает, что если не перестану марать страницы газет и засорять эфир подвесят "вниз тыквой". А по телевизору, по радио - все знай просят друг у друга денег. Просто какой-то хор нищих. Особенно армия страдает: буквально не на что содержать самую большую в мире коллекцию генералов и бомб. И культура тоже стонет. Мастеров культуры тоже ведь многие тысячи. Им на собрания антифашистов ходить недосуг. Каждый хочет помочь народу по-настоящему - поставить, например, на театре "Чайку" с настоящим прудом, и чтобы в нем плескались золотые рыбки - но без спонсоров и дотаций разве что-либо путное сочинишь? В лучшем случае - "Реквием" какой-нибудь, или "Чевенгур", или "Архипелаг ГУЛАГ".
Короче - скучно как-то.
Очень недостает ангела над Петропавловским собором. Веселый был ангел, стремительный. Скорей бы, что ли, вернули его на место. Взгляни, так сказать, на дом свой, ангел!
Март 1994
РИМСКИЙ ПАПА И АБСУРД
Общественная жизнь бездарна, как репортажи из ЮАР: пробегают, приплясывая, толпы полуголых, а на следующей картинке трупы - а кто кого убил и за что, неизвестно и вроде бы не важно.
Была бы Россия, как в девятнадцатом веке, отсталая страна, - легче было бы приписать происходящему какой-то смысл.
Но мы убежали от цивилизации далеко в сторону, каким-то чудом очнулись на краю бездны. Продолжать движение - повернуть назад - замереть на месте равно нелепо, и смертельно опасно, и до смерти противно.
Маркс что-то такое красивое толковал о прыжке из царства необходимости в царство свободы. Мы осуществили другой - не знаю чей - проект: нынешнему поколению советских людей довелось жить в Абсурде. Этот наш опыт, не сомневаюсь, еще как пригодится человечеству. И это утешает.
Наверное, и у нас все как-нибудь, когда-нибудь обойдется. Проблема, собственно говоря, только в том, что недостает взрослых. Где ж их взять: школа, вуз, комсомол, армия - и печать, радио, телевидение - и литература и кино под руководством КПСС и ГБ столько десятилетий отучали нас жить своим умом.
Вот и некому теперь решать нетривиальные задачи.
Все разговоры о культуре у нас оканчиваются припевом: "Подайте милостыню ей!" Кое-кто подает: Джордж Сорос больше всех. Принц Уэльский вот обнадежил. Странно, что Папа Римский пока остается в тени. А мог бы спасти, например, "Библиотеку поэта" - издание ценное, гордость нашего города и страны. Александр Кушнер - главный редактор "Библиотеки поэта" - почему-то забыл о Папе Римском и обратился за помощью к петербургскому мэру. До сих пор удивляется, что не получил ответа.
А что тут удивительного? Мэр сам, наверное, с утра до вечера выпрашивает у разных толстосумов под благовидными предлогами подачки на то, на се, на содержание больниц, библиотек, музеев...
Каждый день какое-нибудь значительное лицо угрожающе напоминает по телевизору, что если хотя бы на время, хотя бы отчасти сократить производство бомб, танков, ядовитых газов, колючей проволоки, - возникнет ужасающая безработица, потому что почти ничего другого почти никто у нас не делает и делать не умеет.
Рассуждение внушительное. Ну а если производство прекратить - но все зарплаты, и премии, и льготы оставить, как есть? Тогда безработица превратится просто в безделье, - с бездельем, есть надежда, многие смирятся, - зато сколько энергетических и сырьевых ресурсов будет спасено, сколько высвободится емкостей, мощностей...
Ведь это уму непостижимо, сколько понадобилось человекостолетий квалифицированного труда, чтобы создать хотя бы тот склад бомб, что сгорел на прошлой неделе. Неужели кто-то отказался бы получать достойное жалованье просто за то, чтобы не делать этих бомб? Многие найдут чем заняться в освободившееся время, - ну а начальники пусть поскучают.
Вообще, тратить четверть (якобы четверть) бюджета только на то, чтобы убивать полторы тысячи (якобы полторы тысячи) новобранцев ежегодно, немножко нерасчетливо, нам не по средствам, вы не находите?
Может быть, генералы и адмиралы, полковники и подполковники, майоры и другие военачальники согласятся получать подобающее довольствие, никем не командуя, не убивая наших детей? О, разумеется, дело не в нас и не в детях, но ведь какая выйдет экономия для государства! Насколько дешевле заплатить актерам неустойку, чем снимать скверный фильм. А кому нравится это кино пусть помолчит хоть о культуре.
Если А. С. Кушнер напишет Папе Римскому, что "Библиотека поэта" погибает, Иоанн Павел II, в отличие от А. А. Собчака, ответит обязательно. Быть может, и денег даст. Но боюсь, что деньги эти по дороге пропадут, вернее, превратятся в колючую проволоку и ядовитый газ. Как и следует по законам абсурда.
Но ничего. Все будет хорошо. Как только переделаем тормоз - в двигатель. Но это задача нетривиальная.
Май 1994
ОДИССЕЙ В АРХИПЕЛАГЕ
Возвращение Солженицына - событие многозначительное, примерно как бегство Толстого из Ясной Поляны. Всей жизнью Александр Исаевич доказал, что не знает страха, и новый подвиг не удивительней прежних, - но, пожалуй, потрудней.
"Ибо Сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве". (Иоан.: 4, 44)
Государство, изгнавшее Солженицына, представляло собою великий, могучий, нерушимый союз насилия и лжи. Слишком тесный союз, чересчур страстный. Ложь до такой степени положилась на насилие, что позволила себе, обнаглев, сделаться совсем неправдоподобной. А насилие прониклось доверием к собственной лжи, то есть впало в маразм. И своим единственным врагом вообразило правду. И с шумом и яростью обрушило на нее всю сверхдержавную мощь...
И вот Одиссей - пространством, так сказать, и временем полный - опять причаливает к острову, по которому мечется, выворачивая деревья и расшвыривая скалы, ослепленный, безумный Циклоп.
Лет двадцать тому назад никто - ни генеральный секретарь в Кремле, ни заключенный в карцере - никто не сомневался, что правда - опасней и дороже самого радиоактивного какого-нибудь плутония. Что Кащеева смерть - на кончике пера. Что стоит Народу прочитать Книгу, в которой сказана вся Правда... Но предположение казалось так очевидно невероятным - просто незачем было и додумывать эту мысль.
Солженицын написал большую часть Правды. Ее прочли интеллигенты, потом иностранцы, в конце концов и секретари - чтобы было о чем говорить с иностранцами, - а народ удовольствовался косноязычным пересказом и, утомленный, погрузился в мыльную оперу. Свобода, как обнаружилось, тем хороша, что богатые тоже плачут.
В мире, где правда - ценность не единственная, даже не главная; где только злая воля уверена в себе, а слабые умы отдаются ей со сладострастием, - что делать Солженицыну? Что сделают с ним?
Его любит вымирающая группа людей - вышеупомянутых так называемых интеллигентов, - но это чувство, увы, не взаимно.
Его мечтает пленить иная, процветающая группа, - но, по-моему, он скорей умрет, чем допустит назвать своим именем новый ГУЛАГ.
Какое одиночество, какие опасности, какие соблазны!
Но, как известно, Солженицын - поистине необыкновенный человек. Непреклонная решимость воплощена в его сказочной судьбе. Целеустремленный, в полном смысле слова целесообразный характер, не истративший зря ни минуты биографического времени. Централизованное планирование и производительность труда, какие не снились советскому якобы социалистическому государству то-то Александр Исаевич его и превозмог.
Кроме того, не подлежит сомнению, что он - любимец богов.
Вот почему его возвращение вселяет какую-то безрассудную надежду.
Тут что-то похожее на историю про Юлия Цезаря: как он переправлялся через бурную реку, и волны заливали лодку, и перевозчик совсем было струсил, а Цезарь его вразумил - дескать, не бойся, ведь с тобою - счастье Цезаря.
Солженицын поднимается на борт нашего корабля. Хочется верить, что это предзнаменование хорошее.
Май 1994
БЕЗ СУЩЕСТВЕННЫХ ОСАДКОВ
Строго говоря, итог недели - погром на Смоленском кладбище. Четыреста или больше разрушенных и оскверненных памятников. Кретин неутомим, а мрамор хрупок. Только подумаешь, что в городе водятся гуманоиды, склонные к столь подлым забавам... Тоска.
Главное - хоть бы кто содрогнулся от ужаса. Вот, кажется, случай, когда церковь - ни одна - не может промолчать. Я еще понимаю - хоть и тягостно мне это понимание, - отчего митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский не осудил апрельский погром на еврейском кладбище. Но теперь-то поруганы могилы православные...
И давайте прекратим стенать об упадке культуры. Это смешно после постановления, принятого в четверг при закрытых дверях в Совете нашей Федерации: увеличить военные расходы до 55 триллионов рублей. Не знаю, половина это государственного бюджета или больше половины - или все-таки меньше; не знаю точно, во сколько раз эта сумма превышает все предполагаемые затраты на здравоохранение, образование, науку... Знаю одно: страна страдает военно-промышленным комплексом в такой острой, запущенной форме, что недалека от самоубийства. Не глупо ли горевать о каких-то памятниках, тем более - кладбищенских? Вот покорим планету - всю превратим в обелиск над вечным огнем.
Надеюсь, что ошибаюсь. Президенту, вероятно, видней, а президента кошмары как будто не беспокоят. Знай себе сочиняет на посту, и вышла претолстая книга. Для полного сходства с каким-нибудь титаном Возрождения и Малой земли недостает литературной премии, - но тут у Б. Н., скажем прямо, шансы слабые. Премию на этой неделе Союз писателей России Проханова и Бондарева, если не ошибаюсь, выделил кому-то из сербских предводителей. Должно быть - за крупный вклад в дело мира.
Ну, а на собственно литературном фронте - без существенных осадков. Давление, однако, не снижается.
Цензуру обкомов и ГБ с успехом заменила - во всяком случае, на время диктатура крупных книгопродавцев.
Без их содействия или хотя бы согласия нет смысла печатать книгу: читатель ее не увидит, а значит, издатель разорится. А завлечь книгопродавца хорошей книжкой почти невозможно - разве что резко освежив титульный лист: "Былое и думы двоеженца", или "Детские годы внука убийцы Столыпина". Но это прием рискованный. Книгопродавец рано или поздно догадается, что вы обманом всучили ему нечто доброкачественное, - и тогда берегитесь!
Видите ли, они уверены - а точней сказать, они уверяют, - что настоящие книги публике не нужны, что торговать настоящими книгами - себе в убыток и дело гиблое.
Вряд ли это просто злонамеренная выдумка. Вкус у большинства книгопродавцев, наверное, плохой, - но ведь аппетит отменный! И если бы, скажем, "Записки об Анне Ахматовой" сулили такую же прибыль, как "Просто Мария", - какой-нибудь теневичок-оптовичок непременно соблазнился бы классическим трудом Л. К. Чуковской. Так нет же, не соблазняются. Не верят нам, читателям-покупателям. В сущности, презирают нас.
Думают: не скоро еще наступит такое время, когда образованный петербуржец не Блюхера и не милорда глупого с базара понесет.
Так вот, о базаре - то бишь о первом Санкт-Петербургском книжном салоне. Открылся он в здании Конногвардейского Манежа, и все прошло как полагается. Играл духовой оркестр. Долговязый молодой человек в кафтане изображал Петра Первого и зычно говорил А. А. Собчаку: "Повелеваем тебе, мэр", - и прочее. Мэр, в свою очередь, произнес речь, перерезал ленточку - в общем, метал икру доброй воли.
Славный получился детский утренник - тем более, что министр печати точней, начальник Госкомпечати, некто М-в. - чрезвычайно удачно исполнил роль Бабы-Яги. Каждую фразу как откусывал: "Что будем издавать? Как будем пропагандировать? Какую будем лепить душу нашего читателя? Как будем воздействовать на его сознание - на его национальное сознание?" В Манеже так явственно повеяло агитпропом и главлитом, что все мои претензии к рынку рассеялись как дым. На рынке я все-таки могу хоть что-то выбрать - или вовсе ничего не покупать, - а М-в. намерен за мой же счет, на те гроши, что останутся после превращения подоходного налога в бомбы и танки, лепить мне душу...
Приятно было вспоминать эту речь у стенда (прилавка то есть) издательства "Русич". Поэтичное такое название, тоже с национальным оттенком. А на стенде - "Застольные беседы Гитлера", какое-то "Послание Геббельса" - и в не менее заманчивой обложке чей-то "Секс пополудни".
Но вообще-то книги на ярмарке продавались обычные - те же самые, что в городских магазинах. Были среди них и очень хорошие - главным образом научные издания - дорогие, правда.
Мне лично не повезло. Я с первого взгляда влюбился в том Тертуллиана (издательство "Наука"). Увы, оказалось - это единственный экземпляр. Приходите, предложили мне, послезавтра, к закрытию ярмарки, мы для вас эту книжку придержим. Я пришел - и выяснилось, что моего Тертуллиана украли.
Согласитесь, это как-то обнадеживает. Остались еще, выходит, в Петербурге интеллигентные люди. Некультурный ведь украл бы что-нибудь другое. Не так ли, господа книгопродавцы?
Но для полноты картины приходится добавить, что и стенд "русичей" опустел. Надо полагать, что и Гитлер, и Геббельс, а также амуры все распроданы поодиночке.
Как писал Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан в городе Карфагене восемнадцать столетий тому назад: "Это вполне достоверно, потому что ни с чем несообразно".
Июнь 1994
ХОР НИЩИХ
Пропал Рид Грачев. Дней десять как ушел из дому - и ни от него, ни о нем никаких известий.
Странный, блестящий, беззащитный человек. Двадцать семь лет назад, когда появилась его первая и единственная книга, - вот так же он ушел из литературы: в свои мысли, в болезнь.
Как подумаешь, мы все - большинство из нас, литераторов и не литераторов - по сравнению с ним счастливцы.
Но многие в голос оплакивают свой собственный жалкий жребий.
"Из довольно богатой организации, какой был наш Союз, если принять во внимание, что мы имели Литфонд, Дома творчества, "дом Ростовых" в Москве, дворец Шереметевых в Ленинграде, издательства, газеты, журналы, мы превратились (нас превратили) в нищих, бесправных членов воистину общественной организации...
... Наши книги не издаются, и поэтому нет положенных Союзу писателей отчислений от продажи художественной литературы.
Переодетые демократы, а то и просто бандиты, захватили наши издательские площадки, наши газеты и журналы.
Уплывает Литфонд..."
Как-то некстати вспоминается гражданин на Аничковом мосту, на тротуаре: сидит, вытянув обнаженную ногу, всю в коросте, в расчесах... но он тут ни при чем. Текст иеремиады принадлежит писателю Евгению Кутузову, опубликован в газете "Писательский дом". Это, видите ли, газета Санкт-Петербургской организации Союза писателей России.
Вероятно, это та организация, что раньше именовалась областной - то есть как бы первичная ячейка партии Проханова-Бондарева, - но с уверенностью сказать трудно: столько наследников оказалось у почившего СП СССР, и каждый провозглашает себя единственным племянником, родным и любимым, а всех остальных - самозванцами, а титулы у всех неразличимо похожи.
Вот и эти с кем-то воюют. Правда, тактику применяют, по словам Евгения Кутузова, какую-то неплодотворную:
"Мы сжигаем ИХ чучела, а они - захватывают наше общее писательское достояние".
Действительно, стоило бы придумать что-нибудь поумней. Несолидные игры с факелами и чучелами навряд ли заставят ИХ - или кого-нибудь другого регулярно и часто издавать и переиздавать наши произведения, да еще большими тиражами, да еще платить сразу, независимо от спроса и сбыта. Даже ежели отыщется великодушный филантроп - сжалится над пожилыми, в таком исступлении, людьми, выплатит им требуемые суммы - все равно, разве это мы звали любовью? А магазинам кто прикажет торговать нашими книгами, хоть бы и в убыток? И самое главное - как изъять из обращения Булгакова и Набокова, Солженицына и Платонова, Мандельштама и Газданова?
Увы, все это под силу только государству, и только если оно снова станет собственностью КПСС и ГБ, хотя бы под другими названиями. Так что не чучела надо сжигать, а, как и предлагает на соседней странице "Писательского дома" Виктор Кузнецов ("доцент Академии культуры" - видимо, бывшей школы профдвижения),
"прямо и честно объявить об организационном создании общенациональной "третьей силы" - патриотической партии научно-педагогической и творческой интеллигенции, а несколько позже - всех государственно мыслящих граждан, категорически не приемлющих драконовские реформы..."
Абсолютно правильно, и давно пора. Но осуществилась ли мечта доцента на съезде писателей, проходившем в Москве 14 - 15 июня? Кажется, нет. Во всяком случае, прямо и честно признать свою организацию партией нового типа эти люди пока не осмелились. Но атмосфера на съезде, несомненно, была боевая.
"Красной нитью через всю дискуссию, - сообщает "Советская Россия", прошла мысль о том, что писатели России перед лицом великой опасности и грядущей катастрофы должны отложить в сторону внутренние разногласия, обязаны искать и найти духовный выход из гибельного окружения, которое устроили нам история, враги и предатели народа".
Забавно было бы почитать эти речи.
Насчет того, как поступить, когда позволят, с врагами и предателями, в том числе, само собой, с "лит.-дем. диаспорой" (счастливое выражение Евгения Кутузова) - тут, я думаю, на фантазию "соратников по перу" (счастливое выражение редактора газеты "Писательский дом" Олега Чупрова) можно положиться полностью. Но вот с историей что же они собираются сделать? Как историю-то расказнят, чтобы впредь неповадно было посягать на гонорары лауреатов и секретарей, на мелкие, но незабываемые льготы для тех, кто политически грамотен и морально устойчив?
Об этом в официальных документах съезда - ни звука. Резолюции обнародованы самые что ни на есть невинные. Присуждена премия - имени Шолохова - кому надо и кто достоин. И решено подготовить проект закона о защите русского языка.
Это и вовсе идея прекрасная, своевременная. Достаточно напомнить, что государственный бюджет составляют, обсуждают и утверждают люди, для которых склонение числительных непостижимо.
И когда Валентин Распутин, писатель знаменитый, чуть ли не в школе изучаемый, печатает в "Советской России" огромную речь - "слово перед собратьями по перу", - изобилующую неграмотными оборотами, - такая безответственность непростительна. Перед собратьями, понятно, стесняться нечего, - но газета мало ли кому попадет в руки.
Редакция тоже хороша: оставить подобный текст как есть, не поручив какому-нибудь невидимке привести его в порядок, - это вполне можно расценить как вылазку масонов.
"... Широкое либеральное мнение, в которое входили даже члены императорской семьи, если не изготовляло бомбы, то бомбам сочувствовало..."
Ведь это не просто не по-русски: тут за уродством слога - неопрятность мысли.
"... Мастерски срежиссированный спектакль, в котором мы играли роль трудного, затянувшегося, но все-таки выздоровления..."
"Можно согласиться с поэтом об избранничестве свидетелей и участников великих событий..."
"Русское имя уже не ругательство, куда определили его несколько лет назад..."
Короче говоря, закон о защите русского языка принять не мешало бы. Вот только какие назначить наказания - ума не приложу. Впрочем, уверен, что по этой части специалисты найдутся.
Кстати, текст Валентина Распутина озаглавлен хоть и неуклюже, но пронзительно: "Мы все несем ответственность за содеянное".
Что-то незаметно, чтобы другие советские писатели разделяли эту мысль. Наоборот: знай отчитывают Россию как непутевую:
"Судя по книжным магазинам и уличным лоткам, где все заполнено иностранной бульварщиной, культурный уровень сегодняшней России равен нулю", - вещает Сергей Воронин ("лауреат Государственной премии РСФСР, член Исполкома Международного сообщества писательских союзов").
Что ж, предположим. Но кто виноват? Россия? Или проклятые "дерьмократы" (счастливое выражение доцента Академии культуры)?
А чем, позвольте узнать, десятки лет занимались в своих Домах творчества тысячи и тысячи советских писателей?
Возьмем, например, справочник "Писатели Ленинграда". Приведены названия более чем пятидесяти книг Сергея Воронина, изданных между 1947 и 1981 годами. Позднейших сведений там нет, переиздания учтены далеко не все, тиражи не указаны, - но кто же не помнит этих тиражей. Тургенев, Гончаров и Достоевский - все трое не сумели при жизни напечатать столько, хотя написали гораздо больше. Вот и спрашивается: если общество, до отвала накормленное сочинениями Сергея Воронина, при первой же возможности с жадностью набрасывается на "иностранную бульварщину" - нельзя ли предположить, что лауреат и член исполкома как-нибудь, случайно и отчасти, все-таки поспособствовал такой порче вкуса и нравов?
Вот и Валентина Распутина беспокоит подобный же вопрос - но он берет шире, метит гораздо выше. Он полагает, вслед за Василием Розановым, что русская литература всегда - и в девятнадцатом веке, и в двадцатом - шла по неверному пути: злоупотребляла обличением.
"Была, разумеется, наряду с обличительной и "лечительная" душестроительная литература, о необходимости мужества для которой говорил Достоевский. Но превосходство первой, восторженный ее прием и все увеличивающийся с годами разрыв между ними сказался на общей работе литературы. А разве не то же самое было перед второй, перед недавней революцией, несмотря на цензуру и остатки, лучше сказать, останки соцреализма?"
Слог не позволяет разобрать, сколько было в России революций, но главная мысль свежа, как поцелуй ребенка: простим Россию, она не виновата, что так распустилась; это литература сбила ее с толку, но Бог даст соцреализм всех спасет:
"Огромный успех ждет сегодня книгу, где сквозь слезы и страдания, сквозь страх и нужду засветится герой надеждой и любовью и не уронит с красивого лица благодарной за жизнь улыбки".
Исполать вам, сочиняйте на здоровье. Но вообще-то такие книги есть. Скажем, "Кавалер Золотой Звезды" Семена Бабаевского.
... Однако довольно. Это все не имеет значения. Вот за Рида Грачева страшно. Хоть бы с ним ничего не случилось плохого.
Июнь 1994
РАЗГАДКА ШАРАДЫ
Ну вот. А некоторые боялись. Немедленно прекратите, - кричали, антифашистскую истерию, вот попробуйте только дотронуться, всю жизнь будете расхлебывать негативные последствия! Такой подняли вой, словно в самом деле верили, будто кто-то посягает на их капиталы, на их оружие, на священный знак солнцеворота.
Позабыли, мнительные, что мы не в Германии какой-нибудь живем, где "жида" никому не скажи, турка не ударь и даже за священный знак может не поздоровиться. У нас государство правовое. Все дозволено, кроме того, что не приказано. А закон у нас ни сном ни духом: какой такой фашизм? А чего нет в законе, того нет вообще, а над несуществующим сами боги не властны.
Юпитер изо всей силы размахнулся - раздался грохот, брызнули молнии на свет явился указ о борьбе с проявлениями Неизвестно Чего - аккуратный такой, взвешенный - комар носу не подточит. Академии наук в двухнедельный срок определить, что собою представляет Неизвестно Что, а всем остальным органам правопорядка... тут и загвоздочка: что делать остальным? Обрушиться всей мощью Неизвестно на Что? Без научного определения неудобно. Погодить пару недель? А как же указ - он же, так сказать, в силу вступил? Что, казалось бы, стоило подписать его двумя неделями позже? Ан нельзя: годовщина Победы (тоже, выходит, Неизвестно над Чем), иностранец понаедет праздновать, а у нас тут солнцевороты по улицам разгуливают в новеньких черных мундирах. Как-то не совсем, согласитесь, прилично, - а главное, деньги нужны. Армию, госбезопасность, начальников и депутатов государство как-нибудь прокормит, а обывателям - всяким там учителям-врачам-библиотекарям-шахтерам - им кто подаст, ежели иностранец в ужасе сбежит? На учебники школьные разжалобить его необходимо или нет, как по-вашему? И не спорьте: очень своевременный указ. Пока наука расстарается вывести формулу да пока парламент ее рассмотрит... Выше головы, деятели Неизвестно Чего! Как вам не совестно было вообразить, будто ваши судьи, ваши прокуроры, ваши собственные органы сделают вам больно! Потерпите, вот уедет барин, будет вам и белка, будет и свисток.
Все это просто шум, отвлекающие помехи. Как выстрелы в Москве, как бомбардировки в Чечне, - а тут еще наша ракета по нашей атомной станции едва-едва недо-шарахнула - и еда дорожает, и подземная река рвется в метро, - словом, завались они за ящик со своим Неизвестно Чем, - ничего не понимаем, никому не верим, песчинкам в оползне плевать на ускорение свободного падения.
А между тем некие демоны перемигиваются над нашими головами, переговариваются о чем-то действительно важном на языке глухонемых. Даже странно: к чему таинственность? Кого стесняться? Нас, что ли? Нам все равно, и мы ничего не в силах изменить.
Новый закон о КГБ, бесшумно пройдя три чтения в Думе, беспрепятственно миновав Совет Федерации, поступил на последнюю подпись. Получилось в точности, как в одном детективном романе Буало-Нарсежака. Там преступник, приговоренный к гильотине, подкупил гениального хирурга - специалиста по трансплантациям органов, - и тот сразу после казни пересадил его голову, руки, ноги и все остальное семерым случайным жертвам автодорожных катастроф - одна из ног даже досталась женщине. А потом, очень скоро, шестеро реципиентов при странных обстоятельствах погибли - а как бы одолженные этим людям руки, ноги и прочие части после новых шести операций вернулись к обладателю головы - и казненный преступник воскрес! То же лицо, и татуировка на бицепсах, и неукротимая злая воля (это он, конечно, помог шестерым бедолагам расстаться с жизнью), - только имя другое.
КГБ теперь будет именоваться - ФСБ. Ему возвращено право вести предварительное следствие, иметь собственные следственные изоляторы и подразделения спецназа, а также пересажены остальные ампутированные было члены и мускулы. Сокращение штатов и переаттестация сотрудников исключены. Бюджет засекречен. Полномочия неограниченные. Контроль над деятельностью не предусмотрен. Ну, и так далее. Сбылась мечта Ежова.
"Разгадка шарады - человек" - называется роман Буало-Нарсежака. Разгадка нашей шарады - естественно, Дракон.
Рискну предложить бинарную формулу Неизвестно Чего: абсолютно всемогущая тайная полиция (Министерство Любви) плюс официально утвержденный Образ Внутреннего Врага. Демократическими выборами или самодеятельными концертами солнцеворотов узаконить идею, что всеобщее счастье наступит в минуту агонии последнего отщепенца, - и вперед!
Что для этого нужно? Что там у вас в рукаве, господин Дракон? Поджог рейхстага? Дело врачей? Хрустальная ночь? Или газовая атака в метро?
А ты не ропщи, мыслящий белок, не ропщи. Сам виноват. Будешь жить в другой раз - будешь знать.
Март 1995
ИЗ ЖИЗНИ СЛОВ
Вообще-то не послшник, а пслушник, а когда бьют во все колокола - это не перезвон, а трезвон, и потомственный дворянин, в противоположность потомственному пролетарию - тот, чьи потомки - дворяне, а не тот, чьи предки...
Звучание слов забыто, значение затуманилось, и когда глава государства в Светлое Воскресенье громогласно поздравляет толпу "с рождением Христа", никто не смеется, потому что в этот момент народ и партия действительно едины.
Считается, что русский язык - в отличие, предположим, от какого-нибудь фарси или там английского - велик, правдив, могуч и, главное, свободен. Действительно, начальству ничего не стоит выразить на нем любую мысль. Например, возможна фраза:
"Нынешней ночью чеченские формирования имитировали ракетно-бомбовые удары по жилым кварталам Грозного".
Или:
"В результате ракетно-бомбовых ударов мирные жители практически не пострадали".
А то еще так:
"В нашей армии самое мягкое название для правозащитника - тля".
Язык все стерпит.
А все-таки когда слова припахивают еще не случившимися убийствами лучше бы в них не путаться - лучше попытаться хотя бы для самих себя поточней определить смысл. Например, возьмем предложение: "Мы обязаны защищать наших соотечественников в ближнем зарубежье". Звучит красиво (хотя, если кто помнит, именно под эти, так сказать, звуки - только на немецком начиналась Вторая мировая). Но давайте решим, о ком идет речь. Если о гражданах Российской Федерации - неужели они вправе рассчитывать на свою страну только вблизи ее границ? Если обо всех гражданах бывшего Советского Союза - вряд ли в настоящий момент стоит брать на себя такие обязательства. Мы еще и чеченцев-то не до конца защитили. Эстонцев и латышей приходится пока оставить на произвол судьбы...
Что есть страны, где русским - и не только русским - живется еще хуже, чем в России, - факт. Что нельзя смотреть, сложа руки, как русских преследуют за то, что они русские (или нерусских - за то, что нерусские), вне сомнений. А все-таки термин "соотечественники" в данном контексте сугубо неточный и ведет к недоразумениям зловещим. Хотя бывают и забавные. Если, к примеру, отставной офицер госбезопасности желает во что бы то ни стало сделаться гражданином Литовской республики, а бесчеловечные литовские законы ему препятствуют, - а мы изо всех сил, чуть ли не бряцая оружием, отстаиваем право соотечественника перестать быть соотечественником... согласитесь, это странно. Тут уместней, казалось бы, говорить о правах человека, - но, как мы уже знаем, за такие разговорчики самое мягкое слово - тля...
И заметьте: чем меньше в словах реального содержания, тем громче они произносятся. Вот попробуйте сказать вслух и всерьез: "народ Петербурга" без улыбки не получится. А "народ Крыма" уже говорят - верней, кричат. Есть, оказывается, такой народ, за пятьдесят лет образовался из военных пенсионеров и персонала здравниц, - ну что ж, так получилось, многие из теперешних жителей в Крыму и родились, и посягать на их свободы и права недопустимо, - а все же, пока большая часть коренного населения пребывает в изгнании, в административной ссылке, - о страданиях крымского народа кое-кому лучше бы не заикаться. Есть люди, их много, и многим трудно - это правда. Но витийствовать от лица народа - нет у симферопольских начальников морального права, - сказал бы я, если бы эти слова мелькали пореже и что-нибудь значили.
А то ведь прямо на днях ведущий телепрограммы "Воскресенье", рассуждая о картинах из спецхрана, выставленных в Музее изобразительных искусств, так и отрезал с преважной миной: Россия, мол, имеет на них - на картины то есть - неоспоримое моральное право. Так-то оно так. Советская армия отобрала их у гитлеровской, а гитлеровцы - у разных людей из оккупированных Германией стран, причем людей этих фашисты убили. Теперь картины неоспоримо наши, а если у истребленных владельцев остались наследники - перебьются. Допустим. Но что-то тут не сходится. Например, если у нас, не дай Бог, победят на выборах сами знаете кто - и эти организмы задушат меня в газовой камере, и завладеют моими книжками, где автографы Твардовского, Бродского, - а потом развяжут мировую войну, - а китайцы, скажем, их победят и отнимут мои книжки... что же? Ступай, Твардовский, в китайский спецхран? Довольно сложный это, по-моему, казус. Грабить награбленное - право и впрямь неоспоримое, согласен, - а вот почему это право - моральное, не возьму в толк.
Это как с Курильскими какими-нибудь островами: американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, Сталин тотчас напал на обездвиженного, уже не надменного соседа, в результате нам достались кое-какие территории, с тех пор они процветают под нашей властью, - и отлично, и спорить не о чем, но высокие чувства причем?
Обычная, вечная история с географией. Шестьсот лет назад некто Донской посягнул на территориальную целостность великой и неделимой Золотой Орды: создал незаконные вооруженные формирования с целью провозгласить независимость одного из улусов; мало ли, дескать, что нас завоевали двести или там триста лет тому - впредь отказываемся платить дань чужеверным властителям - лучше все как один умрем на поле Куликовом... Имел ли Дмитрий Донской моральное право на эту сепаратистскую авантюру (о юридической стороне умолчим)? Не правда ли, бессмысленный, ханжеский вопрос? Главное не нашлось у Мамая установок "Ураган", и Донской победил, и у нас теперь патриарх, а не муфтий - так что глава государства на Пасху, а не в первый день рамазана, поздравляет нас - с Рождеством. Вот и славно.
Апрель 1995
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА КАК СОСТОЯНИЕ УМА
Кого как, а меня учили в школе, что захватывать и грабить мирные города иноверцев - молодецкое дело; что в убийстве женщин и детей ничего такого особенного нет; что местью оправданы любые злодейства; что, истребив за смерть собственного сына сотни невинных, полевой командир боевиков становится национальным героем. В седьмом, что ли, классе постигал я художественные особенности классического текста:
"Не уважали козаки чернобровых панянок, белогрудых, светлоликих девиц; у самых алтарей не могли спастись они: зажигал их Тарас вместе с алтарями. Не одни белоснежные руки поднимались из огнистого пламени к небесам, сопровождаемые жалкими криками, от которых подвигнулась бы самая сырая земля, и степная трава поникла бы от жалости долу. Но не внимали ничему жестокие козаки и, поднимая копьями с улицы младенцев их, кидали к ним же в пламя. "Это вам, вражьи ляхи, поминки по Остапе" - приговаривал только Тарас..."
Пафос восклицаний о чеченском набеге на город Буденновск - по-моему, бледней. Только удивительно - и то на первый взгляд, - что несколько столетий пролетело без всякой пользы.
Казалось бы, столько перемен: тот же Буденновск всего сто лет назад был заштатный городок Святого Креста - стал Прикумск - превратился в Буденновск; население умножилось вдесятеро - благодаря заводу пластмасс (то есть, видимо, химоружия), - столько внешних перемен, а простодушная уверенность, что нам убивать можно, а нас нельзя, - осталась, как была.
То есть как цивилизованные люди XX века мы понимаем, что по Б-ву и по Г-ву - и по тому псевдониму, что распоряжался погромом в Самашках, - рыдает скамья подсудимых, - причем беспристрастный суд обязан учесть, что на совести Г-ва - и нашей, читатель! - убитых детей тысячи, а псевдонимы отличились, если верить очевидцам, жестокостью почти невероятной, - какая Бульбе не снилась, не говоря о Б-ве... Но в глубине души, не признаваясь вслух - только проговариваясь постоянно, - мы все, от президента до бомжа, уверяем себя, что жизнь чеченского или там афганского ребенка не такая уж значительная ценность. Вот наши - это совсем другое дело...
А еще глубже - т. н. порядочные не верят в это. Но все чувствуют: Россия живет со скоростью столько-то насильственных смертей в секунду. Ее хватит удар, если выживут все. Отворите ей кровь, делайте, что хотите, только не с нами, не здесь, не сейчас...
Вот ради чего допустили мы эту войну и ясно дали понять начальству, что повышение цен на еду нас волнует сильней, чем какие-то там преступления против человечности. Жаль, разумеется, что, участвуя в них, наши дети тоже гибнут, - но если без этого никак не вернуть чеченцам права и свободы российских граждан... что ж, начальству видней.
То есть мы все до одного как бы подписали эту пресловутую бумагу: добровольно, дескать, присоединяюсь и готов подвергнуться любым неожиданным последствиям. Вот и подверглись. В гибели жителей Буденновска виноват каждый, кто не сделал всего, что мог, для прекращения войны: и я, и вы, мой читатель, - да все, кроме С. А. Ковалева и нескольких его единомышленников и Комитета солдатских матерей. Какие, собственно, были у нас основания думать, что родители уничтоженных в Чечне детей (все заметили, надо думать, эту стилистическую тонкость в официальных сводках: русских убивают, а чеченцев уничтожают?) - так вот, с чего мы взяли, будто родные уничтоженных все поймут правильно, как мы бы на их месте: мол, интересы государства требуют разорвать вашего малыша на части точечным ударом - что ж, рвите, товарищи генералы! - но как могли мы ожидать подобной самоотверженности от чеченцев? Министры орали на правозащитников: на войне как на войне, без невинных жертв не обойтись, - вот и не обходится. А ведь сказала на всю страну Элла Памфилова чуть ли не в начале прошлого декабря: ума нет, сердца нет - хотя бы к инстинкту самосохранения прислушались...
Но что инстинкт, когда причинно-следственные связи порушены и на самую простую аналогию воображения не хватает? Когда не то что будущего ближайшего прошлого не существует, и никто не вспоминает, что было в том декабре - как армия спешила замыть кровью следы неудачно напроказившей госбезопасности, как туземцы имитировали бомбежку города Грозного - а город возьми и развались, а там тоже были больницы, - или не было?
Наплевать на причины, их связь с последствиями все равно не осознать, нам подавай вину и месть - чужую вину, - вопят какие-то в лампасах и с поддельными орденами. Так хочется жить за счет других, на всем готовом, и убивать каких-нибудь врагов - или даже не врагов, - лишь бы ни о чем не думать, лишь бы не быть людьми, это так тяжело.
Раб никогда ни в чем не виноват. Ему чужая смерть слаще собственной жизни. Отомстить Вселенной за то, что родился рабом, - его свобода.
Н. В. Гоголь писал для образованных читателей. Ему и в голову не приходило, что полтора века спустя малышам станут внушать в классе, будто надо "делать жизнь", руководствуясь примером кровожадного дикаря. Такое возможно лишь в обществе, созданном гражданской войной.
... Мифологическая картина: старый Тарас дремлет на берегу Днепра, опершись на саблю, а Павлик Морозов читает ему "Донские рассказы" Шолохова; к стволу ближайшего дуба прислонен гранатомет.
Июнь 1995
ТЕМА ЛИШНЕГО ЧЕЛОВЕКА
Тридцатого июля 1937 г. наркомвнудел Ежов издал оперативный приказ № 00447: начать 5 августа во всех республиках, краях и областях операцию по репрессированию бывших кулаков, активных антисоветских элементов и уголовников. В приказе были даны ориентировочные цифры: например, в Ленинградской области следовало изъять из обращения 14 тыс. человек: 4 тысячи расстрелять, а 10 тысяч - в концлагеря. Планы составлялись, естественно, по заявкам с мест.
1 августа Совнарком постановил выделить на проведение этой операции 75 млн рублей (в том числе 25 млн - на оплату железнодорожного тарифа) - и еще 10 млн на организацию лагерей.
Госплану, ГУЛАГу и Наркомлесу предлагалось определить программу лесозаготовительных работ на 1938 год - и учесть, "что в III и IV кварталах 1937 года осужденные будут использованы для производства подготовительных работ к освоению программы 1938 года".
"Операцию закончить в четырехмесячный срок", - говорилось в приказе Ежова.
Но исполнители отнеслись к делу горячо - и, например, в Ленинграде план по убитым был выполнен к концу сентября - и тогда органами на местах был выдвинут встречный план - и тоже перевыполнен. Операцию продлили до ноября 1938, остановились на 43-й тысяче трупов - а сколько десятков или сотен тысяч пошли в ГУЛАГ - никому не известно.
Теперь семеро сотрудников Большого Дома составили список убитых. Первые четыре тысячи фамилий опубликованы в книге, только что вышедшей: "Ленинградский Мартиролог. 1937-1938. Том 1. Август-сентябрь 1937 года". Санкт-Петербург, 1995.
Надо иметь в виду, что это крайне неполный отчет о проделанной учреждением работе. В списке - только расстрелянные, причем расстрелянные по ходу одной-единственной специальной операции (и, насколько я понимаю, лишь те из них, кто впоследствии реабилитирован). В том же 1937 году, кроме Двойки и Особой Тройки, заседали суды и трибуналы - и тоже каждый день по той же 58-й статье ковали приговоры - кому 9 граммов свинца в затылок, а кого на каторгу. Но - "к сожалению, - сообщают составители тома, - как раз сведения о тех, кто был приговорен к расстрелу после открытых либо закрытых заседаний трибуналов и других судебных органов, представлены в архиве Управления МБ РФ неполно", - и поэтому в Мартиролог, представьте, вообще не вошли.
И сведения об уничтоженных за предыдущие 20 лет - например, в ходе "красного террора" - или в 1935-1936, после убийства Кирова - тоже, оказывается, не сохранились.
Но как бы там ни было - часть списка казненных опубликована. К упало, Г пропало, но буква, оставшаяся на трубе, согласилась наконец признать решения XX съезда КПСС, - и сорока лет не прошло! Полный словарь арестованных ленинградцев занял бы, вероятно, томов сто - Мартиролог рассчитан на десять, первый из них - перед нами.
Он мог бы выйти не таким увесистым - и составители сэкономили бы несколько миллионов рублей из денег мэрии, если бы некая формула не повторялась полностью четыре тысячи раз.
"ИВАНОВ Иван Иванович, 1885 г. р., уроженец д. Яблоново Поддорского р-на Ленинградской обл., беспартийный, русский, член колхоза "1 Мая". Арестован 8 марта 1937 года. Особой Тройкой УНКВД ЛО 11 августа 1937 года приговорен по ст. 58-10-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение 11 августа 1937 года".
Если текст не предназначен для исполнения по радио голосом Левитана даты можно указать цифрами, к Тройке и Двойке - раз объяснив содержание терминов - не прибавлять ничего, УК РСФСР не поминать всуе. И неизбежный трехчастный рефрен в конце - слишком торжественными, слишком почтительными словами рассказывает о подлой расправе над безвинными жертвами. Схвачен тогда-то, приговорен по такой-то статье такого-то числа, расстрелян такого-то - слишком грубо, что ли, звучит? Скажите, какая стыдливость. Чем тратить столько бумаги на повторение священных букв УНКВД ЛО - не полезней ли было сообщить факты, известные только сослуживцам составителей? Вот один из составителей недавно заявил: на палачах крови нет. Что ж, допустим. Но куда она девалась? Можно ли подтвердить или опровергнуть, например, слух об исполинской электромясорубке в подвале Большого Дома - и о подземной трубе для стока крови в Неву?
Четыре тысячи окровавленных теней... Почти половина - инородцы: поляки, немцы, финны, карелы, эстонцы, латыши, евреи. Этнической чисткой занималась главным образом Двойка ("Комиссия НКВД и Прокуратуры СССР") - ну а Тройка освобождала город и область от лишних людей. Начали с пожилых, разных там бывших единоличников, монахинь, горничных. В точности по роману Платонова "Чевенгур" (1928-1929):
"Ты давай мне резолюцию о ликвидации класса остаточной сволочи... Выйди на улицу: либо вдова, либо приказчик, либо сокращенный начальник пролетариата... Как же быть, скажи, пожалуйста!.."
И у него же в "Котловане" маленькая девочка выговаривает заветную мечту реального социализма:
"... убить всех плохих, а то хороших слишком мало..."
Эта мысль и сейчас горит в умах. И цела машина террора. Госбезопасность и атомная бомба - более надежных средств самоубийства народы не изобрели. Так вот, машина цела, и, конечно, есть кому переключить ее на прежнюю программу.
Нынешнее поколение советских людей не сумело вообразить жизнь без ГБ... Не завидую я тому, кто, случайно уцелев до глубокой старости, развернет через сколько-то лет первый том новой серии Мартиролога - не разорвет ли ему сердце усмешка горькая расстрелянного сына над струсившим отцом?
Июль 1995
МЕЛАНХОЛИК В СТОЛИЧНОЙ СУЕТЕ
Москва утопает в деньгах. Ну, не утопает, но волны денежных знаков доходят ей до колен. Деньги делаются - должно быть, из московского воздуха, - в бесчисленных особнячках, сверкающих свежими белилами и позолотой (а давно ли казалось, что они доживают последние дни; словно неутомимый стоматолог надел фарфоровые коронки на тысячу и один фундамент). Там под усиленной охраной дистрибьюторы играют на компьютерах, или брокеры превращают факсы в баксы - короче, совершаются непонятные чудеса... Где декламировали Шиллера, теперь обслуживают дилера... ждут киллера... листают Веллера... Тучи загадочных слов слетаются на запах свежих денег. В свою очередь, доллары превращаются в храм Христа Спасителя и другие добрые дела. Только ленивый рэкетир не рвется в спонсоры. Кстати, в журнале "Огонек" будто бы платят автору по доллару за строчку - и в журнале "Русская провинция" чуть ли не по двести за печатный лист - в общем, вдесятеро больше, чем в петербургских изданиях. И литературная жизнь, можно сказать, кипит.
В понедельник - обед на полтораста персон в Доме архитектора по случаю вручения премии Букера. На этот раз - впервые, по-моему, - знатную сумму вручили автору произведения действительно незаурядного - Георгию Владимову за роман "Генерал и его армия". Правда, это не совсем роман - скорее длинный рассказ, - но хорошо написанный, притом на тему, не всем безразличную... Ну, а еда была бесплатная, публика - избранная, речи - умеренно неуместные. Например, Станислав Рассадин с жаром уверял, что просто не представляет себе, кто и какими средствами мог бы повлиять на решения возглавляемого им жюри. А герой торжества заметил, что его соперники тоже недурно владеют пером, но у них еще все впереди: ведь они такие молодые (между тем в так называемом шорт-листе рядом с Владимовым значился Евгений Федоров - человек с опытом еще сталинских лагерей). Ну и так далее. Разошлись поздно.
А во вторник вручали Анти-Букеровскую премию Алексею Варламову за роман "Рождение". Жюри еще независимей букеровского (там и петербургские критики: Виктор Топоров и Михаил Золотоносов, и даже Мария Васильевна Розанова из Парижа), и премия больше - ровно на доллар, - а какой был обед и чьи это деньги - точно не скажу.
Во вторник же наиболее православные писатели угощались на приеме у Патриарха Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре и вроде бы - по слухам остались довольны. А кого туда не позвали (академик Лихачев и разные другие) - собрались на форум деятелей культуры, и к ним приехал премьер-министр, - и помечтали вслух, как Чичиков с Маниловым: дескать, до чего было бы славно, ежели бы молодых музыкантов не забривали бы в солдаты, да ежели бы меценатам за их пожертвования в пользу искусства давать какую-нибудь скидку с налоговых выплат - "как в цивилизованных странах"... В кулуарах говорили о вечном и высоком: обязан ли интеллигент жить бедней всех? И отчего, интересно, культуре никак не удается смягчить нравы? Фазиль Искандер на последний вопрос ответил так: откуда мы знаем, что не удается? Вполне можно представить, что без, допустим, литературы или музыки мир выглядел бы еще ужасней... Обеда, кажется, не было.
В среду праздновали юбилей журнала "Знамя". Фазиль Искандер читал стихи, Тимур Кибиров - тоже, а Георгий Владимов, Владимир Войнович, Александр Кабаков отвечали на вопросы из зала. Вопросы были типа: ваши творческие планы? Планы у всех какие-то неопределенные. Дело было в Доме кино. Работали буфеты и бары.
В четверг... Но не довольно ли? В столице скучать некогда, вот и весь сказ, - поэтому там в моде исторический оптимизм, а беспокоиться о политических переменах в ближайшем будущем - это как бы дурной тон. Только Кибиров, перед тем как прочитать самое тревожное из старых своих стихотворений, позволил себе заметить, что тревога точит его и сейчас.
Впрочем, в одном разговоре мелькнул один сюжет... Начался он в Ленинграде. В конце семидесятых, в начале восьмидесятых подвизался тут человек под двумя фамилиями: некто К-в, он же П-в. Обе фамилии помню с тех пор - и зловещий над ними ореол, - а какая из них настоящая, какая литературный псевдоним - или не литературный, - точно не знаю. Он служил в Большом Доме - курировал, так это называлось, местную словесность: про помощи сексотов и техсредств наблюдал за поведением и творчеством незавербованных - кто чем дышит; если кислородом, то когда и как перекрыть; какие книжки сжечь из отобранных при обыске - тоже, наверное, приходилось решать ему, - да не вообразить всех обязанностей, но и это неважно; скромный труженик идейного сыска, вряд ли хуже других таких же. Вдруг выпустил книжку рассказов. Немедленно его приняли в Союз писателей. И очень скоро он отбыл в Москву. И - казалось отсюда - затерялся в толпе мастеров художественного слова. А теперь, через десяток лет, он возьми и объявись - где бы вы думали? В северных губерниях: баллотируется в Государственную Думу, независимый разведчик, защитник обездоленных.
Вполне допускаю, что этот К-в - или П-в? - не худший из кандидатов. Допускаю даже, что и среди людей этой профессии встречаются лично порядочные в быту: ласковы с детьми, верны женам, не берут взяток. И в раскаянье поверю, хоть и скрепя сердце: мол, служил в этой организации, занимался такими делами - но искренне думал, что приношу пользу и поступаю нравственно; по невинности ума полагался на указания старших товарищей, - а не то чтобы нравились разные льготы и тайная власть. Наверное, и такие случаи возможны.
Однако бывает ли раскаяние без покаяния, и какая ему цена? А если человек не раскаивается ни в чем - зачем ему заклеивать важную страницу биографии? Разве что перед нами спецагент на спецзадании - тогда вопросов нет.
О, старый крот, как ты проворно роешь! Кого в епископы, кого в депутаты, кого в писатели - чем ночь темней, тем ярче звезды на невидимых миру погонах.
В столицах шум, гремят витии, а также бароны пируют, Андроны едут, - а из провинции доносится задумчивая частушка:
Надела платье синее
Так не будь разинею:
Оглянись вокруг себя
Не наслаждается ли кто-нибудь тобой?
Декабрь 1995
ПО КРУГУ, ПО КРУГУ
Каким бы одиноким не чувствовал себя человек, он все-таки не сойдет с ума и не махнет на жизнь рукой, пока перечитывает "Историю одного города" и "Капитанскую дочку" - от морока бессмыслицы, от густопсовой государственной лжи эти два сочинения помогают.
Щедрин, как многие считают, современней. Его книга на тридцать с чем-то лет ближе к нам и вдобавок написана в эпоху вроде нашей: когда обнажилась тщета либеральных мечтаний. Разумные, необходимые реформы доставляют власть негодяям, богатство - плутам, страдания - народу. Люди, оказывается, не хотят ни свободы, ни правды. Глупость и Страх раболепно жмутся поближе к Насилию и Произволу. Но "История одного города" написана о том, что Народ не виноват:
"Никто не станет отрицать, что это картина не лестная, но иною она не может и быть, потому что материалом для нее служит человек, которому с изумительным постоянством долбят голову и который, разумеется, не может прийти к другому результату, кроме ошеломления".
Тысячелетняя история без малейших проблесков правосознания - она-то как раз и оставляет шанс: если "снабдить людей настоящими якобы правами" - вдруг еще через тысячу лет или даже гораздо раньше они поумнеют и станут добрей?
Но история России остановилась, повернулась, пошла обратно - и пародия Щедрина, словно ему назло, превратилась в Апокалипсис. Не ведая, что творит, Щедрин предугадал главное: неизбежную победу партии ленинского типа - и разные подробности, вплоть до поворота рек и экологической катастрофы. Чеченская, скажем, война предсказана и ход ее разобран в главе "Войны за просвещение".
Однако именно теперь, когда почти все сбылось, в Щедрине легко опознается сентиментальный демократ: роль народных масс он понимал как чисто страдательную; так называемые простые люди - "людишки и сироты" - убивают друг друга будто бы не из ненависти, а от невежества и по многовековой привычке повиноваться безжалостным и бездарным градоначальникам:
"Поэтому я не вижу в рассказах летописца ничего такого, что посягало бы на достоинство обывателей города Глупова. Это люди, как и все другие, с той только оговоркою, что природные их свойства обросли массой наносных атомов, за которою почти ничего не видно..."
Взгляд Пушкина, как ни странно, глубже и бесстрашней - настоящий трагический. В жертве улюлюкает палач - и мнит себя мстителем, - а в палаче рыдает жертва, - и они без конца меняются ролями - и, злобно презирая себя и жизнь, сплошь состоящую из этих самых наносных атомов, с наслаждением отнимают ее друг у друга.
Короче говоря, в неисчислимых, безумных жестокостях имперской истории закаляется, как сталь, новое сознание - и новая общность людей - и тоска о самозванце: его именем позлодействовать, как бы по праву.
... Вестник Рока в "Капитанской дочке" - изувеченный башкирец: без носа, без ушей. Капитан Миронов тотчас угадывает в нем одного из бунтовщиков, наказанных в 1741 году - тридцать с лишним лет назад. Кто же забудет этот допрос в главе "Пугачевщина" - и как башкирец
"застонал слабым, умоляющим голосом, и открыл рот, в котором вместо языка шевелился короткий обрубок".
Чтобы мы никогда не позабыли этого ужасного лица, - Пушкин применяет средство необычайно сильное: вдруг переводит часы на тридцать лет вперед; мгновенно - и на одно лишь мгновение - Гринев превращается в старика, из героя событий - в автора записок; и забывает о сюжете - и проговаривается именно тут! - ради чего взялся за перо:
"Молодой человек! если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений".
Связь идей не очевидная, требует усилий ума: страшная, уродливая тень, - а за ней политическое завещание... На всякий случай - желая, чтобы непременно поняли, - Пушкин выводит этого башкирца еще раз: верхом на перекладине виселицы, с веревкой в руке; это он вздернул капитана Миронова и доброго Ивана Игнатьича - и едва не вздернул Гринева.
В особенном примечании к "Истории пугачевского бунта" Пушкин еще раз напоминает - лично императору: за тридцать лет до Пугачевщины было усмирение башкир.
"Около 130 человек были умерщвлены посреди всевозможных мучений. "Остальных, человек до тысячи (пишет Рычков) простили, отрезав им носы и уши". - Многие из сих прощенных должны были быть живы во время Пугачевского бунта".
Эти многозначительные слова стоило поставить эпиграфом к брошюре об операции МВД РФ в чеченском селе Самашки 7-8 апреля 1995 года. Брошюра издана "Мемориалом", представляет собою доклад Наблюдательной комиссии правозащитных общественных организаций в зоне вооруженного конфликта в Чечне, - а называется эта брошюра так: "Всеми имеющимися средствами...". Пересказывать нет смысла. Вот несколько фамилий из списка погибших в ходе так называемой зачистки села:
"Ахметова Аби, 59 лет, вышла с поднятыми руками из подожженного дома, сразу застрелена. Гунашева Хава, 17 лет - застрелена с проезжающего БТРа, в тот же день труп сожжен вместе с домом. Масаева Раиса, 24 года - ранена гранатой, затем огнестрельное ранение при попытке защитить отца, сожжена. Сурхашев Саид-Хасан, 69 лет - застрелен, когда хотел вынести парализованного брата из подожженного дома..."
И так далее. В списке 103 человека, факты подтверждены свидетельствами о смерти, показаниями очевидцев. Само собой, власти все отрицают. Ничего не было, просто одержана очередная победа над очередной бандой. Безоружных не убивали, не привязывали пленных за руки проволокой к идущим БТРам, 155 домов жители сожгли сами, а обгорелые кости вообще неизвестно чьи.
Что касается трупа с вырванным сердцем, сфотографированного на Степной улице у дома, № 102, то, как сказано в докладе, "ситуация исключала возможность проведения экспертизы и выяснения причины смерти". Да и мало ли кто мог вырвать сердце несчастному. В любом случае, это сделал советский человек.
... Иван Бездомный видел во сне "неестественного безносого палача, который, подпрыгнув и как-то ухнув голосом, колет копьем в сердце привязанного к столбу и потерявшего разум Гестаса"... Что снится детям в чеченском селе Самашки?
Январь 1996
ЧАЙНИК С ЦВЕТОЧКАМИ
Кто помнит, что О доблестях, о подвигах, о славе - была милицейская рубрика в советских газетах, - тот не особенно удивится, даже услышав стихи: "И веют древними поверьями Ее упругие шелка" - в рекламе, например, ткацкой фабрики.
А все-таки немного странно, когда какой-нибудь с мускулистым лицом субъект произносит: "Честь - имею!" - словно горделивый автобиографический тезис, точно горничная на выданье.
На самом-то деле тут ведь сокращенная формула преувеличенной вежливости. В прошлом веке и даже чуть раньше полагалось начинать рапорт или доклад словами: "Имею честь донести вашему превосходительству - (или там высокоблагородию)..." - и каждое мало-мальски официальное письмо заканчивать: "С глубочайшим почтением и неизменной преданностью имею честь быть вашим, милостивый государь, покорнейшим слугою". Как и следовало в бюрократическом государстве, канцелярский оборот вошел в быт, сделавшись любезностью: "Я-таки опять имею честь вас ангажировать pour masure... Вы, может быть, думаете, что я пьян? Это ничего!.." (Лермонтов, "Герой нашего времени"). Ну, и так далее: честь имею представиться, имею честь засвидетельствовать почтение, наконец - честь имею откланяться. Последнее словосочетание удержалось дольше всех и сохранило в усеченном виде то же самое, что до скорого - и больше ничего. Нет ни малейших причин подпускать в голос грудные, задушевные, героические нотки. К тому же честный человек скажет о себе, что будто бы его невинность не похищена - только если он очень уж неумен. Честь - это ведь такая иллюзия: мы ни при каких обстоятельствах не сделаем ничего такого, за что презираем других. Но разве мыслимо так заблуждаться в XX веке, да еще в нашей стране? Кто же не знает, что с человеком можно сделать все - и превратить его в ничто - ничего не стоит? Что, например, в каждом большом городе имеется Большой Дом, а в нем специальные приспособления и люди, готовые в кратчайший срок избавить нас от каких бы то ни было иллюзий.
Впрочем, приспособления - это роскошь, и не обязательно тратить на них валюту. Маршал М. рассказывал Ольге Берггольц, что его излечили от гордыни самыми простыми средствами: следователь, избив, мочился ему в лицо. Академика Вавилова следователь дрессировал до тех пор, пока Николай Иванович не научился на вопрос: "Ты кто?" - без запинки отвечать: "Я мешок с дерьмом..." Ольгу Ивинскую презрительно попрекали извращенной страстью: к "старому жиду" - то есть к Б. Л. Пастернаку... Нынче эти следователи - давно уже генералы, ветераны труда и вооруженных сил, и о чести толкуют с удовольствием, это понятно, - а нам-то на что надеяться?
Или, скажем, какое может быть понятие о чести в армии, где никакой приказ не считается преступным?
Да что там! Советскому человеку идея чести в принципе не к лицу. Но, помимо теории, существует ведь и практика. История страны и ее моральный облик создаются суммой биографий. Восемнадцать, что ли, миллионов состояли в КПСС, и далеко не все вступили по простодушию - ведь это было необходимое условие даже очень скромной карьеры, и ради нее приходилось позабыть о кровавых преступлениях передового отряда трудящихся, - то есть кое-чем поступиться. И в ГБ несчитанные миллионы служили и служат - это в штате, - а о сексотах и доносчиках официально сказано, что ежели их списки рассекретить - некого останется уважать. Короче, в опыте нынешних взрослых тьма политических подлостей, крупных и мелких (на собраниях-то кто не сиживал? кто ни разу не голосовал за что-нибудь заведомо скверное?), с таким опытом вообще-то стыдно декламировать: "Пока сердца для чести живы...". В оправдание утверждают, что это были не совсем подлости, что мы просто представляли собой сонм пламенных тупиц, - но что-то сомнительно, чтобы все до одного. И, опять же, что такое - честь тупицы?
Резко, даже отчасти неблагопристойно изобразил моральный кодекс строителя коммунизма Андрей Платонов в романе "Чевенгур": "Всякая б...дь хочет красным знаменем заткнуться - тогда у ней пустое место, дескать, честью зарастет"...
Вот я и говорю: скромней бы надо, хладнокровней. В интонациях генералов, политиков и журналистов - больше благородства, чем допускает здравый смысл. Отвратительно, согласен, что террористы захватывают заложников, и ужасно, когда в опасности женщины и дети. Но советская власть с успехом практиковала массовые расстрелы заложников - и в Советском Союзе существовал закон, по которому дети врагов народа подлежали расстрелу с двенадцати лет, - и ГБ провела бессчетное количество террористических акций сама и к тому же помогала оружием, деньгами, консультациями террористам всех стран, - и никто вслух не возмущался, пока не разрешили... Зачем же теперь с такой чрезмерной силой притворяться, будто для нас чужая жизнь что-то значит? Все равно ведь никто не поверит.
Слово "бездарность" тоже употребляется почем зря - главным образом в том смысле, что вот, мол, никак не удается нашим полководцам всех искрошить. С этой точки зрения гением был Берия, не так ли? Но тогда утрите слезы, господа аллигаторы.
Фальшивые интонации заполнили эфир. Играем людей. Но что-то не очень удачно.
Когда я слышу все эти "честь имею", или там "право на достойную жизнь", или "не стало идеалов", - почему-то всякий раз вспоминаю рассказ свидетеля об одном эпизоде сумгаитского погрома. Это было восемь лет назад, союз нерушимый республик свободных еще указывал путь в светлое будущее всему человечеству.
"... Девушку раздели и бросили в ящики... Девушка раздвинула ящики и закричала. Тогда к ней подошел парень, примерно 20-22 лет. Этот парень принес с собой чайник белого цвета, с мелкими цветочками. В этом чайнике был бензин. Парень из чайника облил девушку бензином и сам же поджег ее..."
Это на глазах у целого города - и всей страны.
Мы сделали вид, что ничего не заметили.
А теперь хотим - счастья.
Февраль 1996
КОВЧЕГ ПЛЫВЕТ
Стихи Цветаевой и Чуева... Оборот невозможный. Прозаики Бабаевский, Бубеннов, Булгаков, Бунин, Бондарев... Перечень отдает безвкусной шуткой. Нелегко и неприятно вообразить книжную полку, на которой Набоков прижат к Нагибину, - но закон судеб, но ирония алфавита, - потерпите, В. В., это не навсегда. Возражать не приходится: в одном и том же столетии оба писали по-русски не без успеха - потомитесь же рядком в бумажном колумбарии: в каталоге, в словаре.
Вот и первый опыт: Русские писатели. XX век. Биобиблиографический словарь в двух частях. Под редакцией Н. Н. Скатова: М., "Просвещение", 1998.
Почин преполезный. Для преподавателей словесности - долгожданное спасательное судно. Да и многим другим любопытно как бы из вертолета оглядеть литературный ландшафт уходящего века сразу весь, по обеим сторонам границы: мощные лесопосадки соцреализма, разрозненные островки эмигрантской флоры...
Вот они, стало быть, в одном строю - заключенные спецхрана вперемежку с любимцами начальства и народа. Почти полтысячи персонажей - советских и несоветских почти поровну, Разумеется, налицо не все: во всяком случае, советских писателей в свое время было несравненно больше, - и, ясное дело, составители словаря кое-кого вывели за штат напрасно, по ошибке, а то и по пристрастному расчету, - иначе не бывает. Лес рубят - щепки летят.
Советским вообще не повезло. Почти все они, как правило, уже подвергались изучению...
То есть буквально каждому лауреату, не говоря о классиках и героях труда, полагался как минимум один специалист по его творчеству - как бы персональный литературный охранник. Численность этих несчастных постоянно росла. Они образовали вокруг советской литературы сферу вторичного обслуживания - так называемую Науку о советской литературе. Существовали целые учреждения - вроде спецполиклиник, - занятые исключительно изготовлением парадных словесных портретов (ну, и разных справок для обкома и ГБ). Это здесь была изобретена и много раз усовершенствована система волшебных терминов, позволявшая кому угодно рассуждать о литературе без малейшего стеснения: пароль - партийность, отзыв, - допустим, идейная направленность, или гражданственность, или патриотизм. Это здесь придумали, что бывают романы и стихи на тему рабочего класса, или на тему дружбы народов, и даже на оборонную, - и что герои художественных произведений будто бы подразделяются на положительных и отрицательных. В конце концов литературоведам этим даже удалось установить, что лучше всех пишет Генеральный Секретарь.
Леонид Брежнев, конечно, в словаре не фигурирует. Однако Наука никуда не делась. И демонстрирует свою интеллектуальную мощь на прочих мастерах соцреализма:
"Тема умелого хозяйствования на земле получила дальнейшее развитие в романе "Плавучая станица"... Роман получил широкий отклик в профессиональных кругах рыболовов. В 1951 г. роман был удостоен Гос. премии СССР".
"В романе... "Как все" (1965) затронуты актуальные для своего времени производственные проблемы - поиски в рабочем коллективе новой, более совершенной системы организации и оплаты труда".
"В дилогии представлены фрагменты и деревенского, и производственного, и военного, и исторического романа, и даже романа о космонавтах".
"Высокая новаторская цель вызывает подъем научной мысли, борьба с консерваторами и карьеристами становится школой мужества, гражданского роста. Это подтверждают судьбы главных положительных героев".
Что тут скажешь? Наверное, сочинители, о чьих трудах пишут такое (в данном случае - В. Закруткин, А. Знаменский, П. Проскурин, В. Кетлинская, но и многие, слишком многие другие), - наверное, они заслужили свою участь. По-видимому, иного способа обосновать ценность их творчества - сейчас не существует. В прежние-то времена выручали цитаты из инструкций правившей партии: смотрите, дескать, какое счастливое совпадение помыслов художника с линией руководства! Но ливреи, увы, истлели - вельможу от лакея не отличить.
Вчуже и отчасти, а все же теперь вчерашних удачников жаль: стать достояньем таких доцентов! Боюсь, кое-кто предпочел бы остаться за бортом этого ковчега. Вот, скажем, вы - забытый стихотворец, некогда маститый, в орденах, ныне покойный. Вас помещают в словарь, - а как же иначе, полагается по чину! - и там почтительнейший специалист простодушнейшим замечанием, одним-единственным на бочку патоки, подводит вам итог столь немилосердный, что не пожелаешь и врагу:
"Незадолго перед смертью П. пишет строки, ставшие одними из самых совершенных по своей трагической сущности в его творчестве: "А ведь было - / Завивались в кольца волосы мои..." (1970)"
Представляете? Всю жизнь надрывать голос - чтобы потом кто-нибудь нет, не кто-нибудь, а сочувствующий ценитель подхватил пару плоских строк: вот, дескать, лучшее, на что этот П. был способен!
(А это, между прочим, закон слога: панегирик бездушный непременно сорвется в смешное!)
И поневоле позавидует условный классик неожиданным и нежелательным соседям по словарю: эмигранту, диссиденту, лагернику - да чуть ли не любому из тех, кого сам же когда-то гнобил: о них-то пишут хоть и не так обстоятельно, зато куда пристойней: литератор такой-то родился тогда-то, существовал в таких-то обстоятельствах, сочинил то-то и то-то, умер вот как. Бывает, что и о сочинениях прибавят несколько разумных слов. Положим, тут проще: не надо ломать голову над роковой загадкой лжи. Но все равно - если статью составил филолог, а не гример из морга, - это сразу видно.
И есть, есть, конечно же, имеются в обсуждаемом словаре дельные, культурные статьи, даже не так их и мало, - и, оттененная ими, нестерпимо гремит, как бы задавая тон, пошлость косноязычного пустословия:
"В поэме "Даль памяти" особенно примечательна глава "Кремень-слеза", где в центральном образе автор новаторски соединяет, казалось бы, несоединимое - слезу и кремень как олицетворение выстраданного и пережитого".
"Духовный мир рабочего человека согрет в романе незаурядной теплотой зоркого писательского взгляда".
Все это знакомо до зубной боли: бесчисленным жертвам еще в отрочестве растлили вкус и совесть бесконечными насильственными инъекциями этой мертвой воды.
Выходит, и в третьем тысячелетии неоткуда детям ждать спасенья. Наш словарь прямо так и заявляет: "в своей основной части сориентирован на школьное обучение"! То-то и оно, что в основной. Не для взрослых же старая песня о Главных украшена дивными фиоритурами подлинно научного мышления:
"Многие наши корабли несут сегодня по морям славные писательские имена... И все-таки корабль "Леонид Соболев" не просто один из многих. Он вдвойне свой и для моряков. И потому особенно дорог и справедлив (Как излагает! учитесь, дети! - С. Л.) его выход, его путь к Океану..."
Только не подумайте, будто наблюдаемое плавсредство неуклонно следует в светлое вчера прежним курсом и под тем же флагом! Видимость плохая, компас поврежден, приходится лавировать и подавать разные сигналы. К примеру, кое-кто догадался взамен обкомовской лексики воспользоваться - церковной. Мысль смелая, дело непривычное, результаты пока скорей забавные, - но лиха беда начало.
Надо только запомнить, г-н научный редактор, что при ссылке, допустим, на Евангелие от Матфея принято сокращение Мф. (и далее номер главы и стиха), но отнюдь не Мат., это даже и неприлично.
Незнакомые предметы вообще требуют осторожного обращения. Сообщая о каком-нибудь поэте Кленовском, что, дескать, его лирический герой "вносит существенную поправку в христианский догмат о земной жизни как заточенье души, а смерти как освобождении. Земная жизнь для него прекрасна, а переход в инобытие - явление драматичное", словарь как бы невзначай обвиняет чуть ли не в ереси почти что всю литературу. Причем тут Кленовский? Жизнь предпочитал смерти - скажите, какой оригинал, какой дерзкий мыслитель! Нечто подобное, должно быть, псковские савонаролы писали про Пушкина в консисторию, - с той, правда, разницей, что знали, чего хотят.
Освященный леденец достается, понятно, и Набокову, с его непростительной аллергией на пошлость! Но он предвидел почти все ее издевательские извороты - и текст в словаре просто варьирует одну из набоковских пародий:
"Столкновение заповеди художникам любить "лишь то, что редкостно и мнимо" с заповедью Христа приводит героя романа к гибели (равно как и героиню)"...
Слышишь, Лолита?
... Партийность. Православие. Ну, и Народность, как же без Народности, вот она во весь рост:
"П. был убежденным антисемитом, видевшим в так называемом освободительном движении начала XX века еврейскую интригу. Положение в высшей и средней школе в России пользовалось особым вниманием П., посвятившего ему специальные труды... Предметом особой заботы П. также было состояние противопожарного дела на селе... Глубоко верующий человек..."
Кто же этот добродетельный незнакомец? А это, видите ли, Пуришкевич, основоположник Союза русского народа и, кажется, Черной сотни. Как он попал в писатели века? Сочинял, оказывается, какие-то эпиграммы, вел дневник... вообще, так сказать, был не чужд... Впрочем, не важно. Главное - так наладить школьное обучение, чтобы не было мучительно больно.
Чтобы каждый знал:
"убежденный антисемит" звучит нисколько не хуже, чем "глубоко верующий человек";
к словам освободительное движение следует прибавлять: так называемое или, как делают в других статьях словаря, заключать их в кавычки;
а зато "Протоколы сионских мудрецов" полагается уважительно именовать документом (см. статью Нилус) - никаких кавычек! никаких так называемых или пресловутых! наплевать, что подлог доказан! "документ, в котором шла речь о способах скорейшего достижения мирового господства", - и дело с концом; если что, ссылайтесь на издательство "Просвещение", на Пушкинский дом Академии наук, да просто на профессора Скатова;
а лучше всего - регулярно читайте, дети, газету "Завтра": потому что "едва ли не все материалы П. - публициста способствуют восстановлению национального культурного самосознания" (см. статью Проханов)*.
Так что и с Народностью в этом словаре - полный порядок.
Иное дело - грамотность. Мне попался десяток-другой фактических ошибок, с десяток орфографических, и стилистических не меньше сотни, - да какой смысл их разбирать? Во-первых, наверняка я заметил далеко не все, а во-вторых, как-то неловко указывать директору Пушкинского Дома, что, например, не бывает антологической боли, - или что предложение: "... поэт утверждал правомерность людского повиновения природой" - как бы это повежливей выразиться? - нехорошо, - или что стихотворная строка "Ветер обнял тебя. Ветер легкое платье похитил" - отнюдь не восьмистопная, - или что первый сборник братьев Стругацких вышел не в 1984 году, а двумя десятилетиями раньше, - или что Л. Пантелеев умер в 1987, а не через год, а человека, "помешавшего покушению на императора Александра II", звали вовсе не Иван, а Осип....
В-третьих - противно.
Ковчег плывет, развеваются флаги (линялый - КПСС, новенький - Черной сотни), гордо реет желтый вымпел Халтуры, в трюмах - вода, на палубах канканируют какие-то в подрясниках с погонами... На мостике помполит задумчиво смотрит вдаль и скупо улыбается, воображая причал, толпу встречающих, благодарные детские лица.
Март 1999
ПАРТИЯ ТРОМБОНА
(из переписки с Д. В. Ц.)
О ПОДЗЕМНОЙ ПОГОДЕ
Отчего, в самом деле, не попробовать. Пусть это будет вроде как джазовый дуэт: социального меланхолика, например, с политическим. Вам труба или саксофон, я обойдусь тромбоном. А наш печатный орган сойдет за группу ударных.
Сыграем - как повезет. Авось набредем на какую-нибудь классную тему лучше бы классическую - и обовьемся вокруг нее - и, в случае маловероятной удачи, - как суперприз - достанем из наших бедных инструментов звук, похожий на то, чем существуем.
Вы начали, с чего пришлось - с первых минут, с первых недоумений каждого дня. Вас они охватывают на подступах к метро. Ну, а я, увы, нахожусь уже в таком возрасте, что вынужден по утрам включать радио, причем местное, поскольку из всех сообщений мировых агентств самое интересное - о петербургской погоде. А пока его дождешься, столько вытерпишь пошлости и вранья (вот и сейчас, пока я пишу эти слова, - персонаж, именуемый "политолог Владимир Е-ко", не жалея ни пудры, ни лапши, разоблачает врагов Саддама Хусейна. Никогда не забуду, как этот голосок приветствовал возвращение больного Собчака: обозвал "политическим трупом"), - так наешься прокисшей патоки, что на улицу выходишь как бы прямо из победившего и даже перезрелого социализма.
А Вас - о, счастливчик! - реальность радостно принимает позже - у выхода. Верней, у входа в метро.
И то сказать, не зря узник Мавзолея нам намекал: материя - это нечто такое, что отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них. Он имел в виду, несомненно, транспорт, так называемый общественный. Ощущения острые, существование - полностью независимое, материализм - конечно, диалектический. Уверяю Вас, нет ничего материальней, чем небытие троллейбусов, - скажем, на Невском, - когда Вам надо на работу или пора домой.
Стоишь на ветру, под мокрым снегом, в холодной людной тьме - и явственно видишь злорадную ухмылку Того, Кто Составляет Расписание. Представляешь его за компьютером - как он колдует над программой, чтобы дважды в день довести до отчаяния и злобы хоть пару миллионов человек.
Правда, покойный Михаил Светлов утверждал, что дело не в личностях и организация работы транспорта - лишь одно из направлений работы целого министерства. Секретного министерства - и единственного, где нет никакой коррупции: чиновники служат не за страх, а за совесть. Официальное название - Министерство Неудобств. Оно как бы ведает здесь протоколом нашего визита на планету Земля: встречает (ясное дело, по уму), провожает (естественно, по одежке), - ну, и все такое прочее, - местные знают, а посторонние не поверят.
В семидесятые годы, помню, попросили меня знакомые проконсультировать одну американку. Типа того что пишет диссертацию и за помощь заплатит очень прилично. А надо сказать, именно диссертациями я тогда и зарабатывал: кому по филологии, кому по педагогике или там по истории библиотечного дела, неграмотных аспирантов, зато партийных и притом безупречно русских, как раз хватало на ежегодную дачу для детей.
Встретился я с этой дамой из Америки. И оказалось, представьте, что ее тема - "Секс в тоталитарном государстве"! И пишет она сама, собственноручно, - а среди добровольцев проводит (рискуя, что схватят за шпионаж) опрос: где, в каких условиях, при каких обстоятельствах, с какими мыслями... Подумал я, подумал - и понял: ничего не расскажу. Во-первых, все равно не поверит. А во-вторых, совестно - за державу. Пусть это будет на веки вечные наша гостайна - как любят человеческие существа, когда нет жилплощади, но есть закон о прописке.
Теперешняя литература гонит эту тайну на экспорт, как все равно нефть или газ. Пренебрегает установкой Ф. И. Тютчева, председателя Комитета цензуры иностранной:
Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной...
Утонченнейший, между нами говоря, был гурман. Патриотизм тут неслыханно интимный. Но есть и недооценка противника. Очень уж глупым должен быть иностранец, чтобы не догадаться - что такое там сквозит...
Транспорт - дело другое. Транспортные наши свычаи и обычаи - Вы правы, - умом не понять. И лучше бы не пытаться: риск слишком велик.
Один прекрасный писатель года три назад погиб, сбитый машиной на ночном, на пустынном Невском проспекте. Оттого лишь погиб, что сколько-то месяцев прожил в Париже, - а там водитель, завидев, что пешеход ступил на мостовую, - тормозит всегда, непременно и безусловно. К таким вещам привыкать нельзя. С такими вредными привычками у нас долго не живут.
Вот Вы говорите - метро. Нашего человека там спасают рефлексы, отточенные до автоматизма. Иностранцу же, как и положено, грозит карачун. Мы-то знаем, в какой момент принять боксерскую стойку - чтобы не получить по лицу стеклянной дверью, а когда - позу Венеры Милосской, чтобы не понизить рождаемость. (Кстати: это, должно быть, отголосок страшно древнего обряда что до перекладины турникета каждый обязан дотронуться сами знаете чем; пассажир как бы вступает с государством - и со всеми остальными пассажирами - в символический свальный брак.)
Но от двери до турникета нужно еще дойти. Шестнадцатилетний школьник на станции "Дыбенко" совсем недавно - не дошел, помните?
Потому что надзирательница - или как ее там? контролер? - может сказать вам все, что захочет. Потому что милиционер - если вы посмеете огрызнуться, - может с вами сделать совершенно что угодно.
Потому что человеческая жизнь тут не стоит ни копейки - не только, впрочем, в метро или на мостовой. А словосочетание "права человека" содержит в себе смешок, наподобие кудыкиной горы или морковкина заговенья, или дождичка в четверг.
Каждого из нас можно среди бела дня затоптать у всех на глазах - никто не заступится. У нас на глазах можно разорить и рассеять целый народ - мы не пикнем.
У нас бюджет - как у воюющей страны. У нас мужская смертность - как в воюющей стране. И девиз нашей соборной Психеи: умри ты сегодня, а я завтра. Отсюда вытекают и правила дорожного движения.
Но что это мы все о грустном? Я Вас обрадую: говорят, состоялись какие-то большие маневры, и правдолюб из Генштаба, с гоголевской такой фамилией, торжественно объявил, что мы способны преодолеть любую оборону, буквально чью угодно!
И его не посадили в сумасшедший дом!
Так что, дорогой Д. В., когда Вам опять - в метро или на поверхности станет не по себе, утешьте себя этой лучезарной картиной: Эйфелева башня в развалинах. Или Вестминстерское аббатство. А кругом - тела всех этих. Которые думали, что у них есть права. И поэтому не толкались.
Ваш
Март 2001
ПОДВИГ ПОДКОЛЕСИНА
Не согласен с Вами, что подколесинский прыжок из окна - бесчеловечный поступок безвольного человека. Такая трактовка гуманности безмерно широка и сурова. Вы только вообразите перспективу - связать навсегда свою жизнь с первой попавшейся глупенькой старой девой... Да хоть бы и умной. Хоть бы и юной. Приятно полненькой. Но ведь едва знакомы, обменялись десятком слов - и через час под венец! Только потому, что ей очень хочется замуж, и непременно за дворянина? Или только, чтобы угодить Кочкареву, наглому кукловоду? Неужто гуманность непременно требует такой поспешности - неприличной и даже совершенно невозможной (потому что, уверяю Вас, в здешней столице в 1825 году ни один священник не решился бы пренебречь разными предварительными формальностями - ведь он тотчас лишился бы места; я даже предполагаю, что все это - розыгрыш: и жених, и невеста, и гости явились бы в церковь понапрасну; все налгал Кочкарев, утоляя зуд беспредметного демонизма)?
А наш Иван Кузьмич принимает институт брака всерьез:
"На всю жизнь, на весь век, как бы то ни было, связать себя и уж после ни отговорки, ни раскаянья, ничего, - все кончено, все сделано..."
И заметьте, насколько он выше житейского расчета. Ведь партия выгодная: двухэтажный каменный дом в Московской части да еще огород на Выборгской стороне - даже и при жалованье надворного советника недурное подспорье. Заложить этот дом, приобрести именьице где-нибудь в Черноземной полосе - и можно еще лет тридцать пять наслаждаться крепостным правом, не заботясь о качестве сапожной ваксы.
Но Подколесин выбирает свободу. В этом смысле "Женитьба" - пьеса о настоящем человеке. Бескорыстный и непреклонный герой рискует позвоночником ради права избирать, а не только быть избранным. Другое дело, что в какой-то момент пасует перед злорадным Кочкаревым, не успевает его перебить, оборвать. (А кто бы сумел? С этими кочкаревыми знаете как трудно.) Зато находит силы пренебречь архаичными предрассудками типа - давши слово, женись, или, по пословице: и не рад гусь в свадьбу, да за крылья тащат.
Кстати, о m-lle Купердягиной не беспокойтесь. Гоголь все предусмотрел: к вечеру, имея при себе злодейски чувствительные стишки, явится Балтазар Балтазарович Жевакин, отставной флота лейтенант, петушья нога, - и принят будет прекрасно, - и дети Агафьи Тихоновны все-таки будут дворяне, а кто-нибудь из правнуков - как знать? - может быть, даже сочинит гимн партии большевиков.
А Подколесин - птица не домашняя, вольнолюбивый сыч.
Вот и выпал из пошлого порядка вещей - из принудительного севооборота: как в глубине души - Обломов, как в теории - Лев Толстой, как в стихах Лермонтов. Кстати: Лермонтов обошелся с некоей Сушковой ничуть не лучше, и даже коварней, чем Иван Кузьмич с Агафьей Тихоновной. И нельзя исключить, что его-то и вывел Гоголь в Подколесине (как Пушкина - в Хлестакове), - не то чтобы нарочно, а просто слишком хорошо знал наш внутренний город и как устроено там освещение.
... А в остальном, дорогой Д. В., я разделяю Вашу грусть и тоже согласен с Чеховым-Набоковым-Булгаковым, что все должно быть прекрасно белье и мысли, а для этого надо по капле выдавить из себя советского человека, и лет через пятьсот это с нами обязательно случится. И я тоже не люблю, когда окурками тычут в цветочные горшки.
Подозреваю, однако, что не преизбыток рефлексии нас губит, а просто-напросто сбылось предчувствие Михаила Евграфовича (опять я о литературе!) - совесть в России умерла. Ведь у нее столько врагов: страх, алкоголь, комплекс неполноценности, ложь коллективных так называемых чувств... Вот и не осталось взрослых - по крайней мере, взрослых мужчин, а сплошь невменяемые подростки.
Впрочем, остаются два оправдания, они же и подают надежду: история наша ужасна, культура - молода. Я тут, представьте, Фейхтвангера перечитал "Семью Опперман". Тридцать третий год и все такое. Добровольные народные дружины охотятся за евреями.
"Повсюду стоят, расставив ноги в высоких сапогах, ландскнехты и, разинув глупые рты, орут хором:
"Пока не околеют все жиды, ни хлеба, ни работы ты не жди""...
Мне, собственно, хотелось посмотреть, не сказано ли в этой книжке, чем глушили свою совесть порядочные немцы. Ведь в тогдашней Германии проживали 65 миллионов человек, и теперь я не думаю, что все они, кроме подпольщиков и эмигрантов, были негодяи. А в детстве, конечно, думал: ведь явно врут все как один, что не знали про концлагеря.
Ничего нового у Фейхтвангера не нашлось. Ну, знали. Но не из газет. А верили - газетам. А от фактов спасались так называемыми взвешенными суждениями. Кроме того, знать - было смертельно опасно, думать не как все страшно. Жизнь и так тяжела.
"А народ был хорош. Он дал миру великих людей и творил великие дела. Его составляли сильные, трудолюбивые, способные люди. Но их культура была молода. Оказалось нетрудно злоупотребить их поверхностным, безотчетным идеализмом, развить атавистические инстинкты, пещерные страсти - и тонкая оболочка культуры прорвалась. А отсюда то, что случилось".
Признаюсь, как-то странно теперь читать про зверства нацистов в тридцать третьем: евреев бьют резиновыми дубинками, стальными хлыстами. Убивают не насилуя, о снятых скальпах, отрезанных ушах ничего не слышно. В общем, порядочному человеку не так уж трудно уверить себя, что лично у него есть проблемы поважней.
А тут - открываешь буквально первую попавшуюся газету, верней последнюю, а там про двоих арестованных (наверное, правильней - задержанных) юношей, оба не боевики, это точно, - а хоть бы и боевики:
"У Рамзана Ресханова перерезано горло, переломаны конечности, синие следы на коже за ушами, видно, что его пытали током... Глаза у Рустама, старшего, выколоты, нос отрезан, руки перевязаны проволокой, на сжатом кулаке выжжено "W" (дабл ю). Эта английская буква - символ шамановской бригады. Ноги у обоих братьев связаны веревками. Сухожилия под коленями перерезаны ножом..."
Что поделаешь - культура у нас такая молодая.
Март 2001
В СТИЛЕ COUNTRY
Влачится на огромных костылях парализованный Фонвизин; обильно плюет на университетский порог, восклицая:
- Смотрите, смотрите на меня, молодые люди: вот до чего доводит русская литература!
Такую статую, хотя бы восковую (но как вылепить плевок? а фразу?), поставил бы я у дверей факультета, филологического.
По коридору же факультета журналистики должен от звонка до звонка расхаживать Некрасов и сипло декламировать:
И погромче нас были витии,
Да не сделали пользы пером.
Дураков не убавим в России,
А на умных тоску наведем.
Этот шепот - естественно, и робкое дыханье - пусть напоминают любому клоуну, что он не укротитель.
А то ведь и до сих пор в ходу иллюзия, что умные, как только получат необходимую информацию (в просторечии - правду), - все сделают как надо. (На так называемых дураков, конечно, никто всерьез не надеется, - но ведь их всего-то, говорят, процентов 38 от силы.)
Я и сам большую часть жизни в это верил. И пресловутую эту правду контрабандный товар, дефицитный, - необыкновенно высоко ценил.
Теперь она в свободной продаже. И хотя некоторые требуют: еще! еще! без правды что за жизнь! - это просто баловство, да и притворство. Всем все известно, не осталось никаких тайн: и кому на Руси жить хорошо, и где лучше - в Чернокозово или в Гааге, и даже - что будет с НТВ.
Умные все понимают не хуже дураков. Отсюда правило: хорошего пива должно быть много.
Оказалось, это вроде как разные сорта жевательной резинки - правда и ложь. Многие предпочитают правду: освежает дыхание; при непрерывном употреблении сообщает лицу выражение невозмутимой задумчивости.
Отсюда правило: лучше жевать, чем говорить.
Как вовремя мы с Вами, дорогой Д. В., впали в безобидную фольклористику: Вы мне пословицу, я в ответ - поговорку. О, драгоценные осколки культуры смердов!
Кстати: задумывались ли Вы над этим поразительным фактом - что свободный земледелец в Древней Руси назывался смерд? Слово изначально зловонное, впоследствии почти бранное. Древняя поговорка (еще одна!): смерд не человек, мужик не зверь. Так предрешил язык почти тысячу лет назад судьбу фермеров.
Но я - о словосочетаниях. Самое употребительное из них меня особенно занимает.
Ведь нельзя же почитать случайностью, что из двухсот с чем-то тысяч слов именно эти три образовали главное русское предложение, известное всем и пригодное во всех случаях жизни.
Архаическое заклинание - предположим, и даже наверное так. Филология веников не вяжет. Мне, правда, толковал один историк, что не заклинание никакое, а вроде как справка - наиболее совестливые из победителей якобы выдавали такие бирки случайным детям: ты, дескать, не просто смерд, а потомок гордого татаро-монгола. Но историк, подозреваю, шутил (лекцию свою читал он в бане). Хотя действительно что-то странное в интонационном строе какой-то он неживой, телеграфный.
Убедительней догадка Максима Горького (если не путаю): что это формула миротворства. Доисторический охотник, столкнувшись в тайге с молодым и сильным незнакомцем, издали кричал ему: не тронь меня, не совершай этой ужасной ошибки: что, если я в свое время пользовался расположением твоей дражайшей родительницы, и ты - плод взаимной страсти, поразившей нас как молния? Имей в виду - не будет тебе удачи, если ты съешь наиболее вероятного отца!
Допускаю, что подобным же образом иные пытались обезоружить и саблезубого какого-нибудь тигра.
Как знать: если бы у древних греков существовал подобный инструмент сдерживания - Эдип не убил бы Лая. Чем валить все на Рок, лучше бы позаботились о словарном запасе.
Наш язык так велик и могуч, что не обязан быть правдивым и свободным. В обсуждаемом заклинании содержится все. Оно так и пышет самодержавием и народностью. Тут Вам и Фрейд, и Энгельс (происхождение семьи, частной собственности и государства), и наш ответ Чемберлену и турецкому султану. Типа того, что да будет вам, господа, известно, что вы происходите от особы настолько беспринципной в быту, что она даже такими, как мы, не гнушалась.
Эта магическая трехчленка - щит и меч россиянина в битве жизни. Поэтому гром ударов нас не пугает. Если, конечно, кого-нибудь другого бьют еще больней.
Положим, и то верно, что, как Вы пишете, сердца ожесточились. Помню, как в прошедшем столетии, узнав из телепередачи "600 секунд", что семеро военнослужащих где-то под Ленинградом изнасиловали козу и съели, общественность козе горячо сострадала. Знакомый академик негодовал: не могли уговорить парнокопытное по-хорошему!
А теперь вот сообщают: опять-таки под Петербургом в казарме лейтенант застрелил солдата. И сразу же - интервью с какими-то военачальниками. Один говорит: обидно будет, если эта шалость погубит многообещающего офицера. Другой: главное - нельзя допустить, чтобы младший брат убитого уклонился от призыва, и мы уже предупредили военкомат...
В таких обстоятельствах - и тут Вы опять правы - только большой артист может рассчитывать на успех в роли городского нищего. При виде попрошайки кошелек завывает, как Станиславский: - не верю! Но это, разумеется, самообман: именно реализм наскучил - типические характеры в типических обстоятельствах. Растрогать нас по-настоящему, довести до катарсиса в денежном выражении способна лишь романтическая история. Типа: подайте бывшему инструктору обкома. С каким наслаждением я достал бы предпоследний рубль - поощрить выдумку! Но таких фантазеров нет.
Поэтому на жалость нас не возьмешь. Мы уступаем только назойливым.
Это, наверное, оттого, что в глубине души мы с Вами государственники. Требовательная стратегия нищеты наглой так похожа на внешнюю политику! Богатый нищий жрет мороженое за килограммом килограмм - помните такие стихи?
Зато с каким бесподобным хладнокровием начальники говорят: Бог подаст!
Во дворе дома, где я живу, детская песочница вот уже год стоит пустая. Малыши разгребают лопатками отходы жизнедеятельности различных крупных организмов. На песок, - сказала техник-смотритель, или как там называются эти важные дамы, - на песок нет денег! И в администрации муниципального округа (латунная вывеска, евроремонт, компьютеры)... Стоит ли продолжать? Просто примем как факт, что много-много раз и в головокружительных позах преподобная их мамаша по прозвищу Советская Власть дарила мне свою любовь.
Песку, главное, негде украсть: ничего поблизости не строят.
Апрель 2001
ИДИЛЛИЯ КАПУСТНИЦ
Кто бы спорил. Разумеется, Н. И. Щедрин (он же М. Е. Салтыков) и ныне, и, боюсь, присно - живее всех живых. Но это - стратегическая тайна. Он сделал для России больше, чем его тезка Макиавелли - для Запада. Он, с позволения сказать, расшифровал геном имперской государственности. И поэтому был любимый автор Ленина и Сталина.
В каждом его абзаце запечатлен вечный синтаксис абсурдной переклички обывателя с администрацией. Он воздвиг обывателю нерукотворный монумент: раб и палач в некоем па-де-де, наподобие Рабочего с Колхозницей, вращаются на оси, похожей на земную (она же - вертикаль власти).
Сталин так его любил, что даже ревновал - по-своему, параноидально: филологов-щедринистов пачками отправлял в лагеря; сын Салтыкова почему-то не эмигрировал (невнимательно, полагаю, папашу читал), - загнобил и сынка...
Иностранцы не читали Щедрина и никогда не прочтут; отсюда множество недоразумений - для нас по большей части выгодных. Пускай считают Россию страной Толстого и Достоевского: графиня изменившимся лицом бежит к пруду за ней рыдающий студент с топором.
Будь я, к примеру, директором ЦРУ - ни одного агента не тарифицировал бы, пока не сдаст специальный экзамен по "Истории одного города" и "Современной идиллии" хотя бы. Но в качестве патриота радуюсь, что такая затея неосуществима: слишком русский ум, слишком русский язык.
Однако на дворе тысячелетие уж третье. Кое-что изменилось неузнаваемо, и не оттого, что много времени прошло, а оттого, что слишком много людей убито. И хотя в нынешней России в троллейбус нельзя войти, не толкнув какого-нибудь столбового дворянина или чистопородного казака, - ГБ трудилась все-таки не зря: состав труппы обновлен значительно. Новые роли, другие амплуа, - и только язык отстает от исторической драматургии. Вот и слова "предприниматель", "собственник", "финансист" значат не совсем то, что у Салтыкова-Щедрина. (Хотя и тут бывали у него гениальные прозрения: например, он употреблял "коммунизм" как подцензурный синоним казнокрадства.)
Выступает, скажем, в разгаре трагифарса про НТВ - вроде как пресс-конференцию дает - г-н К-в. Он в "Газпроме", видите ли, очень крупная фигура, покруче самого г-на Коха. И держится индифферентно, превыше всяких там истерических глупостей про свободу слова. Вальяжный такой финансовый воротила; миллионер, не миллионер, но явно владелец заводов, газет, пароходов; рядом с ним Билл Гейтс потянет в лучшем случае на доцента. Что говорит - неважно, да и ясно, что он говорит.
Но читаю я на следующий день "Московские новости" - и что же узнаю? Оказывается, этот кашалот капитализма - бывший завотделом Черемушкинского райкома КПСС! Редактор журнала "Химия и жизнь" вспоминает, как в 1981 году К-в вызвал его на ковер и прорабатывал: дескать, недопустимо много еврейских фамилий в журнале, - и фамилии перечислял.
Это в сторону. Меня не особенно волнует, был ли товарищ К-в юдоедом, остался ли таковым господин К-в.
(Кстати: одному из пофамильно названных до такой степени остопротивело внимание Черемушкинского райкома, что в конце концов он убыл с подведомственной территории. Это писатель Борис Хазанов, автор классической повести "Час короля". Классической в том смысле, что прочесть ее в ранней юности - большая удача: вроде прививки от неблагородного образа мыслей. Писатель, стало быть, остался без родины, а партработник распоряжается богатствами недр.)
Но вот как по-вашему, его следует полагать "собственником"? Или все-таки государственником - как некоторые бабочки зовутся капустницами за то, что в бытность гусеницами питались соответственно?
Правда, я не очень-то разбираюсь в нынешней номенклатуре. Допускаю, что председатель совета директоров - что-то вроде старшего приказчика: оклад, премия, тринадцатая зарплата - и все. А владеют половиной, что ли, национальных богатств (надо думать, пожертвовав личными трудовыми сбережениями) какие-то совсем другие титаны Драйзера. Однако же и г-н К-в порхает над кочанами с таким видом, точно среди них родился. Но как бы там ни было, буржуй эпохи Отстоя - вряд ли щедринский персонаж.
В Н-ском обкоме правящей партии была такая должность: завсектором худлита. В начале восьмидесятых занимал ее некий П-в. Местная литература дышала тогда свободой как-то не лихорадочно. Все же он старался. Бывало, вычеркнет красными чернилами из Горбовского строфу, из Конецкого абзац - и главного редактора к себе приглашает: полюбуйтесь, дескать; мой знакомый главный редактор очень страдал от этих собеседований. Потому что П-в никогда не объяснял, чем абзац или строфа потрясает основы советского строя; надо было самому придумать себе вину, а уж потом оправдываться. П-в был строг, неулыбчив. Впрочем, однажды публично разрешился отменной шуткой, - но не умышленно, полагаю, а по невинности: на съезде писателей, - сказал он, - шел разговор по большому, по мюнхенскому счету... Последний раз я любовался им, когда уже решено было - и разрешено (из Москвы) - печатать в "Неве" роман Дудинцева "Белые одежды". П-в был раздражен. Пообещал, что мы еще убедимся: 37-й год - не самая черная страница истории. (Роман Дудинцева, между прочим, - о 49-м.) Не знаю, что это было - угроза? пророчество?
Теперь, говорят, и он - член Совета директоров какого-то банка.
Каюсь, я действительно воображал при так называемой советской власти, что нами правят невежды и тупицы. Что они сами переваривают, бедняги, лапшу, которую затем вешают мне известно куда. Но как же я ошибался! Они были гораздо умней таких, как я. В мавзолее они видели весь этот якобы социализм. И так уютно присосались к новой экономике, точно весь век ничем другим и не занимались, кроме как пили кровь трудящихся.
Подозреваю, впрочем, что этот бал бабочек - бал-маскарад, и крылья марлевые. Тут не Салтыков, тут опять Шварц:
"Новая голова появляется у Дракона на плечах. Старая исчезает бесследно. Серьезный, сдержанный, высоколобый, узколицый, седеющий блондин стоит перед Ланцелотом".
Где-то теперь Ланцелот?
Как раз на прошлой неделе человек, по праву считавшийся победителем Дракона, объявил - писатель! герой! - что свобода слова - не главное, а главное - поскорей восстановить смертную казнь... И в непреклонном тенорке я, не веря себе, узнаю рев того же "огромного, древнего, злобного чудовища" - непобедимого, наверное.
Май 2001
МИФОЛОГИЯ РАЗБИТОГО ЯЙЦА
Сюжет нашей переписки становится предсказуем: Вы - упорно про Фому, я столь же неукротимо, про Ерёму.
Между прочим, я думаю, что это лица исторические. Воображается какое-нибудь такое городище - предположим, в окрестностях Старой Ладоги, обнесенное земляным валом. Век, например, двенадцатый. Экономика - продают варягам пушнину и клюкву. Политический строй - конечно же, демократия. Партий - две: по числу, скажем, улиц. Продольных возглавляет, как Вы уже догадались, народный трибун Фома, поперечных, соответственно, Ерёма. (Или наоборот.) В нерабочее время на перекрестке то и дело вспыхивают стихийные митинги. Совершенно как в шекспировской Вероне. - Про Монтекки! - горланят одни. - А мы про Капулетти, так вас и так! - вопят поперечные. И кто-нибудь уже бежит с багром.
По-видимому, тогда же и там же прославился выдающийся путешественник Макар. Известно, что в дальних экспедициях он гнал перед собою стадо телят надо полагать, всю дорогу питаясь ими, - что и позволило добиться непревзойденных результатов: местность, по которой не ступала нога ни единого из Макаровых телят, считалась находящейся как бы за ойкуменой. Но рогатый скот был дорог, исследователь разорился; в некоторых текстах он предстает - очевидно, на склоне лет, - существом забитым и безответным.
Его современник Яков более или менее успешно практиковал как прорицатель, расхаживая по обеим улицам с говорящей сорокой на плече. Не исключено, что он пробрался в Гардарику из Хазарского какого-нибудь каганата и приходился родственником богачу и гастроному, о котором у Даля сказано: дядя Мосей любит рыбку без костей.
Да-с, все они жили-были, все и остались в народной памяти как живые: какой-нибудь Роман - кожаный карман (должно быть, фарцовщик, вообще криминальный тип; ошивался, наверное, на берегу, высматривая ганзейские корабли; сам, возможно, прибыл из Византии; о нем у того же Даля: "Нет воров супротив Романов, нет пьяниц супротив Иванов"); абсолютно ясен моральный облик Степаниды ("Степанидушка все хвостом подметет"); мистический ужас пополам с восхищением окружает фигуру Сидора - зоофила и козодоя.
По-моему, гипотеза не хуже никакой другой. Только что своими глазами читал в научном-пренаучном журнале мифологическую интерпретацию сказки о Курочке Рябе: Дед и Баба - древние демиургические божества, золотое яичко созданный ими космос, а Мышка, ежу понятно, воплощает мировое зло, деструктивное начало, и жест хвостиком предвещает гибель нашей Галактики от кометы.
Кстати, о яйце: вот и в России появился политзаключенный, к тому же писатель. Непобедимым органам удалось отчаянной контртеррористической операцией обезвредить самого Эдуарда Лимонова - главаря национал-большевиков. Эта партия, насчитывающая не менее дюжины членов и сочувствующих, готовила вооруженное восстание, - сказали по телевизору. Верю и не удивляюсь: отчаянные поступки этих нацболов (не путать с нацменами) обличают в них людей, способных на все.
Вплоть до того, что на пресс-конференции знаменитого кинорежиссера (помните - который с таким неизъяснимым благородством играет официантов?) один юный нацбол саданул ему яйцом по пиджаку. Яйцо, надо полагать, было простое - зато пиджак золотой. Во всяком случае, когда нигилиста повязали, режиссер его перевоспитывал, не жалея обуви, хотя тоже импортная, небось.
Теперь вот перевоспитывают вождя этих злодеев; верней, нас с Вами: а то мы как-то отвыкли рифмовать писателя с тюрьмой. В сущности, ничего особенного. Подумаешь, цаца - книжки пишет; уж и наручников на него не надень. У нас диктатура закона: арестовать можно каждого, а кто арестован, тот и виноват.
Кстати о лимонах: восхищаюсь этим роскошным администратором - г-ном Б-ным! Если только женевские очкарики не напутали с номерами счетов, он-то и есть герой нашего времени. Железная воля нужна, чтобы накопить столь знатную сумму! Может быть, для нового какого-нибудь русского двадцать пять зеленых лимонов - мелочь. И в нашей с Вами профессии, говорят, это не предел Но он-то, бедняга, - бюджетник! Так сказать, не Чичиков, а Башмачкин. Какая бы ни была зарплата и даже на всем готовом - скука, согласитесь, титаническая: отказывая себе в самых ничтожных радостях, откладывать по грошику... Трезвость как норма жизни и все такое. Книжку не купить, не говоря о велосипеде. Образцовая выдержка. Вот чью биографию надо в школах преподавать, на обложках тетрадей печатать. Лучше в стихах, и припев предлагаю - из "Дяди Степы", кажется: Жив, здоров и невредим Друг бюджета Б-н!
Видите, я все-таки опять свернул к теме Ерёмы, хотя он мне и самому порядком надоел. Ваш-то Фома такой кроткий, такой вдумчивый; знай себе вглядывается в психологическую инфраструктуру. А Ерёма все вопрошает неизвестно кого: как это получается, что почти каждый почти все понимает - а все вместе живем, как безумные?
Один мой знакомый работал экскурсоводом на Пискаревском кладбище. Давно, в семидесятые годы. И вот в один прекрасный - точней, в ужасный для него день подводит он очередную группу к Вечному огню и вдруг - не знаю, что ему померещилось - просто переутомился, скорей всего, - в общем, вдруг он скомандовал громким голосом: - На колени! - Экскурсанты послушно стали на колени. Он поглядел на них минуту-другую, махнул рукою - и ушел. К вечеру его, конечно, нашли, отвезли в психическую. Не знаю, что потом с ним сделалось.
Припомнилась эта история, нелепая и безобразная, пока Виктор Шендерович пересказывал по радио самый поучительный прикол в программе "Итого" покойного НТВ. Я и сам видел эту передачу, но там "специфический репортаж" занял несколько минут. А опыт, оказывается, продолжался чуть не целый день. Артист, обряженный в милицейскую форму, разгуливал по Арбату, останавливая прохожих и требуя предъявить документы и штрих-код. Дескать, от столичных властей вышло такое распоряжение: у каждого зарегистрированного жителя должен быть на руке штрихкод. Он так ходил часами, остановил десятки людей; они выдумывали разные причины, самые драматичные: почему не успели поставить штрих-код; оправдывались, просили снисхождения, предлагали деньги; ни один не посмел не то что возмутиться - удивиться. Никто не заподозрил подвоха.
Имея дело с такой беспредельной невинностью, как начальству не разыграться?
И я говорю своему Ерёме: смирись, глупый человек! Все это политика, а политика теперь, и снова надолго, - не наше дело. Как это Устинька объявляет в пьесе Островского: "Вот два самые благородные разговора, один: что лучше мужчина или женщина?.. А другой разговор еще антиресней. Что тяжеле: ждать и не дождаться, или иметь и потерять!" И г-жа Бальзаминова подтверждает: "Это самый приятный для общества разговор".
Май 2001
ПОШЛОСТЬ КАК СУДЬБА
О - да: Смерть и Пошлость друг дружке не чужие: стоит Смерти мелькнуть на горизонте легчайшим облачком - и тотчас эта липкая невесомая паутина наливается током, звенит, искрит. Только что мы, бедные, так безмятежно в ней жужжали - вдруг жаркий озноб ужаса
И мир повернется
Другой стороной,
И в сердце вопьется
Червяк гробовой.
Очень узнаваемое переживание. Но зато, дорогой Д. В., Вам посчастливилось внести в антологию всемирной пошлости вполне новый, к тому же весьма выпуклый сюжет. Примите мои поздравления: вообразить вдову на церемонии ввода в эксплуатацию чучела покойного супруга - Щедрин, и тот затруднился бы, а Вам такая роскошная мизансцена досталась, почитай, даром. А можно было и поседеть в одночасье - не случайно же Вы избавили читателя от подробностей: обошлось ли, например, без молебна с водосвятием? исполнялся ли какой-нибудь гимн? насколько задушевны были речи? неужели никто не сказал чего-нибудь вроде: стой спокойно, дорогой товарищ? хорош ли был фуршет вокруг муляжа... Вы правы, конечно: лучше ничего этого не знать.
Возвратимся к теории. Так вот, я подозреваю, что Пошлость - как бы общая дочь Глупости и Смерти. Без метафор - ответ Глупости на вызов Смерти: на предчувствие, что смысла не дано. Глуша страх смерти, Глупость впадает в особенную эстетику - косметическую, нарочито не различающую мертвого и живого. Такое метафизическое легкомыслие подразумевает соответствующую реальность - сплошь из физических тел и притом прозрачную - как у Набокова в "Приглашении на казнь". Тело играет так называемую душу. Тело легко отнять, так называемую душу - подделать. Чужая смерть - интересный фокус. Жизнь любовь к чужой смерти. Жить - значит казаться живым. Существование в роли человека сводится к имитации человечности. Скотское или механическое под жирным слоем грима - главным образом словесного, из лжи обыкновенной, косит под нравственный императив. Пародия нагло притворяется оригиналом, похоть - любовью и так далее. Обрывки этой фальшивой, но крайне активной реальности мы опознаем как пошлость.
То есть не мы, а русская литература от Гоголя до Набокова, это ее всемирно-историческая заслуга. Пошлость возникла вместе с цивилизацией - с нею и погибнет, - а слово для нее нашлось лишь в последней рабовладельческой империи. Да и то не нашлось, - а человек из провинции, последний гений христианства это слово сочинил.
Вы припомнили, как Набоков бился втемяшить его иностранцам. Затея и впрямь вполне тщетная, придется им рано или поздно включить poshlost' в свои наречия, как sputnik, glasnost' и KGB. Но ведь и в России это понятие не отчетливо. Многие путают пошлость с ее бедными родственницами непристойностью, вульгарностью, банальностью, тривиальностью, скабрезностью, сальностью.
История слова не предвещает его судьбы. Когда Иван IV ("прозванный за свою жестокость Васильевичем") в письме к Елизавете Английской честит ее "как есть пошлой девицей" - за то, что она обсуждает вопросы международной политики с представителями мелкого бизнеса (с "торговыми мужиками" в парламенте), - он намекает, надо полагать, не на легкое поведение, а на чрезмерный демократизм. Когда Тредиаковский в качестве школьного инспектора рапортует об экзамене в Новгородской семинарии: "здешние семинаристы имеют пошлые познания в латинском языке", - он просто-напросто констатирует, что уровень преподавания удовлетворительный. Когда на сельской дискотеке Онегин нашептывает Ольге Лариной "какой-то пошлый мадригал", - речь не о гадостях, а всего лишь о трюизме, об избитом комплименте, какие говорят все, от Данзаса до Дантеса: что-нибудь из раннего Пушкина, вроде "и говорю ей: как Вы милы, и мыслю: как тебя люблю"... И даже у Даля, то есть много после Гоголя, пошлый значит прежде всего стародавний, исконный; или еще: "А ездоки тут ездят не пошлою дорогою, не торною, а заезжают поля"; впрочем, ныне, замечает Даль, есть и другие смыслы, как-то: надокучивший, почитаемый подлым, площадным, и пр.
В советских словарях - без затей: пошлый - это низкий в нравственном отношении, безвкусно-грубый; ну, а пошлость, само собой - свойство по значению прилагательного.
Но вот у Гоголя в "Мертвых душах" две дамочки трещат о тряпках: какой ситчик милей, не слишком ли пестро; или какой-нибудь Иван Никифорович, миргородский дворянин, проводит время у самовара, голый, в пруду. Или, допустим, острят за обедом в рассказе Чехова. Или мы с Вами ввинчиваемся в переполненный троллейбус - либо наша очередь подходит к билетной, скажем, кассе, а она вот-вот закроется. Ничего такого нравственно-низкого, и грубо-безвкусное часто ни при чем, а ужас (если кто его чувствует) - ужас только в том, что во всех подобных случаях (а жизнь, можно сказать, из них и состоит) мы не являемся существами с бессмертной личной душой - строго говоря, не являемся людьми. Пошлость - наша нечеловеческая сущность и участь. (Как будто Спаситель приходил не к нам, - негодовал Николай Васильевич, - не к нам, не за нами!) Каждый из нас - наверное, даже Вы бесконечная дробь, а пошлость - наш общий знаменатель.
Но это пошлость в страдательном залоге, почти что кроткая. Дайте-ка ей свободу воли: тотчас изобретет пытку, казнь, рабовладение, полицейское государство (а в героической фазе - революцию и войну, хотя бы гражданскую). Сейчас выставлены, говорят, в Петропавловской крепости пыточные устройства: кто же их автор, как не мастер пошлости? (А Николай Васильевич сказал бы черт).
Вспомните Рим цезарей: сплошной Миргород, буднично-кровожадный. Зощенко в "Голубой книге" закрыл, так сказать, эту тему, но все равно - какой-нибудь Светоний приводит картинки поярче даже Вашей. Он только термина не знал. Вот, пожалуйста, - про Калигулу:
"Многих граждан из первых сословий он, заклеймив раскаленным железом, сослал на рудничные или дорожные работы, или бросил диким зверям, или самих, как зверей, посадил на четвереньки в клетках, или перепилил пополам пилой, и не за тяжкие провинности, а часто лишь за то, что они плохо отозвались о его зрелищах или никогда не клялись его гением. Отцов он заставлял присутствовать при казни сыновей; за одним из них он послал носилки, когда тот попробовал уклониться по нездоровью; другого он тотчас после зрелища казни пригласил к столу и всяческими любезностями принуждал шутить и веселиться..."
Рим и сгубила пошлость - и гуси не спасли.
Первый прорыв Пошлости в нашу эру пересказан в Евангелиях: как тюремный спецназ глумился над осужденным Иисусом: играли с Ним, как с куклой, отрабатывали, гогоча, на Нем болевые приемы, спорили при Нем о Его одежде: кому достанется (послать в аппенинскую глубинку, дочуркам на юбки)...
Кстати: слышали о последних показаниях полковника Буданова? Знаете, почему он велел солдатам тайно и немедленно закопать в лесу задушенную им девушку? Представьте - из уважения к чеченским обычаям. А изнасиловали, дескать, ее мертвую, эти самые солдаты; по какому обычаю - неизвестно.
Июль 2001
ЧТО-ТО О ВАВИЛОНЕ
Сбылся, значит, этот навязчивый многосерийный кошмар старой русской литературы: обрушился - правда, не в Лондоне, - хрустальный дворец, символ прогресса. Чернышевский, Достоевский, Тургенев разное писали о чувствах, пробуждаемых всемирной лондонской промышленной выставкой в просвещенном человеке из отсталой страны. Полней всего, хоть и превратным образом, оправдалась злостная тревога Достоевского:
"Все это так торжественно, победно и гордо, что вам начинает дух теснить. Вы смотрите на эти сотни тысяч, на эти миллионы людей, покорно текущих сюда со всего земного шара, - людей, пришедших с одною мыслью, тихо, упорно и молча толпящихся в этом колоссальном дворце, и вы чувствуете, что тут что-то окончательное совершилось и закончилось. Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса, в очию совершающееся..."
Сбылось, сбылось.
Главное, никто и не спрашивает - за что? или - зачем? Тем более никого не царапает проржавелый примитивный крючок -cui bono? Может, и никому не выгодно. Если вдуматься - точно никому. А довольны миллионы. Словно бы случилось долгожданно-неизбежное, типа - доигрались! Не все коту масленица. Что посеешь, то и пожнешь. Впрочем, для приличия полагается добавить: людей, конечно, жаль, - но пусть пеняют на свое правительство.
Точку зрения советских людей всего мира емко выразил Саддам Хусейн: теперь, дескать, - узнав, почем фунт лиха, и хлебнув горячего до слез, Америка научится, наконец, вести себя скромней. В частности - перестанет вмешиваться в чужие дела.
То за кувейтцев каких-то вступается, то за евреев, то за албанцев. И повсюду и всегда - за всевозможных Буковских, Сахаровых, Солженицыных...
И ставит, и ставит им градусники непрошеный айболит.
Не понимает, на какой планете живет. Принимает собственные идеалы за общечеловеческие: как будто в глубине души каждый землянин - американец.
А человечеству как раз на идеалы эти - наплевать. И Америку человечество не любит. Любит американские доллары. Американскую технику. Американскую музыку. Американские фильмы. А Соединенным Штатам люто завидует и винит эту страну в своих несчастьях.
Опять-таки миллионы людей, что ни год, перебираются туда (многие рискуя жизнью). А другие миллионы по всему свету мучительно мечтают о тамошних колледжах для своих детей, о тамошних клиниках и лекарствах для своих стариков. Но кому ничего подобного не светит - остается ненависть, как утешение на всю жизнь.
О, как нас лечат ею бармалеи! Любой мой ровесник сейчас же вспомнит: в каменных джунглях желтого дьявола заправилы ку-клукс-клана мучают негров и безработных трудящихся, и тут же акулы чистогана под музыку толстых пляшут похабный уоллстрит.
В детстве - классе так во втором - особенно поражало меня, что в Америке любое полезное изобретение сразу же кладут почему-то под сукно. И что сжигают апельсины, горы апельсинов: чтобы не подешевели, не достались бедным. Это кем же надо быть, чтобы апельсины жечь, да еще в керосине?
Керосиновый запах был реальней, чем апельсиновый вкус. Поэтому американские поджигатели войны отравили наш картофель: напустили на наши мирные поля колорадских жуков, - и были про это стихи - по-моему, Сергея Михалкова, и полагалось их знать наизусть, все равно как "нас вырастил Сталин на верность народу".
И так далее почти всю мою жизнь - с того дня (в августе сорок пятого, полагаю), как Сталин понял, что Америка не отдаст ему Западную Европу, и до тех пор, пока (где-то в восемьдесят пятом) Горбачеву не растолковали: в Третьей мировой не победить, - все эти годы ежедневно школа и университет, радио и газеты изображали мне США в виде ада, где правят бал вампиры и демоны, - и в сговоре с израильской военщиной американские империалисты сталкивают весь мир в термоядерную смерть.
И какой-то героический толстяк в знак протеста голодает в палатке у Белого Дома - перед советской телекамерой, - и какой-то длинный прибыл в Москву - рассказать по телевизору, что в Америке жить негде, - но прежде всего - свободу Анджеле Дэвис, отпустите хрупкую Анджелу Дэвис, прекратите судебную комедию, расистские палачи!
Нам ли презирать злосчастных злодеев 11 сентября? Наверняка они прошли такую же обработку.
Нам ли осуждать "нецивилизованное человечество" за злорадный восторг? В записках генерала Лебедя рассказано про этот ни с чем не сравнимый звук, когда целый город (если не ошибаюсь - Баку) просыпается от счастливой новости; во всех окнах горит свет, и заводят музыку, и десятки тысяч советских людей вопят, ликуя: потому что в Армении десятки тысяч других советских людей мгновенно провалились под землю.
Нам ли учить Америку, как ловить бармалеев и что с ними делать, поймав? Они ведь из нашего питомника, в вами выкованной броне; она крепка, и танки наши быстры.
А все же я осмелюсь высказать мрачное предчувствие и несбыточную надежду.
Боюсь, Америка даст себя втянуть в известную уголовную игру: один стоит спиной к остальным, а те тычут его кулаками; он обязан угадать, чей удар. Но если никто не признаётся - это продолжается без конца; зрители, перемигиваясь, ждут: вот сейчас фраерок поймет, что тут совсем не игра, и бросится на толпу; а толпа - на него; и если он отобьется - бойкот ему, как нарушителю правил, и вечная война.
У нас, в 167-й мужской школе, эта забава была в большом ходу; лучшее в мире образование, сами знаете.
И вот мы, цивилизованное человечество, столпились, улюлюкая, вокруг и предвкушаем неизбежную ошибку ненавистного отличника.
А я почему-то надеюсь, что не дождемся.
Не то чтобы я разделял высказанную президентом Бушем уверенность в конечной победе добра над злом. Наоборот - вообще не понимаю, с чего он это взял. Ни в одной религии этого нет, история тоже не подтверждает... Разве что в голливудских фильмах так бывает всегда.
А на самом-то деле злая воля сильней доброй.
Но все-таки ненависть - расовая, классовая, политическая, патриотическая - это прежде всего глупость. А даже на самую хитрую глупость - вот во что я, пожалуй, верю - найдется свободный ум с винтом.
Ищи нетривиального решения, сказочного поворота - скорей шевели мозгами, неизвестный очкарик!
Не получится - все пропало.
И кто-нибудь кому-нибудь в последний раз позвонит по мобильному телефону - из могилы в могилу - и скажет:
- Думали - Апокалипсис. Оказалось - погром.
Сентябрь 2001
РОГ СОБЫТИЙ
Свободен, Две тысячи первый. Закрой дверь с той стороны.
По правде говоря, он немножко прискучил, практически надоел, этот год, маршировавший к выходу, странно усмехаясь.
Он, особенно под конец, как-то забылся не по чину. Ну что такое год? Если жизнь средней продолжительности принять за час - человечество, получается, разменяло третьи сутки, - год в этом масштабе пролетает как минута. И вот такая, значит, песчинка вроде как застряла в часах, закупорила стеклянную артерию посередке: времени, - хихикает, - больше не будет. И как сейчас - будет всегда.
Потому что уже сейчас - включите телевизор или радио - уже сейчас все в порядке. За исключением отдельных происшествий: вот, скажем, в Австралии бушует лесной пожар.
Наверное, это иллюзия. Время-то движется. Часы остановились в нашем, с позволения сказать, коллективном уме. Он устал надеяться на лучшее и буркнул первому попавшемуся (наплевать, что совсем не прекрасному) мгновенью: черт с тобой, замри.
Все нормально. Какое мне дело, что где-то там, на нижнем краю карты, каждый день кого-нибудь убивают? Меня не спрашивают, от меня не зависит, на фига мне, извините, эта постоянная головная боль? У нас вон парламент есть - полтысячи неприкосновенных мужчин в костюмчиках цвета моей зарплаты, - хоть бы кто посмел полюбопытствовать, просто ради статистики, сколько, дескать, под бомбами погибло, за два года хотя бы, только детей, пусть чеченских, но все ж таки дети? Ни-ни! Понимают избранники, что нетактичный это вопрос - и никому не интересный. Вроде как про взрывы позапрошлогодние: ясно же, что это дело рук международных террористов, - а как их звать - какая разница, нет у нас этого нездорового американского любопытства. Кого-то, говорят, за эти взрывы судят - в отдаленной тюрьме пятерых каких-то карачаевцев, что ли, - ну, стало быть, получат по заслугам, а я игру "Алчность" буду по телевизору смотреть.
Или как несколько молодых разнополых слоняются по стеклянной клетке: что они будут делать, когда делать нечего?
А что на улицах таких же молодых отлавливают и в наручниках, иногда и с кляпом во рту, развозят по военкоматам, - давайте считать, что так не бывает: раз по телевизору не показывают.
И потом, ведь иначе нельзя - разве я не понимаю? Нету (у нас) другого способа поддерживать боеспособность - и отстоять территориальную целостность - и вообще поддерживать государственность: необходимо для этого, чтобы кто-нибудь кого-нибудь бил, а мы смотрели бы в другую сторону.
И буду, буду смотреть в другую: все, кажется, угомонились, и мне пора. Займусь, предположим, самосовершенствованием; пить, например, надо меньше.
Нет, я все равно немножко верю, что и Россия когда-нибудь станет нормальной страной, - какой уже сейчас представляется иностранцам. У меня лично и претензий-то немного - пожалуй, две: что так плохо работает общественный транспорт и что государство так ненавидит человека; все остальное - просто бедность, просто судьба; перетерпеть можно.
Иностранцу что? Он берет такси. Государство же, соблюдая первое правило ленинградских фарцовщиков (помните, у Довлатова?), старается не трогать иностранца руками.
Вот и не чувствует иностранец, подобно нам, на каждом шагу, что у нас эта машина сошла с ума - давным-давно, еще при царе Горохе - и возомнила себя божеством - и взрастила множество поколений в этой религии - в злобе и страхе.
В научно-фантастических романах такой сюжет кончается всегда благополучно: изобретательные астронавты вставляют взбунтовавшемуся роботу куда-нибудь под шлем программу с законами роботехники - закон первый: действовать не иначе как в интересах человека; закон второй: ни при каких обстоятельствах не унижать человека - и так далее. И перевоспитанный робот исправно прокладывает путь среди звезд и разносит кофе. Но что, если астронавты сами уверовали в робота как в верховное существо? Куда, желал бы я знать, прибудет звездолет в этом случае?
На днях собственными своими глазами видел по телевизору - и слышал собственными ушами! - человека из судейских, чуть ли не судью, который сказал: журналист такой-то справедливо и законно приговорен к тюремному заключению за намерение выдать государственную тайну! За намерение - именно это слово сказал! Миллионов, наверное, сто его слушали - человек двести, возможно, удивились - человек десять написали протест.
Новый год журналист встречает в камере.
Но он, по-моему, еще молодой - доживет до справедливости. А может статься - и до того дня, когда человечность прорвется в нашу жизнь.
Время-то все равно идет, и чудеса бывают.
Я вот читал недавно про средневековую Англию: какие свирепые были нравы! Личность считалась буквально ни за что. Еще при короле Альфреде, в конце IX столетия, действовал, представьте, такой вот миленький закон:
"Если человек, происходящий из другого места, или чужеземец идет через лес в стороне от дороги и не кричит, не трубит в рог, то нужно считать его вором: либо его следует казнить, либо пусть он выкупится".
Это, согласитесь, даже покруче нашего уличного правопорядка (вестибюли метро и вокзалы не в счет).
А теперь британский лорд выступает в палате: вы что, говорит, совсем спятили - паспорта вводить? Терроризму, говорит, конечно, бой, но не до такого же абсурда: эдак ведь рано или поздно полицейский почувствует себя вправе подойти буквально к любому англичанину и потребовать - этот паспорт предъявить!
Типа: мужчина! ваши документы!
Январь 2002
В СТИЛЕ ДИАМАТА
Вот какая Светлане С-ой досталась участь и роль, - а все из-за внешности. У Вас, наверное, тоже была похожая на нее одноклассница или однокурсница. Таких выбирали обычно в комсорги, в старосты, кассу взаимопомощи доверяли. Миловидно разумная, женственно взрослая, без этих маленьких ужимок, без подражательных затей, ни грамма того, что в высоком лондонском кругу зовется vulgar... С каким жестоким смаком, должно быть, обсуждали ее стати второгодники на переменах, нервно швыряя окурки в унитаз. Понимаю, с какой злорадной мечтой заказывал ее цинический журналист наемным насильникам, - и почему те отказались. Цинический беллетрист онанировал с ее именем печатно - в якобы романе. Легко представляю и какого-нибудь пенсионера "Лукойл-Гаранта": как утром 22-го сего месяца - скажем, по дороге в сортир - он напевает: "Подайте ж милостыню ей", - воображая эту... телезвезду возле Спасских, допустим, ворот - с протянутой рукой, а еще бы лучше - приникшей лицом к сапогу, как в кинофильме "Покаяние".
Фильм-то, между прочим, оказался поглубже, подальновидней своих первых зрителей (то есть нас); например, судопроизводство, припоминаю, там изображено именно такое, каким теперь наслаждаемся мы в правовом государстве... Но это - к слову, юридический аспект умерщвления ТВ-6 прозрачен, как слеза министра печати, а меня интересует человеческий, так сказать, фактор. С-ой и К° был дарован уникальный шанс, о котором лучше всех сказал недавно по радио некий свежеиспеченный Светоний: двадцати минут общения с Президентом, утверждает Светоний, достаточно, чтобы полюбить его навсегда; противостоять этому обаянию просто нет сил. Вы, конечно, помните, какое было у Светланы С-ой выражение лица, когда она уходила из Кремля после роковой, знаменитой встречи. Как будто она что-то поняла такое, чего лучше бы не понимать.
Вот и пусть пеняет теперь на себя, пусть идет в домработницы к Татьяне М-ой, раз та оказалась настолько тоньше; но, думаю, и в домработницах ей не бывать, а стоять ей под дождем и плакать под вальс про милого, ах, милого Августина... так ей, принцессе без королевства, и надо.
Это, кстати, как раз тот случай, когда приятное сочетается с общественно полезным. Согласитесь: какими бы вздорами ни занимались на этом телеканале, все же нельзя было исключить, что если - не дай, конечно Бог но если бы все-таки с нами случилось что-нибудь по-настоящему скверное, то мы узнали бы про это всего лишь на два-на три часа позже остальных людей планеты, а не через двое, скажем, суток. Была, была такая опасность - а теперь она ликвидирована, и почти ничто уже не мешает нам стремиться к единственной цели, на которую наведено, как ракета, государство: к перевыборам с оплаченным ответом.
Вот с какой точки следует, по-моему, разуметь возмущающую Вас катавасию с бывшим гимном партии большевиков. Глупость тут (скажу в стиле диалектического материализма - зря, что ли, зубрил?) выступает не как производитель, а скорей как продукт, еще точней - как выверенный, гарантированный эффект при употреблении произведенного препарата в надлежащих дозах. Так-то, по-простому посмотреть - действительно, нехорошо: нужно слишком презирать страну, чтобы предписать ей почитать как святыню текст запятнанного автора на окровавленную музыку. Но взглянем по-государственному: те, кого под этот гром литавр убили, - вообще не в счет - мертвые, что крайне важно, голоса не имут; убийцам и пособникам, наоборот, кайф: не зря жили, правильной дорогой шли, товарищи, - но и не в них дело, они-то и без почестей как-нибудь перетоптались бы. А дело в остальных: ампутировать им, остальным - то есть нам - эту ассоциацию идей; чтобы из этой музыки не вставал каждый раз, как из адского пламени, Сталин; и чтобы вокруг Сталина не теснились, как на Страшном Суде, миллионы убитых; рассечь нам эти нервные волокна; парализовать между ними связь; чтобы мы научились мыслить раздельно: гимн прекрасен - это был, говорят, гимн Сталину - Сталин был, говорят, преступник - теперь это гимн не Сталину - он прекрасен... Вот такое расчлененное мышление некоторые называют глупостью только за то, что оно страдает короткими замыканиями.
Это, по-видимому, вирус, размножающийся в мозгу, наподобие компьютерного; мысли кружатся по замкнутым, не пересекающимся орбитам (как у христианина-юдофоба), дважды два не догоняют четырех.
Но внедрить такую логику, воздействуя лишь на интеллект - довольно трудно. И М-в-сын (не тот, что рекламирует витамины, а составитель одеколона) правильно советует: школьников, манкирующих гимном его папаши, сечь. Оруэлл в "1984" это показал: чтобы человек всем объемом рассудка постиг, что дважды два - сколько скажет Партия, и чтобы он всем сердцем полюбил Большого Брата - надобно человеку ось сломать. Это можно сделать и в казарме, и в лагере, и в тюрьме, но удобней всего, разумеется, в средней школе.
Советская школа так и была задумана - ежедневно заставляя беззащитных детей объяснять: почему дурные тексты гениальны, зачем надо в жизни подражать именно злодеям, и что такое классовый гуманизм, и чем прекрасна диктатура, и отчего мы счастливей всех на свете, - она обустраивала умы практически непоправимо.
Военное обучение, патриотическое воспитание, путешествия по ленинским местам, по брежневским... Встать! сесть! Лишь бы разрушить (неважно, чем) не только способность, а и потребность различать хорошее - и хорошее неособенно. Каковая потребность, полагаю, представляет собой ведущую ось ума.
Зато управлять людьми, прошедшими такую обработку, - одно удовольствие; справится и кухарка. Когда еще они придут в себя! Хозяева же тем временем перевезут своих родных куда надо, переведут деньги, заметут следы.
Главное - занять публику, чтобы не скучала, не глазела по сторонам; развлечь: одних - инфляцией, других - войной, а кого и гимном; встать! сесть! Похоже, что этих забав хватит еще на целое поколение.
Как сказано у Даля: жили старые дураки, поживут и молодые.
Январь 2002
ИЛИ ПРИСТИПОМА?
Ничего, ничего. Я и сам немного мизантроп. Мизантропия - порок народников и тиранов. Развивается на почве роковой невзаимной любви. Помните, Сталин жаловался дочурке: идут, идут вдоль трибуны, все одинаковые, с одинаково разинутыми ртами - дыры вместо лиц - ура, да ура - уроды, дураки... Так что быть любимым тоже нелегко.
Но изнывать от сострадания к униженным, которые от унижения не страдают, - этот синдром Некрасова - Чернышевского: вечно глаза на мокром месте из-за того, что сверху донизу все рабы, - неизбежно приводит к описанным Вами осложнениям по Салтыкову-Щедрину; обоняние спорит с убеждением: счастлив любить эту общность людей как идею, но запаха пристипомы (или путассу?), видите ли, не терплю; это запах измены; как печально, что народ, этот гений чистой красоты, своим заступникам и всей их литературе предпочитает угнетателей, к тому же отдаваясь так задешево.
В подлинно народных произведениях подобные коллизии разрешаются проще и жизнерадостней. Например:
Утки к берегу плывут,
Серенькие крякают,
Мою милую неустановленные лица
используют как сексуальный объект,
да с такой интенсивностью, что
Только серьги звякают!
Лирический герой этого фольклорного шедевра не знаком с неврастенической музой мести и печали. Постигшую неприятность рассматривает трезво, в духе, так сказать, fair play, - притом нисколько не роняя самооценки, - без упрека и разочарования, не сетуя на героиню, ей не пеняя.
Вот как надо, дорогой Д. В.! - а Вы, извините меня, расстраиваетесь, как распоследний романтик и гуманист.
Боже! Эта картина стоит у меня перед глазами, как нарисованная на обложке учебника старинной словесности (где на самом-то деле полагается быть портрету, сами знаете чьему): как Вы томитесь - предположим, во фраке - у парадного подъезда Ледового дворца на улице Большевиков, средь этой пошлости таинственной, восклицая сквозь зубы: "сюда я больше не ездок!", а мысленно допытываясь у Незнакомки - проснется ли она после всего случившегося, исполненная сил иль, наоборот, судеб повинуясь закону...
И мне хочется воскликнуть, подобно следователю - не помню сейчас фамилии, - в романе Достоевского: Д. В., голубчик, да не убивайтесь Вы так!
С чего это взяли Вы, будто вместе с публикой концертов г-жи Алсу включены в какую-то собирательную личность, притом настолько реальную, что ее предосудительное поведение (т. е. Собирательной Личности, а не публики, тем более - не г-жи Алсу) наводит на Вас не только тоску, но и стыд? Неужели ассоциация по смежности, хоть бы и закрепленная в паспортных данных, может иметь над человеком такую власть?
Будь это на самом деле так, можно сразу отменять смертную казнь: поставьте перед осужденным большую фотографию какого-нибудь г-на Ш-на или г-на М-ва и прикажите, чтобы, не сводя с нее глаз, повторял через равные промежутки времени: "Это мой народ, это мой народ", - очень скоро, уверяю Вас, небо несчастному покажется с овчинку.
Моя дворовая команда забила мяч команде соседнего двора - стало быть, я вправе и даже должен разбить от счастья ларек-другой? Наш ОМОН вкупе с, кажется, рязанским расстрелял стариков и женщин в каком-то поселке Алды это на мне, стало быть, позор злодейства? Наш КГБ, или как его там, истребил больше советских людей, чем гитлеровский вермахт, - значит ли это, что я допущен к столу на его юбилеях?
Это слишком горделивый взгляд на вещи - а Зощенко ведь предупреждал: жизнь устроена проще, обидней и не для интеллигентов. Не пора ли отстать от Собирательной Личности? Серьги на ней звякают уж которое столетие - ну и пусть, на доброе здоровье. Никто никого не несчастней. Всё путем. И, кстати, г-жа Алсу распевает, полагаю, ничуть не хуже, чем, например, г-жа Маринина пишет, и жареная путассу (или пристипома?) вряд ли намного уступает в смысле питательности таинственному продукту по имени суши. (Впрочем, лично я как-то так сложилось - ничего этого не пробовал, кроме, кажется, хека мороженого.) И среди девочек с букетами для г-жи Алсу, уверен, есть симпатичные.
А шок, испытанный там, в Ледовом дворце, и описанный Вами столь блестяще, на самом деле, по-моему, - дурнота от единства стиля, эффект ассоциации по сходству. Я же говорил: Петербург невелик и со всех сторон окружен Ленинградом. Реальный социализм действительно пахнет пристипомой, потому что похож на Веселый Поселок как две капли воды. Бездарность, увековеченная в железобетоне, там обнимает человека со всех сторон, как осознанная необходимость.
Ах, какое счастье испытает археолог на раскопках в нашей местности через несколько сотен лет! Вряд ли доберется он до затопленных развалин Зимнего дворца, но Ледовый-то наверняка сохранится, равно и окрестность. И вот, подтверждая теорию Освальда Шпенглера в гениальном "Закате Европы", уцелевшие предметы нашего обихода сойдутся в ребус, ясно читаемый насквозь. И будущий нобелевский лауреат поймет: здесь, как в Древнем Египте, сама материя времени запечатлела его дух; всё похоже на всё; у вещей, обычаев, законов и вкусов имеется общий знаменатель; синтаксис политической риторики отвечает состоянию путей сообщения; устройство канализации - представлению о правах человека; названия улиц (отыщется же табличка: "проспект Большевиков"!) - религиозным взглядам; планировка жилищ - пафосу любовной лирики, убранство могил - уровню средств массовой информации... ну, и так далее. Лица, одежда, мысли - все прекрасно в одной и той же степени. (Положим, клетчатый пиджак одного здешнего начальника выбивался из гармонии - то-то его так ненавидели, - но пиджаки недолговечны; едва ли найдут.)
- Эта могучая цивилизация Веселого Поселка была подобна шару, - ликуя, заключит археолог свой сенсационный доклад: - обитавшие тут люди все как один чувствовали себя равно удаленными от какого-то мистического центра...
Он не догадается, что шар вращался - и что у нас порой кружилась голова.
Мы-то с Вами, дорогой Д. В., знаем местонахождение пресловутого мистического центра. Это, разумеется, общественный туалет у вокзала в городе Луга. Помните, какое невероятно жуткое там охватывает чувство? В жизни не видел ничего более похожего на вечность, воображенную Достоевским; впрочем, его "баньке с пауками" до нашей модели далеко. Наша переделана, говорят, из часовни.
А что некоторые даже и в этом пространстве ухитряются чувствовать себя как на балу - словно бы там для них играет джаз-банд из тысячи обезьян в багряных камзолах - и ломтик, допустим, леденящего суши тает во рту, - пусть поскорей дожевывают. "Ура!" кричать надобно так, чтобы серьги звякали.
Март 2002
ОРЕЛ ДА ЩУКА
А я и не знал, что этот ресторан - такое богоугодное заведение. И вообще по злачным местам не ходок. Но вчуже приятно сознавать, что каждая дюжина устриц, съеденная в "Подворье", пусть и не мною, способствует среднему образованию потомков малоимущей интеллигенции. Ресторан - базис, а надстройка - лицей. Что значит - правильно своим ваучером распорядился человек. Нам бы с Вами в свое время догадаться. Как не быть общепиту прибыльным делом в стране, где премьер-министр за несколько лет выходит в первые богачи планеты. Где и помельче бюджетник, присужденный к штрафу в 175, что ли, тысяч зеленых, - не стану, - говорит, - спорить, подавитесь, крохоборы швейцарские, некогда мне с вами по судам препираться, работа стоит, зарплата идет!
Честный труд в последнее время приводит к результатам прямо поразительным. Прочитал я тут в газете про моего совладельца по "Газпрому" г-на В-ва: что будто чахнут у него в подмосковном имении северные олени, потому как брезгают сеном, - ягель им, видите ли, подавай, - и приходится доставлять ягель самолетами (при наших с ним дивидендах - вроде семи копеек в год на акцию - это как же надо любить рогатых друзей!). То есть проблемы остаются, но, согласитесь, по всему видно: экономика у нас действительно на подъеме, благосостояние растет, реформы идут.
Особенно - так называемая коммунальная: услуги жилконторы, если Вы заметили, с каждым месяцем все драгоценней.
Не знаю, как Ваш, а мой двор с наступлением весны сделался невероятно похож на Поле Чудес: просто хрестоматийный пейзаж с грудами отбросов; а кот Базилио с лисой Алисой не унимаются - на счетчик поставили - все больше и больше с тебя причитается за эту красоту окружающей среды, умненький Буратино!
Однако и тут перспектива отрадная: именем тарабарского короля в нашей мэрии создан - или всегда существовал - экологический, знаете ли, не то Совет, не то Комитет, и я сам слышал по радио, что в этой инстанции окончательно решено: к 2007 году мы должны перейти от пассивной борьбы с загрязнением города - к активной борьбе за очистку!
В отличие от Вас, дорогой Д. В., я изучаю течение жизни не по пресс-, извините, релизам, а по сообщениям радиоточки (поскольку живо интересуюсь температурой воздуха), - а там, кроме пошлостей, звучат и новости, причем самые обнадеживающие. Сплошной футуризм и научная стратегия. 2007-й - вовсе не рекорд. Орган по демографии - опять же при мэрии - заглянул в будущее гораздо дальше - и поднес губернатору такую концепцию: к 2030-у желательно, во-первых, поднять рождаемость, во-вторых, понизить смертность, а в-третьих, создать благоприятные условия для размножения!
И так, представьте, изо дня в день: то Платон, то быстрый разумом Невтон что-нибудь изобретают. Научная мысль в городе прямо-таки кипит. На прошедшей неделе и радио, и телевидение сообщили о завершении особенно отважного эксперимента. Он привел, да будет Вам известно, к поразительному открытию в психологии. Сотрудникам одной из университетских лабораторий (руководитель - доктор наук такая-то) удалось установить, что в нашем сознании В. В. Путин ассоциируется то с орлом, то со львом, а разные другие личности - наоборот, с грызунами.
Факт фундаментальный. Он, без сомнения, приумножит славу СПб. университета. Только хотелось бы уточнить методику: как удалось добиться от населения столь интимных признаний? Потому что, признаюсь, лично я, если ко мне подойдут на улице и спросят в лоб: на какое животное похож руководитель государства? - нет, лично я за себя не ручаюсь; тоже, наверное, скажу, что на орла. Или что на льва. Смотря сколько будет экспериментаторов.
В прежнее время работали больше по письменным источникам:
"Товарищ Сталин, говоря о Ленине, назвал его горным орлом. Образ горного орла - это высокохудожественный образ народного творчества, раскрывающий величие человека, его благородство, силу, мощь. Советский народ в произведениях о товарище Сталине создает живые художественные образы, порожденные жизнью, социалистической действительностью, - образы, которые могут наиболее выразительно раскрыть величие Сталина, неизмеримость его заслуг перед народом и партией. Народы говорят: Сталин - орел, обучающий орлят летать ("Железные крылья", перевод с таджикского), ввысь поднявшийся орел ("Орел", перевод с грузинского), Сталин - крылья для поднявшихся в небо... Сталин - новых дней отец, пышный сад с душистыми плодами ("Из глуби сердца", армянская песня), маяк в жизни ("Говорит Гаджи", азербайджанская песня), маяк в бушующем море ("Маяк", перевод с лезгинского)..."
Тоже писали - не гуляли. Тоже профессор старался, д. и. н. Цитирую по "Ученым запискам Академии общественных наук при ЦК ВКП (б)", 1951 год:
"Мощный полет мысли, величие, смелость, отвага Сталина порождают в народном творчестве поэтический образ орла, парящего высоко в небе. "Сталин - орел могучий", - поется в удмуртской песне.
Обращаясь к И. В. Сталину, донские казаки говорят:
Нас ведет наш Сталин,
Наш орел могучий,
По путям нехоженным,
По цветным полям..."
Как видим, научная традиция жива - и снова плодоносит. А Вы брюзжите, что пресс-релизы безграмотные. Подумаешь, важность какая! Ведь их сочиняют особы, как правило, молодые, ценимые начальством отнюдь не за орфографию, а скорей за безотказность.
Вот недавно попрекнули отечественную буржуазию: не любит, мол, отчизну, из скупости держит большой спорт в черном теле. А по-моему, в ножки надо ей поклониться, в ножки: практически всех, у кого затруднена речь и плох русский письменный, взяла на содержание, все они теперь пресс-секретари да пресс-атташе, кто при банке, кто при бане. (Но и стилисты не в обиде: пиши, золотое перо, в глянцевый журнал, с чистой совестью носи заработанные в поте лица колготки "Леванте".) Плюс охранников почти миллион: спокойно решают кроссворды, нас не трогают... Нет, российский капитализм - для тунеядцев рай не хуже зрелого Застоя. Многие, правда, сидят и на нашем горбу, причем с оружием, - но тут уже ничего не поделаешь.
Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий я, знаете, обращаюсь всегда к Михал Евграфычу. Вроде как гадаю по двадцатитомнику:
"... потом рака с колокольным звоном встречали, потом щуку с яиц согнали, потом комара за восемь верст ловить ходили, а комар у пошехонца на носу сидел..."
"Но ничего не вышло, - пишет наш автор далее. - Щука опять на яйца села; блины, которыми острог конопатили, арестанты съели", - и проч. и проч.
Вот и я чуть не всю жизнь думал, что дело в щуке: присосалась, некоторым образом перековав на орало свой щит и меч; таков, говорят, наш исторический рок, что согнать ее можно не иначе, как откинувшись голой спиной на ежа.
А тут в телеящике была "Свобода слова" (из Москвы). Название забавное, но дискутировали всерьез: оказывается, вся причина в инородце; инородец, видите ли, повсюду нас теснит; как бы это депортировать его куда подальше? У ведущего галстук алый, а лицо такое взвешенное, вся повадка такая пионерская... Того гляди затянет: Забота у нас простая, Забота наша такая: Прижать инородца к ногтю (вариант: иноземца - к сердцу) - И нету других забот...
Знаете что, Д. В.? Поднадоела мне политика. Как сказал бы Гораций, odi profanum vulgus et arceo - в русском переводе: любись они конем! Не заняться ли нам для разнообразия чем-нибудь другим - хоть литературою?
Март 2002
БЕСПОРЯДОЧНОЕ ЧТЕНИЕ
Письмо I
1 августа 1992
На протяжении девятнадцати лет этот журнал давал стране самую невкусную пищу для ума. За границей бывали издания более скучные: скажем, в ГДР "Новая немецкая литература", твердыня меднолобого марксизма, - но в России "Литобоз" опередить никому не удавалось. Статьи, рецензии. Статьи о статьях и рецензиях. Рецензии на статьи, в том числе на статьи о статьях. Литературная критика, не связанная философскими убеждениями, лицемерная служанка торжествующей идеологии. Совесть советской литературы, короче говоря.
Не думаю, чтобы за все эти годы нашелся хоть один человек - цензоры не в счет! - прочитавший хоть один номер от корки до корки.
А гонорары здесь платили хорошие.
Понятно, что под первым же сквозняком свободы такой печатный орган должен был зачахнуть. Он и зачах. Отчасти жаль. Настоящей литературе журнал настоящей критики очень пригодился бы, но пока трава растет, кобыла издохнет, как сказано, кажется, у Шекспира.
Надо отдать справедливость "Литературному обозрению": перед тем, как перегореть, этот светильник разума дал яркую вспышку. Ноябрьский прошлого года номер в киосках не залежался, в макулатуру не пошел. Еще бы: кто устоит перед магическим словом - эротика - в государстве коммунального быта, где так редко удается побыть вдвоем, а жизнь такая некрасивая; где конституционное право избирать и быть избранным осуществлялось до сих пор исключительно в сфере половых отношений; в обществе, где непристойная лексика - едва ли не самое ходовое орудие мышления и средство коммуникации; где идеология так долго донимала людей запретами, украденными ею из религии, которую она же искореняла; где все делалось для того, чтобы никто из нас не стал взрослым...
Бесстыдно надзирая за интимной жизнью граждан, литературу к ней государство не подпускало. Тайны пола охранялись наравне с военными - так же свирепо и так же бездарно.
Как же не вцепиться в журнал с эротическими текстами, с фривольными картинками да еще с официальным предуведомлением, что это, дескать, не то, что вы думаете, а "мозговая атака на тайны русской словесности"!
Но вот ведь злосчастный рок "Литературного обозрения": вникая в эту соблазнительную книжку, вы довольно скоро не без удивления убедитесь, что эротический реализм наводит точно такую же тусклую дремоту, какую прежде наводил реализм социалистический. И не понять, в чем дело: то ли нашему славному литературоведению недостало сил и мозговая атака захлебнулась, то ли тайны эти пресловутые слишком уж ничтожны.
Пожалуй, действуют обе причины. К игривым телодвижениям наша наука пока еще не привыкла, стесняется - и оттого хихикает визгливее, чем нужно, и подмигивает отчетливей:
"Басня "Свинья под дубом"? При направленном в известную сторону воображении ее нетрудно переосмыслить: о, знаем мы, какая это "свинья" и что это за "дуб"! Женский и мужской инструменты соития, один под другим. Текст басни может дать пусть мнимый, но все же повод для такого толкования. Желуди, от которых жиреет свинья (и из которых получаются новые дубки), это как бы сперматозоиды..."
Таков, стало быть, атакующий стиль научной мысли. Что касается разоблачаемых тайн - вот некоторые: Белинский в молодости грешил рукоблудием; Чехов, путешествуя по Востоку, посещал публичные дома; Розанов и Ремизов обожали разговаривать о мужских и женских органах и вообще были пакостники; Брюсов сочинял иногда преневкусные стишки; Даниил Хармс его перещеголял, подражая Баркову...
Барков - едва ли не главный герой этого номера, и такое тут царит ликование по случаю публикации непроизносимых его текстов, как будто это и есть самая важная победа над цензурой - свобода матерного слова.
Спору нет, цензура была ханжа, и что она вконец посрамлена - прекрасно. Спору нет, все до единого факты и тексты, относящиеся к истории литературы, позволительно обнародовать. Акция "Литературного обозрения", надо думать, чрезвычайно полезна. И есть, конечно же, есть в этом номере журнала несколько работ вполне серьезных, исполненных специалистами для специалистов. Но дух мужской раздевалки мешает сосредоточиться. Боже, чт здесь называют эротикой, чт выдают за науку!
И такая берет тоска от бесчисленных - и неразличимых! - проявлений коллективного инфантильного сознания, от монотонной звериной речи. Неужели вправду в этой сфере нельзя быть человеком или хотя бы самим собой?
Неужели это действительно А. П. Чехова, русского писателя голос, а не гимназиста какого-нибудь из самых жалких его персонажей:
"Когда из любопытства употребляешь японку, то начинаешь понимать Скальковского, который, говорят, снялся на одной карточке с какой-то японской блядью..."
Ох, боюсь, обманывала нас литература. Или же "Литературное обозрение" морочит.
Письмо II
2 сентября 1992
Вышла такая книжка: Н. Г. Левитская. Александр Солженицын. Библиографический указатель. Август 1988-1990 гг. М., 1991. Очень опрятное и очень полезное справочное пособие. Издатель - Советский фонд культуры (Дом Марины Цветаевой). Предисловие Елены Чуковской.
"Мы хотим, - пишет Елена Цезаревна, - представить с помощью этого указателя короткий период - всего два с половиной года (август 1988-1990), период постепенного, лавинно нарастающего возвращения произведений А. И. Солженицына на Родину. Мы хотим с датами и названиями органов печати показать, как пробивались пробоины в цензурной стене, причем победу зачастую одерживали не самые сильные, но самые отважные".
Это и впрямь поучительная история. 5 августа 1988 года газета "Книжное обозрение" напечатала статью Е. Ц. Чуковской "Вернуть Солженицыну гражданство СССР". В этот день и на следующий редакция, говорят, почти не работала. Сотрудники затаились по кабинетам и ждали, что будет. Ждали, конечно, телефонного звонка с Олимпа и за ним - удара молнии. Но самый главный телефон молчал. Зато пришел писатель В. Кондратьев - принес уже отпечатанное на машинке письмо в поддержку выступления газеты. В следующем номере, через неделю, "КО" напечатало его письмо и еще пять откликов, 19 августа - еще один, 2 сентября - двадцать два.
На Олимпе опомнились. Дискуссию прикрыли. Секретарь ЦК КПСС и член Политбюро В. А. Медведев публично - то есть на собрании какого-то актива заявил, что советскому читателю произведения Солженицына противопоказаны и не видать их нам при жизни нынешнего поколения руководителей - как своих ушей. Чтобы слова такого всесильного человека не расходились с делом, цензуре дано было распоряжение (по-моему, 16 октября) - не пропускать в печать ни упоминаний о вредном клеветнике, ни, само собой, его текстов.
18 октября этот запрет нарушила многотиражка Дорпрофсожа Юго-Западной железной дороги "Рабочее слово" (Киев): напечатала знаменитое "Жить не по лжи". 10 декабря непонятное издание некоего клуба книголюбов "Сельская новь" в неизвестном мне населенном пункте Марево опубликовало статью опять-таки неизвестного мне - к моему стыду - А. Хийра к семидесятилетию А. И. Солженицына. И в декабре же вышел номер журнала "Нева", впервые предавший гласности некоторые документы, разоблачающие официальную легенду о Солженицыне.
Упомянутый В. А. Медведев еще на что-то надеялся, еще рассуждал в газете "Правда": "о субъективности суждений и оценки В. И. Ленина в произведениях А. Солженицына", - и цензура не смыкала глаз, - и "Новый мир", где набирался "Архипелаг ГУЛАГ", остановился на несколько месяцев, - и сотрудники редакции решились было на забастовку, - и вдруг все кончилось. Вернее, все началось. Мы победили. Солженицын победил. Это было совсем недавно, три с половиной года назад. Забавно, правда?
Кажется, только вчера в городском суде на Фонтанке моего знакомого уличали свидетельскими показаниями в том, что он хранил в бельевом ящике "Архипелаг ГУЛАГ", содержащий вредные измышления, порочащие наш общественный и государственный строй, и приговорили к пяти годам заключения да к трем ссылки (документы процесса - в первом номере "Звезды" за этот год). Нет, не вчера - это было в феврале 85-го. Но даже срок наказания формально еще не истек, и судьи не сменились, и молодые люди с пустыми лицами и аккуратными затылками, изображавшие на этом процессе публику, вряд ли занялись общественно полезным трудом.
А Солженицын победил.
Не знаю, надеялся ли он увидеть свою победу. Думал ли он, что бронированное чудовище рассыплется металлоломом, так и не добравшись до его пишущей машинки?
Что злобные тупицы, которые непроницаемой ложью и беспощадным насилием втемяшивали нам единственно верное мировоззрение, окажутся поумней многих из нас, недрдушенных ими критиканов, и мгновенно и поголовно предадут свои пустые догматы?
Что те самые субъекты - миллионы субъектов, - которых власть кормила, поила, вообще баловала исключительно за то, что они не давали нам прочесть "Архипелаг ГУЛАГ" и книгу "Ленин в Цюрихе", - что они поспешно, задыхаясь от злобной радости, отрекутся от главного своего кумира и не найдется в целой стране такого полковника или партсекретаря, который замолвил бы доброе слово за поруганную тень?
Солженицын победил. Теперь уже не о нем, а о Ленине пишут в газетах и говорят по радио: еврей, уголовник, предатель. Солженицын победил - как Ленин семьдесят пять лет назад. Для многих - и лично для меня - это вроде бы огромная удача, если не сказать: счастье. Но почему так ликуют побежденные? Почему все так мучительно и смешно похоже на пьесу Шварца "Дракон"?
И на "Повесть временных лет":
"И когда пришел, повелел опрокинуть идолов - одних изрубить, а других сжечь. Перуна же приказал привязать к хвосту коня и волочить его с горы по Боричеву ввозу к ручью и приставил двенадцать мужей колотить его жезлами. Делалось это не потому, что дерево что-нибудь чувствует, но для поругания беса, который обманывал людей в этом образе, - чтобы принял он возмездие от людей. "Велик ты, Господи, и чудны дела твои". Вчера еще был чтим людьми, а сегодня поругаем..."
Письмо III
20 апреля 1994
..."На квартире Андрюши Бакста Червинскую рвало всю ночь". - Вот какого сорта эти мемуары - скажем прямо, не высшего. Благовоспитанным филологам этот сорт решительно не по вкусу: то есть сами читают с удовольствием и не без пользы, но других отговаривают. Для истории, дескать, литературы какое имеет значение, сколько и с кем пила шестьдесят лет тому назад в Париже - и вправду ли была неопрятно прелестной, бескорыстно безответственной - забытая теперь поэтесса...
И о незабвенных незачем вспоминать что попало, злоупотребляя личным знакомством.
Я знаю одну даму, которая, попадись ей этот Яновский живым (В. С. Яновский. Поля Елисейские. Книга памяти. Предисловие С. Довлатова. СПб.: Пушкинский фонд, 1993), - разорвала бы его в клочки за такой, например, абзац о Цветаевой:
""Дурехой" я ее прозвал за совершенное неумение прислушиваться к голосу собеседника. В своих речах - упрямых, ходульных, многословных - она, как неопытный велосипедист, катила стремглав по прямой или выделывала отчаянные восьмерки: совсем не владея рулем и тормозами.
Разговаривать, то есть обмениваться мыслями, с ней было почти невозможно".
Мне и самому не так-то весело читать про Ходасевича:
"... Мы сражались в покер, и однажды я заметил, как Владислав Фелицианович вдруг начал рыться в уже отброшенных картах, после сдачи дополнительных. Я поспешно отвернулся..."
Обратите внимание: отвернулся тогда - но через полвека рассказал. Что-то, видно, заставило - какая-то, если можно так выразиться, злорадная жалость.
Все это только издали выглядит амикошонским празднословием соглядатая-долгожителя.
Вблизи - больше похоже на то, что автор припоминает; чтобы позабыть, чтобы рассеять наваждение, причиняющее боль. Сводит счеты с собственной молодостью, словно с женщиной, которая умерла, не выслушав, не ответив, как же она смеет столько лет неотступно сниться?
Его молодость была - русская литература во Франции накануне Второй мировой войны.
Сотни полторы авторов, тысячи три читателей - целый мир общих ценностей, авторитетов, надежд.
В той литературе Яновский был почти незаметен (а напечатал роман, две-три повести, сколько-то статей), зато не знал одиночества. Умеренно завидуя успеху, допустим, Бунина, или Алданова, или Набокова, он, кажется, не сомневался, что придет день, когда русский литературный Париж догадается, кто пишет лучше их всех.
Очень скоро пришел день - и не стало русского литературного Парижа. Волна перевернула плот. Арион очнулся на другом берегу океана - обладателем изчезнувшей реальности. Завел новую жизнь, добился какой-то славы. Двадцать лет спустя принялся за эту книгу, еще через двадцать с чем-то закончил ее.
Тут литераторы слоняются по Монпарнасу, выпивают, Злословят об отсутствующих, болтают вздор, делают глупости.
Воспроизведены гримасы, жесты, голоса, остроты, Сплетни - одним словом, пустяки.
" - Как изволите поживать, Иван Алексеевич, в смысле сексуальном? осведомлялся я обычно, встречая его случайно после полуночи на Монпарнасе.
- Вот дам между глаз, тогда узнаешь, - гласил ответ".
Рассеянная, обиженная проза: помнит о Марселе Прусте, а напоминает Авдотью Панаеву; должно быть, правдива - кто же станет выдумывать такие бессмысленные мелочи?
Яновский утверждает, что почти никого из персонажей парижской молодости никогда не любил, а сам безумно их ревнует к небытию.
Смерть не страшна текстам, но и не боится их; а невесомая цветная паутина пустяков ей мешает. Оттого и не любят благовоспитанные филологи воспоминаний о пустяках, что тут ни один писатель не равен собранию своих сочинений.
Могут пострадать чьи-нибудь иллюзии, а без иллюзий даже литературу любить трудно.
Дело ваше. "Поля Елисейские" - книжка неназойливая: легко прочесть, легко забыть.
Письмо IV
30 ноября 1994
Мария Васильевна Розанова еще летом прислала, спасибо ей, № 34 издаваемого и редактируемого ею журнала "Синтаксис".
Журнал выходит в Париже с 1978 года. Очень много сделал для свободы слова. История русской литературы никогда его не забудет. И даже сейчас его интересно перечитывать - книжку за книжкой, а ведь этого почти не бывает. Кроме того, лично я Марией Васильевной восхищаюсь и ее благоволением издали дорожу.
Ну вот. А теперь, подостлав соломки, решаюсь признаться: тоску навел на меня № 34. Не скуку, а именно тоску. Эта политическая полемика, отнявшая столько по-настоящему белой бумаги - половину журнала, - глаза бы мои на нее не глядели.
Что Синявского и Розанову некоторые журналисты, по большей части никому не известные здесь, обвиняют в сотрудничестве с КГБ на основании доказательств ничтож-несостоятельных - бесспорно. Что не в силах человеческих такой обидной клеветой высокомерно пренебречь - всякий понимает. И что дуэль неосуществима, и в суд обращаться бессмысленно, и унизительно оправдываться всерьез, - да, собственно говоря, и ничего не остается делать в подобном случае порядочному человеку, разве что попытаться раздавить клеветников презрительной насмешкой. Сохраняя невозмутимо веселое лицо. В этом духе М. В. Розанова и объясняется с врагами, называя их поименно и каждому присваивая эпитет...
Но как-то многовато невозмутимого веселья. Вместо дела чести выходит скандал, и хочется воззвать, как в старинных романах: - М. В, уйдемте скорей, вы роняете себя! Необходимо ли, чтобы извести из квартиры, предположим, тараканов, устраивать тараканьи бега? Ну что это такое, в самом деле:
"... Когда наш друг профессор Эткинд не раз пытался убедить меня в том, что Максимов работает на КГБ, я всегда возражала ему так: дорогой Ефим Григорьевич! Максимов не работает на КГБ. Максимов просто сволочь, а это совсем другая профессия"!
(Не знаю, насколько это справедливо - а не смешно совсем. Тема стыдная и мрачная. Отвратительно, что все подозревают всех, - но никуда не деться от факта, что секретные сотрудники - самая массовая партия в России.)
Что сказано, то сказано. И даже получены от упомянутого Максимова извинения - угрюмые, вынужденные, Но все равно, навет рассеян. И тут же, в этом же номере журнала, через несколько страниц, А. Д. Синявский садится со своим оскорбителем за один стол, чтобы огласить совместное политическое заявление! (Мне говорят, что это душеспасительный пример, урок христианства. По-моему, никакая религия не обязывает человека быть, простите, смешным.) И все это как бы в укор презренной интеллигенции, не единодушно осудившей в прошлом году разгон парламента.
Инвективы эти - в теоретическом отношении, надо Думать, безупречны. Конституция превыше всего, парламент есть парламент, и все такое. И нельзя не чувствовать отвращения к убийствам. Но когда В. Максимов, А. Синявский, П. Егидес хором задают риторический вопрос: да что такого страшного случилось бы, если бы вечером 3 октября посланцы Хасбулатова-Руцкого захватили главную телестудию страны "и кто-нибудь прокричал с экрана что-нибудь непотребно-призывное?" - не верится, что они сами не знают.
Письмо V
7 декабря 1994
Писателю Анатолию Злобину все еще удается издавать в Москве журнал "Русское богатство". А я, признаться, не верил в эту затею - в журнал одного автора. То есть в одном номере собраны некоторые сочинения самого Злобина, в другом - Владимира Войновича, и так далее. Какая-то мерещится тут подмена понятий.
Как бы то ни было, № 2 (6) "Русского богатства" представляет собою сборник произведений Григория Померанца: мемуары, эссеистика, полемика разных лет - вернее, трех последних десятилетий. Тут и стихи его жены Зинаиды Миркиной.
Григорий Померанц, как известно, ровесник Солженицына, и те же прошел университеты: фронт и лагерь. В шестидесятые и семидесятые годы создавал такие тексты и говорил такие речи... Никто их не печатал, конечно, зато все знали. Бесстрашное веселье последовательной мысли было в этой полуслепой машинописи. Слава Григория Померанца была потайная, но яркая.
Теперь многое опубликовано, - и о Померанце редко думают и редко говорят. Усилия ГБ, подавившего Самиздат, не пропали все-таки даром: некоторых имен и людей как бы не стало.
"В 1987-м люди просто не знали, кто я такой, и даже фамилию мою не умели грамотно написать, когда я записывался в прениях, и слова не давали (человеку с улицы)..."
Он был и остался мастером обобщающих афоризмов. Он с читателем честен, как мало кто. Он весь виден и в этой книге, составленной неудачно, как бы из остатков, обрезков (модель "журнала"! бездействующая модель!). Это автопортрет благородного человека - храброго, умного, доброго.
Но при этом ясно, что он сказал себе: смирись, гордый человек! - и смирился - не только с личной участью, но и с нашей общей судьбой. Роль ума в истории невелика, и вся надежда на личную добрую волю каждого из людей, но она, по определению, от нас не зависит, поэтому займемся самосовершенствованием.
Возразить нечего - и незачем. Как я уже написал однажды: учение Толстого бессильно, потому что верно. Однако у Григория Померанца толстовство обходится без Толстого, - тот будто бы проповедовал слишком резко, слишком настойчиво: "Интуиция гения досталась разуму артиллерийского поручика". Людей надо склонять к добру ненавязчиво: скромным личным примером...
Все это, наверное, неоспоримо, но читаешь с таким чувством... боязно сказать, разочарования, что ли? Умиротворенное мышление томительно.
Как хотел бы я восхититься этой книгой, расхвалить ее. Сколь многим я, как и все интеллигенты моего поколения, обязан ее автору! Но хороши по-настоящему лишь отдельные фразы. Одною из них закончу:
"Если нет позвоночника, нужна скорлупа. Но я за то, что позвоночник лучше и надо поддерживать позвоночных. Может быть, их со временем станет больше".
Письмо VI
15 декабря 1994
В такие дни читать не хочется. Разве перечитывать, - но и это занятие бесконечно грустное. "Хаджи-Мурат" Толстого, "Наказанные народы" Некрича, "Ночевала тучка золотая" Приставкина... Литература ничего не значит, мысль о справедливости растворяется в имперском сознании без следа. Литераторам дозволяют поболтать на перемене между уроками военной географии, пока не пролетит с колокольчиком тяжеловооруженный ангел смерти: займите свои места!
И опять все сначала: стратегические интересы требуют жертвовать населением ради территории - территория необходима, чтобы разместить войска, - войска нужны, чтобы охранять территории...
Генеральская наука. Мнения нижних чинов никто не спрашивает.
С какой это стати молодчага в лампасах прислушается к надорванному голосу давным-давно истлевшего унтер-офицера:
Взгляни, наперсник сатаны,
Самоотверженный убийца,
На эти трупы, эти лица,
Добычу яростной войны!
Не зришь ли ты на них печати
Перста невидимой руки,
Запечатлевшей стон проклятий
В устах страданья и тоски?..
Это Александр Полежаев повествует о предыдущей (об одной из бесчисленных предыдущих) карательной экспедиции в Чечню. Война, как известно, продолжалась более полустолетия, угасла всего сто тридцать лет назад.
Полежаев попал на Кавказ не по своей воле, добывал там (не добыл) офицерские эполеты, совесть его не страдала, он чувствовал себя так, словно попал в роман Фенимора Купера, и чеченцы были для него, как и для всех просвещенных современников, - те же индейцы: нехристи, дикари; отвергают самую передовую в мире идеологию и технический прогресс; как же не убивать их? Опять же стратегические интересы...
Так что вообще-то Полежаев имел намерение воспеть. Но также хотел и блеснуть невыдуманными подробностями: не в тылу, дескать, сочинялось, не в обозе. От этого текст получался не совсем праздничный:
В домах, по стогнам площадей,
В изгибах улиц отдаленных
Следы печальные смертей
И груды тел окровавленных.
Неумолимая рука
Не знает строгого разбора:
Она разит без приговора
С невинной девой старика
И беззащитного младенца;
Ей ненавистна кровь чеченца,
Христовой веры палача,
И блещет лезвие меча!..
Как видим, только в предпоследней строчке нашлось убедительное оправдание для действий ограниченного контингента захватчиков. Не будь ее пожалуй, цензура вмешалась бы (временный, то есть, информационный центр) - и была бы по-своему права: не слишком ли иного ужаса и жалости? Военнослужащий, называется, - кого жалеет? Неблагодарных басурман, даже не способных понять, что их убивают лишь для того, чтобы сделать полноправными субъектами.
Государство тратит порох, свинец, молодые жизни собственных подданных, только бы дать этим горцам возможность хоть через сто лет отправиться на казенный счет в казахстанские степи, - а они не ценят своего счастья, нашего великодушия... разбойники!
Но что поделать с этой литературой! Не умеет проникнуться интересами генералов и госбезопасности (стратегическими, разумеется). Знай горюет по пустякам: не о целостности территорий, а о девичьей косе: ну, прикончили наши храбрецы по ходу дела чеченскую девушку - и черную, в три грани, косу шутки ради шашкой снесли, - ну, бывает, - а вот поэту, видите ли, жаль девушку.
Казалось бы, ясно, что красавица сама виновата: кто ей мешал добровольно отдаться русскому штыку, сделаться неотъемлемой, так сказать, россиянкой? А поэт - свое шепчет, слабак: больно ему, слабаку, смотреть на эту косу под ногами, в пыли, в крови:
Оставь меня!.. Кого лелеет
Украдкой нежная краса,
Тому на сердце грусть навеет
В три грани черная коса.
Все равно никто ее не читает, литературу эту.
Письмо VII
10 января 1995
Старый стиль - юлианский календарь - дает неисправным должникам благовидный предлог для небольшой отсрочки. Еще не поздно исполнить некоторые обещания, данные себе самому.
Чуть ли не целый год я собирался - да все недосуг - похвалить как можно громче книжку, изданную С. - Петербургским университетом: А. Г. Булах, Н. Б. Абакумова. Каменное убранство главных улиц Ленинграда.
Просто не знаю более утешительного сочинения. Это минералогия города, книга о веществе декора: о мраморах, гранитах, известняках, издали принимаемых нами за окаменевший воздух. Каждый фасад неторопливо рассмотрен словно бы в мощный телескоп:
"Из-за слоя краски трудно определить естественный цвет песчаника на фасаде дома 106, где находится ресторан "Универсаль" Этим камнем выложена горизонтальная полоса над окнами второго этажа, отделяющая облицованную гранитом нижнюю часть дома от верхней, оштукатуренной. Поскольку плиты песчаника выкрашены в серый и темно-розовый цвета, можно предположить, что здесь были применены серый и красный песчаники. На высоту двух нижних этажей фасад облицован плитами из красного крупнозернистого гранита, похожего на валаамский с острова Сюскюянсари..."
Бездна сведений, пропасть труда, какая-то неистовая тщательность придают самой этой книжке - оформленной, конечно же, нищенски - плотность и долговечность камня.
Если господа генералы вздумают за какие-нибудь провинности нашего мэра поступить с Петербургом, как с городом Грозным, - иностранный турист или дальний потомок с такой книжкой в руках не потеряются среди развалин: по осколкам розового тивдийского мрамора или темно-красного бременского песчаника отыщет, где стоял Казанский собор, где - Публичная библиотека.
Кстати, о генералах. Им я тоже в прошедшем году кое-что задолжал. Но сам с собою заключил как бы пари: вот подольше помолчу - и непременно кто-нибудь другой не выдержит - кто-нибудь с фамилией поблагонадежней; не может же быть, чтобы все образованные люди, все до единого, притворились, будто ни сном ни духом не ведают о так называемых романах Г. Климова: тиражи-то неимоверные, а библиотекари числят этого самого "Князя мира сего", а также "Имя мое легион" в первом десятке бестселлеров. Сам факт, откройся он в европейской стране, ужаснул бы общественное мнение: в худшие из средних веков не бывало текста, исполненного столь мрачной и столь похабной злобы... Короче, пари я проиграл.
Не знаю, жив ли еще этот Климов. Американской разведке он якобы продался вскоре после войны, надо полагать - гэбэшником уже в чинах, так что немолод. Якобы занимался психологическими диверсиями. Пишет в технике промывания мозгов. Слог - хамский, уснащенный сальностями. Идея одна и вдалбливается читателю бесчисленными повторами на сотнях страниц: евреи - не люди, их существование представляет смертельную опасность для человечества, они активные носители абсолютного зла. На шикарно уродливой суперобложке дьяволы с шестиконечными звездами.
- Причем тут генералы? - спрашиваете вы. - И кому какое дело до этого Климова? Порядочные люди подобных книг не читают. И вообще - что за сюжет в Рождественскую неделю?
Отвечаю. Генералы притом, что оба романа Климова изданы "Воениздатом", то есть с ведома, а значит - по приказанию - военачальников и полководцев. Порядочные люди хоть и предпочитают детективы, но тоже имеют право и даже обязаны знать, на что расходуются их деньги, из так называемого оборонного бюджета. Что же до праздника... Он залит свежей кровью, закрашен враньем, и лично я думаю, что армия, руководимая любителями Климова, не в силах действовать менее бесчеловечно, менее бессовестно, менее бездарно.
Письмо VIII
24 января 1995
Сказуемые воруют и убивают - конечно, не передают всего разнообразия нашей жизни. Если на контурной карте России вывести эти слова самыми крупными, как и следует, буквами, - все-таки в промежутках каждый, кроме покойного Карамзина, сумел бы уместить глаголы помельче: скажем, пьют, болеют и т. д. Не упустим словосочетания смотрят телевизор: Е. Т. Гайдар, упразднив очереди за продовольствием, высвободил миллиарды человеко-часов для наслаждения "Санта-Барбарой". На предложениях типа "Работают" или "Читают" настаивать не приходится, но все же без риска солгать пометим хоть на обороте карты, что упомянутые в них действия совершаются тоже. В частности, как ни странно, кое-кто пишет и кое-что издают.
Жадные невежды книжное дело покидают (усекли, что понта нет и капитал отбеливается безупречней в других котлах), - а свирепые обкомовские лицемеры еще не вошли в прежнюю силу.
И происходит небывалое: замечательные книги являются в свет прямо при жизни авторов.
Александр Эткинд. Эрос невозможного. История психоанализа в России. Подзаголовок обозначает вроде бы научную тему, а на самом деле - сюжетный ход. Перед нами существенный фрагмент из истории европейской культуры, принявший очертания сюжетного романа. Изучается последовательность фактов, неизвестных и важных. Но при том какие страсти пылают! Какие характеры противоборствуют! Какие речи звучат!
Пересказывать нельзя и не хочется, потому что потеряется самое удивительное - связность повествования, почти волшебно совпадающая с поступательным движением авторской мысли. Судьбы и концепции пересекаются в самых неожиданных точках, как если бы хронология повиновалась фантазии. А между тем все так просто, так неизбежно - или представляется неизбежным сегодня, отсюда... Обдумывая несколько гениальных метафор главного героя, прочие действующие лица испытывают ими жизнь - свою и других, - а на дворе двадцатый век, а над Европой - кровавый закат свободы, - и вот уже людей, чье бытие определялось их сознанием, бросают, улюлюкая, в небытие - так массы реализуют, не читая, метафоры гения: старый венский еврей догадался, что каждый живет в своем собственном аду, - а мы наш, мы новый ад построим, один на всех, и за ценой не постоим...
Короче говоря, очень грустная книга - о любви, не побеждающей смерть, Сталину не понравилась бы.
Ну, а "Сантименты" Тимура Кибирова - стихотворные шутовские поминки по другой культуре, воздвигнутой сталинскими соколами и ужами на костях персонажей предыдущего автора.
В этой другой, зловонно-жизнерадостной так называемой культуре мы, нынешние взрослые, долго утешались эросом вполне возможного и отсутствием трагизма. В ней сознание в упор не видело бытия - личной судьбы никому не полагалось, - а типовая биография состояла из коммунального быта пополам с коллективной идеологией...
Изобразить все это стихами - наверное, нелегко. Тимур Кибиров нашел ход мучительный. Вообразим, что земляного червя тошнит пройденными переваренными - километрами почвы: такая опустошающая тошнота до сладких слез изнеможения - в стихах Кибирова. Ужас в том, что человека рвет всей пошлостью прожитой жизни, - а ничего другого и не было или ему не досталось, - так что его рвет самой жизнью, а он не в силах свою жизнь не любить.
... Пахнет, Боже, сосновой смолою,
Ближним боем да раной гнилой,
Колбасой, колбасой, колбасою,
Колбасой, все равно колбасой!
Неподмытым общаговским блудом,
И бензином в попутке ночной,
Пахнет Родиной - чуешь ли? - чудом,
Чудом, ладаном, вестью благой!..
Неприятно читать, не правда ли? А жить?
Письмо IX
1 марта 1995
Не в Европе холодно, и не в Италии темно, - зато про власть сказано в этой строфе Мандельштама все, что нужно. Однако ж попользуемся, пока дают, ограниченной свободой обесцененного слова, - ничего слаще этой морковки не будет.
Итак, вот еще две книги, о которых стоило бы подумать, - но некогда и, главное, некому: ведь мы читаем как раз, чтобы не думать, а точней - чтобы не жить. Впрочем, и остальные действия совершаем с той же целью.
Т. В. Петкевич. Жизнь - сапожок непарный. Воспоминания.
Исаак Фильштинский. Мы шагаем под конвоем. Рассказы из лагерной жизни.
Тираж первой книги - 15 тысяч, а второй - в пятнадцать раз меньше.
Жанры тоже разные. "Жизнь - сапожок непарный" - самый настоящий роман. История романтической красавицы, судьба очарованной души. Неизбежный путь от неоправданно высокой самооценки - к еще более высокой, но оправданной, путь унижений и утрат. Мечта о взаимной страсти, основанной на взаимопонимании... Словом, эта проза - скорее для читательниц и от каких-нибудь Унесенных ветром или Поющих в терновнике отличается лишь тем, что автор не сочиняет, а вспоминает, - и еще тем, что все приключения Унесенных и Поющих выглядят игрой благовоспитанных девочек в дочки-матери как сравнишь их с ужасающим сюжетом Т. В. Петкевич. Потому что это тюремный, лагерный, каторжный сюжет.
Исаака Фильштинского читать не так страшно. В лагере он никого не полюбил, и вообще старался не жить, а выжить, ничего не принимая близко к сердцу и не думая о себе, а только наблюдая за другими. Филолог, историк арабской литературы, собеседник знаменитых мертвецов другой цивилизации, он рассматривал каторгу как путешествие в реальность, как случай поближе узнать живых. Это удалось и даже пригодилось. Лаконичные новеллы Фильштинского изображают в лицах конец сороковых-роковых, а также начало пятидесятых несравненно ярче, чем вся советская литература означенного времени. Уплощенные страшным давлением, характеры выявляются в считанных словах и поступках полностью, судьбы предсказуемы: раб жалок, смешон, прост.
Шумный успех ни той, ни другой книжке не угрожает. Есть что-то болезненное в боязливом равнодушии, с каким Россия отворачивается от любой правды о ГУЛАГе. Тут не просто бессознательное чувство вины (за то хотя бы, что питаемся плодами преступного прошлого - пусть горькими, а все-таки живем лишь благодаря тому, что другие, бесчисленные, погибли).
И не только выгода негодяев, хотя бывшие палачи, доносчики, охранники составляют огромную часть населения и требуют льгот и почестей, полагающихся ветеранам войны и труда.
И даже не предчувствие, что и нас ожидают эти врата, - а механизм исправен, только две буквы названия пришлось бы переменить...
По-настоящему тяжело помнить, что лагерь - истинный образ нашей жизни, нашего отношения к так называемым общечеловеческим ценностям, оттого и произносим эти слова не иначе как с оттенком насмешки: нам ли не знать, что ничего подобного не существует. Мы привыкли смотреть на себя глазами рабовладельческого государства - как на лагерную пыль, как на пушечное мясо, - нам известно главное: что с человеком можно сделать все - и человек стерпит.
Это тайное презрение к себе - вирус ГУЛАГа, и нам неохота и незачем читать о лагерях: знаем всё сами, молчи!
... Жизнь пошла по кругу, ее всю ничего не стоит пересказать цитатами из давным-давно прочитанных вещей. Вот первый попавшийся пример официальная военная сводка:
"Бой близится к концу. Противник потерял меч. Копье его сломано. В ковре-самолете обнаружена моль, которая с невиданной быстротой уничтожает летные силы врага. Оторвавшись от своих баз, противник не может добыть нафталин и ловит моль, хлопая ладонями, что лишает его необходимой маневренности"...
Это "Дракон", пьеса Шварца. Не в ней ли мы живем?
Письмо X
22 марта 1995
Книжный магазин - единственное место, где нетрудно вообразить, будто проживаешь в цивилизованной стране. Иной раз такая бросится в глаза обложка - просто ахнешь про себя: послушайте! ведь если подобные книги выпускают - значит, это кому-нибудь нужно? значит, кто-то хочет, чтобы они были?
В пятом, не то в шестом столетии некий византийский богослов, желая обеспечить своим сочинениям неприкосновенность и бессмертие, пожертвовал славой личного имени: приписал все четыре трактата и десяток посланий одному из учеников апостола Павла, мельком упомянутому в "Деяниях апостолов". (Это когда Павел проповедовал в афинском ареопаге: тезис о воскресении из мертвых вызвал всеобщий смех, но кое-кто и уверовал - например, судья по имени Дионисий и еще какая-то Дмарь.) Вот этого-то Дионисия Ареопагита и объявил автором своих текстов дальновидный византиец - и его мистификация блестяще удалась. Церковь жила его мыслями и дорожила каждым словом полторы тысячи лет, и когда в конце прошлого века дотошные немецкие филологи установили, что правильней было бы называть этого человека Псевдо-Дионисием Ареопагитом, его авторитет практически не пострадал. А трактаты будто бы прекрасны.
Два из них только что вышли в издательстве "Глагол": греческий текст и параллельно русский. Я думаю, расходы по изданию обошлись в кругленькую сумму. Залп какой-нибудь установки "Град" вряд ли намного дороже.
Книга В. В. Антонова и А. В. Кобака "Святыни Санкт-Петербурга" (издательство Чернышева) соблазнительней для простого смертного и доступней. Тираж книги - 10 тысяч. Это первый том историко-церковной энциклопедии. Краткие, точные, изящно написанные справки о монастырях, соборах, приходских церквах. Неизвестных фактов - бездна, увлекательнейшее чтение.
Также вышла, говорят, книжечка стихотворений шведского поэта Бельмана в переводах С. В. Петрова. В магазинах я ее не нашел. Этот Карл Микаэль Бельман был ровесник Державину и как бы северный Вийон, забубённый такой сочинитель застольной лирики. А Сергей Владимирович Петров был вдохновенный, всемогущий мастер, и я очень надеюсь, что никогда не забуду, как он своего Бельмана напевал, как доволен был очередным удавшимся чудом... При жизни переводчика этой книжке не давали ходу - главным образом потому, что тексты слишком хороши.
А "Святыни Санкт-Петербурга" ни за что не могли быть напечатаны при так называемой советской власти - понятно почему. И Псевдо-Дионисию ничего не светило: слишком настоящий. Как ни омерзителен данный исторический момент, признаем справедливости ради, что бывало и гаже. Желающие убедиться благоволят заглянуть в монографию А. В. Блюма "За кулисами "Министерства правды". Тайная история советской цензуры 1917-1929". Издана в Санкт-Петербурге гуманитарным агентством "Академический проект".
Нет, увы, это далеко не вся история советской цензуры. Такая история не может быть написана и напечатана в нашей стране, пока люди цензуры и госбезопасности процветают в ней и управляют ею. До Псевдо-Дионисия у них руки сейчас не доходят, это верно, зато документы преступлений охраняются куда надежней, чем военные склады. Книга А. В. Блюма - героическая разведка, эскиз очерка, случайные обрывки тошнотворной истины. Читая, задыхаешься. Всего лишь 20-е годы, истребление читателей впереди, а пока уничтожаются книги, - но стиль уже сложился: наглый, невменяемый, безжалостный - тот самый, каким пользуются и сегодня начальники, даруя, например, чеченцам свободы и права. Приведу одну-единственную строку из одного-единственного ежеквартального списка неразрешенных рукописей. Ленгублит, 1927 год, второй квартал.
"Автор - Лесков. Название - "Несмертелъный Голован". Издательство "Прибой". Мотивы запрещения - идеологические".
Многие тоскуют по этому стилю, по недреманному оку и железной окровавленной руке.
Письмо XI
19 апреля 1995
Не осталось мужей, коих мог уважать.
Лишь вино продолжает меня ублажать.
Не отдергивай руку от ручки кувшинной,
Если в старости некому руку пожать.
Вышел томик Омара Хайяма в издательстве "Невский курьер". Как сказал бы основоположник, очень своевременная книга: первосортный опиум для народа самая усвояемая философия в позлащенных пилюлях.
С той, чей стан - кипарис, а уста - словно лал,
В сад любви удались и наполни бокал,
Пока рок неминуемый, волк ненасытный,
Эту плоть, как рубашку, с тебя не сорвал!
Это было идеальное чтение "в эпоху застоя", - но именно сейчас, как никогда, Хайяму нет цены и замены.
Недееспособность русской классики на родных просторах сделалась очевидной - о западной умолчим. Еще в конце XVIII века русская литература поверила в реальность пресловутых общечеловеческих ценностей, особенно пленясь идеей сына одной еврейки - он же Сын Человеческий - о любви к другим - к так называемым ближним. Русская литература, в отличие от церкви, не была государственной - и приняла в историческом процессе сторону людей. Это вовлекло ее в нескончаемую тяжбу с Творцом о смысле зла и пользе несчастья - она до последнего издыхания не принимала необходимость несправедливости.
Прямо смешно: какой-то новый Новый Завет. Белинский вопил, что плюет на прогресс, если прогресс непременно должен быть оплачен человеческими жертвоприношениями:
"Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен на счет каждого из моих братьев по крови!"
При этом братьями по крови - что почти невероятно, - считались, представьте, буквально все. Персонаж Достоевского, повторяя за Белинским эту мысль - что мировая гармония не стоит слезинки замученного ребенка, - явно не догадывался, что дети детям рознь, - да и воображаемую эту мировую гармонию ставил почему-то выше имперских интересов. Отсюда один шаг до государственной измены. Герцен, если разобраться, до нее и докатился покусившись на нашу территориальную целостность в год польского восстания:
"... Если б мы верили, что русский народ в своем азиатском раболепии любит господство над другими народами, и в силу этого выносит рабство и в силу этого станет теперь за правительство, против Польши - нам осталось бы только желать, чтоб Россия как государство была унижена, обесславлена, разбита на части; желать, чтоб оскорбленный и попранный народ русский начал новую жизнь, для которой память прошедшего была бы угрызением совести и грозным уроком..."
Даже отлучение Льва Толстого от церкви не отучило русскую литературу от бредней. Но историческая практика их разоблачила. Десятки лет лучшие в мире учителя преподавали эту, самую добродетельную в мире литературу миллионам школьников, - а государство пересоздавало их по своему образу и подобию взгляните же на лица теперешних взрослых...
Не опасаясь Грядущего Хама (поскольку он уже пришел), перечитаем Омара Хайяма, простите за рифму. Он открыл бином Ньютона задолго до Ньютона - и раньше, чем нужно.
В XII столетии, когда повсюду еще воспевались героические походы рыжих муравьев на муравьев черных (если половец не сдается - его уничтожают, а сдается - обращают в рабство; пусть это самое "Слово о полку" подделка - но ведь правдоподобная), - Хайям уже осознал, что суетиться не стоит мироздание подобно империи: управляется законом неблагоприятных для человека случайностей - необозримый концлагерь, где единственный неоспоримый факт смертный приговор, а принадлежит лично нам лишь неопределенное время отсрочки; хорошо на это время пристроиться придурком в КВЧ (например звездочетом к эмиру), - но достоин зависти, а также вправе считать себя живым, счастливым и свободным - только тот, кто выпил с утра.
В новом издании - 1333 четверостишия, из коих 510 ранее не были никем переведены. Должно быть, это повышает ценность книги, - хотя бесспорно принадлежащими Хайяму считаются 66 рубаи, - а главное - Герман Плисецкий, говорят, умер. Хайяма переводили разные замечательные мастера - Герман Плисецкий один дал ему вечную жизнь в русском языке. Он передал в рубаи Хайяма презрение и отчаяние советского интеллигента, как бы начертив маршрут Исфахан-Петушки, далее - Нигде.
Нет ни рая, ни ада, о сердце мое!
Нет из мрака возврата, о сердце мое!
И не надо надеяться, о мое сердце!
И бояться не надо, о сердце мое!
Письмо XII
7 мая 1995
Рукопись пресловутого "Ледокола" так называемый Виктор Суворов прислал мне первому - чтобы напечатать в "Неве" вослед его же "Аквариуму". Договаривались по телефону - и, признаюсь, я нервничал. Когда человек на другом конце провода скрывается от исполнителей смертного приговора - пусть незнакомый человек и наверняка не прекрасный, - все равно время растягивается нестерпимо - помните соответствующий эпизод у Солженицына - "В круге первом"? - чт, если прямо сейчас моего собеседника вычислят и настигнут?
Московский журнал "Неву" опередил - это, быть может, и к лучшему. - а волноваться, подозреваю, не стоило: во-первых, отличник ГРУ не лыком шит, а МI-6, или как ее там, веников не вяжет, - но важнее во-вторых: кто станет палить из пушек по курице, несущей золотые яйца?
Как-никак "Ледокол" - единственная талантливая попытка спасти честь если можно так выразиться - коммунистической партии и советского правительства образца 1941 года.
Строевые генералы и политические полковники в мемуарах и диссертациях вот уже тридцать лет изо всех сил не отвечают за заданный в книжке А. М. Некрича "1941 год, 22 июня" простой вопрос: почему германская армия в считанные месяцы разгромила Красную и оккупировала чуть не полстраны?
Некрич раз навсегда изобличил вранье насчет внезапности нападения - тут и руководители разведорганов нехотя его поддержали, даже пару документов подкинули. Вранье, что у немцев было больше военной техники, Некрич не осмелился опровергать - реальные цифры всплыли гораздо позже, совсем недавно, - зато сосредоточился на действиях советского руководства накануне войны. Уничтожение комсостава, разрушение приграничных укреплений и так далее, вплоть до пушек без боезапаса и скопления беззащитных самолетов вдоль границы, вплоть до директивы "не поддаваться на провокации". Все делалось словно нарочно для того, чтобы облегчить Гитлеру победоносный блицкриг. Так вот: чт это было - измена или патологическая, уголовная, равнозначная измене глупость, - как бы вопрошал простодушный фронтовик Некрич, и по всему замечалось, что ему небезынтересно еще более страшное - чья?
Официальные историки пропустили эту бестактность мимо ушей, ограничившись тем, что изъяли из обращения дерзкую книгу вместе с автором (А. М. Некрич умер в изгнании).
А прочим интересующимся (такие были) мужественно, со всей прямотой объявили, что да, действительно, в 1941 году произошла неприятность, и кое-кто из тогдашнего руководства что-то такое проворонил, - и хватит с вас. Все остальное - клеветнические измышления. Ведь за боеготовность Советского Союза отвечали персонально такие люди, как Сталин, Берия, Ворошилов, Жуков. Как минимум, двое из них точно были не кретины, что же касается измены - да у кого повернется язык и т. д.
Погибшие, конечно, погибли - но это несчастная случайность, - а упомянутые стратеги повиновались главнокомандующему, а у него был характер плохой, этого не скроем, - однако не могли же ему доложить, что Гитлер сказал одному из приближенных, будто Сталину и поручит управлять Россией, присоединенной к Рейху: мол, никто лучше Сталина не умеет обращаться с русскими. Да еще и не факт, что Гитлер не пошутил...
Автор "Ледокола" предложил эффектную, правдоподобную - тоже фактами обоснованную - гипотезу, нашел исключенное третье.
Не предатели, но и не дебилы - просто подзабыли об обороне, поскольку увлеклись подготовкой к нападению; собрались воевать на чужой территории нечаянно приоткрыли свою; пропустили удар, как боксер, неловко замахнувшийся; раскинув матовую сеть, зевнули ферзя...
Чем плохая гипотеза? Разве не обеляет она, хотя бы отчасти, Сталина и его соколов? Особенно в глазах иностранной общественности.
Ведь получается, что сторону Гитлера в мировой войне Сталин принял только поначалу и больше для виду, или по необходимости, а при первом удобном случае вознамерился вооруженной рукой задушить фашизм в его логове. А что министр иностранных дел СССР в 1939 году заявлял на весь мир: бессмысленно, дескать, вести войну под фальшивым флагом уничтожения гитлеризма, поскольку эту песню не задушишь, не убьешь, идеи неуничтожимы, так это Молотов, старый плюралист, отсебятину молол.
(Это теперь видно, что был прав - теперь, полвека спустя, когда идеи Гитлера живут и побеждают - по крайней мере в типографиях Минобороны.)
Версия "Ледокола" - очень удобная. На первый взгляд, даже странно, что начальство ею пока не пользуется - и произносит совершенно Бог знает что. Например, В. С. Черномырдин в юбилейном докладе объясняет поражение 1941 года - "неимоверной централизацией руководства всеми сторонами жизни и деятельности государства...". А победили в 1945-м почему? Децентрализация случилась?
Но с мыслью, что на Пискаревском или в Бабьем Яру лежат пешки, съеденные за фук, - примириться невозможно. И мы предпочитаем думать, что не было напрасных, бездарных жертв, что все, кто умер, - погибли за Родину.
(Хотя вряд ли у кого-нибудь в Бабьем Яру были такие иллюзии. А попробуйте выговорить: полтора миллиона умерли за Родину от голода...)
Так вот, за Родину - а не то что узники, предположим, Колымы по приказу лагерной администрации разоружили охрану Освенцима и Дахау. За Родину - а не просто на выручку Западной Европе или на порабощение Восточной. За Родину ведь фашисты напали!
А по "Ледоколу" этому выходит, что, промедли Гитлер пару недель Сталин ударил бы первым, - и война была бы другая: наверное, Великая - но не Отечественная. Тогда кто же кого перехитрил? Кто из двух злодеев зачинщик единственной справедливой войны в истории Советского Союза? Суворов как будто вообще недоволен, что они поссорились.
К настоящей правде ближе всех, по-видимому, Л. Н. Толстой:
"Каждое действие их, кажущееся им произвольным для самих себя, в историческом смысле не произвольно, а находится в связи со всем ходом истории и определено предвечно".
Короче говоря, Бог - не фраер, а мастер сюжета. Будем надеяться.
Письмо XIII
12 мая 1995
Одна ласточка не срывает подписку, поэтому покамест продолжим то, что почтенная читательница г-жа А. в предпраздничном номере "Невского времени" называет моим еженедельным издевательством над русской классической литературой и нашей историей.
Я не обижаюсь, потому что знаю за собой этот неисправимый литературный недостаток: не умею писать для тех, кто не умеет читать. Притом фамилия вызывающая, к тому же имя обнажаю беззастенчиво... Короче, мне поделом.
А вот о. Глеба Якунина не стоит честить русофобом и расстригой. Насчет русофоба - поскольку этот термин у нас применяется к любому, кто заподозрен в порочащих родственных связях (например, с Богородицей либо с апостолами), - Вам видней, а меня анкета о. Глеба не интересует. Но нам ли с Вами - существам отчасти мирским - судить о сане духовного лица? Это такой вопрос, что и большие чины ГБ решают его не иначе как в пышных ризах. И потом - вспомните протопопа Аввакума: вот расстрига, инородец, узник совести - тоже архиереев обличал - диссидент в точном смысле слова, но авторитет покруче современных митрополитиков. Никого ни с кем не сравниваю, а просто - бранные слова мало что значат и, по-моему, лучше оперировать мыслями.
В чем я решительно с Вами не согласен - это что будто бы наша газета борется с антисемитизмом. Надеюсь, что нет - по крайней мере, я не участвую. Это даже христианской церкви не под силу - а какой же текст сильней Евангелия? Но хватит об этом.
Новое издательство с бесхитростным (ой ли?) названием "Азбука" выпустило том прозы Юр. Юркуна - "Дурная компания". Со стороны издательства поступок не из разряда обыкновенных торгашеских. Юркун известен крайне мало и скорей как персонаж судьбы и лирики М. А. Кузмина - как верный спутник по прозвищу Дориан Грэй. Верный до смерти. Даже влюбившись в О. Н. Гильдебрандт-Арбенину - гениальную красавицу, - "мистер Дориан" не покончил с собой из-за раздвоения страсти (как поступил Вс. Князев, герой "Поэмы без героя") и не покинул Кузмина. О. Н. поселилась вместе с ними, в той же квартирке на Спасской улице. Осколки Серебряного века в коммунальном быту... Кузмин в дневнике обзывал Фрейда грязным жидом (ненависть бабочки к энтомологу, я полагаю), - но только Фрейд, и то лишь овладев идеей прописки, мог бы изобразить их жизнь внятными словами. Потом Кузмин умер, а Юркуна увели в Большой Дом и убили выстрелом в затылок 21 сентября 1938 года, сообщив близким, что приговор - десять лет исправительных работ без права переписки. Ольга Николаевна стала ждать, считая дни. Наконец, 13 февраля 1946 года написала мертвому:
"Юрочка мой, пишу Вам, потому что думаю, что долго не проживу. Я люблю Вас, верила в Вас и ждала Вас - много лет. Теперь силы мои иссякли. Я больше не жду нашей встречи. Больше всего хочу я узнать, что Вы живы, - и умереть. Будьте счастливы. Постарайтесь добиться славы. Вспоминайте меня..."
Но прав был Зощенко: жизнь устроена проще, обидней и не для интеллигентов. О. Н. умерла в 1980-м. Ее мемуар "О Юрочке" напечатан в названной книге как приложение.
Человек, которого так необыкновенно любили, - Юр. Юркун прозу сочинял не потрясающую. (Но Пастернаку она вроде нравилась.) Безвольное воображение, синтаксис неживой. Лично мне и вступительную статью В. К. Кондратьева к этому однотомнику, и примечания П. В. Дмитриева и Г. А. Морева читать интересней, чем роман, повесть и рассказы самого Юркуна. Зато чувство тайны не рассеивается. Как если бы от великого бегуна ничего не осталось, кроме каких-нибудь неловких поделок по дереву: детский лобзик не передает стиля.
Правда, Юркун еще и рисовал - и Арбенина тоже.
"Всю жизненную силу, всю волю я отдала на спасение и сохранение НАШИХ картинок, НАШИХ писем. Мы - умрем, но ЭТО бы могло жить века, и в этом была бы моя и Ваша душа, мое и Ваше сердце, моя и Ваша кровь, быть может (?), Ваш и мой гений".
... Проще и обидней.
Письмо XIV
24 мая 1995
Иосифу Бродскому - пятьдесят пять лет, у него день рождения.
Пока он пишет стихи, какие пишет, - наше поколение от старости заговорено - и Роберт Фишер никому не проиграет.
Все понимать, но ничего не бояться, обращая неизбежность утрат в свободу отказа.
Бродский - автор последней иллюзии: будто жизнь без иллюзии смысла имеет смысл. Только в этой иллюзии реальность похожа на себя - пока звук, распираемый силой такого смысла, наполняет нас невеселым счастьем.
Бродский храбр настолько, что верит в существование Вселенной без него. Собственно говоря, он только и делает, что испытывает данность чьим-нибудь отсутствием - чаще всего, своим, - выказывая необыкновенное присутствие духа.
Он самый привлекательный герой нашего времени и пространства. Метафизика его каламбуров посрамляет смерть и энтропию и внушает читателю нечто вроде уважения к человеческой участи - ведь это ее голос:
Только пепел знает, что значит сгореть дотла.
Но я тоже скажу, близоруко взглянув вперед:
не все уносимо ветром, не все метла,
широко забирая по двору, подберет...
Как знать, как знать, хотя насчет Иосифа Бродского я совершенно уверен. Важней и несомненней, что не будь мы зрителями Феллини, читателями Бродского - нипочем не догадались бы: кто мы, где мы и с кем.
Но что если сама догадка - просто сон птичьего двора о перелетном гусе?
Все равно - это лучший из снов.
Письмо XV
10 июня 1995
Оказывается, "Молодая гвардия" пылает непримиримой враждой к "Нашему современнику" - никогда не догадаетесь, за что. За одну якобы нечаянную обмолвку академика Шафаревича - ныне именуемого в "МГ" не иначе, как Авторитет Измены. Забыты его заслуги, под сомнением его "Русофобия" - а все потому, что осмелился пискнуть в каком-то интервью, будто математика "наука космополитическая". Ну и полощут же его!
"... Разве не было ясно чуткому, пусть и "необразованному" уму, что это - вряд ли голос русcкого ученого?.. Не присущи людям русской науки "нечаянные" оговорки, "обмолвки" на этот счет..."
Мне сказали, что в этом номере - ноябрьском, прошлогоднем - один наш пишущий согражданин вроде как поставил рекорд неблагородства, - и я приневолил себя прочитать всю книжку, но теперь не жалею.
Хотя вообще лучше ничего такого руками не трогать. Прочитаешь рассердишься и вряд ли промолчишь, а беседовать с людоедом о вегетарианстве нелепо и даже как бы низко.
Свобода слова есть, а общественного мнения нет - стало быть, все дозволено и скучно.
Разумный человек не удостоит вниманием автобусного хама: пусть хам во все горло хоть из матери в мать - разумный человек беседует как ни в чем не бывало с прелестной спутницей о смысле, например, искусства или жизни, - это приличней, чем искать разбитые очки под ногами равнодушных свидетелей. Держитесь подальше от подвалов, если вы не крысолов, не крысобой... Так, бормоча, я все же одолел упомянутый журнал и в нем пресловутую вещицу согражданина.
... Сюжет из истории советской литературы. Поэт Олейников ("Маленькая рыбка, жареный карась...") одно время дружил с поэтом Маршаком ("Жил человек рассеянный..."), затем они рассорились. В 37-м Олейникова посадили и расстреляли, а Маршака - не успели, он уехал в Москву и умер своей смертью через много лет. Факты известные, но имена-отчества персонажей подсказывают автору новую трактовку.
Маршака звали Самуил Яковлевич. Это позволяет уверенно утверждать, что свою детскую литературу он создавал под непосредственным руководством ОГПУ Тамошние Наумы Абрамовичи и Яковы Ефимовичи ему поручили
"создать детскую литературу для русских людей, которая помогла бы им вырасти такими, какими хотело их видеть новое еврейское начальство".
А Олейников был Николай Макарович, из казаков. Из этого мы заключаем: в глубине души он был зоологический антисемит и ненавидел советскую власть, что прекрасно, - а в большевики подался и с евреями дружил из шкурных соображений, - что понятно и простительно. Это дает ключ к творчеству Олейникова: презирая опасность, он в книжках для детей тонко пародировал "еврейско-большевистскую болтологию", - ну, а стиль его трагикомической лирики разгадать легче легкого:
"Попав в Ленинграде в среду еврейских деятелей искусств, заполнивших квартиры расстрелянных или высланных Сергеем Мироновичем из города русских интеллигентов, он чувствовал себя достаточно неуютно среди местечкового визга и грязи. Поэтому обращение его в стихах к "галантерейному языку" было единственным способом выразить себя и тем самым сохраниться от растления".
Не с очевидностью ли вытекает из вышесказанного неизбежный заключительный вывод: Олейникова взяли по наводке Маршака? Не вправе ли автор прямо переходить к художественному описанию Левашовской пустоши?
"... И снова чудятся в этой сумрачной непогоде странные зловещие силуэты, вот промелькнула между темными деревьями тень, схожая с обликом Самуила Яковлевича Маршака... Страшно...".
Действительно, ужас. Но какими скупыми средствами достигнут эффект. Ведь сведений, порочащих врага, не имеется - кроме ФИО, буквально ничего, а возможности открываются необозримые:
"Если наше предположение верно и Маршак действительно был напрямую связан с руководством органов НКВД, то понятно, что и обязанности ближайших помощников его были весьма специфическими...".
Если верно, то понятно, - и отчего же не харкнуть в спину еще кому-нибудь... ах, простота!
Принцесса была настолько невинна, что не подозревала, как называется человек, оглашающий подобные предположения наугад, по наитию, без доказательств. А что документы, здесь же, прямо в тексте приведенные, предположениям противоречат, - это разве космополитическую какую-нибудь логику смутит, а национальной - хоть бы хны.
Кстати, о документах. Вот сочинителю выдали в Большом Доме протокол допроса, снятого с ныне здравствующей, но очень немолодой петербургской писательницы.
Тогда, в 37-м, под побоями, она будто бы подписала обвиняющие показания на своего любимого учителя - С. Я. Маршака. Теперь их публикуют без ее ведома - и корят ее, и попрекают, и стыдят...
Моральный аспект, разумеется, в сторону, - а вот нет ли тут признаков преступления, хотел бы я знать.
Или в самом деле каждый гэбэшник имеет право продать, подарить, проиграть кому захочет, - предположим, дело моего деда или бабушки, - а меня к этим документам не допустить, - а еще кого-нибудь ими шантажировать?
Короче говоря, на законных ли основаниях наследники палачей владеют и торгуют тайнами жертв?
Хотя - если подумать - кого я спрашиваю?
... А какие трогательные стихи повторяют в этой "Молодой гвардии" с умилением и восторгом! Это стихи из газеты "Завтра": "Боже, помилуй нас в горькие дни! Боже, Советскую власть нам верни!.. Боже, Советский Союз нам верни! Боже, державу былую верни!.."
По-моему, к такой убедительной просьбе нельзя не снизойти.
Письмо XVI
5 июля 1995
Культ личности Пушкина утвердился, как известно, в 1937 году. Смерть поэта праздновали с таким размахом, что (или чтобы) юбилейный гул, перекрывая рев моторов, совсем заглушил выстрелы.
В 1949 году все повторилось, только вполнакала, - гения растолковали народу окончательно; с тех пор все почитают его, а пенсионеры и школьники даже почитывают, - а тем, кто читает постоянно, так называемым пушкиноведам, полагается плата - впрочем, незначительная.
Пушкин в России гораздо больше чем поэт, - или гораздо меньше - как поглядеть. Культ возник, конечно, из мифа, овладевшего массами. А миф, как полагается, сочинили интеллигенты в эпоху застоя - в восьмидесятые годы прошлого века.
К июню 1880-го, когда в Москве на Тверском бульваре был открыт знаменитый памятник, - народную тропу еще никто не протоптал. "За пятьдесят лет, прошедших со дня смерти Пушкина, общее число проданных экземпляров его сочинений не превысило 50-60 тысяч", - за год, стало быть, расходилось не более тысячи экземпляров, если верить - а отчего бы не верить? - Маркусу Ч. Левитту, автору замечательной книги "Литература и политика. Пушкинский праздник 1880 года".
Ничего удивительного - славе Пушкина сильно вредили критики-демократы и вдова. О вдове м-р Левитт умалчивает - а между тем это она добилась от Александра II, чтобы срок действия авторского права на сочинения Пушкина был продлен вдвое, - и до 1887 года дешевых изданий не существовало. Зато 30 января 1887 года что началось! Настоящее столпотворение в книжных магазинах.
Правда, к этому времени суждения критиков-демократов обесценились. В Пушкине больше не видели блестящего, но безответственного рифмоплета, теперь в его произведениях следовало искать тайну судеб России. Это впервые было заявлено на торжествах по случаю открытия опекушинского памятника, - и М. Ч. Левитт подробно рассказывает, что там случилось.
Труд обстоятельный, с мыслями нетривиальными, - только жаль, что автор не воспользовался - хотя бы для эпиграфа - письмом М. Е. Салтыкова к А. Н. Островскому (25.6.1880): там его сюжет изложен, конечно, пристрастней. - а все-таки забавно:
"По-видимому, умный Тургенев и безумный Достоевский сумели похитить у Пушкина праздник в свою пользу, и медная статуя, я полагаю, с удивлением зрит, как в соседстве с его пьедесталом возникли два суденышка, на которых сидят два человека из публики. Достоевский всех проходящих спрашивает: а видели вы, как они целовали у меня руки. И по свидетельству Тургенева... будто бы прибавляет: а если бы они знали, что я этими руками перед тем делал!"
Не было, увы, между классиками настоящей дружбы.
У. М. Тодд III, однако, полагает, что толковать всерьез о дружбе подобает лишь масонам. Его книга "Дружеское письмо как литературный жанр в пушкинскую эпоху" изобилует прелестными выписками из Карамзина, Жуковского, Вяземского, - но что такое литературный жанр? и почему дружба - не более чем литературная условность? -У. М. Тодд III не дает ответа.
И все же нельзя не восхититься: ученый текст изящен, - в научных сочинениях наших соотечественников этого не бывает почти никогда.
Книга В. Э. Вацуро "Записки комментатора" - исключение. Но о ней - а может быть, и о некоторых других изданиях Гуманитарного агентства "Академический проект" - в следующий раз.
Письмо XVII
12 июля 1995
Так вот: это хорошо, что филологи, как правило, пишут скучно, и что наука о литературе - странное создание человеческого ума! - состоит главным образом из непривлекательных текстов о текстах по преимуществу привлекательных.
Будь иначе, науке этой посвятили бы себя буквально все кому не лень вы встречали когда-нибудь человека, не разбирающегося в литературе? не берущегося о ней судить? Все мы от природы - товароведы, а значит литературные критики; высказаться очень многие не прочь - но ученые признают вас ученым, только если докажете, что читали их труды, - к счастью, не у всех такая сила воли. Это во-первых.
Во-вторых, одна только, например, наука о Пушкине заключена в горе сочинений, гораздо более высокой, чем Александрийский столп, - и если бы все они были толковые - то есть не наводи они почти все такое чувство, будто вы жуете горстями пыль, - добросовестному специалисту ничего другого не оставалось бы, кроме как всю жизнь читать молча.
Да и сам предмет науки - тот же А. С. Пушкин как один из главных ее героев - оказался бы в опасности, сумей наука нам внушить, что он ей - стало быть, и нам - в принципе понятен. Как раз именно с Пушкиным это почти удалось; упомянутый в предыдущем письме американский ученый Маркус Ч. Левитт приводит яркую цитату из речи президента АН СССР на юбилейных торжествах 1937 г.:
"Да здравствует Красная Армия, бойцы которой больше интересуются Пушкиным, чем им когда-либо интересовалась либеральная буржуазия прошлого, считавшая себя монополистом образованности!"
Действительно. В середине прошлого века А. Григорьев говорил: "Пушкин это наше всё" - от имени кучки снобов. В конце - Л. Толстой задавался вопросом, что скажет народ о Пушкине, когда узнает, "что вся заслуга его только в том, что он писал стихи о любви, часто очень неприличные". Освобожденный народ первым делом разорил усадьбу в Михайловском - чем, казалось бы, не ответ? Но всего за два десятилетия наука и школа под руководством партии добились поистине чудесного результата...
Говоря всерьез, пошлость и скука официального мифа спасли Пушкина: до сих пор он автор совершенно таинственный. Он в самом деле гений - он в самом деле писатель вдохновенный - это не метафоры, - но прямого смысла этих слов ни материализм, ни православие не знают, поэтому главное цело...
Это все к тому, что В. Э. Вацуро, чья книжка "Записки комментатора" тоже издана Гуманитарным агентством "Академический проект", - чувствует тайну русской литературы, как очень немногие. Он живет в истории этой литературы, как в романе - воображаемом, но удивительно связном, - и бесчисленными новыми подробностями уточняет сюжет. Похоже, он прочитал все, что читали Пушкин, Жуковский, Вяземский, Дельвиг, Лермонтов и Гоголь, - все, что только попадалось им когда-либо на глаза, - и сделался литератором их круга, их современником, обладателем общих с ними воспоминаний. А человек даже гений, что бы ни значило это слово! - состоит из воды и памяти; думает, говорит и пишет по большей части цитатами - то бессознательно, то нарочно; не расслышав их, не раскусить, в чем соль оригинальных мыслей. За несколько страниц из этой книжки - скажем, о происхождении реплики Сальери насчет того, что Бомарше был слишком смешон для ремесла отравителя, - можно не глядя отдать дюжину монографий.
(Кстати, о Бомарше: замечание Пушкина, что драматического писателя следует судить по законам, им самим над собою признанным, - не из предисловия ли к "Севильскому цирюльнику": "... допустимо ли меня судить, как это делали иные, на основании правил, коих я не придерживаюсь?"?)
Книга В. Э. Вацуро - сборник новелл - или кратких трактатов. Они написаны легко и повествуют по большей части о фактах незаметных: кому посвящение? откуда потайной мотив? (А впрочем, историю о том, как играл Гоголь с тенью Пушкина, маловажной не назовешь...) Но так рассказывать частности умеет лишь тот, кто знает главное. И тут наука возвращается наконец в литературу.
Одна беда - опечатки. Я против телесных наказаний. Но когда корректор пропускает "сведующего", а редактор - "крестьянскую барышню", - делается грустно.
Письмо XVIII
19 июля 1995
Как это пелось в прошлом столетии: осторожность, осторожность, осторожность, господа: г-н Искариотов, патриот из патриотов, приближается сюда. Начальники спятили совсем - охотятся на "Кукол".
Впрочем, как раз эта история вздорная и непременно кончится ничем особенно если "Куклы" применят тактику правильную, то есть самую незатейливую: с чего, дескать, вообразили вы, будто обожаемые руководители нашей страны похожи на этих нелепых уродов? Даже странно; расскажите-ка поподробней, в чем усмотрели вы так называемое сходство? - и т. д.
Вот В. П. Астафьев в апрельском номере "Знамени" напечатал повесть - и на одной из страниц этой повести разочарованный ветеран войны приходит на какой-то митинг, а там витийствует некто Рванов - "будущий Президент" и автор книги "Я - Рванов". О нем сказано:
"Дела на его заводе, материально и морально устарелом, шли ко краху, и пройдоха этот вместо того, чтобы покаяться вместе с партией, его и крах этот породившей, доказывает с помощью блудного пера таких шестерок, как Кащенко, что было все хорошо и его предприятие до ручки за несколько лет довели демократы, и ничего ему не остается, как по наказу народа идти вверх и наводить там порядок".
Представьте, нашелся кандидат в президенты с более или менее созвучной фамилией - обиделся, говорят, и чуть ли не к суду попытался писателя притянуть.
А Виктор Петрович как отрезал: Рванов - плод моего поэтического вымысла. Примерно как Т. Ларина у Пушкина. Желаете судиться - докажите сперва, что вы у нас один такой и что выдумать вас невозможно. Отрезал - и, как слышно, в суд его пока не волокут. Лишь по телефону без конца угрожают: мол, как только победим - сразу повесим. Но это и без угроз ясно.
Современность, благоухая, кипит - но в Петербурге, оказывается, кое-кто помнит, когда родился Державин. В прошлую пятницу 252 годка исполнилось бы Гавриле Романовичу, если бы стоило так долго жить. День выдался ветреный, солнечный. Во дворе державинского дома собрались литераторы и знакомые литераторов, человек шестьдесят: посмотреть, как вручат Державинскую премию поэту Олегу Охапкину.
Там во дворе - бюст классика на постаменте, и вокруг постамента призрак лужайки, черновик рощицы, аллея в несколько шагов. Настелили на какие-то ящики ковровую дорожку, некто в джинсах обтер Державину бронзовое лицо (надеюсь, платком), под бессильный на ветру клавесин спел разумным баритоном красивый господин во фраке: зря на Россию сквозь страны дальны из Тредиаковского, - и праздник начался.
Тут, на Фонтанке, 118, когда-то жили мои друзья - и рассказывали, что в одной из квартир прямо над чьим-то супружеским ложем вделана в стену доска, и текст на ней удостоверяет: именно у этой самой стены общался с Музой - Г. Р.
Теперь в здании - ресторан "Державинский", а также Интерьерный театр, и музею Пушкина что-то досталось.
Исключите ресторан, добавьте наш местный Пен-клуб и общество (вроде приличных людей) под названием "Дом Державина" - получите собрание основателей Державинской премии. Тысяча долларов и большая медаль - в данном конкретном случае за многолетнее служение одической традиции.
Лауреат сказал речь - как я понял, о просодии державинской и своей - и прочитал стихи. Потом состоялся небольшой концерт - и под конец было налито всем и каждому по полстакана молдавского сухого вина.
Бедный, скучноватый, но очень опрятный получился праздник. Почти совсем без пошлости. Счастье, что не осуществилась первая, черновая мысль устроителей: разыграть сцену знаменитого лицейского экзамена - чтобы какой-нибудь ряженый, как бы в гроб сходя, благословил, кого жюри назначит.
Обошлось. Были только сад, ветер, солнце, музыка, стихи.
Кстати, о стихах. Как это удивительно у Державина - когда из трудной стукотни деревянных шестерен вдруг взлетает музыка:
Вседневно муки умножая,
Всечасно прелестьми маня,
Не льсти напрасно, дорогая,
Своей любовию меня...
В 1776 году сочинено!
Письмо XIX
6 сентября 1995
"... И почему же тогда - если я не способен - мой путь был к величию? Не к литературе вообще, а именно к величию? Ведь это не был еще один хороший писатель, медленно дозревающий на солнце как баклажан, как все эти Бунины, Куприны, Брюсовы и даже Блоки, а явно и очевидно (и даже страшно) пришел Некто... И все ахнули: "Вот он, пришел!" - и многие перекрестились от страху. Это потом они говорили следом за Толстым: "Он пугает, а нам не страшно!" - потом, когда я изменил себе... Ведь только уксус и желчь у меня настоящие, а вместо сахару - патока. Сладко, но противно. И что такое: желчь с патокой?"
Да, вы угадали - хотя бы по шутке Л. Н. Толстого: это Леонид Андреев, сорока семи лет, за год до смерти, составляет сводный баланс.
Он, как известно, покинул советскую Россию чуть ли не первый, но ушел совсем недалеко - ежедневно часами разглядывал Кронштадт в бинокль - и очень скоро умер - уже полузабытый. Потом его еще запретили в отчизне - на всякий случай. Теперь "Художественная литература" с похвальной аккуратностью заканчивает собрание его сочинений (предыдущее вышло в 1913-м), а издательство "Atheneum - Феникс" выпустило удивительную книгу "S. О. S." последние дневники Андреева, последние письма, последние статьи - мрачные мысли на Черной речке. Прощайте, прощайте, в XXI веке никто не вспомнит - и, быть может, зря.
Мастер фразы: почти каждая - да просто каждая - с восхитительной легкостью исполненный голосовой трюк. Плюс яркое воображение, плюс бесконечная наивность: дорожил красивыми словами, как романтический гимназист, - а с натуры даже рисовать не любил. Собственно говоря, это Треплев из чеховской "Чайки": писатель, не умеющий ввести читателя в обман. Ничего кроме правды - а глаза колет выдумка; пугает - не страшно...
Читателю не страшно потому, что автор не умеет скрыть свой ужас.
Леонид Андреев ни на минуту не мог забыть, что Судьба, Толпа, Сила, Злоба, Похоть, Смерть со всех сторон обступили нашу крохотную сцену и, толкая друг друга, вылавливают грязными крючьями трепещущие фигурки, уносят в мучительную тьму, не давая оглянуться на любовь и культуру.
Он чувствовал: над нашими головами - доисторический лес, и невозможно даже вообразить, чего нельзя сделать с человеком, чего нельзя отнять.
Мировая война и особенно революция полностью подтвердили его правоту: Россия необыкновенно похожа на жизнь как таковую, без иллюзий. Но он не обрадовался: у него-то как раз были иллюзии. Он не верил в окончательную победу демонов большинства, а верил в историю, в географию - не исключено, что и в Бога, - и вообще - будто время бездонней, чем глупость.
"В истории "великая русская революция" займет исключительное место как небывалый дотоле момент, когда частью мира правил, как самодержец, коллективный Дурак..."
Еще и другая метафора неотвязно преследовала его: будто бы в цивилизацию вторглись полчища четвероногих. Бинокль был сильный - при ясной погоде последствия виднелись отчетливо - и болела голова.
"Будь я воистину свободен и смел духом, будь я способен к истинному подвигу и решительному разрыву с принятой и освященной ложью, я отрекся бы от русского народа. Поднял бы крест и пошел в пустыню, без родины, без своего народа, без пристанища. Горе мое, что только русским языком я владею, и нельзя мне безвестно затеряться, утонуть в океане человечества..."
Затерялся, затонул, мечта сбылась. Один-единственный человек всю жизнь верил неколебимо, что Леонид Андреев был гений.
"Дорогой сын мой Леонид Великий писатель Вот уже менула 20. лет стого счасливого дня когда мы все радовались твоему таланту Но я не образования мать Радовалась еще раньше когда ты написал и в Орле была напечатано твой рассказ... Я больше обрадовалась не славе твоей и деньгам в последстви Поняла что значит быть писателем поделящимся с людьми своими скорбими и радостями Все люблю что ты написал тебя же самого нет придела моей любви Дай Бог тебя на многие лета быть тем чем ты есть..."
Но он-то знал, что все кончено.
Письмо XX
30 сентября 1995
Запись в "Дневнике" покойного Юрия Нагибина - майская, 1969 года - о поездке в подмосковный поселок:
"Что за люди! Что за лица! Что за быт! Все пьяны, хоть день лишь предпраздничный: и старики, и женщины, и дети... А потом мне вспало на ум другое: а ведь кругом довольные люди. Они не обременены работой, у них два выходных в неделю, куча всяких праздников, не считая отпусков и бюллетеней, водки всегда навалом, хлеба и картошки хватает... Они ходят выбирать, могут послать жалобу в газету и донос куда следует - прав хоть отбавляй. Они счастливы. Им совершенно не нужны ни Мандельштам, ни Марина Цветаева. Все, на самом деле, творится по их воле. Как ни странно, эта мысль меня успокоила. Ужасен произвол, а тут все происходит по воле большинства, причем большинства подавляющего, так что виновных нет...".
Странное и неприятное чтение - этот дневник; зачем рвался Нагибин его напечатать - отчасти загадка, и вообще последние его литературные поступки хотя бы роман о роковой страсти к теще - как-то зловеще символичны. Не знаю, как литература, но история советской интеллигенции не должна их забыть.
Вышеприведенная запись поразительна - и не только оттого, что почти весь этот текст - но с интонацией злобно-мечтательной - как попрекают супостата украденным блаженством - без конца повторяется в троллейбусах, обычно на передних сиденьях. Поразительно, что автор сценария кинофильма "Председатель" так давно дошел до мыслей, которых боялись отпетые, отъявленные диссиденты.
Те во всем винили Власть и сострадали обманутому ею Народу - и надеялись, даже, пожалуй, верили, что узнав Правду... - и т. д.
Правда их, как известно, заключалась в том, что Власть на каждом шагу предает свои собственные лозунги.
А что население в курсе дела (нелицемерный социализм реален лишь в ГУЛАГе), но ненавидит не начальников, а отщепенцев, пытающихся, видите ли, жить не по лжи, - таких циничных мыслей тогдашние смутьяны и скептики себе не позволяли. Настоящие советские были люди; как никто, кроме них: Конституцию, и ту читали всерьез; теперь на всю страну один такой остался и конечно, опять объявлен врагом народа.
Ну так вот, а писатель Нагибин не отсиживался, как некоторые, в лагерях и тюрьмах - неустанно изучал жизнь, много путешествовал. И теперь мы можем оценить тонкость его наблюдений над представителями новой исторической общности:
"Неподалеку от Торжка застучал расплавившийся подшипник... Обратно ехали на буксире шесть томительных часов. А до этого успели познакомиться с той пьяной, циничной, грязной и смердящей сволочью, что является главным судьей и ценителем искусства, литературы, кино, всех моральных и нравственных ценностей, ибо называется гегемоном. Им все до лампочки, ничего не нужно, даже денег, если сумма выходит за пределы того, что можно немедленно пропить... Охотнее всего они продадут какую-нибудь краденую деталь - за литр, полтора максимум. Больше литра зараз не выжрешь, а домой нести - жена отберет..."
Тут необходимо заметить, что свои собственные загулы и запои автор изображает мягче и проникновенней.
Но и то сказать - это ведь 1969 год - действительно страшный, когда не осталось никаких надежд, и мало-мальски порядочному человеку нельзя было не презирать себя и свою страну: как дружно и весело мы помогли братьям чехам и словакам избавиться от иллюзий насчет социализма без вранья!
Все было, почти как теперь, - но казалось, что это мы, интеллигенты так называемые, - мы - соучастники преступно глупых начальников, - а Народ не виноват, поскольку не ведает, что творит; мол, Народ и Партия на самом деле не едины. Когда-нибудь Народ все узнает и Партии не простит...
И братьям-афганцам Народ помог помимо воли, как бы во сне. А вот братьям-чеченцам... тут призадумаешься. Вдруг Народу все-таки важней, что дают, чем кого убивают? Может ли это быть?
Автор сценария кинофильма "Директор" почти не сомневался еще четверть века назад:
"Странно, но в глубине души я всегда был уверен, что мы обязательно вернемся к своей блевотине. Даже в самые обнадеживающие времена я знал, что это мираж, обман, заблуждение, и мы с рыданием припадем к гниющему трупу. Какая тоска, какая скука! И как все охотно стремятся к прежнему отупению, низости, немоте. Лишь очень немногие были душевно готовы к достойной жизни, жизни разума и сердца; у большинства не было на это сил. Даже слова позабылись, не то что чувства. Люди пугались даже призрака свободы, ее слабой тени. Сейчас им возвращена привычная милая ложь, вновь снят запрет с подлости, предательства; опять - никаких нравственных запретов, никакой ответственности - детский цинизм, языческая безвинность, неандертальская мораль...".
Неужели России так суждено - влачиться от одной попытки самоубийства к другой? Скоро узнаем.
Но судьба Юрия Нагибина - и этот вот его дневник - не обнадеживают. Был человек с душой и талантом - но распорядился ими безрассудно - наверное, потому, что любил себя с какой-то нестерпимой нежностью - жаждал преуспевать - презирая ложь и не решаясь на правду, выбрал пошлость... Модный беллетрист эпохи волюнтаризма и застоя, он так похож на своих читателей, то есть как бы на нас.
Письмо XXI
18 октября 1995
Это ведь Леонид Леонов, не правда ли, в свое время - году так в 1934-м - выдвинул идею нового летосчисления, новой эры: от рождества Иосифа Сталина? Диктатор, по свойственной ему скромности, не тронул календаря, но автора идеи обласкал и обеспечил. Даже достижения Федина, Шолохова, Михалкова, Г. Маркова, Чаковского меркнут, когда читаешь этот наградной лист: "Образование среднее. Герой Соц. Труда. Награжден орденами: Ленина пять раз, Октябрьской Революции - дважды, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 1 ст., медалями. Лауреат гос. Премий - 1942, 1977 гг., Ленинской премии - 1957 г. Академик АН СССР. Засл. Деятель искусств РСФСР..." Прибавьте бессчетные гектары русского леса на бумагу для немыслимых тиражей. Вот как надобно обращаться с мастерами! - Вот как надобно писать!
Последний роман издан посмертно на деньги налогоплательщиков. Это логично и справедливо, и даже великодушно, - а сверх того, история так называемой советской культуры осталась бы недосказанной без этой "Пирамиды" (подзаголовок - "роман-наваждение").
Современники-то не одолеют: может быть, "Пирамида" и не скучней всех остальных романов Леонова, но объем грандиозный - два тома, полторы тысячи страниц, - а сюжет недостроен, персонажи возникают и исчезают, как пузыри на воде, и каждый успевает вдоволь пофилософствовать...
Общее впечатление бессвязной неправды безмерно усиливается вязким, бесформенным, безжизненным слогом. Хотите - верьте, хотите - нет, все полторы тысячи страниц изрисованы вот какими узорами - беру первую попавшуюся фразу:
"Однако с расширением коммунального обслуживанья на более широкий круг потребностей, в диапазоне от дворцов бракосочетания до благоустроенных вытрезвителей для обоего пола, Вадим усвоил официальный взгляд на создание гармонической личности путем регулярных школьных занятий, на базе уголовного кодекса, художественной самодеятельности и физкультуры, наконец".
Действие начинается в 39-м году, оканчивается в 40-м (какие, кстати, вытрезвители? какие дворцы бракосочетания?). Тема - судьба России, "поссорившейся с Богом", - и, конечно же, судьба человечества, предопределенная этим конфликтом. Источники - "Братья Карамазовы", "Идиот", "Мастер и Маргарита", "Котлован" и др. Вочеловечившийся ангел работает в цирке иллюзионистом. Дьявол выступает и разглагольствует в обличье профессора Шатаницкого. В роли Великого Инквизитора - товарищ Сталин. Тирания, террор и - главное, главное! - атеизм решительно осуждены, социализм представлен как утопический заговор ада. Словно и не сочинитель "Соти" писал, не обличитель безжалостный жертв режима (см. статейку Леонова "Террарий", 37-й год). Оказывается, почти всю жизнь - во всяком случае, последние полвека ("Пирамида" будто бы затеяна раньше "Русского леса") Леонид Леонов ненавидел и презирал воспеваемый им общественный строй, облагодетельствовавшую его власть. А верил - не то в Творца, не то в строжайший контроль над рождаемостью.
... В "Пирамиде" некто вроде Азефа с нарочитым сладострастием якобы вспоминает, как русская литература заваривала русскую революцию, подтачивала устои страны: "... то не птица, то неусыпный Максим с покойным Чернышевским на пару обоюдной пилой ее попиливают..."
А трогательный отрок (ровесник Павлика Морозова, но причесан под Колю Красоткина) не одобряет поэму Блока "Двенадцать" - пророчествует, что, дескать, "через пару ближайших поколений мы на собственной шкуре расшифруем... куда, зачем, и, главное, КТО именно, загримированный под Христа, уводил простодушных ребят в самую темную ночь нашей страны"...
И то сказать: кто - если не Чернышевский, не Горький, не Блок, - кто виноват, что таким, как Леонов, пришлось наняться в классики соцреализма? Ужасная судьба! Не о таланте речь, и не о совести - кто знает, сколько было того и другого, - притом ведь за них и заплачено. Однако ведь и ум, и даже просто рассудок неизбежно распадаются, если беспрестанно лгать с пятьдесят пятого, например, года сверхновой эры - эдак по сто пятнадцатый!
Письмо XXII
25 октября 1995
Был такой В. Абаза - "генерал-майор по Адмиралтейству", скончался в 1916 г., - а его дочь-эмигрантка сочинила в тридцатые годы роман - а внучка издала сейчас этот роман в России, - такое событие где же и праздновать, как не на борту "Авроры", легендарного крейсера?
И без радиорепортажа, само собой, не обойтись - иначе кто услышит взволнованные голоса, расхваливающие данную "Тучку золотую": какие-де характеры сложные, какой язык прекрасный - тотчас, мол, видно что покойная М. В. Абаза окончила Смольный институт с отличием!
Не знаю, институтским ли воспитанием объяснить, что героиня романа свои отношения с любовником упорно именует сношениями, а другому персонажу говорит: "Я увлекала вас" в смысле "завлекала". Но что явно автобиографический сюжет столь же явно подслащен по рецепту старинного переводного романа - что события личного опыта переданы мелодекламацией под отдаленную музыку из Вальтера Скотта - эстетике дамского дилетантизма соответствует.
Предводитель разбойников, благородный злодей, спасает знатную красавицу возвышенной души от домогательств злодея неблагородного. Пробираясь к родным под защитой предводителя, красавица довольно охотно уступает страсти этого загадочного человека (который, кстати, приходится ей двоюродным братом). Но прибыв к месту назначения, встречает другого - настоящего рыцаря без страха и упрека, и понимает, что для него-то и создана, - только как же быть со злодеем? К счастью, престарелая тетушка распутывает все узлы... После чего и разбойник, и рыцарь - каждый своими средствами - гарантирует красавице отъезд за границу. Поскольку действие происходит в советской России в 1920-м году, и рыцарь участвует в белогвардейском заговоре, а разбойник возглавляет ЧК. (Он изображен в манере Оренбурга первых пятилеток: могучий страдалец, несгибаемый невротик; палач-идеалист... Но белогвардеец все-таки прелестней: узнав о сношениях прекрасной дамы с чекистом, "чуть не разбил себе голову о решетку канала"! По правде говоря, удивительный способ самоубийства, если только этот Павлик Гельстон - не лилипут.)
Ну вот. М. В. Абаза, как и героиня ее романа, в начале 20-х уехала отдохнуть от коммунизма - и, ясно, не вернулась, - а другая дворянка - Н. И. Гаген-Торн - поступила в Петроградский университет, увлеклась этнографией, полюбила однокурсника... Блестящая научная карьера, семейное счастье и все такое. Посадили Нину Ивановну осенью 1936-го (как раз когда М. В. Абаза закончила сочинять свою "Тучку золотую") - посадили, естественно, за то, что "брала темы по древним пережиткам, не желая заниматься современностью". Но пять лет на Колыме не каждого перевоспитают. Пришлось после небольшого перерыва опять ее арестовать - 30 декабря 1947 г., прямо в библиотеке АН в Москве.
Майор госбезопасности, видя, что имеет дело с немолодой интеллигентной дамой, обошелся с нею как положено - т. е. стукнул кулаком по столу, выпучил глаза и закричал:
"Б...! Политическая проститутка! Туда твою..." Н. И. слушала, пока он не задохнулся. Потом сказала: "Это бездарно. Я могу много лучше". И тут же исполнила несколько вариаций. А другому следователю, когда он пригрозил, что сейчас изобьет, Н. И. "посмотрела в глаза и сказала раздельно: - Откушу нос!"
Отступился. Все же гады понимали, что Н. И. - существо высшего порядка и что за нею ни малейшей вины, - присудили еще пять лет и вечную ссылку.
Но книга Н. И. Гаген-Торн "Memoria" - не об унижениях и боли, - а о том, как быть счастливой и свободной где угодно, хоть в карцере.
"Можно в самой глубокой каменной коробке научить себя слышать плеск воды, видеть ее серебристое сияние и не замечать, что ты заперта, что неба и воздуха нет. Есть особая радость в чувстве освобождения воли, в твоей власти над сознанием. Кажется, вольный ветер проходит через голову, перекликаясь через тысячелетие со всеми запертыми братьями. И все мы, запертые, поддерживаем друг друга в чувстве свободы..."
Воспоминания Н. И. - особенно "Второй тур" - увы, пережили автора, но зато переживут и нас. А что по этому поводу не выпито в кают-компании революционного Корабля - подумаешь! У дочери з/к не такие возможности, как у эмигрантской внучки, - это же понятно.
Письмо XXIII
2 ноября 1995
Вдруг, один за другим, вышли два тома "Библиотеки поэта" - Волошин и Мандельштам. Кто-то (говорят - петербургская мэрия) не пожалел огромных денег, - а ведь можно было накупить автоматов на целый взвод. Но зато эти две книжки - в неуклюжей униформе с нелепыми позументами - превосходят качеством и прочностью весь остальной валовой национальный продукт.
Не знаю, есть ли у истории российской еще какая-нибудь цель - а эта вроде очевидна: доводить людей до отчаяния, поэтов - до ясновидения.
О Мандельштаме лучше вообще помолчать - примерно как о Пушкине, - "ведь все равно ты не сумеешь стекло зубами укусить". Тут поэзия как таковая смысл смысла, осознавший свою бесконечность, - и голос слуха... короче, с материалистической точки зрения существование "Воронежских тетрадей" необъяснимо.
Но, конечно, нигде, кроме как в сбывшемся бреду Кремлевского Горца, невозможна такая свобода поэта от читателя - и даже от самого себя.
А Волошин понимал поэзию как тождество смысла и текста - в сущности, как прозу без лишних слов. И не случись Мартобря, остался бы в истории литературы неяркой подробностью одного из удаляющихся созвездий.
Правда, кое-что личное отчуждало его от русских так называемых символистов: не был актером своих стихов, а главное - умел сострадать. В молодости - женщинам, а после - человечеству и особенно - России.
В революцию жалость дошла до неистовства, и он ее смирял только неукротимой верой в неподлинность реальности. Человеческая история жестокие игры существ уродливых и случайных, отчасти мнимых, - а на самом деле любой из нас - искра некоего пламени - остывшая, превратившаяся в частицу золы. Вихрь взметает нас и обрушивает друг на друга и толпу на толпу - так раздувают костер, - в конце концов мир вспыхнет, и мы погибнем как разобщенные тела, но зато снова станем одним огнем, одной душой, одной любовью.
А наша здешняя судьба - неизбежная судьба топлива - ужасна, прекрасна, не имеет значения:
Всем нам стоять на последней черте,
Всем нам валяться на вшивой подстилке,
Всем быть распластанным с пулей в затылке
И со штыком в животе.
Помолимся же за палачей: ведь самый низкий из них - все-таки пленный ангел в дьявольской личине.
Смерть пришла за Волошиным раньше, чем ГПУ Но, как и Мандельштам, он успел заслужить мученический венец. Стихотворение "Террор" (1921-й год, Симферополь при большевиках) - невероятный поступок. До какого бесстрашия доводит кротких - жалость!
Освещали ручным фонарем.
Полминуты работали пулеметы.
Доканчивали штыком.
Еще недобитых валили в яму.
Загоняли прикладами на край обрыва.
Торопливо засыпали землей.
А потом с широкою русскою песней
Возвращались в город домой.
А к рассвету пробирались к тем же оврагам
Жены, матери, псы.
Разрывали землю. Грызлись за кости.
Целовали милую плоть.
Какая нечеловечески нежная насмешка в последней строчке - над нашим доверием к жизни, к смерти...
Допустим, Волошин прав: ни того, ни другого нет - и все мы неизвестные солдаты вечного огня - и все равно, кому какая случайно досталась роль.
Даже если и так - много ли надо человеку для блаженства - достаточно посетить сей мир в его минуты роковые - или хоть книжную лавку...
Письмо XXIV
15 ноября 1995
Правильнее всего было бы: не глядя вниз, в стремительно кровенеющую помойку, и ни к чему не прикасаясь, кроме некоторых книг, вспомнить что-нибудь не омерзительное. Например, давно пора осторожно похвалить издательство "Terra Fantastica" за грандиозный (хоть и похожий на суицидную попытку) проект - за "Библиотеку мировой литературы". На днях выходит пятый, что ли, том: жития византийских святых. А Вольтер и афоризмы французских мыслителей уже... Но - чу!
- Зиг хайль! Зиг хайль! - скандирует, ликуя, тысячная толпа вчерашних пионеров - и не в тревожном сне интеллигента: в зале столичного кинотеатра "Перекоп" 9 ноября сего года, поздно вечером.
Странное место, зато время - самое то, выбрано со вкусом: пятьдесят седьмая годовщина "Хрустальной ночи". В других городах мира - траурные митинги, даже в нашем населенном пункте общество "Русско-немецкий обмен" и "Мемориал" собрали человек сто. Поминальные свечи, невеселая музыка... То ли дело в "Перекопе": рубится группа "Коррозия металла", и торчит на сцене какой-то под Гитлера загримированный - усики, челка, мундир, - и якобы по-немецки вопит все равно понятно что, и ручонку простирает, а на повязке свастика, наш любимый славянский рунический знак, - и чьи-то молочные железы обнаженные колышутся в луче прожектора, и лично В. - помните? такой красивый, респектабельный, непреклонный... так вот лично он, владелец "Перекопа", клянется у микрофона, что мы обязательно пройдем по трупам наших врагов... куда - не слышно из-за приветственных кликов. Зиг хайль! Не зевай, телевидение! Хрустальная ночь еще вся впереди.
Не Варфоломеевская, не Вальпургиева, и вообще ничего особенного тогда, в 1938-м, не случилось - просто еврейские погромы по всей Германии. Какие-то молодые под начальством каких-то респектабельных подожгли синагоги, разорили сколько-то квартир. Убили кое-кого, это понятно. И разбили тысячи зеркальных витрин - дочиста ограбив, само собой, магазины проклятых неарийцев. Наутро выяснилось, что власти приветствуют инициативу масс, и население сплотилось, как никогда, вокруг родной партии, а евреи действительно вне закона и обречены, и бежать поздно - и улицы покрыты слоем осколков бельгийского хрустального стекла.
Кажется, в 1859-м в Лондоне открылась Всемирная выставка. Для нее построили необыкновенное здание - Хрустальный дворец. В котором-то из снов Веры Павловны этот дворец изображен: "чугун и стекло, чугун и стекло только". Вообще - призрак этого здания много значит в русской литературе. Герой "Записок из подполья" шпыняет Чернышевского:
"Вы верите в хрустальное здание, навеки нерушимое, то есть в такое, которому нельзя будет ни языка украдкой выставить, ни кукиша в кармане показать..."
Вспомним еще Потугина в тургеневском "Дыме" и роман Замятина "Мы"... Словом, это тема разветвленная. Заметим одно: людям девятнадцатого века стекло представлялось прочным строительным материалом! Его хрупкость не брали в расчет! Естественная мысль о булыжнике никому не приходила в голову! Как бы не подлежало сомнению, что между булыжником и стеклянной стеной непроницаемая двойная преграда: Закон и Здравый Смысл. Считалось аксиомой: в Европе в мирное время любое окно почти в такой же абсолютной безопасности, как человеческая жизнь. Даже мировая война не всех освободила от этих иллюзий - только Хрустальная ночь их погасила насовсем. И когда загуляло по немецкоязычным газетам гордое славянское слово Pogrom, - западные люди оплакивали не евреев - а раздавленное самомнение западного ума.
Кстати, соратники, - сказали бы там в ГБ кому следует: неудобно, что колкрик звучит как неродной, - отчего бы не переделать его слегка в стиле национального рунического знака? Возьмите, например, хайло - коренное русское словцо, обозначает орган личного волеизъявления. Ваши академики без труда установят, что взвизг хайл - не что иное, как голос множества, что это самобытный термин славянского народовластия...
"Terra Fantastica" - вполне уместное название для приличного издательства, не правда ли?
Письмо XXV
6 декабря 1995
Как при социализме нарядней других одевались женщины, умевшие не скучать с тогдашними любимцами судьбы, - так нынче о книжках можно заключать по внешнему виду: чем обложка прочней, чем страница шелковистей - тем бездарней текст.
"Оглашенные" Андрея Битова - исключение, притом необычайно заметное. Если у издателя Ивана Лимбаха - прежде как будто неизвестного - хватит капитала еще хоть на несколько подобных томов, - он войдет в историю.
Да хоть и не хватит - уже вошел. Ни Гёте, ни Прусту какому-нибудь, ни даже Г. Маркову не снилось подобное оформление - солидное, изящное, благоговейно запечатлевшее каскад авторских капризов.
Этот "роман-странствие" состоит из повестей известных: "Птицы" (1977), "Человек в пейзаже" (1983), "Ожидание обезьян" (1993). Последняя, четвертая часть - собрание рецензий на предыдущие три (странная и скучная идея!) плюс "Таблица амбиций" - как бы пародийный указатель упоминаемых в книге имен. Юмор - того... слегка отдает аспирантурой; судите сами:
"Андропов Ю. В. - государственно мысливший человек - 259, 260. Архимед, открыл свой закон - 120. Блок Александр (1880-1921), в Абхазии мог бы дожить до 1983 года, цит. на стр. 164. Гондон, см. Кондом. Иисус, Сын человеческий - 130, 172. Кондом, французский врач, изобретатель - 244".
И так далее.
Но основной текст действительно хорош. Тут настоящая игра настоящего ума с самим собою. Автор и персонажи философствуют, иногда выпивая, о замыслах Творца. Что ни фраза - то афоризм, что ни афоризм - то парадокс.
Нельзя сказать, что кто-то ищет какую-нибудь истину или хоть верит в нее, - ну и что же: зато сколько блестящих многозначительных частностей! И каждая мысль охорашивается, любуясь своим отражением в слоге. По-видимому, это один из двигателей жанра - от Монтеня до Ницше - такая самовлюбленность ума. Автор не особенно скрывает, что нравится себе и как персонаж, - даже завидно: эта заповедь - возлюби себя хотя бы как жену ближнего - наверное, облегчает жизнь.
Кстати, о заповедях. Есть в книге и этот сюжет - путь Битова к Богу, от птиц к ангелам. Как сказано про автора в одной из приложенных рецензий: "писатель развивающийся и в своем развитии опережает свое поколение". Лучше не скажешь, а о ценностях советского православия не мне судить, - но лирический пафос в пейзаже с ангелами у Битова какой-то неубедительный:
"Их обрусевшие дюреровские лица были просторны, как поля, иссеченные молниями и разглаженные необсуждаемостью ратного труда. Их набрякшие кулаки молотобойцев, выкованные вместе с оружием, внушали доверие, как и лица... Легко мне стало на душе, нетрудно".
Это, видите ли, небо над Москвой 19 августа 1991 года.
Роман С. Витицкого "Поиск предназначения, или Двадцать седьмая теорема этики" - тоже интересная книжка.
С. Витицкий - псевдоним, и очень многим известно - чей, - это, так сказать, секрет полушинели. Роман его прочесть стоит. Он даже увлекательный. Глубокое разочарование, похожее на обиду, читатель почувствует лишь на последней странице, когда окажется, что судьба героя - который ничем, кроме предчувствия своей судьбы, не обладает, - так вот, его судьба - не нашего ума дело. Все сводится к метаполитической метафоре, как в "Граде обреченном" Стругацких, только туманней. Силы рока - ВПК и ГБ, и в нас играют по правилам, которых нам никогда, ни за что не понять, - а все остальное обманная техника сюжетной прозы, с нею автор умеет обращаться.
Действие последней главы - самой сильной и самой неудачной - происходит завтра - скажем, в первой половине будущего года. При сравнении тревожных предчувствий с окружающей читателя реальностью видно, что почти все уже сбылось.
Чем-то они странно похожи, эти две книги, о вере и об отчаянии. В них как бы инвентаризованы запретнейшие мысли целого поколения. Почему-то итог неутешительный.
Но ничего: авось, в крайнем случае, мир спасет красота, как предполагал, спятив, один из персонажей классики.
Письмо XXVI
20 декабря 1995
Надо же: именно в эти дни, а точней - сегодня ночью я расшифровал наконец письмо, полученное Чичиковым накануне бала. Вы помните, полагаю: "Нет, я должна к тебе писать!" - и затем незнакомка сообщала Павлу Ивановичу, что есть тайное сочувствие между душами: приглашала в пустыню, оставить навсегда город, где люди в душных оградах не пользуются воздухом.
"Окончание письма отзывалось даже решительным отчаянием и заключалось такими стихами:
Две горлицы покажут
Тебе мой хладный прах;
Воркуя томно, скажут,
Что она умерла во слезах..."
А вместо подписи был постскриптум: Павлу Ивановичу предлагалось "отгадать писавшую", сердце ему подскажет, кто она, - завтра, на балу, в доме губернатора.
Письмо чрезвычайно заинтересовало Чичикова, но, как известно, сочинительницу он не отыскал. Бедный! Он надеялся на подсказку и не расслышал ее.
Мне, признаюсь, тоже всегда казалось, что со стороны Незнакомки это как-то чересчур легкомысленно - полагаться всецело на интуицию Чичикова. И я, подобно П. И., подозревал банальный розыгрыш: старая дева шалит от провинциальной скуки.
А она просто переоценила образованность - Чичикова и мою. Мы с ним не знали до этой ночи, что стихи в письме - Карамзина, и что тут вторая половина куплета, начинающегося так: "Но если рок ужасный / Нас, Лиза, разлучит? / Что буду я, несчастный?.. / Сырой землей покрыт! / Две горлицы..." - и далее по тексту Незнакомки; правда, последняя строчка у Карамзина - в мужском роде: "Он умер во слезах". Незнакомка употребила тот же прием, каким воспользовался советский поэт Журавлев, когда напечатал под своим именем стихи Ахматовой; только он, наоборот, переменил в глагольных окончаниях женский род на мужской...
Короче говоря, мы с Чичиковым обязаны были догадаться, что имя этой особы, сочинительницы письма - Лиза, Елизавета, - и быть начеку, знакомясь на балу.
Но карамзинские стихи мне бросились в глаза только теперь - в прелестной книжке В. Н. Топорова (знаменитый филолог, историк культуры, живет и работает в Москве): ""Бедная Лиза" Карамзина. Опыт прочтения". Можно без конца удивляться учености автора и глубине высказанных идей - а также изяществу слога, - но не передать наслаждения, доставляемого книжкой. Это учебник любви, - но также и документ любви, причем отнюдь не только любви к литературе; переживание каждой частности во всей полноте ее связей со Смыслом Бытия, - а Смысл нам только и дано почувствовать как мерцание этих связей всего со всем.
А "Мертвые души" припомнились именно теперь еще и потому, должно быть, что это ведь роман выбора: кому доверить птицу-тройку - Манилову? Собакевичу? женщинам России? Впрочем, и вся остальная русская литература занята обсуждением кандидатов на вакансию Героя времени; даже "История города Глупова" - сплошной всенародный референдум.
Также вышла - и продается в редакции "Звезды" - книжка "Малоизвестный Довлатов", составленная А. Ю. Арьевым. Довлатова, после того как он умер, многие полюбили, так что проблема новогоднего подарка сегодня решается легко.
Когда в наши дни эпигон и завистник хвастает, что прозу, как у Довлатова, он будто бы способен писать погонными километрами, - он и не догадывается, до чего смешон. Обаяние и ценность прозы Довлатова - как раз в том, что ее мало; что автор слишком серьезно относится к литературе и достаточно несерьезно - к себе, и потому - из печальной гордости - чаще помалкивает.
Дело и в тембре: у Довлатова - баритон; а погонные километры такой прозы легче одолеть тенорком.
Не знаю, у кого еще достало бы мужества сказать, как Довлатов:
"Мои книги публикуются и будут опубликованы все до единой. И я должен быть к этому готов. Потому что мои иллюзии собственной гениальности рассеются окончательно.
Видимо, я окажусь средним писателем. Пугаться этого не стоит. Ведь только пошляки боятся середины".
Храбрый был человек, причем талантливый и добрый. А в наши дни, в нашей стране храбростью обладают главным образом злые и глупые, и то лишь потому, что на их стороне численное превосходство.
Письмо XXVII
27 декабря 1995
Русский календарь в девятнадцатом веке отставал от советского на двенадцать суток и один час. Так что только в этот вторник, примерно в пять пополудни, миновало 170 лет, как ударила картечью первая пушка с бульвара, где теперь Александровский (или - Трудящихся) сад, по мятежникам и зевакам на Петровской площади - Сенатской тож и Декабристов.
Впрочем, кто там был мятежник - оставим это идеологам разных режимов: пусть ищут в бессвязном происшествии сговор умыслов и выдают за смысл.
В приличных семьях когда-то говорили об этих людях: несчастные четырнадцатого декабря, - подразумевая казненных впоследствии, также самоубийц, и сосланных на каторгу, и разжалованных в солдаты, - всего человек сто двадцать или чуть побольше.
А в Петербурге в тот день убито:
"генералов - 1, штаб-офицеров - 1, обер-офицеров разных полков - 17, нижних чинов лейб-гвардии Московского полка - 93, Гренадерского - 69, экипажа гвардии - 103, конного - 17, во фраках и шинелях - 39, женска пола 9, малолетних - 19, черни - 903. Итого 1271 человек".
Это не считая тех раненых, кого полиция сбросила в Неву, под лед.
Будь у Николая I мегафон - в 1825 году еще, увы, не изобретенный, все, глядишь, и обошлось бы для большинства, и российская история развернулась бы повеселей.
Над площадью стоял оглушительный шум, и почти никто не понял, за что погиб - за Константина? за конституцию?
Из так называемых декабристов мне лично симпатичней всех Цебриков 1-й, Николай Романович, поручик Финляндского полка. Ни в каком тайном обществе он не состоял, а просто проезжал близ площади в извозчичьих санях: полковой командир подписал ему увольнительную на три дня, и Николай Романович намеревался как следует выспаться и затем повеселиться в одной знакомой квартирке на Васильевском.
Но, завидев толпу, вышел из саней, поглазел, кое с кем раскланялся. Потом все-таки рассудил за лучшее убраться восвояси, - да и дремота одолевала после ночного дежурства. По дороге к Неве повстречал колонну Морского гвардейского экипажа, заметил в ней знакомых - мичмана Дивова, братьев Беляевых, крикнул: "Куда вас черт несет, карбонарии?" - колонна пробежала мимо, и Цебриков поехал забыться сном.
На следствии мичманы показали, будто он кричал: "В каре против кавалерии!" 8 января Цебриков был арестован. Как человек с чистой совестью, он в Следственном комитете держался излишне храбро, чуть ли не бранясь, чуть ли не по матери. Комитет испросил высочайшего соизволения на закование его в ручные железа. "Заковать", - написал император на полях докладной записки, тут же и помета: "Исполнено. 10 генв.".
Но кандалы и одиночка смягчили Цебрикова лишь к концу марта и лишь настолько, что в письменном объяснении он вежливо напомнил о своей прежней беспорочной службе. Разрядная комиссия Верховного уголовного суда - "считая опасным обвинить его только за слова, в произнесении коих он и на очных ставках не сознался", - совсем уж было собралась Цебрикова освободить: хватит, мол, с него и шести месяцев крепости, - да призадумалась. Верховный суд определил его в солдаты с выслугою, - а царь Цебрикову - и, кажется, только ему! - приговор ужесточил: "По важности дурного примера, им поданного... и запирательстве и упорстве, не достоин благородного имени, а потому разжаловать в солдаты без выслуги".
Цебриков умер в 1862 году, шестидесяти двух лет от роду. Не Цебрикова жаль, а грустно думать, что напрасно была нам молодость дана, и старость тоже, и краткий между ними промежуток, - неужто скончаемся, как родились, в полицейском государстве? Уже сейчас по радио какие-то говорящие рептилии вещают, что Николай Палкин и Коба были, самое главное, патриоты. И специально для подрастающего поколения исполняют гимн убийце всех времен.
Вообще - смеркается быстро.
Письмо XXVIII
10 января 1996
С новым счастьем! И продолжим прошлогодние занятия.
У Фаддея Булгарина был настоящий советский характер: с такой высокой моральной самооценкой, словно все политические низости случились во сне. Каждое второе слово - о чести да о достоинстве - и не скажешь, что сексот! И суждения независимые, свободолюбивые:
"Что у нас за литература, что за театр! Помилуйте! Ум наш под каблуком Уварова. - Театр - увы! - мы только и живем и дышим Францией и Германией! Ради Исуса и всех святых не говорите о безнравственности французской литературы! Нас и так жмут - и мы еще все припоминаем о вреде от литературы! Это не наше дело! На то попы, жандармы и ценсоры. - Мы ищем только изящного..."
Изучать его жизнь и творчество не дозволялось, и почти никто не решался, к тому же архив Фаддея Венедиктовича таинственным образом пропал, но вот в последние годы А. И. Рейтблат опубликовал несколько прелюбопытных текстов - и в только что вышедшем томе биографического альманаха "Лица" (выпуск VI, издательство "Феникс-Atheneum") письма Булгарина к Р. М. Зотову - самая яркая глава.
Тут же помещена довольно большая работа Эммы Герштейн: "К истории смертельной дуэли Пушкина (Критические заметки)". Автор оспаривает несколько общепринятых мнений, а свою разгадку событий обещает дать потом, попозже, в другой статье или книге.
Исключительно уважаю Э. Г. Герштейн и увлекаюсь историей литературы, но этот сюжет, по-моему, пора бы оставить. За полтора столетия натащили фактов целый муравейник - вот и в "Звезде", в сентябрьском номере, в письмах Дантеса к барону Геккерену можно вычитать факт-другой, - неужели все еще не ясно, что роковые поступки необыкновенного человека не вытекают из фактов, как последствия из причин?
Смысл поэзии Пушкина - тайна. Стало быть, и о смысле судьбы нечего толковать.
Тем более, что не погибни Пушкин тогда - как бы не пришлось ему в наших учебниках разделить участь Жуковского, Тютчева и Фета; дожидался бы на скамейке запасных, пока прочитают "Капитанскую дочку"...
Впрочем, и прочитав - разве поверили, что милосердие выше справедливости, например?
Так и после "Чевенгура" мало кто принял всерьез отчаянную мысль Андрея Платонова про социализм - что в глубине его горит любовь к смерти. А ведь логика чевенгурцев неопровержимая: несправедливость порождается неравенством, фундамент неравенства - собственность, ну, а собственность создается трудом, - так уничтожим собственность вместе с теми, кому она принадлежит, - и, обнявшись по-братски, скончаемся тихо в зарослях лебеды.
"... Это буржуазия хотела пользы труда, но не вышло: мучиться телом ради предмета терпенья нет..."
5 января - сорок пять лет, как умер Платонов. Пройдет еще полстолетия глядишь, и его прочитают, а там и поймут, если не запретят.
А вот бедного Дудышкина, Семена Степановича, уже никто и никогда не припомнит, прошел его последний юбилей: 6 января - сто семьдесят пять лет со дня рождения. Был чуть ли не самый влиятельный критик в пятидесятые годы, в паузе между Белинским и Добролюбовым, потом "Отечественные записки" редактировал. Первый написал о Льве Толстом. Заметил, так сказать, Льва Толстого... Удача, само собой, - но ведь и заслуга. Вообще, Семен Степанович был разумный, к тому же вполне порядочный писатель и либерал - и вот, ни следа от него не осталось. "Мир его праху", - и то не сказать, потому что и могила на Большеохтинском исчезла. Грустно - и поучительно, конечно, - в том смысле, что нечего голос повышать или сожалеть о тщете усилий.
Письмо XXIX
29 января 1996
Вчера умер Иосиф Бродский.
Он олицетворил собою последнюю отчетливую мысль человечества о своей судьбе и роли в мировом процессе.
Культура Запада не могла дойти до этой мысли сама: ее творцам недоставало личного опыта творческого существования в тоталитарном режиме.
Бесчеловечность как основное свойство миропорядка; Ничто как строительный материал бытия; отчаяние как свобода; ирония как единственный источник света... Понять реальность подобным образом и превратить ее в речь, неотличимую от роковой любви - только бывшему гражданину Третьего Рима, притом изгнанному в межпланетное пространство, - только Иосифу Бродскому достался этот подвиг.
Его талант оказался сильней даже чем бездарность социалистического государства, помноженная на всю безжалостность.
Судьба и стихи Бродского вселяли надежду, что и будучи одним из нас, можно стать человеком в полном смысле слова.
Но вот его больше нет, - и теперь уже ничто не мешает истории на самом деле сорваться в анекдот, рассказанный кретином с шумом и яростью, с пеной на губах...
Письмо XXX
7 февраля 1996
"Мне кажется, - говорил Иосиф Александрович Бродский журналистке Ольге Тимофеевой в 1991 году, - что основная трагедия политической и общественной жизни заключается в колоссальном неуважении человека к человеку. Это обосновано в известной степени теми десятилетиями, если не столетиями, всеобщего унижения, когда на другого человека смотришь, как на вполне заменимую и случайную вещь..."
Тогда, в 1991-м, Бродский поддался, как и многие, какой-то надежде или, скорей, мечте:
"Сегодня, я думаю, было бы разумно попытаться изменить общественный климат. В течение этого столетия русскому человеку выпало, как ни одному другому народу, ну, может быть, китайцам досталось больше. Мы увидели абсолютно голую, то есть буквально голую основу жизни, да? Нас раздели и разули и выставили на колоссальный экзистенциальный холод. И я думаю, что результатом этого не может быть ирония. Результатом должно быть взаимное сострадание....
Мы должны на каждого человека обращать внимание, потому что мы все в совершенно чудовищной ситуации - где бы мы ни находились. Уже хотя бы потому в чудовищной ситуации, что знаем, чем все это кончается - смертью..."
Да, знаем. Да, смертью. Но ведь социализм - это и есть любовь к смерти - или Андрей Платонов преувеличивал?
Однако в 1991-м даже Бродскому, как видно, показалось, будто этот сон больше не приснится, и только удивительно было, что проснулись не все:
"Меня совершенно поражает на сегодняшний день в возлюбленном отечестве, что люди, то есть значительное количество людей, ведут себя так, будто они ничему не научились. Как будто им никто никогда не говорил, что надо понимать и любить всех, то есть каждого. Я не понимаю, как это происходит. Я думаю, что в обществе еще есть как бы общий знаменатель, который и надо бы сохранить, который надо всеми силами удерживать, да?"
Увы, нет. Это, наверное, была иллюзия. Наверное, в процессе противоестественного отбора многие из людей не только разучаются различать добро и зло, но и проникаются злой волей, охотно и почти сознательно принимая сторону ада.
Теперь, пять лет спустя, эта гипотеза выглядит более чем правдоподобной. А идея вернуть Иосифа Александровича после смерти в Россию более чем странной.
Даже непонятно, как она пришла в голову кому-то из здешних его друзей. Осуществить символический акт справедливости - порыв прекраснодушный, кто же спорит, - но где чувство реальности?
Национализировать прах? Чтобы числился за Большим Домом, под грифом "хранить вечно"? Чтобы от тех же самых чинов, которые когда-то со сладострастной оттяжкой решали - как эффектней не позволить изгнаннику проститься с умирающей матерью: просто не ответить на его мольбу или отказать под якобы законным предлогом, - так вот, чтобы от них же всегда зависело: пустить, не пустить вдову или дочь в страну и в кладбищенскую ограду?
И потом: здесь регулярно и с усердием оскверняют памятники, здесь злорадно оскорбляют мертвых, здесь доблестью почитают непристойно браниться над прахом поэта.
"Пресс-служба ПатриотичеСОго Союза Молодежи в связи со смертью И. Бродского распространило следующее заявление:
"Стало чище в русской культуре. Исчез один из проповедников литературной шизоВрении, человек, посвятивший свою жизнь оплевыванию России и всего с ней связанного - Иосиф Бродский.
Писания этого еврея, эмигрировавшего в Нью-Йорк, по складу и содержанию очень напоминающиХ стихи которые пишут в сумАШедших домах редкие дебилы, преподносились сначала "враЖИми голосами'', а теперь и нашей демократической "богемой'', как совершенство русской поэзии. Очень странно: американский еврей, больной графоманией, оказался русским великим поэтом. И еще более страннОЙ выглядит получение им Нобелевской премии, которую получили те кто так или иначе работали на уничтожение России...
Мы, молодые русские патриоты, выражаем решительный протест лично президенту Борису Ельцину: вы не имели правО посылать соболеНзнование вдове Бродского, потому что вы - представляете великий русский народ. А к нашему народу, смерть отдельнОВзятого безумного американского еврея никакого отношения не имеет"".
Такой вот документ, с такой вот грамматикой (ошибки подчеркнуты мною), с датой: 30 января! - переслало в газету информационное агентство "Норд-Пресс".
Нет смысла это обсуждать, хотя ничего подобного не знает история литературы. Но, похоже, история кончается, и литература вместе с ней.
"Не надо строить иллюзий, - говорил Иосиф Александрович Бродский журналистке Евгении Альбац года два тому назад, - у человека и общества не так много вариантов для выживания. Один вариант мы испытали на своей шкуре "рай для всех'', который обернулся убийством многих. Другой - тоже не малина. Но, наблюдая за тем, что происходит в России, видишь колоссальную пошлость человеческого сердца. Мне казалось, что самым замечательным продуктом советской системы было то, что все мы - или многие - ощущали себя жертвами страшной катастрофы, и отсюда было если не братство, то чувство сострадания, жалости друг к другу. И я надеялся, что при всех этих переменах это чувство сострадания сохранится, выживет. Что наш чудовищный опыт, наше страшное прошлое объединит людей - ну хотя бы интеллигенцию. Но этого не произошло..."
Не произошло. И нынешнему поколению советских придется, очень вероятно, жить при национал-социализме. Тогда книги Иосифа Бродского будут сожжены палачами под рукоплескания вертухаев.
До венецианского кладбища Сан-Микеле не дотянуться этим существам иначе как бомбой, - вот и хорошо.
Письмо XXXI
10 февраля 1996
Лидия Корнеевна Чуковская родилась в Петербурге 24 (по н. ст.) марта 1907 года. Поздно вечером 7 февраля 1996 года - умерла.
Завтра утром ее похоронят в подмосковном Переделкине.
Лидия Чуковская была тихий человек, необыкновенно скромный, - свой дар и свою проницательность ценила не слишком высоко, но как никто умела восхищаться другими, уважать других, помогать другим. Чувство справедливости и чувство чести руководили ее поступками. Она любила больше всего на свете Литературу, Правду и нескольких людей. Почти всех этих людей так называемая советская власть убила. Кого - сразу, пулей в затылок а кого - с оттяжкой, затерзав унижениями. Вместе с этими людьми казнили Литературу и Правду долго казнили жестоко, подло, весело, - и наступил такой день, когда Лидия Корнеевна почувствовала с ужасом и отчаянием что Литература и Правда остались только в ее памяти.
Одна и безоружная, она бросилась на государство-убийцу.
И случилось превращение героизма в гениальность, сострадания и верности мертвым - в бессмертные книги. "Софья Петровна", "Спуск под воду", "Процесс исключения", "Записки об Анне Ахматовой", "Памяти детства" - классическая проза, ясновидение правды, сага о человеческом достоинстве.
Это книги, отторгающие жестокость и низость как нечто непостижимое, потустороннее, - а понятно и нормально благородство, а подлинной реальностью обладают лишь творчество и любовь.
Эти книги свидетельствуют, что по крайней мере в одном человеке на нашей Земле соединились бесстрашный характер, непреклонная воля, великодушное сердце и ясный ум - и стали неотразимой рыцарской речью.
...9 января 1974 года Лидию Корнеевну исключили из пресловутого Союза писателей. Ее имя запретили упоминать, произведения изъяли из библиотек. "Меня нет и никогда не было, - написала она тогда. - Но - буду ли я?"
Дорогая Лидия Корнеевна! С насмешкой и торжеством, хотя мне очень больно, - с торжеством и насмешкой я спрашиваю сегодня у обоих Ваших врагов: "Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?" Уверен, они запомнят преподанный Вами урок.
Письмо XXXII
22 февраля 1996
Еще про Лидию Корнеевну Чуковскую.
"Памяти детства" - не исключено, что лучшая книга о любви дочери к отцу. Это чувство, для многих женщин (и втайне от них) роковое, в детстве обычно не причиняет страданий - не требует и поступков, - и потому осознается, как правило, с опозданием, как правило - непоправимо поздно. Маленькой Лиде Чуковской посчастливилось: ее необыкновенный, ослепительный отец позволял ей страдать за него и даже защищать его от жизни. О, эта глава XIII, где бессонницу литератора лечит ребенок балладами Жуковского, романами Диккенса! Таких страниц в русской словесности немного:
"А сколько раз бывало: уснул; я умолкла - не шелохнулся; я задула свечу - спит; я дошла до двери - похрапывает; я вышла и для порядка стою минуту уже за дверью... И вдруг:
- Ха-ха-ха! - искусственно-веселый смех, смех отчаяния из-за дверей. Она воображает, что я сплю. Ну, иди, иди, дурочка, тебе пора, тебе спать хочется...
Я возвратилась и умолила его позволить мне почитать еще немножко, а о сне я и думать не могу - совсем не хочется, как будто день или утро.
Он позволил. Он так боялся остаться один! Я читала еще около часа. Он уснул и спал всю ночь до утра... Такое мне выпало счастье!"
На восьмом десятке, белоснежно-седая, в стихах к давно умершему отцу она по-прежнему мечтала об этом счастье - служить, сторожить, хотя бы тень заслонить - хотя бы тенью:
Я еще на престоле, я сторожем в доме твоем.
Дом и я - есть надежда, что вместе мы,
вместе умрем.
Ну, а если умру я, а дом твой останется жить,
Я с ближайшего облака буду его сторожить.
Похоже на детский рисунок, верно?
Никакие бедствия и утраты не состарят человека, не научившегося изменять своим чувствам. Лидия Корнеевна так и не разгадала главную тайну взрослых: зачем лгут, мучают, убивают. Она заглядывала Злу в лицо, рассматривала в упор, запомнив мерзкие подробности, - но не понимала, и соблазна не было - понять: принцип Зла был ей чужд и скучен; как представить сознание тиранозавра? Столь же отвратительная задача, сколь безнадежная.
В конце двадцатых ее арестовали (за якобы участие в каком-то кружке), сослали в Саратов, потом отцу удалось ее вызволить, - вдруг в Ленинграде опять повестка на допрос. Она сидела в углу комнаты на стуле, а следователи - не то двое, не то трое - как бы ее не замечая, веселыми голосами переговаривались о чем-то своем. Вдруг они стали стрелять из маузеров или там наганов - наверное, холостыми патронами, - стреляли, глядя на нее и смеясь. Лидия Корнеевна с того дня всю жизнь пугалась резкого шума - и не прошло изумление: как странно похожи были те существа на обыкновенных молодых людей.
Гнусная тайна злой воли, прекрасная тайна творческого вымысла... Недоумение придает прозе Лидии Чуковской завораживающую силу. Действующими лицами руководят низкие страсти, страх, иллюзии, но если изображать поступки, не доверяя реальности побуждений, получается театр лунатиков. Бездарные безумцы сживают со света и сводят с ума друг друга и кого попало, но с особенным сладострастием - поэтов, - и скрывают свою грязную работу то есть Правду - от всех еще не погибших, от нормальных пока людей, от простых. Ей мерещилась целая страна таких людей - нормальных, то есть хороших. Во что бы то ни стало спасти для них Правду - собственным здравым рассудком и твердой памятью...
Окруженная со всех сторон Хаосом, убивавшим как Система, Лидия Чуковская не верила, что едва ли не одна воплощает Норму - моральную, грамматическую, стилистическую.
КП, ГБ, ССП не зря ненавидели в ней ум, честь и совесть нашей эпохи.
Историки литературы скажут когда-нибудь: вот русский романтизм - от Жуковского до Чуковской.
Лидия Корнеевна погребена подле отца, в одном холме, на расстоянии не более стихотворной строчки - той, волшебной, из детства, вполголоса, в темноте:
До рассвета поднявшись, коня оседлал...
Письмо XXXIII
20 марта 1996
Как дважды два доказал недавно Виктор Топоров, что толстым литературным журналам пришел конец. В толстом литературном журнале "Постскриптум" он описал их ужасную гибель: "Диагноз (он же вскрытие) показывает, что "толстяки" умерли от страшной двойной напасти: инфаркта и инсульта одновременно. От апоплексического удара и от разрыва сердца, как выражались в старину". Критик рад: дескать, туда и дорога.
Но ведь скучно будет без некоторых толстяков (опрятных - семь на всю страну). И лично я надеюсь на медицинскую ошибку. Во всяком случае, катафалк еще не подан. И это хорошо, потому что кроме как в журнале разумного голоса нигде и не услышишь. Правда, обычно такой голос раздается очень издалека.
Вот в январском "Октябре" (нелепое все же название) - переписка Набокова с Алдановым. Набоков - весь ирония и лед, Алданов - сердечная горячность и передовые принципы. Оба очень умны, друг друга уважают, разговор вполне начистоту - и, конечно, сплошь о литературе. Выше ли, например, "Госпожа Бовари" - "Анны Карениной"? (Набоков полагает: выше, "метров на 2000".) О чем еще, в самом деле, спорить русским писателям в Америке в 1942 году?
Впрочем, и война не забыта:
"А ведь как это страшно и вместе с тем художественно двадцатипятилетняя мечта о "свершении" - и вдруг этот чудовищный фарс прущая погань в роли "освободителей" и бедные, не мыслящие камыши в роли "защитников культуры"".
Алданов издает и редактирует "Новый журнал" - толстый, литературный. Набоков (явно не подозревая, что в России вот-вот появится на свет Виктор Топоров) относится к идее журнала необыкновенно серьезно:
"Мне кажется, что если хоть одна строчка в любом журнале хороша, то этим самым он не только оправдан, но даже освящен. А в Вашем журнале много прекрасного".
Стоит ли приводить в статье о "Возмездии", поэме Блока, цитату с юдофобским оттенком - или лучше выкинуть - из уважения к таланту и памяти поэта?
"Я бы преспокойно напечатал смердящую рифму Блока, но зато указал бы, пишет Набоков, - что "Возмездие" - поэма совершенно ничтожная... фальшивая и безвкусная. Блок был тростник певучий, но отнюдь не мыслящий..."
Алданов восхищается "Темными аллеями" - Набоков неумолимо твердит о Бунине:
"Гениальный поэт - а как прозаик почти столь же плохой, как Тургенев".
Словом, настоящий разговор очень взрослых людей. Где, спрашивается, мы прочитали бы его, не будь журнала?
Или вот "Нева" напечатает третий том "Записок об Анне Ахматовой" последнюю работу Лидии Чуковской. Книга когда еще выйдет - еще выйдет ли?
А в "Дружбе народов" (тоже название странное, звучит насмешкой) статьи Бунина двадцатых годов. Уж этот-то номер - февральский национал-социалисты в случае чего непременно изымут из обращения:
"Большевистской власти, конечно, было очень приятно, что Есенин был такой хам и хулиган, каких даже на Руси мало, что "наш национальный поэт" был друг-приятель и собутыльник чекистов, "молился Богу матершиной", по его собственному выражению, Европу и Америку называл "мразью" и в то же время наряжался в шелковое белье за счет американской старухи, мордуя ее чем попадя и где попало, и вообще по всему свету позорил русское имя....
Но талант у него был вовсе не такой, чтобы ему все прощать, а "трагедия" его стара, как кабаки и полицейские участки... И думаю, что все это отлично знают все, проливающие слезы над "погибшей белой березой" А если знают, то почему же все-таки проливают? А потому, очевидно, что и до сих пор сидит в нас некое истинно роковое влечение к дикарю и хаму".
А какая замечательная в том же номере статья Ивана Дзюбы - о чеченской войне и поэме Шевченко "Кавказ"...
Да, будущность толстых журналов туманна и, скорее всего, трагична. Но только Бог не выдаст - свинья не съест. И пока толстый сохнет - худой сдохнет.
Письмо XXXIV
17 апреля 1996
Как сказал бы поэт, я себя советским чувствую заводом - оттого что постоянно недовыполняю план.
Причем нехваткой, так сказать, сырья - оправдаться невозможно: какая-никакая литература есть, и трудолюбивый обозреватель, вслух рассуждая о концепциях и художественных особенностях, всегда заработает на новую книжку.
Да и покупать книжки не обязательно: чем они дороже, тем они скучней, а литература ютится преимущественно в журналах, точно в домах, обреченных на снос. Попадаются очень приличные вещи: "Мне ли не пожалеть..." - роман В. Шарова в прошлогоднем декабрьском "Знамени", повесть М. Арбатовой "Опыт социальной скульптуры" - в январской "Звезде", повесть И. Фридберга "Здесь я!" - в январской же "Дружбе народов"...
Но эта весна, эта весна тоски... Общество живет рассеянно и наспех, словно больной, которому через несколько недель предстоит решающее обследование: анализы покажут, просто ли злокачественная опухоль его пожирает или что-нибудь еще страшней; не любопытство, а тень бессмысленной надежды на чудо держит как бы в ожидании, хотя ждать заведомо нечего. И не тяжко читать лишь детективы. А еще захватывают рассуждения о болезнях, сообщения о медицинских открытиях, лекарственных средствах, чудодейственных диетах.
В ноябрьской прошлого года "Звезде" доктор технических наук Ю. Петров удивительно ясно растолковал: отчего Россия так плохо себя чувствует. Оказывается, все дело - в обмене веществ. Военные расходы в размере 6 % от валового продукта разоряют любое государство и ухудшают его обороноспособность. Из благополучных стран только США тратят на военные цели эти самые 6 % - и очень рискуют.
"А в СССР и в России, - пишет автор, - начиная с 1975 г. и до самого 1994 г. тратили на военные расходы 25-30 % валового продукта, и мы еще удивляемся тому, что и государство в упадке, и оборона ослабла до предела..."
Вот еще пара цифр из этой примечательной статьи: Вооруженные силы на территории России в 1989 г. составляли 2,8 млн человек, в 1994 - 4,8 млн, то есть 3,24 % от населения страны. (За эти же годы США сократили армию с 2189 тыс. человек до 1611 тыс. - это 0,62 % от численности населения.)
Положим, это не новость, что насчет сокращения вооруженных сил все всё врут. Но спрашивается: вранье ли, что армия при этом не укомплектована и облавы на призывников необходимы? Оказывается, это как раз правда. Необыкновенно доходчивым примером Ю. Петров объясняет, в чем дело:
"Сухопутные силы Франции насчитывают 270 тысяч человек, и они разделены на 7 дивизий. На каждую дивизию приходится по 36,5 тысячи человек. Учитывая части корпусного и т. п. подчинения, это - нормальная цифра. А сухопутные силы России насчитывают около двух миллионов человек и имеют 269 дивизий. На одну дивизию приходится менее 7,5 тысячи человек. Конечно, такие дивизии не укомплектованы и не боеспособны, но кто же мешал сократить их число до 50 и уже одним этим сразу укрепить оборону страны? Мешало одно: меньше дивизий значит, меньше генеральских должностей, и, чтобы избежать этого, генералы упорно противятся любой реформе армии..."
Ну и так далее. Следуют выводы - очень простые, логически безупречные, - а что толку? Диагноз неоспорим, прогноз не безнадежен, пациента еще не поздно спасти, - да только ни за что на свете не откажется он от своего нынешнего, самоубийственного образа жизни.
Даже название статьи Ю. Петрова, очень невинное: "Пора осознать свое место в мире", - слишком для многих прозвучит нестерпимой насмешкой. Чего это ради - осознавать мир, когда мир можно просто уничтожить, рухнув на него необозримой могильной плитой?
Стало быть, болезнь глубже. В январской "Дружбе народов" - статья Б. Диденко "Цивилизация каннибалов" (чудная игра названий!) тоже кое-что проясняет.
Древняя практика людоедства будто бы привела к разделению человечества на четыре вида. "Два из них являются хищными, притом - с ориентацией на людей!" - пишет автор. Он утверждает, что потомки хищников (у них особенная структура коры головного мозга!) преобладают среди начальства, и предлагает методы опознания: "по жестокому или хитрому выражению глаз, по естественному, не наигранному властному поведению"...
Власть хищных смертельно опасна, но что же прикажете делать с ними? Отстранить "от любой работы с людьми", - предложено в "Дружбе народов". Тоже рецепт многообещающий.
Письмо XXXV
27 апреля 1996
"Если чем и оправдается XX век перед Богом, так это русской поэзией". Странная эта мысль принадлежит Анатолию Стреляному - вообще-то не пустослову - и поставлена как бы эпиграфом на суперобложке монументальной антологии "Строфы века". Составитель тома - Евгений Евтушенко, научный редактор - Евгений Витковский. Тысяча с лишним страниц, восемьсот семьдесят пять поэтов (это если считать, что Гумилев - поэт, и Родов - поэт, а с Катаевым и Кобзевым их четверо, и так далее), вес - килограмма три, о цене лучше не думать.
Книга - навсегда, обойтись без нее специалисту и любителю впредь почти невозможно (простой читатель вроде меня - выпросит у знакомого на несколько дней), трудолюбие и добросовестность составителя - выше любых похвал, заслуга его перед историей литературы - буквально бессмертная. Имя Евгения Евтушенко в будущем веке станет наравне с Ежовым и Шамуриным - составителями другой знаменитой антологии, доставившей когда-то столь многим столько счастья.
Похожа ли антология на русскую поэзию? Похож ли ботанический музей на растительность планеты? Вопрос бесплодный, неразрешимый, осложняется вдобавок тем, что научная полнота и художественная ценность ничего общего между собой не имеют. Полевая былинка красотой не уступает какой-нибудь гордой пальме, а несравненных стихов вообще мало на свете - и в этой книге тоже. Составитель попытался выбрать лучшее даже у слабых авторов, его своеобразному вкусу можно довериться - до известной степени, конечно, - и этого достаточно (несколько раз, впрочем, он явно сплоховал: с Брюсовым, например, или с Верой Инбер, - ничего не поделаешь, такие просчеты неизбежны).
По-настоящему неприятный, причем бросающийся в глаза недостаток у антологии только один: многовато в ней прозы Евгения Евтушенко; то есть предисловия необходимы, - но слишком забавный у сочинителя предисловий слог:
"Из почек комсомолии вылупились птенцы, пожравшие тех, кто делал эту революцию".
О Бунине сказано: сын мелкопоместного помещика. О Набокове: сын крупного царского юриста. О Чурилине: "был по матери крестьянином, по отцу евреем"... Так обстоят дела с генеалогией. И в психологии творчества у Евгения Евтушенко собственная система. Вот Ходасевич:
"Отец был польским незнаменитым художником, мать - наполовину русская, наполовину еврейка. Может быть, от этого в нем всегда был и некоторый "шляхетский гонор" и, с одной стороны, чувство еврейской униженности, а с другой стороны, чувство национальной гордости за русскую культуру..."
А вот Ахматова: "была дочерью морского инженера и провела большую часть детства в Царском Селе, и, может быть, поэтому ее стихам свойственна величавая царственность".
Неплохо и с политической философией - целая россыпь афоризмов. Например:
"Государство и совесть - это не одно и то же, если государство попирает совесть".
Навязывать читателю подобные сентенции - не совсем вежливо, но ничего не поделаешь: составитель чувствует себя героем антологии: как бы расхаживает меж восковых фигур. Поневоле мы вынуждены узнавать поразительные вещи не только про Ахматову ("гордый плач") или про Кузмина ("иронический гомосексуализм"), - но и, прежде всего, - про Евгения Евтушенко.
"В 1968 году, когда брежневские танки пересекли границу Чехословакии, я написал протест правительству и ожидал ареста. Однажды утром раздался звонок. Я открыл дверь и увидел веснушчатого молоденького солдатика. Он протянул мне мою книжку, пробитую пулей, с запекшейся кровью на обложке. По трагическому парадоксу книга называлась "Шоссе энтузиастов". Этот маленький сборник был в грудном кармане нашего танкиста, который, после того как нечаянно раздавил гусеницами танка чешскую девочку, застрелился. Он убил себя сквозь мою книжку".
Нет, разумеется, ни малейших сомнений, что каждое слово - чистая правда. Просто проза такая - как бы наточена на простодушную впечатлительность иностранца.
(Любопытно, между прочим, сопоставить этот эпизод с упоминанием, что Наталью Горбаневскую - помещенную в сумасшедший дом за протест против братской помощи чехам советских танкистов - освободили в 1972 году "по письму в ее защиту составителя этой антологии").
Но что Цветаева будто бы стирала в Елабуге белье местному милиционеру это ведь натуральная клюква, не так ли?
И стихотворение Юнны Мориц на смерть Тициана Табидзе приведено в редакции заведомо ложной; у Мориц: "Война тебе, чума тебе, Земля, где вывели на площадь Звезду, чтоб зарубить, как лошадь"... (В антологии: "убийца, выведший на площадь"...)
А с Иосифом Бродским составитель обходится и вовсе без затей. Бессовестный, неблагодарный Бродский, оказывается, просто не дал составителю осчастливить его:
"Аксенов и я добились у редактора "Юности" Полевого визы на опубликование восьми стихотворений Бродского. Его судьба могла измениться. Но люди выбирают судьбу сами. Когда Полевой перед самым выходом номера попросил у Бродского исправить лишь одну строчку "Мой веселый, мой пьющий народ" или снять одно из восьми стихотворений, Бродский отказался. Он подал еще одно заявление на выезд, и, наконец, ему не отказали...".
Великодушный составитель, правдивый, незлопамятный...
Но неважно. Книжка все-таки вышла очень и очень полезная - даже как автопортрет любимчика здешней удачи. Странное, конечно, впечатление: Лев Никулин и Осип Мандельштам под одной шикарной обложкой.
И не думаю я, что тм - или где бы то ни было - примут это издание в качестве оправдательного документа - одного на всех. Каждому, скорее всего, придется отвечать за себя.
... Загадочный это ход мыслей: в случае чего, дескать, оправдаемся Мандельштамом: он якобы за нас, якобы вместо нас, на худой конец - от нашего имени защитил честь страны. Вот же - были не только Колыма, Катынь, Чечня Мандельштам тоже был, и Гумилев, и Клюев, - итог века, согласитесь, в нашу пользу - посторонитесь, прочие века, народы и государства! Минуточку, скажут нам, - а как вы поступили ну вот хотя бы с этим пресловутым Осипом Мандельштамом? Составитель антологии намекает, что утопили в лагерном сортире, - это верно? Ах, это не вы, это плохие современники ваших родителей, - а вам подавай покой и волю, - но что же прикажете мне делать с чеченскими детьми? - спросит Господь. Если таковой существует.
Письмо XXXVI
23 мая 1996
Когда похоронный патруль уйдет, - сказано у Киплинга, - и коршуны улетят, приходит о мертвом взять отчет мудрых гиен отряд.
За что он умер и как он жил (перевод Константина Симонова) - это им все равно. Добраться до мяса, костей и жил им надо, пока темно.
Полгода не прошло со дня кончины Иосифа Бродского - и появилась неопрятная брошюра с неузнаваемым его портретом на обложке. В брошюре сказано:
"Поэтический авторитет Иосифа Бродского не только неприлично раздут, он целиком мифологема небрезгливых и безудержных в саморекламе "Граждан Мира"!"
"Эта иррациональная поэзия Иосифа Бродского полностью чужда России, хотя она и звучит на русском языке..."
"Проходя круги ада, русские не ощущают свою ущербность от неприятия ими чуждой поэзии русскоязычного поэта. Утраты нет, потому что фиалки Бродского пахнут не тем. Поэт это скрывает: иначе не будут распространять его стихи, предназначенные быть троянским конем в мире доверчивых славянских чувств..."
Ну и, наконец:
"Русофоб Бродский навсегда останется в нашей памяти как Разрушитель России, подобный Меню и Якунину, Горбачеву и Яковлеву..."
Затейливые какие выражения, не правда ли? Автора зовут Ю. К. Бегунов, он в последние годы приобрел известность как специалист по теории и практике употребления лексемы "жид" (см. "ЛГ" от 27.12.95 и "НВ" от 6.4.96), - но здесь почему-то сдерживается, - конечно, из последних сил.
Зато применяет филологические, так сказать, навыки - приобретенные, должно быть, в Пушкинском Доме за долгие годы занятий древнерусской литературой. (Этот Бегунов, говорят, публично называет себя учеником академика Лихачева. Бедный академик!) Самое главное в этом деле - ударить ненавистного поэта цитатой под дых, а потом наступить на лицо, - но сперва надо самому изготовить цитату. Для доктора наук из Пушкинского Дома тут ничего невозможного нет. Берете, например, две строчки:
Изо всех законов, изданных Хаммурапи,
Самые главные - пенальти и угловой,
и переделываете вторую таким образом: "самое главное - пенальти головой"!
А вот прием не простой, а очень простой. У Бродского:
Запоминай же подробности, восклицая
"Vive la Patrie!"
Ученый вместо этих загадочных и противных иностранных слов ставит в цитате всего лишь "ИА!" - и сразу выявляет со всей очевидностью, что поэт не любит Родину и не умеет рифмовать.
Видать, крепко полагается этот Бегунов на доверчивое славянское сердце. Поддельные цитаты - это еще что! А какие в этой брошюре толкования текстов... Но это легко вообразить.
А называется - "Правда о суде над Иосифом Бродским". Правда эта, оказывается, состоит в том, что Фрида Вигдорова записала ход судебных заседаний 1964 года неверно. Ее запись, обошедшая весь мир, - фальшивка. Фрида Вигдорова (о которой Анна Ахматова написала, что она была "единственным высочайшим примером доброты, благородства, человечности для всех нас") - вообще не присутствовала на суде над Иосифом Бродским. Это неопровержимо, по мнению Бегунова, следует из текста некоей стенограммы, опубликованной провокатором Лернером, дважды судимым за мошенничество. Как не довериться такому источнику? Лернер приводит в самодельной своей стенограмме целый эпизод: судья Савельева вызывает свидетельницу защиты Вигдорову, а той в зале нет как нет, и адвокат Торопова произносит что-то вроде - ну и наплевать.
Этого Бегунову достаточно, чтобы обвинить во лжи - в "беспардонном вранье"! - и Фриду Вигдорову, и Лидию Чуковскую... (Для презренного пассажа: "Ну и ну, Лидия Корнеевна! Можно ли так лгать?" и т. д. - литературных слов лично я не нахожу.)
Так вот. Вигдорова присутствовала на суде не как свидетельница - как журналистка. Что присутствовала - подтверждается не только воспоминаниями порядочных людей (включая адвоката Топорову), - это для Бегунова, я понимаю, не имеет значения, - но и секретной справкой КГБ, недавно напечатанной:
"Осуждение Бродского вызвало различные кривотолки в среде творческой интеллигенции. В значительной степени этому способствовала член Союза писателей Вигдорова Ф. А., по собственной инициативе присутствовавшая на суде и составившая необъективную стенографическую запись хода процесса..."
Подвергать сомнению информацию тов. Семичастного - согласитесь, неблагоразумно.
Но тогда получается, что так называемая стенограмма Лернера - никакая не стенограмма, раз в ней содержится эпизод нереальный! А вот и другой такой же: возможно ли, чтобы в 1964 году обвиняемый произнес в зале суда: "И не работал я потому, что вашей партии и Ленину я не верил и не верю", - а судья Савельева и ухом не повела? Остального текста не привожу: только неграмотный и безумный сексот Большого Дома способен сочинить - и никто, кроме сотрудника Пушкинского Дома, не способен поверить, - что, например, профессор Адмони давал суду показания в таком стиле: "Я смею утверждать, что он гениален. Об этом мне говорили даже люди из-за границы"...
Насчет Пушкинского Дома - разумеется, шутка. Разумеется, нелепо было бы предполагать, будто Бегунов пребывает в добросовестном заблуждении.
... Ах, в какой они ярости, что Иосиф Бродский от них ускользнул обманул - не пришел умирать на Васильевский остров! Что теперь какому-нибудь специалисту по слову "жид" и могилу не осквернить без риска познакомиться с кутузкой - хотя бы венецианской...
А впрочем, всё по Киплингу: Гиены и трусов, и храбрецов жуют без лишних затей, но они не пятнают имен мертвецов: это - дело людей.
Письмо XXXVII
5 июня 1996
Самая существенная литературная новость: третий том "Записок об Анне Ахматовой" подготовлен к печати. Книга, над которой Л. К. Чуковская работала буквально до последнего дня, будет опубликована в нескольких номерах "Невы", начиная с августовского. Этот том "Записок" - самый шумный: последние три года жизни А. А. А. - прилив славы, любви и лести, а вокруг раздается гул впервые разрешенной, ненадежной свободы - то напечатан "Матренин двор", то арестован Бродский; надежда сменяется отчаянием, переходящим в отвращение... Приложены выбранные места из переписки литературы с властью (например, о деле Бродского).
Лучше всего и лучше всех изображена, конечно, главная героиня: загадочная, презрительная, никаких иллюзий, но сплошная тревога...
Кстати об Ахматовой: как выяснилось, не зря указывала она собеседникам на потолок своей комнаты и ничего важного не произносила вслух. В сборнике "Госбезопасность и литература на опыте России и Германии" (М., 1994) помещен доклад Калугина, достославного генерала ГБ, - как бы обзор Дела оперативной разработки (ДОР), заведенного на Анну Андреевну в Большом Доме в 1939 году. (Трехтомное было дело, почти девятьсот страниц, - где-то оно теперь? Говорят, пропало.) Калугин этот утверждает, что подслушивать Ахматову начали в 1946-м, - стало быть, ей не мерещилось. А вот распознавать стукачей она так и не научилась. Хоть и говорила постоянно той же Лидии Корнеевне: кто-то из наших близких знакомых на жалованье у них... Но знакомых было много. Генерал цитирует донесения о шутках, сугубо личных признаниях, даже о поцелуях... Имена сексотов, однако, не названы - за единственным исключением: "В 1927 году агент ОГПУ Лукницкий доносил..." Был такой плодовитый литератор, а также покоритель Памира. Сочинения, разумеется, забыты, - но пик Лукницкого на карте есть. Этот человек чуть ли не всю жизнь изучал биографию и творчество Гумилева, пламенный энтузиаст. Ахматова с ним подружилась в 1924-м - поддерживала отношения сорок лет - вот и на страницах третьего тома "Записок" Чуковской он мелькает, - неужели правда, что он был агент?
Как же академик Лихачев пишет в предисловии к его книге:
"Писатель Павел Лукницкий своей подвижнической жизнью заслужил искреннее уважение и современников, и сегодняшнего поколения. Я считаю за честь, что учился с Павлом Николаевичем на одном факультете"?
Но текст цитируемого Калугиным донесения частично совпадает с опубликованным отрывком из дневника Лукницкого.
Правды не узнать, пока Большой Дом не отдаст хотя бы часть архива. При нашей жизни это вряд ли случится, момент упущен. Придется довольствоваться тем, что успел раздобыть на Лубянке Виталий Шенталинский. В его книге "Рабы свободы. В литературных архивах КГБ" (М., 1995) собраны документы невыразимо печальные. Тут Бабель, Булгаков, Флоренский, Пильняк, Мандельштам, Клюев, Платонов, Горький... На них идет безжалостная охота, всегда удачная, это понятно: тайная полиция, опираясь на всенародную поддержку, справится с какой угодно литературой. Но эта литература сама кишит стукачами - вот что грустно.
Между прочим, в этой книжке я встретил знакомого. Двадцать семь лет назад "Нева" печатала воспоминания Бориса Дьякова, и я, молодой литсотрудник, что-то такое там сокращал и правил, и с автором здоровался, наверное, за руку: бездарный, противный старик, но несчастный, при Сталине сидел в лагере и убеждения сохранил, и о не сломленной своей вере в правду с наивной такой улыбкой рассказывает.
А у него был агентурный псевдоним - Дятел. Он десятки людей погубил доносами. В книге Шенталинского приведены его письма из лагеря к разным начальникам: за что, дескать, меня тут держат? Я на воле такую пользу приносил, столько-то артистов подвел под расстрел, даже одного директора завода. "Не допустите, чтобы зря была загублена моя жизнь, мои творческие способности. Я могу, я хочу, я должен принести еще большую пользу..."
Не так давно трилогия Дятла "Пережитое" издана стотысячным тиражом.
Письмо XXXVIII
19 июня 1996
С небывалым, так сказать, подъемом играя в ящик (официально выражаясь в урну), кто вспоминает о привидениях? К обезображенному памятнику на петербургском Новодевичьем над могилой Аполлона Майкова - кто положит цветок?
Впрочем, цветок Майкова - настурция, где возьмешь ее в июне? - а памятник и был безобразный, а могила - условная: приблизительно тут погребли нескольких Майковых - где остальные? На поверхности от них ни следа; совсем одинок Аполлон Николаевич, 1821-1897.
Аксаковы в Москве - а в Петербурге Майковы - а в губернском городе С. Туркины. Образованные, хлебосольные семейства, где у каждого - какой-нибудь свой талант. Отец балуется живописью, мать - литературой, дети - как в считалке Хармса: сын - стихотворец, сын - теоретик, сын - академик, сын журналист... Занятные бывали вечера в квартире Майковых (Садовая, 51, напротив Юсупова сада, второй этаж) в половине прошедшего века, и молодой Гончаров там блаженствовал влюбленным Ионычем и в рукописном журнале "Подснежник" впервые блеснул. Когда на этаже разместилась прокуратура Октябрьского района - добропорядочные привидения, конечно, ушли.
Стихи Майкова каждый благовоспитанный до революции ребенок знал наизусть: разумеется, не все подряд, а умильные сельскохозяйственные пейзажи, словно нарочно сочиненные для букварей, календарей, для хрестоматий.
Пахнет сеном над лугами...
В песне душу веселя,
Бабы с граблями рядами
Ходят, сено шевеля.
Там - сухое убирают:
Мужички его кругом
На воз вилами кидают...
Воз растет, растет, как дом...
Вот какая она, жизнь - с точки зрения человека добродетельного, благомыслящего и добродушного: учись, так называемый соцреализм, внемли, вникай!
Взрослые восторгались: как Майков глубок и живописен в антологических стихотворениях, в исторических балладах и вообще как только заводит речь о том, чего никогда не бывает.
Белинский хвалил: в антологическом роде Майков не уступает Пушкину. О драме "Три смерти" Плетнев Погодину писал: "Вот это что-то побольше Лермонтова..." Некрасов, Герцен, Достоевский - не исключено, что и вправду любили эти стихи...
Невероятное разочарование ожидает каждого, кто вздумает перечитать: прескучная трескотня. Школьный здравый смысл, почему-то в рифмах, причем в рифмах довольно скверных.
От долгой жизни, полной труда и тревог, остались две строфы за волшебным зачином:
Мой сад с каждым днем увядает;
Помят он, поломан и пуст,
Хоть пышно еще доцветает
Настурций в нем огненный куст...
Мне грустно! Меня раздражает
И солнца осеннего блеск,
И лист, что с березы спадает,
И поздних кузнечиков треск...
Стихотворение тянется еще долго, надоедая наивностью все сильней, - но первая строчка...
Может быть, это за нее советская идеология как бы вычеркнула Майкова из классики: а не воспевай частную собственность на землю! Сад у него, видите ли, свой.
Вообще-то он дачу снимал - под Сиверской...
Отчасти дилетант, отчасти графоман - однако же целую строчку написал навсегда - разве этого мало?
Но не удостоен юбилея, и на доме напротив Юсупова сада нет имени Аполлона Майкова. Потому что был типичный представитель искусства для искусства, кто же не знает.
Письмо XXXIX
14 августа 1996
Непременно неграмотная, желательно - глухонемая,- от остальных избави поэта Бог: остальные, того и гляди, рано или поздно примутся за мемуары.
Подругам генералов и адмиралов, изобретателей и рационализаторов, животноводов и педагогов это ни к чему: чувство приличия у них сильней, да и шансов на публикацию меньше.
Но жизнь литератора, как известно, принадлежит Большой Сплетне, которую называют историей литературы, и это наш любимый предмет.
Любой факт, любой акт из любой литературной биографии считается как бы достоянием республики - зачем же утаивать его от потомков?
На склоне лет предать покойного друга, если он хоть чуточку знаменит, не только соблазн, а еще и долг перед общественностью.
Вот я и говорю: бойтесь грамотных, поэты, как огня. Хорошо еще, если, постарев, грамотная станет ханжой либо лгуньей. А если нет?
Бывают такие простодушные, что кого угодно сделают смешным навсегда.
Вот в 19-м выпуске исторического альманаха "Минувшее" напечатаны воспоминания Ольги Грудцовой, урожденной Наппельбаум, сочиненные как письма к Владимиру Луговскому, - бедный, бедный адресат, хоть и отправительницу жаль.
"Ты несколько дней не приходишь, я терзаюсь - не любит, я ему никто, не скрывает, что есть другие женщины. И не только Елена Сергеевна, с которой не то расстался, не то нет. Однажды заявил: "У всех евреек кривые ноги. Встань голая, я посмотрю, есть ли просвет между коленями... Чуть-чуть есть. А Люська встала, так у нее целый круг""...
Что ж, Луговскому поделом. И вдове Булгакова, наверное, тоже.
Допускаю, что и Корнею Чуковскому (он тоже ввязался с О. Грудцовой в какие-то межличностные глупости, вот и удостоен отдельного письма в могилу)...
Иногда думаешь: как дальновиден был В. И. Даль - автор словаря, чиновник МВД, - полтора столетия назад ополчась на идею всеобщей грамотности!
Письмо XL
25 октября 1996
Настоящего литературного критика смело уподоблю незамерзающему ручью: все его существование состоит из поводов пожурчать. А не совсем настоящий, вроде нижеподписавшегося, то и дело цепенеет, как бы вычисляя, стоит ли выеденное яйцо ломаного гроша, - дождемся, дескать, событий мало-мальски значительных. Впрочем, все такие оправдания напоминают не слишком пристойную поговорку о плохом исполнителе, склонном объяснять тусклое звучание инструмента - неудобной его конфигурацией. Кончилась пауза, и ладно. Вперед! Все же кое-какие события произошли.
В те времена, о которых вздыхают, стесняясь лишь слегка, даже многие из людей симпатичных, - в те времена, говорю, не полагалось, чтобы жития византийских святых читал кто попало. И вот я, например, с нетерпением ждал, когда же издательство "Terra Fantastica" исполнит свое обещание и выпустит наконец сборник этих самых житий.
Это случилось, но восторга нет, увы.
Жанр, прежде всего, оказался до боли знакомый: помните, были такие книжные серии - "Пламенные революционеры" и "Пионер - значит первый"? И слог такой же скучный.
Хотя не исключено, что тут и переводчик не без вины. Странности какие-то в переводах. То есть, наверное, все в высшей степени научно, - и это так полагается для колорита, чтобы содержатель трактира именовался харчевником: в издании менее научном, чего доброго, мы попали бы в харчевню и грубый трактирщик нам надоедал. Но когда в тексте VII века юродивый века VI входит в спальню к жене этого, стало быть, харчевника - прислуживающего, значит, в трактире, - и делает вид, "будто снимает пальто", - согласитесь, это больше похоже на картину Репина "Не ждали", чем хотелось бы в данном конкретном случае. Точно так же и когда Мария, представьте, Египетская произносит: "Ныне отпущаешь..." - это, вероятно, превосходный перевод церковнославянского "отпущаеши", - но Средиземноморье сразу оборачивается Нечерноземьем... Должно быть, так и следует, молчу, молчу, и о примечаниях ни слова, хотя про Тайную Вечерю сказано: "Она была совершена, согласно евангельской легенде, накануне причастия хлебом и вином, т. е. его плотью и кровью" - похоже на бред, но мне ли судить, там такая редколлегия: Б. Ф. Егоров, Д. С. Лихачев, им лучше знать...
Довольно об этом. Вышел том 2-й "Ленинградского Мартиролога" - список казненных в октябре 1937 года. Примерно четыреста страниц - сплошь фамилии с именами-отчествами. Добросовестная работа большой труппы разного рода специалистов под руководством А. Я. Разумова, главного библиографа Публичной библиотеки. В предисловии академик Д. С. Лихачев настоятельно советует:
"Не ленитесь прочесть все фамилии казненных и представить себе, что за каждой из них стояла полноценная жизнь..."
Совет прекрасный. Но также и адреса представляют интерес.
Вот Васильевский остров, 12-я линия, д. 11, кв. 6. Обитателям этой квартиры наверняка полезно узнать, что 2 августа 1937 г. из нее увели навсегда некоего Андреева Николая Владимировича, и было врагу народа двадцать лет.
А на улице Чехова, д. 5, кв. 9, жил враг народа Леонид Станиславович Касперович.
А на Тверской в д. 3/11, в кв. 14 - враг народа Садогурский Яков Яковлевич.
Ну, и так далее. Нельзя избавиться от мысли, что в каждой старой квартире - свой, неизвестно чей, окровавленный призрак бродит по ночам, и пуля громыхает в пустом его черепе. Кто в семнадцатом погиб, кто в пятьдесят втором, - и семьи не пощажены, - а жилплощадь ничья не пропала, пригодилась героическим современникам...
Но мы ведь ни в чем не виноваты, правда? Наши родители - тем более. Список убитых (далеко не полный) - вот он, а убийцы вместе с соучастниками (доносчик, следователь, судья, конвоир, палач, не забудем и свидетелей), предпочтительно думать, испарились из города, не оставив ни воспоминаний, ни потомства. Их опустелое жилье перешло к ветеранам войны и труда, те завещали его своим детям, - так подайте же нам поскорей, начальники, достойную жизнь. Достойную нас...
Довольно и об этом.
Несмотря ни на что, литература продолжается, и даже появилась одна книжка неестественного либо сверхъестественного блеска. Это "Созвездие Рыб", сборник стихотворений Алексея Пурина (издательство "Atheneum - Феникс"). Хотите - верьте, хотите - нет, но, по-видимому, слово "вдохновение" имеет какой-то реальный смысл. Что-то такое бывает иногда с некоторыми людьми. Кто их знает, чем и с кем они за это расплачиваются, - читателю достается обрывок иллюзии счастья. Впрочем, эти стихи многих возмутят. В них "я" и "ты" ведут себя неправильно.
Письмо XLI
20 ноября 1996
Прежде мне и в голову не пришло бы усомниться, что В. В. Набоков был мастер тенниса, гроссмейстер шахмат, король энтомологии, - так небрежно, уверенно и непонятно толкует он при случае об этих предметах. Какая-то мерещилась в нем неуязвимость; а слабые стихи - простительная блажь.
Но вот он то ли не успел, то ли пожалел сжечь рукописи лекций по русской литературе, читанных им в Корнельском и других университетах Америки, - а наследники, движимые, скорей всего, беззаветным благоговением, лекции напечатали. Теперь ничего не остается, кроме как признать, что В. В. был и пребудет лучшим в мире специалистом по собственной прозе, - а за прочие достижения не поручусь. По крайней мере, историк литературы он был неважный, профессорствовал кое-как: пересказ и комментированное чтение словно в седьмом классе советской школы, - по-видимому, приравнивая иноязычных к умственно отсталым. Впрочем, он нигде не поступается своим капризным, изощренным вкусом и о вещах ему дорогих (как "Анна Каренина") говорит занятно. Зато Достоевского, например, перечитывать Набокову было лень, он настолько презирает его, что даже перевирает. "Он жаждет спасти ее, открыв перед ней правильный путь, и соглашается жениться на ней", - о ком бы вы думали эта прелестная фраза (переводчице А. Курт - отдельное спасибо)? Вообразите: о князе Мышкине и Аглае Епанчиной.
Но и то: скучно вникать и втолковывать, чувствуя себя единственным и последним взрослым человеком на планете. Попробуйте перевести на современный английский язык такое абсолютно необходимое слово, как пошлость, когда оно и в русском-то утратило смысл.
"В современной России - стране моральных уродов, улыбающихся рабов и тупоголовых громил - перестали замечать пошлость, поскольку в Советской России развилась своя, особая разновидность пошляка, сочетающего деспотизм с поддельной культурой".
Даже грустно. Как это у Пушкина? "Я, конечно, презираю Отечество мое с головы до ног - но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство". Хотя какой же Набоков иностранец?
"Ты, который не на привязи, - продолжает Пушкин в письме к Вяземскому, - как можешь ты оставаться в России? Если Царь даст мне свободу, то я месяца не останусь... В 4-й песне Онегина я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его и спросишь с милою улыбкой: где ж мой поэт? В нем дарование приметно - услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится - ай да умница..."
Цари сохранили Пушкина для пули Дантеса, для школьной программы. Не дай Бог, стал бы невозвращенцем - и тому же Набокову нечего было бы преподавать, разве что В. В. действительно знал толк в лаун-теннисе.
Пушкин мечтал об английских журналах, о парижских театрах и борделях тщетно.
В следующем веке сотни тысяч людей покинули под видом крыс этот славный военный корабль, где дышится так легко. Вот один из них, эмигрант доселе (если не ошибаюсь) безвестный - В. Любарский (не исключено, что псевдоним) издал в Петербурге ценную книжку, - только название неудачное: "Из Америки с познанием и сомнением". Аннотация предупреждает, что это, видите ли, история одной иллюзии. Тут монтаж из дневников и писем - несомненно подлинных, - так сказать, хроника погружения в другую жизнь. Герой с каждым днем все благополучней, но все несчастней, - наверное, потому, что настоящего советского интеллигента не отмоешь добела.
Лишние люди, необходимые люди, бедный мыслящий тростник! Набоков не поверил бы, но даже здесь, причем даже в семидесятые годы, кое-кто понимал, что такое пошлость, - от нее и бежали, от ее всевидящего взгляда, всеслышащих ушей, мерзкого неумолчного голоса, - напрасно! Что ей океан! Одержимый неотвязным даром слова и тревожной рефлексией бывший врач из бывшего Ленинграда нелеп, смешон и жалок в Америке - и везде - примерно как Алеко в цыганском таборе.
История иллюзии! В самом деле, можно ли было предположить, что и под крышами Нью-Йорка живут мучительные сны, что и в правовом государстве от судеб нет защиты, что всюду неврозы роковые, а счастья на свете нет - и покоя, и свободы, - разве что в текстах Пушкина и Набокова, Набокова и Пушкина...
Письмо XLII
12 июня 1997
Булат Окуджава умер. Писатель безупречного вкуса, артист необыкновенного предназначения. Ему было суждено вернуть в моральный бюджет страны - ценности, без которых она задыхалась. Лет тридцать пять тому назад он соблазнил целое поколение полуроботов и полудикарей - интонациями человеческого благородства. Избавил очень, очень многих от худшего из одиночеств, дав мертвому советскому местоимению "мы" новую жизнь: с тех пор и до настоящей минуты это слово действительно обозначало нас, какими мы чувствовали себя, пока звучал в нас голос Окуджавы.
Было и такое счастье, условно называлось - любить Окуджаву. Любовь, конечно, не пройдет.
Судьба, судьбы, судьбе, - подпевали мы, - судьбою, о судьбе.
Письмо XLIII
20 июня 1997
Легенда, составленная стараниями так называемых очевидцев, гласит: Л. Добычина убили советская власть и Алексей Толстой.
Но вот - года полтора уже назад - вышла книжка: "Писатель Леонид Добычин. Воспоминания, статьи, письма". Название не совсем аккуратное. Текстов Л. Добычина тут совсем немного: десятка два писем. Остальное тексты о нем, в частности - три не слишком содержательных мемуара, много-много литературоведческих, так сказать, статеек (из них одна яркая: М. Золотоносов - "Книга "Л. Добычин": романтический финал") и две драгоценные публикации: речь А. Н. Толстого на общем собрании ленинградских писателей 5 апреля 1936 года (публикация В. С. Бахтина; он же - составитель сборника) и выдержки из донесений в Большой Дом, подписанных псевдонимом "Морской" (публикация А. В. Блюма).
Эти-то публикации, а также комментарии к ним - легенду разрушают.
Реальная картина выглядит, оказывается, совсем по-другому: советской власти в 1936 году на Л. Добычина было пока еще наплевать, убийств она в литературе на тот год не намечала - поручила кой-кому пугнуть кой-кого, а исполнители перестарались, причем А. Толстой не успел себя проявить, у него - алиби.
То есть дело было так. Статью в "Правде" - "Сумбур вместо музыки" (28 января) ЦК правящей партии постановил обсуждать на собраниях творческой интеллигенции: пусть знают, что главное для страны - покончить с формализмом.
Композиторов, поэтов, живописцев - не всех, а кто познаменитей, пообразованней, поталантливей - и опять-таки не всех, а только имевших наглость возомнить, будто культура не является домработницей идеологии, следовало публично раздеть и оплевать.
Это был тонко задуманный сеанс естественного отбора: кто из намеченных жертв струсит достаточно унизительно, чтобы заслужить право на смерть в собственной постели; кто из глумящейся толпы бессовестен так надежно, что достоин доверия; прочие пусть трепещут, и пусть все боятся один другого и презирают.
В Москве, да и повсюду, пошло как по маслу, настоящий фестиваль низости, Олимпийские игры: сегодня Ю. Олеша обличает своего любимого Шостаковича, завтра, глядишь, Б. Пастернак сочиняет стишки о Сталине - о "гении поступка", - только в Ленинграде с самого начала не заладилось.
Было совершенно ясно, кого тут следует опозорить: Тынянова, Эйхенбаума в первую очередь (формалисты отпетые), а дальше само пойдет... Ахматова, Зощенко, О. Форш - да мало ли - недобитых интеллигентов среди местных литераторов было сколько угодно.
Но здешние исполнители вздумали родную партию перехитрить - не то симпатизировали пациентам, не то боялись отпора и рассудили, что в пылу погрома сами пропадут. И поставили под шпицрутены безвестного дебютанта из провинции, благо он только что напечатал не совсем заурядную книжку.
Вот на какую роль пригодился Л. Добычин.
И 28 марта критики Ариман и Латунский - виноват: Е. Добин и Н. Берковский - с наслаждением и с блеском стерли его в порошок часа за полтора.
Добин был мыслитель без затей: три класса гимназии, сочинил книгу "За большое искусство большевизма", ответственный редактор "Литературного Ленинграда". Берковский, напротив того, был очень образованный, остроумный, даже умный - все понимал, но как бы наоборот.
(Вы спросите: как это? Вот пассаж из его книги "Текущая литература":
"Мандельштам покамест только писатель о культурном эпилоге прошлого. Настоящего и будущего он не достигает. Зато замечательный Олеша... в своей "Зависти" явил себя как мастер расправы над прошедшею культурой и как отличный лазутчик в культуру будущего".
Добин и Берковский, короче говоря, тоже явили себя отличными мастерами расправы, и каждый в своем стилистическом ключе. Добин напирал на то, что Л. Добычин - политический враг, а Берковский намекал - духовный мертвец.
Ленинградская литература в полном составе - кони, ладьи, слоны внимала, затаив дыхание: удастся или нет эта смелая жертва пешки?
Не дослушав, Л. Добычин встал, пробормотал невнятное про невиновность и, шатаясь, вышел, как в стихах Анны Ахматовой. Дома сказал другу, тоже писателю (стукачу "Морскому"), что уезжает из города и уходит из жизни, поскольку его все равно подвели к НКВД.
Исчезновение Л. Добычина, слухи о его самоубийстве фактически сорвали дискуссию о формализме в Ленинграде.
Ценой его гибели ленинградские писатели заработали отсрочку.
Это было по-своему справедливо: как-никак все они запятнали себя участием в убийстве и предательством. Все вместе, все до одного, а не только горстка приятелей несчастного, которых поддразнил А. Н. Толстой через неделю не без злорадства: "И они предали, не желая ломать себе шею из-за того, что невозможно было защищать". А как жаль, что сгорел Дом писателей на Воинова-Шпалерной, где все это произошло, - в таком красивом зале с белыми колоннами, с купидонами под карнизом!
" - Знаешь, Бегемот, я очень много хорошего и лестного слышал про этот дом".
Письмо XLIV
6 февраля 1998
Кто же спорит - прекрасно, что Александр II отменил крепостное право. И даже всеобщая так называемая грамотность, несомненно, принесет отечеству рано или поздно пользу. А все же неприятно встретить в газете, которую помнишь совсем еще молодежной, словосочетание типа: "Любопытная, но ненаблюдательная Софи впервые сообщает" и т. д.
Что за Софи - какая она вам Софи - Софья Николаевна Карамзина, дворянка, совершеннолетняя, к тому же дочь славного писателя и фрейлина императрицы, между прочим! Какой дала вам покойница повод для фамильярного обхождения, чем провинилась перед высокомерным обладателем подписи "Михаил Сафонов", какими такими сообщениями не потрафила?
Всего только - вела по ночам дневник и не уничтожила перед смертью. Не предвидела Октябрьской революции, бедная женщина, - и вот теперь из зала ей кричат: давай подробности, эй, Софи, отчего, например, умер Пушкин? А она отвечает как-то неотчетливо - в сущности, не дает ответа, - и население теряется в догадках.
"Почему-то в России никто не знает, отчего умер Пушкин, - недоумевал четверть века назад незабвенный Веничка Ерофеев, - а как очищается политура, это всякий знает".
Но так было в эпоху застоя. Теперь все наоборот. И вышеупомянутый г-н Сафонов - автор вышеназванной статьи, где m-lle Карамзина второстепенный персонаж, - одной решительной фразой рассеивает мрак. "В смерти Пушкина виноваты Вяземские", - называется статья.
Заголовок превосходный, главное - утешительный. Насколько легче жить, когда виновные найдены.
И как близко! И как легко! Ни свидетельств новых не понадобилось, ни улик. Всего лишь два умозаключения - и факты давно известные приобретают зловещий смысл.
Пункт первый. Вяземские - князь Петр Андреевич и княгиня Вера Федоровна - зная о семейной драме Пушкина едва ли не все, нам почти ничего не рассказали. Вечер 25 января 1837 года Пушкин и Дантес с женами провели у Вяземских. Страшный, наверное, был вечер, и вряд ли обошлось без какой-нибудь отвратительной сцены. И правильно, скорее всего, предполагает г-н Сафонов, что роковое, с невозможными оскорблениями, письмо к барону Геккерну Пушкин отослал на следующее утро... Так вот - вместо того, чтобы расписать этот воображаемый скандал во всех деталях, князь и княгиня Вяземские "всячески затемняли события того вечера". Не предали, представьте, своих гостей, утаили от общественности ключевой, быть может, инцидент, в их присутствии у них в доме случившийся.
Это неспроста, - умозаключает г-н Сафонов. Должно быть, князю и княгине было что скрывать. У самих, надо думать, рыльца в пушку.
Исключительно стройное и строгое рассуждение. Не возразишь. Действительно: кто же поверит, будто существовали когда-то люди, способные всю жизнь сохранять чужую тайну и в могилу ее унести, - оберегая, видите ли, честь погибшего друга?
Пункт второй. В ночь на 27 января Вяземские знали уже, что будет дуэль, но ни ночью, ни наутро, насколько известно, даже не попытались предотвратить. Так "не имеем ли мы теперь оснований сказать, что кровь Пушкина и на семействе Вяземских?"
Имеете, безусловно, имеете. Правда, телефон доверия в Третьем отделении тогда еще не работал, - но возможность умолить Дантеса ради русской литературы отказаться от вызова, пожалуй, существовала. Увы, князь Вяземский разделял, как и Пушкин, предрассудки своей среды: полагал, что подобная попытка покроет имя Пушкина так называемым позором. Вот ведь и Данзас, лицейский приятель, ничего такого не предпринял. Не советские люди: воображали, будто бывают обстоятельства, в которых сохранить жизнь любой ценой - не самое главное.
Ведь это с высоты нашей морали ясно г-ну Сафонову: Пушкин вовсе не искал кровавой развязки, даже не подозревал, что рискует жизнью, пиша Геккерну непоправимые слова. Наоборот, он хотел как лучше - "дать понять Геккерну, какие обвинения обрушатся на него и Дантеса, если они не выполнят его требования, - прекратить всякие сношения между семьями". Дескать, оставьте в покое мою супругу, такие-сякие, не то пожалуюсь в партком и в стенгазете жилконторы разъясню ваш аморальный облик. Но ни Пушкин, ни Вяземский нашим коммунальным опытом не обладали. Оба они само это предположение г-на Сафонова приняли бы за грязную клевету - еще более грязную, чем прочие его же намеки, - например, на какие-то Пушкина с Вигелем "гомосексуальные игры"...
Чего только не пишут на обломках самовластья!
Письмо XLV
8 мая 1999
Посмертная земная жизнь - так называемая слава - похожа на классический цирковой фокус. Иллюзионист кромсает, кромсает веревку, стягивает обрезки грубыми узлами - вдруг взмах, рывок - исковерканная линия мгновенно превращается опять в идеальную прямую: веревка, назло глазам, целехонька!
Шарик вернулся. Он голубой.
Сила фокуса - не столько в проворстве подмены, сколько в медлительной внятности необратимо губительных жестов. Пауза, предшествующая чуду ожидаемому, обещанному, - должна убедить публику, что это чудо невозможное.
Примерно так трудится теперь время над образом Булата Окуджавы. Внушает доверчивому нашему здравому смыслу: поэт разделит участь того поколения, точней - того круга, в общем - тех, кто все вместе принимали его меланхолический тенор за свой собственный внутренний голос.
Мне надо на кого-нибудь молиться.
Подумайте, простому муравью
Вдруг захотелось в ноженьки валиться,
Поверить в очарованность свою...
А это были люди самообмана: любили, взявшись за руки, попеть хором грустное и надеялись таким способом спастись от дураков. Причем в дураках видели главную опасность, почитая их природными своими противниками, - но как-то все было недосуг разобраться: кто - дураки, чем отличаются - не отсутствием ли голоса и слуха?
Тут был, так сказать, вокальный социализм с отдельно взятым человеческим лицом. Знай распевали у костров и прочих источников света, как бы не обращая внимания на вполне реальных чудовищ в реальной окружающей тьме:
Дураком быть выгодно, да очень не хочется,
Умным - очень хочется, да кончится битьем...
Вот и пропадают теперь поодиночке.
Но Булат Окуджава, надо надеяться, не исчезнет вместе с ними - вместе с нами. Его фантазию, нежность и свободу поймут в грядущем веке верней.
По самодельным чертежам, из подручных слов и личной музыки он мастерил короткую такую, двух-трех-минутную, но более чем настоящую - быть может, вечную - жизнь. Удивительно часто это ему удавалось.
В склянке темного стекла
Из-под импортного пива
Роза красная цвела
Гордо и неторопливо...
Кто-нибудь, когда-нибудь непременно еще влюбится в это волшебство.
Обычное заблуждение современников - будто человека, вчера необходимого, сегодня больше нет: вышел на своей станции, а мы вроде продолжаем куда-то мчаться.
Линия, скорее всего, кольцевая.
Письмо XLVI
14 апреля 2000
Титул - внушительный донельзя: Ю. М. Лотман. Учебник по русской литературе для средней школы. М.: Языки русской культуры, 2000. - 256 с.
Но текст - как бы это сказать? - несколько неожиданный.
"... Хищному индивидуализму и демонизму Кирибеевича противопоставлены простота, приверженность к той народной этической традиции, которая предписывает женщинам скромность, а мужчинам - смелость, готовность погибнуть за свои идеалы, купца Калашникова. Кирибеевич стремится к счастью, Калашников - к правде".
Уважаю издателя А. Д. Кошелева - перед авторитетом же Ю. М. Лотмана буквально трепещу, - но к счастью не стремлюсь, и не утаю: не та это книга, которую мы с вами вообразили, взглянув на обложку. Не тот случай, когда большой ученый решается как можно проще высказать главные мысли своей жизни (Фарадей, "История горящей свечи" - или Кеплер - Опыт о снежинках).
Во-первых, автор поставил перед собой - а скорей всего, перед ним поставили - другую задачу. Работа написана, судя по всему, давно (в издательской аннотации об этом ни звука), едва ли не в самые цветущие годы Застоя, когда на школьную программу - на эту святыню единомыслия - посягнул бы в учебном пособии разве что безумец. Но вместе с тем предполагалось - то есть допускалась такая посылка, - что в союзных республиках, - например, в Эстонии, - русская литература предмет не самый главный. Тартускому университету поручили, по-видимому, приспособить общесоюзную схему к местным условиям, - только и всего.
Положим, оптика перевернутого бинокля предоставляла автору подобного труда кой-какие преимущества: избавляясь от подробностей под предлогом, что сестра таланта неумолима, стоило попытаться вписать побольше фактов и вычеркнуть пошлые политические теоремы. Но шансы на удачу были ничтожные: поняв это по ходу работы, автор ее оставил - или вынужден был оставить, или просто начальство аннулировало заказ. Так или иначе, тут не история русской литературы, а лишь несколько глав - до Гоголя включительно.
До Гоголя включительно, - однако же, без Тютчева, без Баратынского, зато Рылеев назван "одним из крупнейших деятелей русской поэзии вообще"...
Во-вторых, такой уж это неблагодарный предмет - история литературы: ни одна горящая свеча не похожа на другую, все факты врозь, просто сосуществуют в каком-то воображаемом времени, подобном романному, - а сюжета не разглядеть.
Как это у Писарева? "Жил-был Нестор, написал летопись; жил-был Кирилл Туровский, написал проповедей много; жил-был Даниил Заточник, написал Слово Даниила Заточника; жил-был Серапион, жил-был, жил-был, и все они жили-были, и все они что-нибудь написали, и всех их очень много..."
Чтобы у школьника не поехала крыша, приходится ввести какой-нибудь индифферент посягательств, общий для всех персонажей. Какое-нибудь ожерелье королевы, по примеру, предположим, Дюма-отца.
Именно так и поступает советская наука. В роли королевы - так называемый Народ, а ожерелье - само собой, свобода. Мушкетеры волочатся за хорошенькими, дерутся на дуэлях с кем попало, - но ни на минуту не забывают об основном задании.
С какой стати, например, Пушкин принялся сочинять "Дубровского"?
"Утопическая мечта о союзе просвещенного меньшинства и бунтарской массы создавала надежду на более организованный ход народного восстания. Пушкин начал изучать случаи перехода дворян на сторону народа. Заинтересовавшись одним реальным эпизодом, он начал писать повесть "Дубровский"".
А отчего не дописал?
"Пушкин не окончил этой повести, поскольку он начал испытывать сомнения в самой основе ее идейного замысла - в возможности союза дворянина с народом".
Теперь учтите, что это не беллетристический прием, а научный метод. И не Ю. М. Лотман его изобрел, а разные спецы и попутчики двадцатых годов. Чтобы спасти старую литературу от репрессий, они задним числом приписали ей революционный стаж. Дескать, столетия провела в подполье, предвкушая создание партии нового типа (эта концепция напоминает гипотезу М. Горького об Эдиповом, так сказать, смысле главного русского заклинания: старый дикарь при встрече с молодым пытается обезоружить его сентиментальным указанием на вероятность очень близкого родства). Это даже отчасти правда, но Пушкин все-таки виноват меньше других. А метод постепенно превратился в опасный режущий инструмент, - но очень удобный, каждому по руке. Вооруженный им последний тупица не собьется на экзамене, хоть какой задавайте коварный вопрос.
Чего ради, допустим, тот же А. С. увлекся вдруг Кораном? Слушайте, слушайте! И следите за движеньем мысли - цитата длинная:
"... Слабость дворянских революционеров он видел в их отрыве от народа. Поэтому задачу народности литературы он понимал как изучение народной психологии, национального склада души, особенностей народного менталитета. Эти черты сильнее всего, по его мнению, выражаются в фольклоре. Преодоление разрыва с народом мыслилось им как задача культурно-психологическая. Именно эти размышления определили главные произведения Пушкина этих месяцев: поэму "Цыганы", центральные главы "Евгения Онегина" и трагедию "Борис Годунов". Они же толкнули Пушкина на изучение и собирание русского фольклора: Пушкин записывает сказки Арины Родионовны, ходит по ярмаркам и записывает народные песни. Одновременно он изучает фольклор других народов: читает немецкие сказки, Коран и другие источники народной поэзии".
Читал Коран, чтобы преодолеть разрыв с народом! Дюма не отважился бы на такой пассаж.
Разве только для комической черты в обрисовке Арамиса. Но в этом случае Д'Артаньяна наградил бы тоже причудой, причем другой. Написать попросту: "От поэзии Лермонтова веет духом его эпохи", - как бы не вполне профессионально...
Как трактован Портос - виноват, Н. В. Гоголь, - почтительности ради промолчу.
В общем, эта книжка ничего не прибавит к славе Лотмана. Но, конечно, хорошо, что она издана, - не пропадать же рукописям классика и мастера. Грустно и поучительно, что и он пробовал играть по нотам. Или это все же переиздание, и данным пособием попользовались-таки в реальной школе? Боюсь, что в этом случае у нынешних взрослых эстонцев сбивчивые представления об адюльтере. Вот, скажем, в "Цыганах" ревнивец Алеко, "соединяя жажду воли с демонической гордостью,... отделяет себя от народа", а непостоянная Земфира, наоборот, воплощает "простую мудрость народа". С другой стороны, Татьяна отказывает Онегину "во имя более высоких нравственных ценностей" - именно потому, что "Пушкин подчеркивает народность ее нравственного облика", "акцентирует ее психологическое родство с простым народом". Опять же этическая традиция купца Калашникова (см. выше)... Чья все-таки правда народней? И насколько прочным воображается брак Земфиры с Калашниковым?
Зато нет ленинских цитат. Из Маркса одна - использована элегантно и смело:
"К. Маркс в ранней работе сказал: "Ночная бабочка после захода общего для всех солнца ищет света ламп, зажигаемых отдельными лицами". После захода солнца общественной деятельности, которое светило в эпоху декабристов, лампа личного счастья осталась единственным источником света".
Это насчет женских образов в "Герое нашего времени".
-Увы! - только и вздохнешь.
В этот ларчик влюблена
бормашина безнадежно.
Письмо XLVII
22 июня 2000
Кто из европейцев не любил Ремарка, - тот, считайте, проспал двадцатый век. В России, в Германии таких - большинство: их сон оберегала тайная полиция.
О, да! - никаких иллюзий: с каждым можно сделать все; сопротивление бесполезно; человек беспомощен, народы глупы; ад прорвался в историю и стал бытом; злобный кретин победил навсегда; побежденные спасаются паническим бегством - погибая на бегу...
Но пока их сбивают в последнюю лагерную колонну, - пока их убили не всех, - побежденные успевают, представьте, разменять шутку или даже поцелуй, поделиться случайным куском, глотком алкоголя, философской цитатой. Что-то они такое помнят, что стоило любви, ради чего стоило жить, - что-то из такой культуры человеческих отношений, где безжалостное насилие - хоть и неотразимый аргумент, но все-таки презренный... Некоторые даже не совсем отрешились от забавных предрассудков - вроде того, что музыка или там живопись как бы подсказывают линию поведения - и якобы некрасиво их предавать, и будто бы кто-то - хоть кто-то один - не предаст ни за что, и, значит, есть кого уважать...
Словом, антифашизм как последняя стадия пассивного романтизма. Мифология обреченных. Опера благородных нищих.
Этот роман - "Земля обетованная" (М.: Вагриус, 2000) - последний, предсмертный. Похож на "Триумфальную арку", на "Лиссабонскую ночь", - все та же беженская мостовая - только декорации другие: Нью-Йорк, и на календаре сорок четвертый год. Кое-кто все-таки добежал, переплыл океан, уцелел, выжил, - теперь страшно только ночью, и то лишь во сне, - а днем немецкие эмигранты бродят по благополучной стороне планеты, скучливо изучая беспечных туземцев, - и оживают лишь вечером, среди своих: за рюмочкой, в застольном вздоре, маскирующем ненависть и отчаяние; потому что, кроме отчаяния и ненависти, все вздор. На самом деле это все те же "Три товарища", то есть "Три мушкетера", а еще точней - романы Ремарка одушевлены игрой в Атоса и Д'Артаньяна: два облика вечной мужественности в дружбе неравноправной оттого похожей на любовь.
На этот раз Д'Артаньяна зовут Людвиг Зоммер. Впрочем, это не настоящее имя: он прибыл в Америку по чужому паспорту. Молодой, стройный, остроумный, меланхоличный, с трагическими воспоминаниями... Понятно, что все прочие персонажи к нему добры, тем более, что и они - наши старые знакомцы: взять хотя бы портье в отельчике "Мираж" - сметливого и щедрого алкоголика из русских дворян... Или эту изящную и насмешливую, но такую беззащитную девушку (фотомодель, чья-то содержанка, прежний любимый пропал на фронте но теперь одиночеству сердца конец) - Марию Фиолу, по направлению к которой герой движется так медленно, так долго...
Он искусствовед-любитель, но выдает себя за профессионального антиквара, в каковом качестве и подрабатывает, что позволяет автору нас развлечь действительно прелестными разговорами о персидских коврах, китайской бронзе, французской живописи. С какой неистовой нежностью этот мнимый Зоммер и его собеседники влюблены в так называемую мировую культуру! Словно это все, что у них осталось, и словно это осталось только у них... Должно быть, Ремарк часто и в подробностях представлял себе, как варвары взрывают дверь последнего музея.
"Медленно, словно в подаренном сне, которого я на много лет лишился, а вот теперь увидел снова, я брел по залам, по своему прошлому, брел без отвращения, без страха и без тоскливого чувства невозвратимой утраты, Я ждал, что прошлое нахлынет сознанием греха, немощи, горечью краха, - но здесь, в этом светлом храме высших свершений человеческого духа, ничего такого не было, словно и не существовало на свете убийств, грабежей, кровавого эгоизма, - только светились на стенах тихими факелами бессмертия творения искусства, одним своим безмолвным и торжественным присутствием доказывая, что не все еще потеряно, совсем не все".
Что касается сюжета... ну, а в "Трех товарищах" или в "Черном обелиске" какой сюжет? Выпивают, разглагольствуют, острят - пока не случится катастрофа, пока не понадобится Д'Артаньяну шпага Атоса (там и Портос подоспеет, и Арамис, - но в них влюбляются не все)... Так, наверное, было задумано и теперь, - но катастрофа случилась с автором, а роман до нее не дошел. И все равно понятно, даже и без приложенных к основному тексту обрывков черновика, что Людвиг вынашивает план мести (нацистскому офицеру за убитого отца), что попытка осуществить этот план скорей всего сорвется... В любом случае главный герой обречен на жизнь, лишенную смысла, а его друг на бессмысленную смерть.
Атос этого романа - еврей по имени Роберт Хирш, легендарный храбрец, как бы двойник Рауля Валленберга: в оккупированной Франции спасал людей тем же способом, но еще круче, именно в мушкетерской манере:
"Раздобыв откуда-то дипломатический паспорт на имя Рауля Тенье, он пользовался им с поразительной наглостью... Некоторым он спасал жизнь неведомо где раздобытыми бланками удостоверений, которые заполнял на их имя. Благодаря этим бумажкам людям, за которыми уже охотилось гестапо, удавалось ускользнуть за Пиренеи. Других Хирш прятал в провинции по монастырям, пока не предоставлялась возможность переправить их через границу. Двоих он сумел освободить даже из-под ареста и потом помог бежать. Подпольную литературу Хирш возил в своей машине почти открыто и чуть ли не кипами. Это в ту пору он, на сей раз в форме офицера СС, вытащил из лагеря и меня - к двум политикам в придачу..."
В Нью-Йорке этот человек стоит за прилавком - торгует бытовыми электроприборами. Приглашает Зоммера на ужин в рыбный ресторан. Они шагают по ярким, чистым улицам, среди людей, из которых никого ни разу в жизни не били ногами... Морская живность в ресторанной витрине - и та им родней: потому что обречена.
"Аккуратные шеренги рыб живо поблескивали серебром чешуи, но смотрели тусклыми, мертвыми глазами; разлапистые крабы отливали розовым - уже сварены; зато огромные омары, походившие в своих черных панцирях на средневековых рыцарей, были еще живы. Поначалу это было не заметно, и лишь потом ты замечал слабые подрагивания усов и черных, выпученных глаз пуговицами. Эти глаза смотрели, они смотрели и двигались. Огромные клешни лежали почти неподвижно: в их сочленения были воткнуты деревянные шпеньки, дабы хищники не покалечили друг друга.
- Ну разве это жизнь, - сказал я. - На льду, распятые, и даже пикнуть не смей. Прямо как эмигранты беспаспортные".
Такой это роман - безнадежный, красивый, печальный, медленный. В стиле блюза, но с немецким резким юмором.
И не то удивительно, что Ремарк в который раз излагает все ту же историю в тех же лицах, - а что она не надоедает. Разве что пейзаж пропустишь один-другой - и то лишь потому, что ждешь событий; а потом и к пейзажу вернемся. Этот автор, как мало кто другой, владел секретом обаятельной беллетристики.
Будем надеяться, что политический ее смысл когда-нибудь устареет. Пока что на это не похоже. Главный вопрос, который друг другу и сами себе задают персонажи: точно ли нацисты, как марсиане, явились из бездн и вероломно захватили беззащитную, скажем, Германию? - или, наоборот, в каждом немце прячется нацист (а если нет, отчего они так истово сражаются за своих якобы поработителей?), - так и остался без ответа.
Все это, само собой, дела давно минувших дней и разговоры только про Германию - про страну, "где высший и главный закон всегда гласит одно и то же: право - это то, что во благо государству"... С этой точки до нацизма в самом деле рукой подать.
Но вот Роберт Хирш предсказывает, что едва война окончится, в Германии не останется ни одного нациста: "Лишь бравые честные немцы, которые, все как один, пытались помочь евреям..."
И сразу ясно, отчего так неохотно печатают Ремарка в Германии, да и в России.
Письмо XLVIII
11 октября 2000
Рукопись на правах романа - вот как определил жанр своей книги "Живите в Москве" Д. А. Пригов.
Надо, наверное, понимать так, что текст нам явлен в трепещущей девственной наготе, не оскверненной дерзким взглядом постороннего. И действительно - похоже, что издательству НЛО как-то удалось уговорить или заставить редактора и корректора этой книги не заглядывать в нее, а просто поставить свои фамилии на обороте последней страницы. Результат впечатляющий: полная иллюзия неподдельной малограмотности. "Казуальный" вместо каузальный, "скотологический" вместо скатологический, "обитаясь" вместо обитая или обретаясь...
""Толпы страждущих приобщиться" - "тихо отрицательно покачал головой" "и понес его на уровне груди на подгибающихся тоненьких ногах" - "это приведет к тотальному ущербу нашего почерка" - "немногая жидкая коричневатая консистенция, таившаяся в их сплошь хитоновых панцирях, разбрызгивалась, усеивая поверхности стен""...
Так обращаются тут со словом. Строение фразы описать не берусь, - но любопытно, что орфографическая ошибка, даже грубая, то есть изменяющая значение слова, в такой фразе практически незаметна:
"Но жизнь не давала этому места, не оставляла незаполненным ни малого кусочка идео-экзистенционального пространства для возможности возникновения подобного или проникновения из других, более разряженных пределов".
То есть фраза искажена такой мучительной гримасой, что случайная ссадина ее не портит. Разряженные пределы или разреженные - не все ли равно?
Так обращаются тут со смыслом - верней, с отдельными смыслами: они растворяются в интонации - в концерте непредсказуемых, несогласованных, бесчеловечных каких-то интонаций; белый заполошный голос, как бы чужой своему носителю; слышали звуковую речь глухонемых? мрачный отблеск такой мелодики - на этих страницах. Только без пауз, нестерпимо неравномерных. Наоборот: текст вращается на повышенных оборотах и грозит не окончиться никогда - или окончиться катастрофой.
"Поначалу наличествовало даже простое, привычное, человеческое, неосмысленное, простительное в своей искренности горе. Под тяжестью нахлынувшего мы в школе все уроки стояли на коленях, ритмично раскачиваясь в такт завыванию учителя, бия себя кулачками по лицу. Кулачки у нас были маленькие, но остренькие и жесткие. К третьему уроку лица уже сплошь оказались залитыми густой синевой, отливавшей в фиолетовое. Они опухали от тяжелых глубоких прободающих ранений с мрачно-черными кровавыми подтеками. Притом мы бились головой об пол с отчаянием. Однако же некоторые с подозрительной осторожностью. Но за длительностью действия - несколько дней все-таки на протяжении 8-9 часов ежедневно - и они впадали в общий транс. Поверх синевы и крови все покрылось пылью с какими-то мелкими щепочками и штучками, налипавшими и впивавшимися в нечувствительную, надувшуюся, израненную, нагноившуюся кожу. Вздрагивавшие синюшные маски под ровный гул и вой монотонных голосов то поднимались в тяжелый дурно пахнущий воздух, то прилипали к залитому кровью полу. Подоспевавшие "скорые помощи" увозили уже самых-самых, не могущих даже вовсе оторваться, отлипнуть от скользких досок. У санитаров лиловые маски лиц контрастировали с белыми, почти ослепительно хрустящими халатами. Весь город превратился в скопище покачивающихся, медленно проползающих мимо домов заборов и промышленных построек, постанывающих монстров. Из меховых воротников, вязаных шапочек, серо-зеленых военнообразных ушанок вываливалось нечто лилово-бордовое, сопливо мычащее, вымяобразное. Крепнущий мороз не давал этому расплыться по улицам единым слизняковым потоком, объединенным в некий, так всеми чаемый, огромный соборный медузоподобный организм. У некоторых в результате непрекращающихся многодневных радений отеки набухали подобием хоботов, которыми они по непривычке задевали прохожих, взаимно дико вскрикивая от непереносимой боли. Город оглашался, как бы беспрерывно метился этими вскриками..." - и т. д.
Вот какой это слог: неутомимый, словно тень заводного манекена. Уродливый, но не бессильный, отнюдь. Занятно скучный. Противный увлекательно.
Эпитеты общепринятой оценочной шкалы тут ничего не значат - примерно как на чемпионате по бальным танцам в инвалидных колясках.
Но ведь и то сказать: речь идет об одном из постыднейших фактов истории человечества. Ничего не стоит передать его, как это миллион раз и сделано, кристально-внятным предложением типа: весь советский народ оплакивал смерть Великого Вождя. И в такой формулировке все дано, все уже наличествует горестное отвращение и безумная насмешка. Но как их выдавить наружу? Этот автор предпочитает взрыв - и возню с мозаикой осколков.
Повествование представляет собой каскад гипербол. Они устроены почти одинаково - работают на принципе Хлестакова: тридцать пять тысяч одних курьеров, помните? Вообразите же, что незабвенный И. А., сказав невозможную цифру, не сбился тут же на другое, а впал в подробности: как эти курьеры теснились на лестнице - и давка перешла в драку - и лестница обвалилась - и далее крупным планом крошево из орленых пуговиц и кувшинных окровавленных рыл... еще усилие - и с высоты птичьего полета такое же крошево, уже размазанное по стогнам столицы и пространству империи... Антракт, перекур, в перекуре анекдот, - отдохни, Городничий! - но и анекдот на полпути срывается в омут очередной гиперболы.
"Можно себе представить, что значит отстоять двенадцать часов в очереди на таком морозе. А очереди тогда бывали и похлеще. Бывало, они стремительно росли, извиваясь по улицам Москвы, многократно возвращаясь к тому же самому месту эдакой сложенной во много раз вселенской анакондой. В принципе за пределами нескольких тысяч составляющих ее единиц антропологического состава магическая центростремительная масса очереди начинала втягивать в себя почти все живое население. При достижении же критической массы, говорят, наблюдались даже вспухания почвы, ее содрогания от попыток недавно умерших присоединиться к довлеющей массе" и т. д.
Я позволил себе подчеркнуть все эти разнообразные пределы и массы и составляющие состава - просто так, исключительно из личного ехидства. Мы ведь уже согласились, не правда ли, что где стиля нет, там и стилистических ошибок не бывает? Совсем не в стиле - назойливый магнетизм этой странной книжки. Но и фабула ни при чем - какая там фабула - так, обзор отрочества, конспект первой главы условных мемуаров. Почти нет событий - сплошь впечатления. Но какие!
Над этой книжкой я, ровесник сочинителя, впервые понял ясно, что хотя отцы и матери у нас, у мальчиков победившего социализма, были разные, зато дедушка - один, и родители перед ним трепетали не меньше нас, - примерно как в "Страшной мести" Гоголя. И что сущность нашего могучего колдуна была подобна массе, которою овладела идея... Или наоборот: резонансному ускорителю инстинктов.
И меня нисколько не удивляет, что автор - точней сказать, Д. А. Пригов этого сочинения - подробно и с бесконечной серьезностью изображает в этих очерках детства истребление тараканов, а также крыс... Что он ненавидит плоть и презирает речь, с болезненным наслаждением низводит естество к веществу, и с пылкой скорбью пародирует собственную память. Неумолимым Ревизором облетает свою Вечность, лично ему данную в ощущениях: две-три нити настоящего света провисают над бездной, где копошится неистощимая биомасса, одержимая злой волей и смертным страхом, - и Я, бедное ослепительное Я мало того что Я всего лишь атом этого сверхсущества, омерзительного невообразимо, - Я, хуже того, управляемый атом, а никакой не Ревизор...
Путешествие по этой унизительной, презренной реальности - раскрываемой как внутренний опыт, - обрывается встречей с чем-то или кем-то чересчур похожим на Князя Тьмы - глаза в глаза. Эффектная последняя страница, пожалуй, искупает многочисленные (не названные мной) и важные недостатки сочинения, - потому что ими приуготовлена: словно фокус все не удавался, не получался - и вдруг вышел. Сотая или двухсотая гипербола стала, наконец, метафорой, вобравшей в себя весь предыдущий текст. Ужасный и печальный вышел фокус - в черном ниоткуда луче не поспоришь с простой мыслью, на которую все и прежде намекало: что бесцветное наше, плоское, почти безличное прошлое, где словно бы и не было ничего, кроме эксцессов быта и обрядов мифологии, что это пошлое прошлое - вечно действующая модель ада, каким он представлен в трактатах Сведенборга или К. С. Льюиса. Но эти авторы писали человеческим языком, а Д. А. Пригов - колорита местного, кромешного ради - вовсю использует скрежет зубовный.
Письмо XLIX
24 января 2001
Иоганн Иоахим Винкельман. История искусства древности. Малые сочинения. / Издание подготовил И. Е. Бабанов. - СПб.: Алетейя; Государственный Эрмитаж, 2000. Припоминаете, кто был Винкельман? В позапозапрошлом веке погодок Ломоносова, тоже из простых (но победней) - сын сапожника, научное светило, причем в такой области, которую он же сам и открыл; первый искусствовед. Утолив с огромным трудом тоску по образованию (потратив на это полжизни), заразился страстью герцогов и кардиналов - к антикам: к резным камням, разным там камеям, заплесневелым монетам, кувшинам, статуэткам, архитектурным обломкам. Итальянские кладоискатели снабжали этим добром всю Европу; среди вельмож были коллекционеры сумасшедшие; мало-мальски приличный монарх полагал делом чести завести галерею древностей. Вещи, с нынешней точки зрения, были по большей части второсортные: в лучшем случае - римские копии с греческих оригиналов (как Венера у нас в Летнем саду, если только не ошибаюсь), - а до Греции у самодеятельных тогдашних археологов руки не доходили. А то и копии копий, не говоря уже о бесчисленных подделках сыскались и на них умельцы и охотники... Высокая мода, большие деньги.
Всех заработков Винкельмана за целую жизнь недостало бы, наверное, на осколок какой-нибудь бронзовой вазы из раскопок на Сардинии, - но, служа библиотекарем во дворцах высокопоставленных любителей - в Дрездене, Риме и Флоренции, он все как следует разглядел и все запомнил. И прочитал всех древних греков и римлян - и все, что нашлось во вверенных ему книгохранилищах, про греков и римлян. И стал при вельможах эксперт. Выносил непререкаемые приговоры: откуда вещь, кем сделана, когда. И написал сколько-то чрезвычайно ученых статей про разные коллекции.
А между статьями сочинил книгу - вот эту самую "Историю искусства древности", в которой все свои знания и вдобавок литературный талант перевел в любовь - чувственную любовь ко всем этим осколкам, обломкам сентиментальную любовь к призраку, к Идеалу красоты.
"Так женщина, провожающая своего возлюбленного и лишенная надежды увидеть его снова, стоит на морском берегу и вперяет затуманенный слезами взор в удаляющийся парус, думая, что видит облик любимого. Подобно ей, мы видим лишь тень предмета наших стремлений, но тем сильнее становится наша тоска по утраченному, и мы рассматриваем копии с таким величайшим вниманием, с каким никогда бы не смотрели на оригиналы, владей мы ими..."
В 1764 году - с такой важностью и нежностью - о воображаемом искусстве давным-давно погибшей цивилизации... О добыче гробокопателей, утехе снобов... Впрочем, отныне она сделалась излюбленной забавой книжных червей. Немецкие интеллигенты полюбили Винкельмана навсегда. Гёте написал: "Читая его, ничему не научаешься, но чем-то становишься". Однако славой на родине Винкельман не успел насладиться, не стал ни профессором, ни тайным советником: на полдороге из Италии (где прожил тринадцать лет) в Германию, охваченный странной тревогой, свернул к югу, и случайный знакомец - не то попутчик, не то сосед по гостинице - уголовник и псих - его зарезал.
Все это присказка. Кто я такой, чтобы писать о Винкельмане? Но я знавал в Петербурге - верней, в Ленинграде - человека, столь же, пожалуй, одаренного и просвещенного, и трудолюбивого, и тоже вся его жизнь была роман с европейской культурой, да только на какое-то главное сочинение времени не хватило, не нашлось покровителей, ни синекур, о заграничном путешествии смешно и подумать; пробавлялся литературной поденщиной, чтобы заработать на сигареты и прочую так называемую жизнь - жил, как я понимаю, главным образом за письменным столом, ночью (опять как Винкельман), - а днем все больше острил; скучно с ним не бывало.
Бедность и безвестность он переносил сравнительно легко, но страшно тяготился глупостью людей и особенно начальников: один за другим он предлагал издательствам проекты книг восхитительных - и совершенно необходимых в стране, где редкий академик разбирает эпиграфы бойчей Евгения Онегина, - понимающие люди восхищались его затеями, начальники же тормозили, тормозили...
Вот что все-таки удалось: в его переводе с немецкого, и с его комментариями, вышла двухтомная "История итальянского искусства в эпоху Возрождения" - курс лекций Макса Дворжака - нет смысла сейчас рассказывать, но классический труд, всего-то на полвека припозднившийся.
И - тоже в двух томах - переписка Гёте и Шиллера, ни много ни мало. Перевод и комментарий.
И еще одна книга - тоже переводная - документы по истории издательского дела.
Ну, а вот теперь, через шесть лет после его смерти, издан, наконец, этот самый Винкельман. Видите: перевод и научный комментарий Игоря Евгеньевича Бабанова?
До сих пор - век с лишним - наша публика довольствовалась переводом неудобочитаемым. Теперь появился шанс, что для кого-нибудь и в России эта книга будет не просто устаревший учебник, а событие из истории ума.
Что же до комментария - самому Винкельману, я думаю, такой не снился. Это какое-то циклопическое сооружение. Около тысячи примечаний, - а еще приложения, таблицы...
... Никак не могу забыть, - наоборот, все чаще припоминается - какой-то вечер - ноябрьский либо декабрьский - в начале семидесятых, - короче, очень темный: мы втроем - Игорь, и наш общий тогда приятель, и я - стоим над Мойкой, у парапета, имея при себе бутылку дешевого вина и мою записную книжку с новинкой самиздата - стихотворением Иосифа Бродского "На смерть друга". И читаем в три голоса, тут же навсегда заучивая наизусть - потому что про нас:
"Может, лучшей и нету на свете калитки в Ничто. Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей не надо, вниз по темной реке уплывая в бесцветном пальто, чьи застежки одни и спасали тебя от распада. Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый Харон, тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно. Посылаю тебе безымянный прощальный поклон с берегов неизвестно каких. Да тебе и не важно".
Но жизнь Игоря Бабанова не пропала зря. Эта, например, книга проживет долго - а рано или поздно будут и другие. Энциклопедический был человек - и рукописи остались. Комментарий к "Фаусту", скажем...
Письмо L
14 марта 2001
Издатель (г-н Захаров) этой книжки (Федор Михайлов. "Идиот". Роман), конечно, жаждет возмущенных восклицаний, смешной риторики против попиранья заветных святынь, - прямо необходим ему для бесплатной рекламы какой-нибудь романтик, а лучше ханжа.
Ничего этого не будет. Случай уголовный, но не страшный. Обыкновенный плагиат, разве что с необычным оттенком цинизма. К тому же пострадавшая сторона практически отсутствует. И ущерб, даже моральный, невелик: порядочный человек, купив - скажем, по ошибке, - эту книжку, потеряет только деньги. А кто получит удовольствие, тот его, надо думать, заслужил.
Затея нехитрая, вроде забав незабвенной старухи Шапокляк. Этот самый Федор Михайлов, именуемый в дальнейшем Псевдоним, переписал - абзац за абзацем - вроде как сканировал - роман Ф. М. Достоевского "Идиот": переменив реалии на постсоветские; упростив - во вкусе вневедомственной охраны лексику и синтаксис; изменив многим героям фамилии; кое-что присочинив, кое-где убавив, но в целом рабски следуя композиции подлинника.
Князя Мышкина теперь зовут Саша Гагарин, он дальняя родня космонавту, в Россию прибывает из Америки, оттуда нее переводят ему капитал.
Настасья Филипповна тут - Надя Барашкова, фотомодель.
Рогожин - Барыгин. Он - бандит.
И так далее.
Все это сказано в аннотации, так что читателей с мало-мальски приличным средним образованием издатель не обманывает. То есть, конечно, обманывает, но изящно, в два хода: расчет не на невежд, а на снобов. Сноб говорит себе: не может же быть, чтобы меня, такого умного, так откровенно ловили на такой беззастенчиво голый крючок. Одно из двух - либо теперь в моде наживка невидимая, либо сам крючок обладает вкусовыми свойствами. Любопытно, любопытно...
Действительно: этот крючок даже не порвет губу; всего лишь оставит во рту скверный привкус. Верней, в памяти - неловкость и досаду. Знаете, бывают такие шутники: в компании радушно подносят новоприбывшему гостю стакан водки, заботливо придвигают закуску, - гость, выдохнув, осушает стакан - и компания наслаждается выражением его лица в следующую секунду: когда он понимает, что в стакане была вода... Вполне безобидная вроде шутка, - но пить с тем приятелем больше не хочется.
Так и тут. Вы читаете вместо монолога Настасьи Филипповны:
"... - Поехали, Барыгин! Давай свою пачку! Ничего, что жениться хочешь, денежки все равно гони. Я за тебя, может, еще и не выйду. Ты думал, если женишься, пачка у тебя останется? Хрен! Я шлюха! Меня Троицкий во все дыры имел... Саша! Обрати внимание на Веру Панчину, я тебе не подхожу...
... - Дурдом, дурдом! - повторял Панчин.
- Надя, нет!.. - простонал Саша.
- Да, да! Да! Я, может быть, гордая, что с того, что шлюха! Ты меня совершенством назвал... То еще совершенство получилось: вон какая я крутая, миллион на фиг, мужа космонавта на фиг! Какая я тебе жена после этого?"...
Или вот остроумное техническое решение: помните, как Аглая Епанчина диктует Мышкину обращенные к Ганечке Иволгину, тут же присутствующему, гордые слова: Я в торги не вступаю? А наш Псевдоним для этой сцены применяет "дорогой портативный компьютер" и - расхожую цитату из Ильфа и Петрова:
"Посмотрев на Сашу, Вера спросила:
- Не обязательно ведь опять про этого... как его... игумена Пафнутия... Я думаю, можно там какой-нибудь другой текст написать? Это не сложно?
Саша немного смутился:
- Если прямо сейчас... Это займет некоторое время...
- Пожалуй, вы правы, - сказала Вера. - Сделаете не спеша, потом установите. Текст пусть будет такой: "Торг здесь неуместен". Я уверена, что вы для меня постараетесь..."
Все это было бы смешно, когда бы не было так скучно. Дальше цитировать лень. Качество, так сказать, всюду такое же. Псевдоним работает как банкомат, исправно конвертируя царские рубли в поддельные доллары. Пэтэушный демонизм замысла с лихвой перекрывается добротной, надежной бездарностью исполнения.
Г-н Захаров публично грозит подвергнуть участи бедного "Идиота" другие великие русские романы, так что постепенно Псевдоним руку набьет. Но пока что служебные предложения - назовем их ремарками, - не говоря уже о мотивировках речевых и прочих жестов, ему не даются.
И его творческие поползновения лишь кое-где идут дальше, чем подрисовать печатной красавице усы и приписать какое-нибудь трехбуквенное слово.
С исключительным тщанием оскверняет наш Псевдоним разумное, доброе и вечное. И рано или поздно филологическая наука скажет ему сердечное спасибо за этот мартышкин - Сизифов - труд.
Потому что это грандиозный практический опыт пресловутой деконструкции. Как если бы в казарме какой-нибудь весельчак исполнил под патефон оперу Вагнера или Чайковского, матерно импровизируя текст.
Кто-то уже писал, что романы Достоевского построены как оперы. Теперь это доказано усилиями Псевдонима. Избранный им способ репродукции выявил непрочность искажаемого слога: нитки трещат, из-под букв проступает бумага, - но композиция сохранена, и эта композиция оказалась последовательностью музыкальных номеров, причудливой лестницей мелодий!
Как бы ни кривлялись на ее ступенях пошлые голоса, что бы ни артикулировали - хоть программу Черной сотни, хоть рекламу противозачаточных, - все равно: пока интонации романа не разрушены до основанья, - он и систему сточных труб способен превратить в отдаленное подобие органа.
Оказывается, он стоит нашей любви больше, чем мы думали.
Молодец Псевдоним! Даже если он покушался на убийство - все равно спасибо ему, что ограничился кражей.
Хотя вообще-то все это напоминает историю, рассказанную где-то Владимиром Солоухиным: как в одну из русских революций ликующие поселяне извлекли из склепа гроб князя Тенишева, сорвали крышку, покойника усадили: газету в руки, папиросу в зубы, - и в таком виде с песнями носили под окнами вдовы: будешь знать, как способствовать народным художественным промыслам!
Вот и литературный пролетариат перенял обычаи сельского.
В эпоху Достоевского, потревожь г-н Захаров подобным образом чью бы то ни было тень, его издательскую карьеру можно было бы считать законченной: перебивался бы изделиями Псевдонима, с хлеба на квас, а приличный автор обегал бы его стороной.
Теперь время другое, грамотность всеобщая; не удивлюсь, если как раз Псевдоним озолотит г-на Захарова.
Письмо LI
15 марта 2002
В школе заставляли учить наизусть:
"... но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово".
Мы декламировали этот патриотический панегирик, вполне простодушно не замечая, каким именно словом он вдохновлен. А это было, по-видимому, существительное, чисто конкретное. Помните? - пожилой туземец не слыхал фамилии помещика Плюшкина, зато сразу и очень охотно воспроизвел его непристойное прозвище:
""А! заплатанной, заплатанной!" - вскрикнул мужик. Было им прибавлено и существительное к слову заплатанной, очень удачное, но неупотребительное в светском разговоре, а потому мы его пропустим".
Лично я подозревал, но без уверенности, - не усматривал ничего такого особенно меткого и смешного, а зато панегирик получался уж слишком глуп: "а все сам-самородок, живой и бойкий русский ум, что не лезет за словом в карман", и так далее, вплоть до того, что Бог этим словом отличил русский народ от британцев и французов, и немцев.
И вот только теперь, на старости лет, мои сомнения почти развеяны. Поскольку в издательстве "Лимбус Пресс" вышла книга, где этот заплатанный не то чтобы разъяснен - во всяком случае, опознан.
Обложка такая: "А. Плуцер-Сарно. Большой словарь мата. Том первый. Лексические и фразеологические значения слова - - -", - и далее в кавычках искомое существительное, всеми тремя буквами.
Затею как таковую - приветствую. Тысячу лет это слово стояло в воздухе, потом более столетия цвело на всех вертикальных поверхностях - пускай поживет за стеклом, в пробирке, ничего страшного, - а любитель не пожалеет каких-нибудь восьми с полтиной евро за возможность на прохладном досуге изучать оружие пролетариата.
Достоевский полагал, не знаю почему (уж он-то в Мертвом Доме и в батальоне должен был наслушаться), - будто речь пьяного простонародья вся сводится к данной лексеме:
"Язык этот уже спокон веку отыскан и принят во всей Руси. Это просто-запросто название одного нелексиконного существительного, так что весь этот язык состоит из одного только слова, чрезвычайно удобно произносимого. Однажды в воскресение, уже к ночи, мне пришлось пройти шагов с пятнадцать рядом с толпой шестерых пьяных мастеровых, и я вдруг убедился, что можно выразить все мысли, ощущения и даже целые глубокие рассуждения одним лишь названием этого существительного, до крайности к тому же немногосложного..."
Из книги г-на Плуцера-Сарно я узнал, что самых противных матерных сгустков - штук семь; каждый может приобретать любые очертания, притвориться любой частью речи, сыграть в предложении какую угодно роль.
В частности, наш трехбуквенный способен подменить и Господа, и черта; все местоимения, кроме тебя и меня; предложения типа: нет! ни за что! никогда! нисколько! и не просите! - а также обозначать сомнительную личность с горы или же с бугра, иногда в пальто.
Оставаясь же самим собой, компрометирует самое невинное окружение, порождая неприличные обороты, часто забавные, типа брать под мышку (т. е. "быстро собравшись, отказаться от сексуальных контактов и покинуть какое-л. пространство") или полоскать во щах (то же самое, что околачивать груши "совершать действия, воспринимаемые как праздное времяпрепровождение или как бесполезное действие, не требующее усилий").
Согласимся, что творительным падежом хрен копать - обидней, чем во множественном числе валять и к стенке приставлять, и что босиком на винительный не взбежишь, а стеклянный дураку не доверишь.
Но вот у заплатанного - якобы два противоположных смысла, и оба какие-то неубедительные: это и "человек, имеющий значительное количество материальных ценностей и при этом чрезмерно обеспокоенный, по мнению окружающих, их сохранностью и неприкосновенностью", - и также, представьте себе, "человек, не имеющий необходимых для существования материальных ценностей".
По-моему, классик имел в виду что-то другое - что-то мясное, банное, из роковых уродств: никчемный, никудышный, мизерабельный.
А то и - плачевный. Сравните параллельный ход у Грибоедова:
- Пойдем любовь делить плачевной нашей крали.
Скабрезность хамская, но перепляс эпитета - лихой; и Молчалин, и Чичиков, и крепостные их собеседники равно знакомы с правилами дремучей игры, трактующей душевную слабость как постыдный телесный изъян. А Гоголь, ослепленный существительным, недослышал, предположим, эпитета, или запамятовал его, или перепутал, малоросс.
Или же, наоборот, ошибаемся мы, понимая причастие заплатанный в духе нормативной грамматики, т. е. непременно в страдательном залоге: как подвергнутый некоей косметической операции. А если - состоящий из заплат? представляющий собой заплату - поверхность мнимую? Не накладной, не декоративный ли - не дыра ли наизнанку?
Тогда эпитет растворяет существительное, отменяет, дезавуирует; выходит оскорбительная непристойность - отраженная в другом углу портрета знаменитой мнимой метафорой: "прореха на человечестве".
Эпитет, переменяющий человеку пол, - действительно стоит дифирамба.
Наконец, не исключено, что и сам г-н Плуцер-Сарно введен в заблуждение своими информантами, разгадавшими шараду Гоголя невнимательно-поспешно; а вдруг плюшкинское существительное - вовсе не из настоящего тома? даже я знаю (а в восьмом классе не знал) по крайней мере одно такое словцо (совсем на другую букву) в сочетании с заплатанным образует довольно связный смысл, еще менее противоречащий мотиву прорехи; обоеполое такое...
Г-на Плуцера-Сарно подобные сюжеты не интересуют. Ни классика, ни старинный фольклор в его коллекции не представлены. Мат, изучаемый г-ном Плуцером-Сарно, - в основном современный новодел, вторичный продукт, изыски г-жи Медведевой, гг. Лимонова, Вик. Ерофеева, Сорокина, какой-то еще группы "Сибирский мастурбатор"... А также труды легиона дилетантов, энтузиастов срамословия, на разные лады письменно склоняющих трехбуквенного просто для души или надеясь попасть хоть в такую энциклопедию, как эта. Здесь исключительно много цитат из упражнений, скажем, некоего г-на А. Бренера, доселе известного, как я понял, не столько текстами, сколько поступками конечно, добродетельными: в ученой статье, предваряющей словарь, зачем-то рассказано, как однажды этот носитель языка попытался порадовать родную супругу половым актом прямо на Красной площади - должно быть, с целью освятить узы брака. Но цитаты неталантливые (как почти всё в данной антологии, за исключением замысла) - как бы загримированы грязью вознадеявшись повеселиться, через несколько страниц впадаешь в тоску.
Видно, пора завязывать и с этим мифом - что будто бы отечественная брань сверкает сплошь самоцветами, выражая, в отличие от какой-нибудь, скажем, американской, загадочное величие национального духа.
Между нами говоря - брань как брань. Лексика неандертальцев, грамматика первородного греха (шутовскому произволу плоти, превращающему нас в двуспинных и разных других чудовищ, душа отмщает похабщиной - грубо пририсовывая словам половые признаки: пусть попляшут под эту глухонемую дудку, тоже поваляют дурака); мат питается бедностью жизни, а также отвращением к ней. Впрочем, в наших условиях эффективно работает как инструмент политической мысли.
Отменный подарок иностранцу - такой словарь. Иному эмигранту тоже в кайф - подкормить ностальгию патентованной смесью. А мы, советские вибратор за мясо не считаем.
ИМЕНИНЫ ПРИВИДЕНИЙ
Страна им. Ф. М. Достоевского
Сто семьдесят - не круглая дата. Вот через пять лет академики в складчину с писателями устроят нам - если доживем - настоящий пир цитат, щеголяя каждый своим оттенком патриотизма и церковнославянской лексикой. Чего доброго - хотя и сомнительно, - им удастся на время отбить у людей охоту читать Достоевского.
Это легче, чем кажется, ведь пошлость всесильна. Судьба произведений Пушкина - очень наглядный пример. О, разумеется, мы к ним еще вернемся если доживем (а они-то уж точно доживут и вернутся), - но какую толщу сладкого грязного лака надо устранить, не повреждая текста!
Достоевский в большей опасности, поскольку практически неизвестен. Последний том полного собрания только в нынешнем году вышел, еще не раскуплен. (На Невском, у знаменитого Забора, в смрадном облачке злобы нарочито невежливые офени торгуют обрывком "Дневника писателя" - как запретной новинкой.) В школе до сих пор проходили - сами знаете, что - и как. И попробуйте, например, убедить человека, вытерпевшего фильм "Братья Карамазовы", что Достоевский действительно был гений (что бы ни значило это слово).
Наши отношения с Достоевским тяжелы еще и оттого - или даже главным образом оттого, - что не дано персонажам понимать автора до конца. Мы живем среди персонажей Достоевского, и сами - каждый по-своему и все в разной мере - являемся его созданиями.
В отличие от Тургенева и Чехова, он не описывал своих современников. И, в противоположность Лермонтову и Толстому, не искал себе воплощения в других обличьях. Достоевский людей выдумывал - если угодно, предугадывал, предвидел - как жертв катастрофы, бушевавшей в нем самом. Вообразим натуралиста, умеющего предсказать в подробностях, какая флора, какая фауна появится в данной местности на следующем витке эволюции.
Впрочем, натуралистов таких не бывает, и эволюция-то, говорят, не более чем гипотеза. Но существа, сочиненные Достоевским, в каждом поколении мельчая, зато возрастая числом, заполнили в короткий срок шестую часть суши, - и это, конечно, далеко еще не предел.
В троллейбусе тесно от Свидригайловых, по вагонам пригородных поездов бродят Раскольниковы, с телеэкрана щелкают зубами малюсенькие Верховенские... Странные, страшные, несчастные, лишенные связи с небом и с землей, погибающие от дефицита любви и смысла.
Вся надежда на детей. У них есть шанс прочитать Достоевского как следует. Федор Михайлович, может статься, для них и писал. Юбилейные речи 2021 года обещают быть интересными. А пока - дата не круглая.
Ноябрь 1991
Воспоминание о Диккенсе
В Нобелевской лекции Бродский высказал то ли гипотезу, то ли надежду, что "для человека, начитавшегося Диккенса, выстрелить в себе подобного во имя какой бы то ни было идеи затруднительней, чем для человека, Диккенса не читавшего".
Историческая практика вроде не подтверждает. Но такое заблуждение вросло в образ мыслей того поколения советских людей, чья сознательная жизнь началась в конце сороковых годов (а гражданская смерть наступила в конце шестидесятых).
Диккенс в то время был прикомандирован к детской литературе. В отличие от многих других, эта идеологическая диверсия оказалась успешной: миллионы сталинских орлят отравились дурманом общечеловеческих ценностей. Чтение Андерсена (Ханса Кристиана) и Гюго тоже кое-кому не прошло даром, но Диккенс... Он проповедовал - горячо и настойчиво - самое настоящее христианство. В нашем государстве это было дозволено только ему - под надуманным предлогом, что будто бы Диккенс давно умер, а до того был реалист и, стало быть, могильщик капитала. Так и говорилось в предисловиях и послесловиях, но кто же читал их, кроме цензоров? Дети среднего и старшего возраста сразу набрасывались на основной текст, от которого оторваться, как все знают, невозможно. В результате многие частично утратили ориентацию, да и вообще - стали взрослыми гораздо позже, чем следовало, вволю настрадавшись из-за таких вещей, которые только разжигали аппетит у остальных, узнавших вовремя, где помещаются ум, честь и совесть нашей эпохи.
Диккенс во многом виноват, вплоть до самых недавних событий. Правда, и русские классики всегда действовали с ним заодно.
Что касается англичан и прочих европейцев, то они давно перестали принимать Диккенса всерьез: просто любят, не читая, примерно как мы дедушку Крылова. Лет сто назад было установлено, что реализм Диккенса какой-то странный, ненадежный, поскольку людей, похожих на его персонажей всех этих благодушных чудаковатых джентльменов с отзывчивыми бумажниками нежных и неприступных юных бесприданниц - неисправимых негодяев, пылающих ненавистью к себе, - падших девушек, влюбленных в добродетель, - одним словом, никого из них никогда на свете не существовало. Неправдоподобны, как сама жизнь, - заметил по этому поводу мистер Честертон. Это относится, конечно, и к их манерам, нелепым гримасам, эксцентрическим телодвижениям. Но еще в большей степени - к их тактике и стратегии: вы только вспомните эту нескончаемую борьбу всех со всеми за наиболее благоприятный случай спасти кого-нибудь и осчастливить самым незаметным способом и сохраняя самый безучастный вид... Европейцы, вернувшиеся из окопов Первой мировой войны, оставили за Диккенсом амплуа юмориста и простили ему пафос лицемерной викторианской морали - отныне она именовалась только так.
И в самом деле: честно ли внушать людям иллюзию, будто они не являются частью фауны? Да и кто поверил бы этому, кроме мечтательных подростков?
В нашей мужеподобной цивилизации принято думать, что в куклы играют одни лишь маленькие девочки. Диккенс и упомянутый Андерсен, и еще Дюма-отец - блистательно опровергают этот предрассудок. Кукольный роман оттого и захватывает нас так, что дает поиграть в жизнь, направляемую великодушной волей. Разве есть в мире что-либо увлекательней?
Да, опыт такой игры не всегда проходит бесследно; да, может в корне подорвать, например, карьеру снайпера. Но ведь не потому, что рука будто бы дрогнет или прицел собьется.
Причина проще и призрачней: человек, начитавшийся Диккенса, склонен воображать, будто "для человека, начитавшегося Диккенса", - и далее по тексту вышеупомянутой Нобелевской речи.
Все же, прежде чем допустить мальчика или девочку в эту школу сострадания, в эту мастерскую больших надежд - словом, в роман Диккенса, нынешние родители обязаны крепко подумать. Хотя, с другой стороны, общество так нуждается в справедливых богачах и благородных клерках...
Февраль 1992
Погасшая звезда
Тут недавно в газете "Смена" незнакомый мне Евгений Шведов одобрительно отозвался о моем литературном вкусе. Достаточно хороший, говорит, у меня вкус, даже во многом традиционный.
Лестно, разумеется, схлопотать такую похвалу, тем более от человека понимающего, а Евгений Шведов, по его собственным словам, человек достаточно искушенный и все понимает прекрасно. Не сомневаюсь ни секунды, несмотря на орфографическую ошибку в слове "солипсизм" и очень уж уродливо перевранную строчку из Мандельштама. Это, наверное, случайно получилось.
Все равно - комплимент ободряющий, жаль только, что брошен вскользь, а вся заметка - о том, какой скверный поэт Тимур Кибиров.
Искушенный человек безошибочно возненавидел самую суть.
Не размениваясь на частности, не снисходя до анализа, но с негодованием вполне осмысленным, без устали склоняет Евгений Шведов одно и то же клеймящее словцо:
утонченная убогость сверхиронии;
от этой рифмованной беспредельной иронии;
кокетливую пустую иронию;
рифмованную, утонченную, но весьма убогую иронию...
Что ж, все правильно. Прочие соображения, высказанные в заметке, незначительны, мне кажется, и спорны. А вот это - что тотальная ирония бывает невыносима для людей, воспитанных, как мы все, на тотальной лжи, это непроизвольное признание существенно.
Тут спорить не о чем, если бы и хотелось. Просто надо иметь в виду, что люди, даже советские, не во всем похожи друг на друга. Не столь уж мало и таких, для кого ирония была и остается чуть ли не единственным приемом самообороны.
От осведомителей. От дезинформаторов широкого профиля. От принудительно привитого кретинизма. От лучезарно-исповедального ханжества.
Но, в общем, это дело вкуса. На мой (действительно во многом традиционный) - не стоило бы автора самиздатской поэмы о незабвенном К. У Черненко попрекать иронией, от которой, видите ли, "веет отнюдь не Серебряным веком".
Ну причем тут Серебряный век? На дворе неолит, и весьма развитой. Наивный Кибиров не в силах об этом забыть и страдает от этого, а мы, искушенные, так на него злимся, как если бы он попробовал намекнуть, будто и мы - лично, каждый - виноваты в происшедшем и происходящем, а стало быть, заслужили это болезненное презрение.
А мы ведь ни сном ни духом, верно? Скрепляли, конечно, как ласточки, собственной слюной устои кошмарного балагана, но зато читали "Горация, Данте, Пушкина, Тютчева, французских и русских символистов", и вообще являемся гражданами Серебряного века и привыкли дышать чистым воздухом.
Между прочим, Саша Черный в каком, интересно, веке свои лирические сатиры сочинял? И не обличал ли его какой-нибудь досужий моралист за убогую иронию, за отступление от высоких образцов века Золотого?
Эти мифические эпохи для того ведь и придуманы, чтобы живым еще писателям неповадно было раздражать нас непривычным взглядом на вещи. В самом деле, оскорбительно: живые, а осмеливаются настаивать на своем. Как будто смыслят в чем-нибудь больше нашего, а разве это возможно?
Вот в Серебряном веке, не говоря уж о Золотом, творили все классики, гении. А наши современники пускай прежде помучаются, а там посмотрим: сподобятся ли они, в конце концов, того бездумного, агрессивного благоговения, каковое заменяет у нас посмертную славу.
Это длинное и невеселое предисловие почему-то показалось мне необходимым для юбилейной статьи о Константине Дмитриевиче Бальмонте. Сто двадцать пять лет со дня его рождения. Почти пятьдесят из них он для России как бы не существовал. В 1969 году издали наконец том избранных стихотворений. Какая была радость - и какое разочарование! Один безвестный критик писал в рецензии (не напечатанной, впрочем):
"Погас волшебный блеск легенды. Нет больше воображаемого поэта, чья слава, растерзанная на клочки, более полувека будоражила нас предвкушением чуда. Его переиздали - и вот перед нами весь нехитрый набор художественных средств знаменитого модерниста: влажный глянец базарного пейзажа с лебедями, с таинственным замком на дальнем берегу, да веселое бутылочное стекло, сдвигающее спектр мира, да магия детской считалки.
Вот она, лирика тщеславия и самообольщения, хвастливая исповедь человека, который всю жизнь играл в самого себя и, занятый бурливым романом с собственным отражением, не успел понять своей судьбы. Упустил Бальмонт литературное бессмертие - счастливый билет из библиотечного каталога..."
Что добавить сегодня, еще через двадцать с лишним лет?
На каждую тысячу стихотворений приходится два или три таких, что можно произнести про себя без неловкости, без досадливой усмешки. Если собрать эти вещи, да прибавить к ним кое-какие из переводов - получилась бы, вероятно, очень небольшая, но все-таки прелестная книжка. На это никто пока не решился.
Бальмонта если уж печатают, то непременно километрами, чтобы голова закружилась от вращения пустотелых слов:
О цветы красоты! Вы с какой высоты?
В вас - неясная страстная чара.
Пышный зал заблистал, и ликуют мечты,
И воздушная кружится пара...
Такие стихи далеко не из худших у Бальмонта. Обычной для него глубины. А многие другие бесповоротно погублены еще и безвкусицей. Патетическая, с завыванием, бывает благозвучна. Слащавая, с подвизгом, нестерпима:
Танцует весна. Уронила подвязку.
И где уронила - там сказка видна...
И часто, слишком часто - как-то даже обидно делается за Бальмонта стих, мучительно пытаясь передать самую что ни на есть банальную прозу красивой околичностью, вдруг теряет элегантный разбег. Тяжкое зрелище словно фигурист, упав, беспомощно барахтается на льду. И вдруг становится ясно, кого без конца передразнивал Николай Олейников:
Я сидел с тобою рядом,
Ты была вся в белом.
Я тебя касался взглядом
Жадным, но несмелым.
Я хотел в твой ум проникнуть
Грезой поцелуя...
Возьметесь ли угадать, кто написал: Бальмонт всерьез или Олейников для потехи?
Как безоглядно этот признанный мастер коверкал русскую речь ради размера и рифмы!
Он взнес гнездо, которое орлино,
И показал все тайники змеи...
Львиная грива, романтический галстух, орхидея в петлице. Внушал читателям и знакомым дамам - и сам вроде бы верил, - что принадлежит к числу избранных натур, гораздо более ценных, чем ничтожные дети мира, и вправе обращаться с людьми, как ему вздумается, а они обязаны по первому требованию предоставлять Поэту свои души, тела, бумагу и еду.
Строил лирику как роман Поэта с его собственной возлюбленной Душой, причем изображал и воображал эту Душу то прекрасной, таинственной женщиной, то необозримой страной музыки и свободы.
Кто только не перенимал его приемов, не подражал его повадкам - Горький и Маяковский, Ходасевич и Цветаева, Бунин, Блок, Гумилев... Из современников один Лев Толстой не мог читать его без смеха.
Теперь Бальмонт скучен и смешон почти всем, беззащитно и очевидно.
Но все-таки в этой превышающей рост человека груде конфетти найдутся два-три лепестка из вечного металла - несколько строк несравненно чистого дыхания.
Не говори мне: Шар Земной, скажи скорее:
Шар Железный
И я навеки излечусь от боли сердца бесполезной.
Да, Шар Железный с круговым колодцем скрытого огня
И с легким слоем верховым земли с полями ячменя...
Между прочим, это он, Константин Бальмонт, - мечтательный, простодушный - безошибочно предсказал участь последнего российского императора:
Он трус, он чувствует с запинкой,
Но будет, - час расплаты ждет.
Кто начал царствовать Ходынкой,
Тот кончит - встав на эшафот.
А вы говорите: Серебряный век, Серебряный век...
Июнь 1992
Пустыня славы
Столетний юбилей Цветаевой. Уму непостижимо. Верное ведь словосочетание, а звучит нелепо.
Не хотелось, наверное, Марине Ивановне думать об этом дне. Впрочем, свою судьбу она видела насквозь, вплоть до последней злорадной ухмылки: чего еще было и ждать, кроме заведомо ненужных, заведомо тусклых почестей в эпилоге?
Но эпилог еще не прочитан - быть может, и не написан, итог не подведен. Праздновать рано, и нечего, и не имеем права.
Мы Цветаеву не заслужили, она ушла в негодовании, никого не простив. И век, ее погубивший, не кончен. А что через двадцать лет после того, как ее пылающий мозг втоптали в землю, объявились тысячи незнакомцев, почувствовавших - вдруг и наконец-то - любовь к ее сочинениям, - так давно ли это случилось? Тридцать с чем-то лет назад. Всего-то одну человеческую жизнь продолжается эта любовь. Какие тут юбилеи.
Беспристрастный взгляд, главное, невозможен, вот что. Без восторга и сострадания читать Цветаеву - должно быть, и смысла нет, сплошная фонетика, должно быть. Но кто же избежит сострадания и восторга, из нас кто сумеет хоть один из этих текстов рассмотреть как произведение литературы, как словесную вещь, - и не услышит, что прямо к нему взывает из глубины огромного несчастья необыкновенно явственный голос несомненно родственной, беззащитной и бесстрашной души?
Силу этой иллюзии знает лишь тот, кто ей поддался, - поймет лишь тот, кто избавился.
О Цветаевой приходится думать крупными, неясными словами: душа, любовь, гениальность, безумие, судьба.
Никто другой в мировой литературе не исполнил роль Поэта столь самозабвенно. Эта роль - по крайней мере, в романтической трактовке предполагала не столько власть над рифмой, сколько беззаветное подчинение мечте. Никому еще не удавалось - и не удастся, наверное, - зайти так далеко; так глубоко, всею личностью уйти в собственное воображение, запропасть в нем. Мучительным усилием воли - почти исключительно ради детей - Марина Ивановна заставляла себя участвовать в окружающей реальности. А взаправду жила - наслаждаясь и страдая, - в тетради, во сне.
Все, что она сочинила, - поэзия, проза, письма - похоже, по-моему, на сон: возвращающийся, повторяющийся, с постоянным сюжетом и переменными, еле различимыми персонажами, с яркими подробностями из прочитанных в детстве книг, с неясной жалостью к себе и горькой обидой на судьбу. Сон - о любви, конечно. О том, что время от времени, страшно редко, возникают в мире существа, созданные для того, чтобы их любили бесконечно; достойные такой любви; способные отплатить за нее невообразимым счастьем. И есть такая любовь, бывает - не может не быть, раз необходима. И добиться ее легче легкого - от первого встречного: только и нужно, чтобы он понял, с кем встретился, - а как тут не понять... И вот, волна за волной, идут встречные - первые и вторые, волна за волной уходят, - и никто ничего не понимает, никому не под силу понять, жизнь устроена несправедливо, бесчестно, бездарно, - и просыпаешься, плача от гнева.
Этот сон, даже отраженный бесчисленными зеркалами, - он совсем бесхитростный, как детская сказка. Но если отдать ему жизнь - и не только свою - и рассказать, что получилось, всей музыкой, наполняющей ум...
Не будь Цветаева гениальна - какой смешной, чего доброго, могла бы она показаться, какой жалкой.
И как рискуют те, кто соблазняется отождествить свою тоску по высокому смыслу - с ее мнимой правотой, с ее вечной неисполнимой молитвой к ближнему: возлюби меня, как я себя.
Между людьми такого понимания не бывает. Так - и еще сильней, наверное, - любит человека Бог, если он есть. Так любит Поэта - читатель.
Марина Ивановна понимала это лучше всех. И потому боялась юбилеев.
Но ее столетие наступит еще не скоро. Во всяком случае - не при нашей жизни.
Октябрь 1992
Громкоговоритель
Призывал террор. Одобрял цензуру. Извращал факты (например - голод в Поволжье). Оправдывал преступления (например - убийство царской семьи). Доносил на инакомыслящих (например - на Булгакова). Да что говорить! Напиши другой, кто бы то ни было, всего лишь "Марш двадцатипятитысячников" или, допустим, "Лицо классового врага", - он заслужил бы вечное презрение.
Презирать Маяковского - не удается. Его ложь чиста, его злоба трогательна, цинизм целомудрен. Думать о нем, используя категории вины или совести, - нелепо.
Все же иной раз какой-нибудь отдельной строчке невольно удивишься:
Виновным - смерть.
Невиновным - вдвойне.
Не опечатка ли, думаешь. Это же бессмыслица - смерть вдвойне. Увы, не опечатка. Но что же тогда - безумная жестокость? Прямо Нерон какой-то.
Вчитываешься - ничего подобного, не стоит беспокоиться. Это не то что невменяемость, а именно невинность. Поэт оформляет ленинский, что ли, тезис: "Фразы о мире - пустая утопия, пока не экспроприирован класс капиталистов". То есть чтобы не допустить новой мировой войны, надо развязать гражданские войны во всем мире. Диалектика по Оруэллу, хотя год - 1924. Мир - это война, и наоборот. Маяковского такая вялая и прямолинейная формула не устраивает, у него - сейчас увидим - припасено кое-что покрепче, но свежая рифма к войне требует жертв:
Сегодня...
завтра...
а справимся все-таки!
Виновным - смерть.
Невиновным - вдвойне.
Сбейте жирных
дюжины и десятки.
Миру - мир,
война - войне.
Он зарифмовывал идеологию, как сражался на бильярде, - с азартом и артистизмом.
Чем бездарней была чужая - ничья - мысль, тем заманчивей она вдохновляла его изощренное мастерство.
За бесчисленные злодеяния, совершаемые в его стихах, Маяковский, конечно же, не отвечает.
Это же только так говорится: "Легко врага продырявить наганом. Или голову с плеч, и саблю вытри". Это если бы сабля была деревянная; обыкновенную опасную бритву протереть - ежедневный мучительный подвиг; а продырявить - разве что себя.
Для полной и окончательной победы социализма в СССР Маяковский сделал несравненно больше, чем какой-нибудь Ежов или Берия. Партийной линией он жирно обвел контуры обаятельного автопортрета - искреннего, с оттенком пролетарского демонизма. Энергию несчастной любви к женщине передал тезисами политической программы. Хочется верить, что ему действительно иногда мерещилось, будто враги перманентной революции бесстыдно посягают на Лилю Брик. Фотография Ленина возбуждала в нем примерно такие же чувства, как в Тургеневе - дагерротипный портрет г-на Луи Виардо.
И оказалось (или показалось?), что фальшь искупается болью, что бывает оптимизм без пошлости, что талант важнее, чем интеллект. Оказалось, что Настоящий Советский Человек - по крайней мере, один, - действительно существовал. И сделал для государства все, что мог, - даже убивать его не пришлось.
Сталин воспользовался стихами и смертью Маяковского для одного из самых злорадных педагогических экспериментов.
Вам рассказывают об обязанностях уборщицы, дежурящей в туалетной комнате при парижском ресторане, - и вдавливают вывод: что за границей легко живется только проституткам.
Вам описывают устройство ванной комнаты (кран для горячей воды, кран для холодной и т. д.) в кооперативном доме - извольте прикрутить политическую здравицу.
Вам читают - и велят заучить - стишки вроде вот этаких:
Смотрят буржуи,
глазки раскоряча,
дрожат от топота крепких ног.
Четыреста тысяч
от станка
горячих
Ленину
первый
партийный
венок
интересно, осмелитесь ли вы заикнуться - да и придет ли вам в голову, что это бред: венок из ног, горячих от станка?
Маяковский дал советской школе идеальный материал для таких упражнений, отучающих доверять собственному рассудку. Они разрушают связность мысли, подавляют иммунитет к демагогии, опыты эти. Они тоже изображены у Оруэлла, только там их проводит Министерство любви, а не просвещения, как у нас.
Что ж. Обществу вечных детей необходим настоящий детский поэт.
Ленин
больше
самых больших,
но даже и это диво
создали всех времен
малыши
мы,
малыши коллектива.
Маяковский бессмертен. Он живет в каждом из нас, внедрившись в коллективное бессознательное новой исторической общности людей..
Кроме того, ему принадлежат тысячи уникальных рифм, не одна сотня превосходных строк, не один десяток отличных строф, несколько стихотворений. Считается хорошим тоном - предпочитать ранние вещи, сочиненные до того, как Маяковский почувствовал, что война - это мир, что свобода - это рабство, и, главное, что незнание - сила.
Асеев - спутник из самых близких и верных - вспоминает, как в феврале 1915 года Маяковский читал ему только что написанное "Я и Наполеон":
"В памяти остались отдельные строфы, как в выветрившейся надписи веков. "Тебе, орущему "Разрушу, разрушу!", вырезавшему ночь из окровавленных карнизов, я, сохранивший бесстрашную душу, бросаю вызов!" И опять "ору", "разру", "ночь", "окровав", "изо", "я", "храни", "бесстра", ,,саю", "ызов". Похоже было издали на громкоговоритель, тогда еще не знакомый слуху..."
Июль 1993
Тютчев: ночь, день, ночь
Он мне представляется одним из тех изначальных духов, таких тонких, умных и пламенных, которые не имеют ничего общего с материей, но у которых нет, однако, и души.
А. Ф. Тютчева - Д. Ф. Тютчевой.
17 июня 1854
Тютчев сказал все, что думал, и притом - незабываемыми стихами, но с такой высоты, из такой глубины, где человек не встречается с человеком. Каждый найдет в этих стихах себя - но сочинителя не разглядит, а значит - не полюбит. Потрясающе искренний автопортрет невидимки - лирика Тютчева. Излюбленное местоимение - мы, как бы от лица всех смертных.
В молодости (а, как ни странно, и Тютчев был некогда молодым: в первой трети прошлого века) он верил, что предназначение у нас у всех одно: нашими глазами всматривается в себя Вселенная. Как проповедовал его мюнхенский знакомец, профессор философии Шеллинг: "свободное, одновременно страдательное и деятельное, упоенное и сознательное созерцание". Причем тут личность с ее притязаниями, с ее трепетом за себя?
"Смотри, как запад разгорелся..."
"Смотри, как на речном просторе..."
"Смотри, как облаком живым..."
"Смотри, как роща зеленеет..."
- наставляет неизвестно кого беззвучный, прозрачный голос. Нет ни автора, ни героя - просто центр окружности, субъект романтической теории познания.
Но для Тютчева это была не теория. Чуть не всю свою жизнь он потратил на то, чтобы "отделаться от своего "я"" (собственные его слова); сколько совершил безумств лишь для того, чтобы не оставаться наедине с самим собой, лишь бы только избавиться от нестерпимой, неотвязной тоски, превращающий каждый день в последний день приговоренного к смерти... Это признание обронено в одном из писем Тютчева к жене - меж политических новостей, придворных сплетен, каламбуров. Остается неизвестным, когда именно, при каком случае привязалось к Тютчеву предчувствие катастрофы. Достоверно одно: его биография - бесконечное бегство (из страны в страну, из города в город, из семьи в семью), а поэзия - бесконечная погоня за успокоением, за надеждой потерять личную боль в мировом ритме.
... Но чем мы долее глядим,
Тем легче нам дышать.
...........................................
Душа впадает в забытье,
И чувствует она,
Что вот уносит и ее
Всесильная волна.
Тут формула события, которое не только изображается, но и происходит в самых важных стихотворениях Тютчева. Стать частицей мирового света; а если это невозможно - погаснуть в мировой тьме:
Сумрак тихий, сумрак сонный,
Лейся вглубь моей души,
Тихий, томный, благовонный,
Все залей и утиши.
Чувства - мглой самозабвенья
Переполни через край!..
Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!
Какая невероятная свобода необходима уму, чтобы взять в собеседники сумрак! Она возможна лишь на проницаемой границе между сном и явью, набегающими друг на друга, словно волна на волну. Это состояние описано Тютчевым лишь однажды - в стихотворении "Сон на море", но, надо думать, было хорошо ему знакомо; не хуже, чем Мечтателю из "Белых ночей", чем Илье Обломову. Но те воображали себя героями ненаписанных романов - исторических, авантюрных. Игра Тютчева была несравненно затейливей: он мысленно перестраивал мироздание - словно крепость из песка на морском берегу.
К середине сороковых годов ночные светила гаснут в лирике Тютчева; занимается день; сотрапезник античных богов просыпается в России пожилым чиновником цензуры иностранной. Он все так же не знает покоя и нуждается в утешении, но предпочитает теперь возвышенному - прекрасное, и время (например - время года) занимает его сильней, чем пространство.
Взамен пророческих снов душа теснится воспоминаниями. Взгляд больше не пытается проникнуть сквозь разноцветную видимость вещей - какое это было самообольщение ума! Нам ли разгадывать природу! Мы сами-то, чего доброго, не снимся ли ей? - но зато какая радость - уловить на ее поверхности движение, подобное чувству! Обычно это удается при внезапном порыве ветра, ударе грома или мгновенной, яркой вспышке:
... Когда, пробившись из-за туч,
Вдруг по деревьям испещренным
С их ветхих листьев изнуренным,
Молниевидный брызнет луч...
Иной раз вся сила света сосредоточена в тончайшей подробности. Тогда пейзаж выражает совершенное умиротворение: "Лишь паутины тонкий волос / Блестит на праздной борозде".
Или - наоборот: смысл стихотворения направляется убыванием света. И тот самый человек, что когда-то мечтал уничтожиться во тьме, теперь смиренно молит:
Помедли, помедли, вечерний день,
Продлись, продлись, очарованье.
До этой минуты он и в любви оставался растроганным зрителем...
Потом Е. А. Денисьева умерла, и Тютчев снова, как много лет назад, остался один в ночи.
Но другая была ночь, и другое одиночество.
Все темней, темнее над землею
Улетел последний отблеск дня...
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?..
Замечал ли кто-нибудь, что последние слова звучат в кромешной темноте? От строфы к строфе освещение медленно таяло - и вот, наконец, пропало совсем, и мир стал таким, каков и был для Тютчева всегда: необитаемый, непроглядный.
Только прежде почему-то нестерпимо хотелось видеть, а теперь - чтобы та, которой нет, - он, кажется, не проводил ее на Волкове, но все равно, чтобы увидела и пожалела.
... Так называемая онтологическая тревога непобедима. Кроме любви и смерти, нет других средств избавиться от нее, а эти лекарства едва ли не горше самой болезни. Разрываемый ею, Тютчев жил, вращаясь и жужжа, точно игрушечный волчок. Но когда совсем не с кем было поговорить о политике, он записывал наскоро на первом попавшемся клочке бумаги несколько строк такого необычного смысла, таких ослепительных, с такими неправильными ударениями, словно не поэт сочинял, и вообще не человек, а какой-нибудь шестикрылый серафим.
Декабрь 1993
Звезда пленительного счастья, или Теоремы Чаадаева
Масон. Франкоязычный литератор. Написал страниц триста, напечатал тридцать, из них прочитаны многими десять; за каковые десять страниц заподозрен в русофобии; наказан.
Там было нечто вроде примечания, как бы отступление от предмета речи: втолковывая одной знакомой даме, что быть настоящей христианкой в миру хоть и трудно, однако возможно, только надо построже обращаться с собственной душой, - автор вдруг спохватывается: не сбился ли на пересказ банальной религиозной брошюры. Вот тут-то и вырываются эти роковые слова:
"Я знаю, что это старая истина, но у нас она, кажется, имеет всю ценность новизны. Одна из самых прискорбных особенностей нашей своеобразной цивилизации состоит в том, что мы все еще открываем истины, ставшие избитыми в других странах, и даже у народов, гораздо более нас отсталых..."
Подцензурный текст звучал мягче. Остановись Чаадаев тут, вернись он хоть на время в основной сюжет: реализация идеи христианства как смысл истории, - судьба Чаадаева была бы другая. Наша с вами, пожалуй, тоже. Мнительный, но тщеславный гвардии капитан предпочел продолжать движение: напролом, сквозь отрицательный, сквозь опасный пример - к высоте, только ему видимой.
"С этой высоты открывается перед моими глазами картина, в которой почерпаю я все свои утешения; в сладостном чаянии грядущего блаженства людей мое прибежище..."
Он считал себя автором одной мысли - одной, но страшно важной для всего мира, - причем уверен был, что в "Философических письмах к г-же..." выразил ее вполне. Когда через полтора столетия книгу напечатали - обнаружилось немало занятных суждений, но "истина века" - эта единственная, ослепительная, неотразимая мысль так и не нашлась. То ли вдохновение обмануло Чаадаева, то ли от времени обесцветились чернила на рецепте, что выписал человечеству мнимый больной, - а это был рецепт христианского счастья.
Странное, не правда ли, сочетание слов? Сам-то Петр Яковлевич, как известно, зачем-то носил с собою повсюду рецепт на какой-то препарат мышьяка.
Но это уже после, потом... Когда он, бывший герой стихов Пушкина, сделался гоголевским персонажем. И не Маниловым, что было бы, хоть отчасти, поделом, - его объявили Поприщиным, ославили Собакевичем...
Отчего не допустить, что и впрямь не без воспоминания о мученике мартобря поставлен был злорадный августейший диагноз: "Смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного"?
А "Ревизору" император аплодировал - и Чаадаев чуть не плакал:
"... Никогда ни один народ так не бичевали, никогда ни одну страну так не волочили по грязи, никогда не бросали в лицо публике столько грубой брани, и, однако, никогда не достигалось более полного успеха... Почему мы так снисходительны к циничному уроку комедии и столь недоверчивы к строгому слову, проникающему в суть вещей?.."
Он умер, так и не догадавшись, что русская литература за него отомстит. Что десять страничек запрещенного старинного журнала отзовутся десятками томов, и писатели один другого гениальней целью жизни поставят - доказать хоть одну из двух теорем Чаадаева. Действительно ли Россия - факт географический только (игра природы, а не ума, как шутят в романах Достоевского)? Точно ли ей, тем не менее, суждено преподать миру великий урок (летит мимо все, что ни есть на земли, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства, - как сказано все знают где)?
Тютчев остроумно связал обе идеи - Солженицыну, боюсь, такое легкомыслие не понравилось бы:
"Я не без грусти расстался с этим гнилым Западом, таким чистым и комфортабельным, чтобы вернуться в эту многообещающую в будущем грязь милой Родины".
Кроме шуток - обе теоремы решились в двадцатом веке сами собой: Россия воспрянула ото сна, как и предсказывал Чаадаеву Пушкин, - и на обломках самовластья построила ГУЛАГ - опять воспрянула - и его разрушила - однако ж не до основанья.
Третий, последний вопрос Петра Яковлевича остается без ответа:
"Кто знает день, когда мы вновь обретем себя среди человечества, и сколько бед испытаем мы до свершения наших судеб?"
Правда, в подцензурной публикации этих строк нет.
Июнь 1994
Друг человечества печально замечает
Занятный какой случай рассказан в главе "Городня" радищевского "Путешествия". Крестьяне государственные - казенные - покупают у некоего помещика крепостных, чтобы сдать их в солдаты вместо своих сыновей. Помимо извечной любви народа к своей армии, тут замечательна юридическая изобретательность, а вернее - наглость: преступный умысел, движимый взяткой, не то что не разбивается о мрачную скалу закона - даже не дает себе труда обогнуть ее - а подхватывает, переворачивает, играет ею.
"- Мой друг, ты ошибаешься, казенные крестьяне покупать не могут своей братии.
- Не продажею оно и делается. Господин сих несчастных, взяв по договору деньги, отпускает их на волю; они, будто по желанию, приписываются в государственные крестьяне к той волости, которая за них платила деньги, а волость по общему приговору отдает их в солдаты".
То есть документы не просто в порядке - там идиллия, даже с оттенком патриотизма: добродетельный помещик освобождает рабов, а те по доброй воле из любви, например, к земледелию, - вступают в сельскую общину, а община постановлением собрания доверяет им защищать отечество.
По сравнению с этой аферой, затеянной бесправными мужичками ("Отойди, пока сух", - советуют они Путешественнику), - чт проделки Джона Лоу, Чичикова или Мавроди? Всего лишь игра, хоть и азартная.
Трудно, кстати говоря, отделаться от мысли, что Гоголь "Путешествие из Петербурга в Москву" читал (разве не мог свой знаменитый экземпляр ссудить ему Пушкин?), что автору "Мертвых душ" пригодились и эта кибитка с пьяницей Петрушкой на козлах, и многозначительная метафора: "крестьянин в законе мертв", - и не у таможенника ли Радищева перенял таможенник Чичиков эту округлую приятность обхождения с противоположным полом:
"Я люблю женщин для того, что они соответственное имеют сложение моей нежности".
В средней школе не замечают (учителя невинны, ученики невнимательны), что Путешественник обожает не одну лишь справедливость, но также и женщин и уже поплатился, бедный, вензаболеванием ("невоздержание в любострастии навлекло телу моему смрадную болезнь"), и уверен, что передал инфекцию покойной своей супруге ("Кто мне порукою в том, что не я был причиною ее кончины? Смертоносный яд, источаяся в веселии, преселился в чистое ее тело..."), и теперь терзается за детей ("Все ваши болезни суть следствия сея отравы...").
Хорошо еще, ум его так счастливо устроен, что без особенных усилий справляется с чувством вины:
"Кто причиною: разве не правительство? Оно, дозволяя распутство мздоимное, отверзает не только путь ко многим порокам, но отравляет жизнь граждан..."
До этой главы ("Яжелбицы") обычно никто не добирается, кроме разве сугубых специалистов. Поучительный, актуальный сюжет обходят стороной. Только в самом научном из научных изданий он удостоен разъяснения - вполне ханжеского: дескать, мало ли что понаписано в художественном произведении главное, что лично великий писатель ничем этаким, разумеется, не страдал; в данном конкретном случае, зарубите себе на носу, автор за героя, хоть и положительного, не отвечает.
Именно так и преподают: политические суждения, высказанные в "Путешествии", - те, мол, действительно принадлежат Радищеву, а интимные признания выплакивает в скобках воображаемое существо - двойник, тень, типичный представитель.
Но книжка жива до сих пор только потому, что автор кое-где проговорился о собственных личных, о внутренних обстоятельствах.
То есть, разумеется, - кто же спорит - из политэкономических иные наблюдения Путешественника тоже словно бы сегодня записаны.
Демагогу зрелого социализма было бы, наверное, в высшей степени противно прочитать:
"Все то, на что несвободно подвизаемся, все то, что не для своей совершаем пользы, делаем оплошно, лениво, косо и криво. Таковых находим мы земледелателей в государстве нашем. Нива у них чуждая, плод оныя им не принадлежит. И для того обрабатывают ее лениво и не радеют о том, не запустеет ли среди делания..."
Равно и военномыслящий патриот с величайшей охотой запретил бы сочинение, в котором сказано:
"Что обретаем в самой славе завоеваний? Звук, гремление, надутлость и истощение... Несмысленной! воззри на шествие твое. Крутой вихрь твоего полета, преносяся чрез твою область, затаскивает в вертение свое жителей ее и, влача силу государства во своем стремлении, за собою оставляет пустыню и мертвое пространство. Не рассуждаешь ты, о ярый вепрь, что, опустошая землю свою победою, в завоеванной ничего не обрящешь, тебя услаждающего..."
Разумные идеи, благородные чувства, забавно превозвышенный слог, - но впивается навсегда строчка легкомысленная: "Анюта, Анюта, ты мне голову скружила!" - и за нею меланхоличная исповедь пылкого сердца, и Путешественник не в силах утаить, что - совсем как Радищев - завел ("от плотской ненасытности") роман с сестрою жены... Без этих неуютных подробностей, при одной политической отваге - сочинение остыло бы давно.
Однако монумент Радищеву перед Зимним дворцом очередная Великая революция воздвигла только за ненависть: за ненависть к царям; не то гипсовый, не то фанерный, он не устоял в петербургском климате, сгинул без следа.
Радищева определили в советскую среднюю школу воспитателем - еще бы, такая анкета, да при ней характеристика за подписью Екатерины II: бунтовщик похуже Пугачева. Но вот-вот, боюсь, откроется, что императрица произнесла сверх того - мартинист! - и по совокупности этих эпитетов исключат "Путешествие" из программы. И в предстоящем веке, если кто и вспомнит о злосчастном Александре Николаевиче, - то разве для отрицательного примера: смотрите ж, дети, на него - не напрасно ли рисковал и мучился, и зубрил церковнославянские глаголы, и погубил свою жизнь, и принял страшную смерть стакан азотной кислоты!
"О безумие, безумие! О пагубное тщеславие быть известну между сочинителями! О вы, нещастные и возлюбленные чада, научитеся моим примером и убегайте пагубного тщеславия быть писателем!"
Вот какое послание оставил Радищев на станции Петропавловская крепость.
Совет бесполезный! Путешествие почему-то продолжается - гремит и становится ветром разорванный в куски воздух - куда несемся мы? Не приближаемся ли, чего доброго, к месту своего назначения? - угрюмый ландшафт необыкновенно знаком, - какая станция, говорю, после ГУЛАГа? - не дает ответа.
Лишь кричит вдогонку голосом Радищева:
"Таков есть закон природы: из мучительства рождается вольность, из вольности - рабство..."
Сентябрь 1994
Играть Блока
В Шахматове оставалась - и под музыку Революции пропала - только часть дневников, неотосланных писем. (Да кое-что и уцелело - разрозненные, правда, страницы и со следами "человечьих копыт".) И на Офицерской в год кончины Блок приговорил к сожжению лишь выбранные места из непрерывной переписки с самим собою ("друг мой, бумага"...). К тому же расстрел с конфискацией не добрались до его вдовы.
И вот почти все знают о Блоке почти все - то есть почти ничего, но несравненно больше, чем о ком-либо другом из смертных, - больше, чем хотелось бы.
Ничего не поделаешь. Блоку претила мысль остаться ворохом стихотворений, достояньем доцента и ценителя красот. Он звал читателя в свидетели смертельного поединка, в зрители мучительной казни. Этот сюжет обозначается не сразу, но длится до последнего удара судьбы, без конца оборачиваясь на туманный пролог: там, в завязке романа, - его разгадка.
Но роман - всего лишь отблеск необычайной и горестно поучительной участи автора. На роль, на прозвище поэта он променял жребий избранника Владычицы Вселенной. Весной 1901 года в Петербурге и пригородах он имел несколько видений - да, как пушкинский Бедный Рыцарь, - непостижных уму смейся, доцент! - и, сумей он тогда сообразовать дальнейшую свою жизнь с доверенной ему несказнной тайной - какое счастье могло сбыться, и не личное только... Или надо было умереть на месте. А он не умер двадцатилетним и не догадался, как переменить жизнь, и хуже того - переменил ее неверно - себе на горе, зато на радость ценителю красот...
Видения прекратились, а началось великое затмение смысла реальности: она принялась пародировать себя и мерцать зловещими ухмылками; пошлость вытесняла воздух - с каждым годом все быстрей. Блок стал задыхаться, заболел тревогой, лечился алкоголем и отчаянием. Утомившись до изнеможения, сочинял сны в стихах - все о том же: что теперь ничего не жаль и чем хуже, тем лучше, - и что самый тяжкий, самый достойный способ самоубийства - дотерпеть жизнь до конца...
Изысканно бедный словарь, элегантно блеклые рифмы, равноугольный синтаксис, и в паузах падает сердце.
Так, сведены с ума мгновеньем,
Мы предавались вновь и вновь,
Гордясь своим уничтоженьем,
Твоим превратностям, любовь!
Всю жизнь оплакивать галлюцинацию влюбленного, начитанного мальчика? Не хотите - не верьте.
Большую часть биографии Блок провел как поэт - как почти никто из поэтов: на свободе от всего, кроме собственных привязанностей, страстей, привычек; разумеется, и этого довольно, чтобы чувствовать себя бесконечно несчастным, - но за правду пафоса платят дороже. Блок расплатился добровольной погибелью так называемой души, попутно выводя из своей личной истории - всю мировую.
"Вдруг над крышей высокого дома, в серых сумерках зимнего дня, появилось лицо. Она протягивала к нему руки и говорила:
- Я давно тянусь к тебе из чистых и тихих стран неба. Едкий городской дым кутает меня в грязную шубу. Руки мне режут телеграфные провода. Перестань называть меня разными именами - у меня одно имя. Перестань искать меня там и тут - я здесь".
Так начиналась эта история. Но окончилась - как у всех: согласно порядку вещей.
Блок бился головой о стены этого порядка, пока собственное его лицо не превратилось в маску. Кто не примерял ее - маску разочарованного мечтателя, наслаждаясь жалостью к себе и воображаемой гордыней? Кто, демон на час, не презирал, напялив ее, нелепую надежду на счастье?
Тщетно старалось Государство присвоить Блока, извратить. Он взрослым едва понятен - незабвенный автор самоучителя трагической игры страстей.
Ноябрь 1995
Откровение Константина
"... Но что Тургенев и Достоевский выше меня, это вздор. Гончаров, пожалуй. Л. Толстой, несомненно. А Тургенев вовсе не стоит своей репутации. Быть выше Тургенева - это еще немного. Не велика претензия..."
Ни крошки литературной славы ему не досталось, Россия не обратила внимания на его беллетристику. И вот - совсем как злая волшебница, которую на празднике в королевском замке обнесли пирожным, - Константин Леонтьев стал выкрикивать угрожающие предсказания. Они отчасти сбылись, и очень похоже, что сбудутся полностью. Он уважать себя заставил - и лучше выдумать не мог.
Тридцати двух лет он отчаянно, до безумия, испугался смерти - и что душа пойдет в ад, - с тех пор неотступно умолял церковь избавить его от свободы: слишком хорошо знал силу разных соблазнов, слишком отчетливо и ярко воображал пытку вечным огнем.
Литературные и житейские обиды и предчувствие ужаса изощрили в нем злорадную проницательность. Леонтьева раздражали прекраснодушные толки Тургеневых, Некрасовых о каких-то там правах человека и страданиях народа. Леонтьев не сомневался, что понимает отчизну несравненно глубже. Он восхищался Россией за то, что свободу она презирает.
"Великий опыт эгалитарной свободы, - писал Леонтьев в 1886 году, сделан везде; к счастью, мы, кажется, остановились на полдороге, и способность охотно подчиняться палке (в прямом и косвенном смысле) не утратилась у нас вполне, как на Западе..."
Поэтому только России под силу приостановить историю - то есть оттянуть приближающийся стремительно конец света. Ведь только здесь масса еще не раздробилась - и живет заветной мечтой о могучем органе принуждения, неизбывной идеей государственности.
"Нет, не мораль призвание русских! Какая может быть мораль у беспутного, бесхарактерного, неаккуратного, ленивого и легкомысленного племени? А государственность - да, ибо тут действует палка, Сибирь, виселица, тюрьма, штрафы и т. д...."
Притом огромная удача для России, - утверждал Леонтьев, - что в ней порядочные люди - такая редкость: это залог ее исторического долголетия и духовной чистоты:
"... все эти мерзкие личные пороки наши очень полезны в культурном смысле, ибо они вызывают потребность деспотизма, неравноправности и разной дисциплины, духовной и физической; эти пороки делают нас малоспособными к той буржуазно-либеральной цивилизации, которая до сих пор еще так крепко держится в Европе".
Анализ обстоятельств, сложившихся столь счастливо, убедил Леонтьева, что именно России суждено возродить самый красочный из идеалов общественного устройства - средневековый, но не иначе как на основе самой передовой теории:
"Без помощи социалистов как об этом говорить? Я того мнения, что социализм в XX и XXI веке начнет на почве государственно-экономической играть ту роль, которую играло христианство на почве религиозно-государственной тогда, когда оно начинало торжествовать..."
Предвидение поразительное, но это еще не все. Почитайте дальше: на этой же странице частного письма к старинному знакомцу ход истории предугадан так надолго вперед - и так подробно, и так безошибочно, - как не удавалось никому из смертных. Кроме разве что Нострадамуса - да только Нострадамуса попробуйте проверьте, а пророчество Леонтьева исполнилось действительно и буквально. Итак - 15 марта 1889 года. Третий том "Капитала" еще не издан. В России царствует Александр III. Толстой пишет "Воскресение", Фет - "Вечерние огни", Чехов - "Скучную историю", Салтыков - проект газетного объявления о своей кончине. Владимиру Ульянову 19 лет, Иосифу Джугашвили - 10. Будущего не знает никто, за исключением безвестного мыслителя, проживающего у ограды Оптиной Пустыни, в отдельном домике, на втором этаже. Под его пером впервые обретает бытие новый властелин судьбы - император социализма, спаситель России:
"Теперь социализм еще находится в периоде мучеников и первых общин, там и сям разбросанных. Найдется и для него свой Константин (очень может быть, и даже всего вероятнее, что этого экономического Константина будут звать Александр, Николай, Георгий, то есть ни в каком случае не Людовик, не Наполеон, не Вильгельм, не Франциск, не Джемс, не Георг...). То, что теперь - крайняя революция, станет тогда охранением, орудием строгого принуждения, дисциплиной, отчасти даже и рабством..."
Гениальная интуиция - но и логика гениальная: "Социализм есть феодализм будущего"!
Тут же изображена и альтернатива: если социализму не удастся покончить с либерализмом и поработить население планеты
"или начнутся последние междуусобия, предсказанные Евангелием (я лично в это верю); или от неосторожного и смелого обращения с химией и физикой люди, увлеченные оргией изобретений и открытий, сделают наконец такую исполинскую физическую ошибку, что и "воздух, как свиток, совьется", и "сами они начнут гибнуть тысячами"..."
Тоже в высшей степени правдоподобный прогноз, не так ли? Но предначертание Творца не считается с теорией вероятности - и постигается все-таки не рассудком; окончательная формула осеняет Леонтьева только через полгода; слушайте, слушайте!
"Чувство мое пророчит мне, что славянский православный царь возьмет когда-нибудь в руки социалистическое движение (так, как Константин Византийский взял в руки движение религиозное) и с благословения Церкви учредит социалистическую форму жизни на место буржуазно-либеральной. И будет этот социализм новым и суровым трояким рабством: общинам, Церкви и Царю".
Запад обречен - а Россия восторжествует, превратившись в нерушимый рай рабов. Знай наших, плакса Чаадаев! "И Великому Инквизитору позволительно будет, вставши из гроба, показать тогда язык Фед. Мих. Достоевскому"...
Остается слабая надежда, что Леонтьев хоть раз, хоть где-нибудь ошибся; что этот демонический ум ослепила безответная любовь к русской литературе; что он пошел бы дальше этой отвратительной утопии (утопии ли?), не напиши Леонтьеву Тургенев в 1876 году: "Так называемая беллетристика, мне кажется, не есть настоящее Ваше призвание..."
Но если Леонтьев просто был умнее всех и угадал верно - литература отменяется, и вообще не о чем жалеть здесь, на земле.
Январь 1996
Под знаком Тельца
Термоядерные шары, украшающие внутреннюю поверхность нашего ночного неба, образуют на ней, как известно, 88 узоров, именуемых созвездиями.
Ровно дюжина таких условных рисунков как бы размечает неподвижный в мировом пространстве циферблат, по которому кружит против часовой стрелки невидимая, невообразимая годовая, с нашим Солнцем на острие.
Циферблат называется Зодиаком. А несуществующая стрелка, надо заметить, вечно отстает: за каждые семьдесят лет - почти на градус, так что если, к примеру, пару тысяч лет назад 22 апреля Солнце находилось в созвездии Тельца, то сегодня мы все еще, так сказать, пребываем среди светил Овна.
Тем не менее, астрология, не оглядываясь на рассудительную младшую сестру, по-прежнему помечает человека, родившегося в этот день, стилизованным изображением самца коровы и записывает в гороскопе: чувственный, меланхоличный, боится бедности - всякую такую чепуху.
Знаменитейшим из Тельцов данной планеты считается пока Владимир Ленин едва ли не всяк сущий на ней язык употребляет это имя - слух о Шекспире прошел не повсюду - что же сказать об Иммануиле Канте? Немного читателей найдет он в потомстве. Да похоже, что и до сих пор всего один был у него восторженный поклонник - убитый на дуэли, а впрочем, и не существовавший никогда русский поэт Владимир Ленский, - но и об этом персонаже комментатор Набоков говорит, что вряд ли юноша читал "Критику чистого разума" или "Критику практического разума", или "Критику способности суждения" - скорей увлекся Кантом понаслышке, по книжке m-me де Сталь, где поверхностный, тоже с чужих слов, пересказ нескольких фраз.
Кант виноват, конечно, сам: никогда столь ясный ум не изъяснялся так неразборчиво. Но он был плохой писатель не оттого, что не имел таланта, - в некоторых отступлениях, как бы в скобках, он позволял себе слог настоящий, а потому что преследовал единственную цель: чтобы строй предложения полностью воспроизводил ход логических операций и чтобы слова маршировали, как прусские солдаты, как символы алгебры!
Он, видите ли, был испытатель ума: если всецело довериться этой сверкающей машине и запустить ее на полную мощность - сумеем ли мы самим себе членораздельно и неопровержимо доказать, - ничего не присочиняя! возможность существования Бога, бессмертия и свободы, главное - свободы?
Потратив целую жизнь, причем отказавшись для пользы дела от многих склонностей и утех, Кант выявил за реальностью, данной нам в ощущениях и мыслях, еще одну, совсем другую. Он доказал - или решил, будто доказал, что пространство и время - просто шарниры мышления, вроде грамматических падежей, или, скажем, наклонений - а подлинное бытие (где свобода!) непредставимо - находится в ином измерении, уму недоступном, - но ум все же вправе утверждать, что это подлинное бытие достоверно: ведь оттуда - больше неоткуда - постоянно поступает некий сигнал. Ум смотрится в себя; это как бы шар, изнутри зеркальный; но в нем пылает точка свободы - тайный голос извне... Короче говоря: свободны - и вхожи в настоящее, вечное бытие - герой в момент подвига и, быть может, гений в трансе вдохновенья...
Пересказ донельзя приблизительный. Но именно распространяясь в пересказах (разумеется, получше моего, хотя бывали и похуже), несколько идей Канта как бы инкогнито внедрились в интеллектуальную веру так называемого Серебряного века. Например, Елена Ивановна Набокова, как пишет ее сын в "Других берегах" - "верила, что единственно доступное земной душе, это ловить далеко впереди, сквозь туман и грезу жизни, проблеск чего-то настоящего". А фразой раньше главный тезис не названного кенигсбергского мудреца изложен еще точней: "Ее простая и невинная вера одинаково принимала и существование вечного, и невозможность осмыслить его в условиях временного"... Как видим, Ленского в Геттингене действительно учили хуже, чем Набокова столетие спустя в Кембридже.
Владимир Набоков был гений, сын героя. Жизнь посвятил игре ума с иллюзиями пространства и времени - сочинению задач о Боге, бессмертии, свободе. Его жанр - философская сказка (наподобие "Простодушного" - повести Вольтера - или "Кроткой" Достоевского). В его прозе авторский замысел захватывает читателя сильней, чем судьба персонажей. Метафизические проблемы решаются средствами стиля, чрезвычайно изощренными. Тональность повествования определяется особенной, специально выведенной для каждого сюжета формулой соединения трех элементов, а именно: вдохновения, отчаяния, иронии. Вдохновение, как и отчаяние, оба в ближайшем родстве с безумием. Не найдя выхода в подвиге либо шедевре, вдохновение превращает человека в безумца - как правило, несчастного. Ведь поэтический, скажем, дар отличается от самых тяжких случаев мании преследования - только светом счастья:
"В этих случаях - очень редких - больной воображает, будто все, что происходит вокруг, содержит скрытые намеки на его существо и существование. Он исключает из заговора реальных людей - потому что считает себя умнее всех прочих. Мир явлений тайно следует за ним, куда б он ни направлялся. Облака в звездном небе медленными знаками сообщают друг другу немыслимо доскональные сведения о нем. При наступлении ночи деревья, темно жестикулируя, беседуют на языке глухонемых о его сокровеннейших мыслях. Камушки, пятна, блики солнца, складываясь в узоры, каким-то ужасным образом составляют послания, которые он обязан перехватить. Все сущее - шифр, и он - тема всего..."
Люди Набокова живут в мире, насквозь прорифмованном совпадениями. При этом кое-кто из них страдает еще и от - как бы сказать - суверенодефицита: не чувствуют, что живут, не верят в собственную реальность. И, тщетно спасаясь от безумия, тень влюбляется преступно и смертельно в какое-нибудь мнимое свое отражение. Роман "Отчаяние", например: похоть рассудка внушает человеку навязчивую, невозможную идею - уничтожить воображаемого двойника просто за то, что он-то вправду живой, к тому же ведь это все равно что самого себя увидеть мертвым, все равно что сказать: я мертв - следовательно, существую... Трактат о свободе небытия, причем авторствующий персонаж передразнивает "небытного Бога"...
Иные герои, напротив, обладают частицей подлинного бытия, неуничтожимой, что бы с ними ни случилось, - а случается с ними, главным образом, ужасное, и автор, как врио другого Творца, вынужден их выручать, используя силы воображения, "которые и являются в конечном счете силами добра"...
Впрочем, победы он не дает никому, все романы кончаются вничью: персонаж просто уходит на наших глазах в другое измерение.
Набоков и сам поступил так же: растворился в своем восхитительном слоге.
Тельцы, как утверждает руководство по астрологии, - соль земли: "потому что нет в ней никакой сладости".
Апрель 1999
Главный свидетель
В прозе Андрея Платонова персонажам всегда хочется спать, - и они засыпают при каждой возможности, спасаясь таким способом от голода, от страха, главное - от тоски.
В тоску превращается время, проходя через организм, наделенный душой то есть знанием о смерти.
Всего невыносимей для подобного существа - любовь к живому, то есть тоже смертному.
Уж лучше пустые хлопоты, дальняя дорога, даже казенный дом.
Платонов писал о том, что жизнь не похожа на литературу, что любовь не похожа на жизнь, что мечта усталого неандертальца о вечном покое - главный источник социализма, и власть непонятных слов над нищими духом - его составная часть.
Люди убивают друг друга за слова, как за вещи, потому что в периоды осуществления социальной справедливости необычайно возрастает роковая историческая роль Дурака.
"Капитализм рожал бедных наравне с глупыми. - С беднотою мы справимся, но куда нам девать дураков?"
В общем, так:
- убить всех плохих, а то хороших очень мало;
- ревности не полагается; уступи свою очередь нуждающемуся товарищу, потому что влюбленный человек для женщины туже;
- от труда заводится собственность, от собственности - неравенство, а там и рабство; но жизнь понуждает к труду, - социализм разрывает порочный круг, потому что он - любовь к смерти;
- однако хорошие обязаны вытерпеть жизнь до конца: чтобы, как сказано выше, покончить с плохими - ради будущего счастья все равно чьих детей.
"-Товарищи! Вечно идет время на свете - из нас уж душа вон выходит, а в детях зато волосы растут. Вы поглядите своими глазами кругом, насколько с летами расцветает советская власть и хорошеет молодое поколение! Это ж ужасно прелестно, от этого сердце день и ночь стучит в мою кость, и я скорблю, что уходит план моей жизни, что он выполняется на все сто процентов и скоро я скроюсь в землю под ноги будущего всего человечества... Кто сказал, что я тужу о своей жизни?.. Ага, я сказал! Так позор мне, позор такой нелепой сволочи! Бояться гибнуть - это буржуазный дух, это индивидуальная роскошь... Скажите мне громко, зачем я нужен, о чем мне горевать, когда уже присутствует большевицкая юность и новый шикарный человек стал на учет революции?! Вы гляньте, как солнце заходит над нашими полями - это ж всемирная слава колхозному движению!"
Так инстинкт смерти, притворившись мыслью, овладевает человеческой массой - и очень скоро превращается в кровожадную пошлость.
Андрей Платонов записывал этот процесс изнутри: выдуманные люди в своих невозможных речах передавали состояние собственной его совести, - а он отождествлял себя с одним из так называемых политических классов; он неистово желал оправдать и осветить смыслом окружающую реальность и свою роль в ней - и действительно различал в смерче произвола и хаоса проблески грядущей всемирно-исторической, даже космической победы человечества над несправедливой судьбой; он ненавидел несправедливость, и только ее одну, но не в силах был не замечать, что справедливость, сбываясь, - ужасна и отчасти смешна.
Он был главный свидетель главного события эпохи. Если бы все сочинения Андрея Платонова, подобно лучшим его романам, остались в рукописях и если бы эти рукописи погибли, - временное торжество социализма в России осталось бы в истории чем-то вроде природной катастрофы - беспощадной, но бессмысленной. Андрей Платонов, наравне с другим величайшим поэтом уходящего века - Францем Кафкой, пробился к истине - не к той реальности, в которой мы якобы существуем, но к той, что существует в нас, - и создал по-настоящему большой стиль - мучительный, но неотразимо внятный:
"Симон Сербинов ехал в трамвае по Москве. Он был усталый, несчастный человек, с податливым быстрым сердцем и циническим умом. Сербинов не взял билета на проезд и почти не желал существовать, очевидно, он действительно и глубоко разлагался и не мог чувствовать себя счастливым сыном эпохи, возбуждающим сплошную симпатию; он чувствовал лишь энергию печали своей индивидуальности. Он любил женщин и будущее и не любил стоять на ответственных постах, уткнувшись лицом в кормушку власти"...
По-моему, Андрей Платонов и сам был такой человек.
Сентябрь 1999
Памятник призраку
75 лет прошло со дня смерти Валерия Брюсова. А в рассуждении загробной славы не в пример выгодней было бы ему спуститься, так сказать, со сцены пораньше. Лет, скажем, тому назад - сто.
Не обязательно инфлюэнца или дуэль - профессорская кафедра в Московском университете тоже, наверное, доставила бы ему развязку не столь жалкую.
Не дошел бы, по крайней мере, до реквиема на музыку Моцарта:
Горе! Горе! Умер Ленин!
Вот лежит он, скорбно тленен,
и так далее. Кокаин, партбилет, распад: "могильный червь - и в атомы навек!"
Сочинял бы свою историю Атлантиды, перечитывал Жюля Верна, клеил из картона игрушечные театрики - то есть все равно бывал бы иногда счастлив, а притом и навсегда знаменит в литературе: молодыми дерзкими фокусами, из которых самый занятный - непременное украшение хрестоматий:
О, закрой свои бледные ноги!
Кстати, это и вправду шедевр - не потому что скандальный, соблазнительный для подростков подтекст, а потому что Валерий Брюсов тут проговорился дочиста - единственный раз поймал свой настоящий внутренний голос - брезгливый, скучливый, крикливый, - а потом всю жизнь только и делал, что воспевал страсть да власть, да власть страсти.
С другой стороны - остановись он именно сто лет назад, вся история русской поэзии была бы другая.
От кого перенял бы Александр Блок эту так называемую страсть - эту манеру разные случаи из сексуальной практики описывать в космическом масштабе и в терминах пыточной какой-то литургии, - если бы году в девятисотом, не то в девятьсот первом не влюбился в брюсовское:
И снова ты, и снова ты,
И власти нет проклясть!
Как Сириус палит цветы
Холодным светом с высоты,
Так надо мной восходишь ты
Ночное солнце - Страсть!
И много еще такого было в заветном томе альманаха "Северные цветы", с которым Блок не расставался на загородных прогулках. Его судьбу решили закаты над Финским заливом, лицо Менделеевой, стихи Брюсова.
А с Гумилевым что сталось бы? А с Маяковским? Кто научил их играть мужские роли - пусть с грехом пополам? Кто расфасовал для них и для разных бесчисленных прочих кипучую истерику Ницше - яркими ледяными пилюлями: вот она, дескать, - подлинная лирика сверхчеловека?
Как восхищались Брюсовым! Как бессовестно ему подражали! С каким восторгом и облегчением вдруг разлюбили - примерно к девятьсот тринадцатому году...
Не исключено, что это был синтезатор. Биоробот, и даже внеземного происхождения. Оптимальные словосочетания как результат механического перебора вариантов. Отвращение к живым как единственный реальный мотив.
Череп на череп,
К челюсти челюсть
За тонкой прослойкой губ!
За чередом черед!
Пей терпкую прелесть,
Сменив отлюбивший труп!
Он полагал, само собой, что является гением и будет жить в веках. Он был преискусный, неутомимый мастер. И вот взамен Александрийского столпа свалка микросхем, словесный лом, сверкающий утиль.
Странная история, поучительная участь. Не зря, видно, задумывался Брюсов: как узнать, имеется ли в мозгу душа, или просто - круженье цветных молекул?
Самый нерадивый из его учеников - Сергей Есенин - простился с ним неясней всех - и не без фамильярной насмешки:
... крепко держимся
За нищую суму...
Валерий Яклич,
Мир праху твоему!
Не прах, но призрак, причем полезный - вроде скелета в школьном шкафу.
Октябрь 1999
Парадокс Чернышевского
Нет, не автор "Идиота" проронил, словно нарочно для нынешних пошлецов, вплоть до телерекламы конфекциона: мир спасет красота, - не автор, а один из персонажей, причем в бреду: он слышал от кого-то, будто есть у главного героя - тоже, кстати, не всегда вменяемого - такая фраза или такая мысль.
И не Чернышевский высказал категорический императив советской школьницы: умри, но не давай поцелуя без любви! - нет, не Чернышевского скрипучий голос произносит эти - золотые, впрочем, французские слова, - а щебечет их некая Жюли, уличная в прошлом проститутка, прибывшая из Парижа в Петербург на ловлю счастья и чинов.
И точно так же, полагаю, не одному Набокову принадлежит блестящий очерк о Чернышевском в романе "Дар": молодой поэт Годунов-Чердынцев сочинил этот очерк и едва ли не считает его тоже романом. (Вот, например, выходка дилетанта: он скорбит, что рукопись "Что делать?", оброненная Некрасовым, подобранная прохожим, - не погибла в сугробе или же в печи; Набоков, разумеется, позволил бы себе на этот сюжет шутку, в знак презрения к скверной прозе ложного классика, - но Годунов-то его Чердынцев своему герою как бы по-настоящему тут, видите ли, сострадает, неизвестно с какой стати вообразив, будто потеряйся "Что делать?" и не расхвали книгу Писарев - жизнь Чернышевского прошла бы веселей.)
И кто читал роман "Пролог" - правда, читателей таких немного на свете, а скоро не будет ни одного, - тот знает: не сам Чернышевский, а другой литератор, по фамилии Волгин, и не за письменным столом, а в аристократическом салоне - на тусовке российской политической элиты 1857 года - на неформальной встрече лидеров и богачей ради дискуссии об условиях освобождения крестьян - и уже поняв, какие это будут условия: неизбежно самые невыгодные для всех и крестьян и помещиков, и для страны, потому что реальная власть - у ничтожеств, движимых исключительно шкурным и притом копеечным интересом, - и уже поняв, что делать ему тут нечего, - с тяжелым сердцем, чуть ли не со слезами этот Алексей Иванович Волгин про себя выговаривает мысль, навлекшую на Н. Г. Чернышевского столько клевет:
"Жалкая нация, жалкая нация! - Нация рабов,- снизу доверху, все сплошь рабы...- думал он, и хмурил брови".
Тут не вся мысль Волгина, Волгин же - не весь Чернышевский,- хотя очень похож, как бы автопортрет от лукавого, и явно с Волгина писал своего Чернышевского двойник Набокова. Волгин изображен с нестерпимым кокетством: как ведут себя в романах Диккенса застенчивые филантропы - только и думает, как он нелеп и некрасив, и какой сухарь и трус, - и будто бы совершенно не замечает нечеловеческого благородства своих поступков и побуждений; очевидно, что Чернышевский Волгина этого нарочно на себя наговаривает: во-первых, из нечеловеческой же якобы скромности, во-вторых - якобы для цензуры и конспирации, в-третьих - именно чтобы читатель догадался полюбить автора еще сильней, чем героя... но главное - конечно, был гордец. На следующей же странице о Волгине сказано:
"Он не считал себя борцом за народ: у русского народа не могло быть борцов, по мнению Волгина, оттого что русский народ неспособен поддерживать вступающихся за него; какому же человеку в здравом смысле бывает охота пропадать задаром?"
Вопрос на вид вполне риторический. Здравый смысл со вздохом отворачивается, встает, уходит - мыть руки, пить водку, ждать будущего века: что же делать, коли делать нечего!.. Но в спину ему тот же скрипучий голос продолжает:
"... О себе Волгин твердо знал, что не имеет такого глупого желания, и никак не мог считать себя защитником народных прав. Но тем меньше и мог он делать уступки за народ, тем меньше мог не выставлять прав народа во всей их полноте, когда приходилось говорить о них".
Вот он, парадокс Чернышевского. Есть совесть ума, и для своего собственного самосохранения - в сущности, из чистого эгоизма - из циничного, если угодно, расчета, - ум вынужден эту интеллектуальную совесть ублаготворять, то есть высказывать ее требования, даже с опасностью для черепной коробки: ум себе дороже.
Ну что же делать, если случайность рождения забросила тебя в историческое прошлое, лет на триста или на тысячу назад, в империю, населенную несчастными, злыми дикарями? Наслаждаться дефицитными прелестями импортной цивилизации - под полицейским надзором и, главное, за чужой счет, ценою бесчисленных жизней? Аристотель умел, и какой-нибудь Цицерон умел, но ведь они-то жили в своем времени, они-то не знали, что рабы тоже люди, а сверх того полагали глупость вечным двигателем судьбы. А в XIX веке доказано - и лично Чернышевский экспериментом проверил, - что вечный двигатель невозможен и, вероятно, даже глупость не бессмертна и вроде как подчиняется второму закону термодинамики. А овладев знанием, ум ни за что не откажется от него - и требует жертв.
Вот и выходит - чем притворяться рабом, умней бесславно и бессмысленно погибнуть. Потому что есть гордость ума, и потому что одному из пророков недаром сказано: держи лицо твое, как кремень.
Не погибнуть нельзя - на то и полиция, чтобы все в империи были рабы. Не бессмысленно тоже нельзя - на то и рабы, чтобы ликовать, когда казнят их непрошеного спасителя. Ну, а что касается славы - какие-то надежды, понятное дело, Чернышевский на историю возлагал.
Хоть и сознавал, что такая отмена крепостного права не приведет к отмене рабства, хоть и предвидел смутно революцию вот именно рабскую, но не предчувствовал за ней опять империю рабов; допускал, и с охотой, что внуки Хорь-и-Калинычей возведут его в святые, - но не верил, что праправнуки низложат.
Почти во всем заблуждался: плохой был философ (хотя, в сущности, изобрел экзистенциализм - и опробовал на себе), никудышный эстетик, неловкий (но не скучный, согласитесь, не скучный) беллетрист, совсем не художник. Но критика и особенно публицистика - и особенно, особенно! - политическая мораль безупречны: понимал отношения вещей, и писал и жил, в точности, как думал. Отчасти, притом и нехотя, и как бы в волшебном зеркале, Набоков его припоминал в Цинциннате Ц., в "Приглашении на казнь".
Но Цинциннат, счастливчик, перешел в другое измерение, оставшись молодым, - а Чернышевского с эшафота увезли в Сибирь, и хуже того - в старость.
Тюрьма, каторга, ссылка - для гордого ума ничто. Но старость, и старость в России, да еще без денег и под страхом не за себя - сломает кого угодно. Тлеет, тлеет в человеке безумие - и вдруг нет человека: говорящая головня; бормочет, бормочет, превращаясь в черный прах.
Зато никто уже не скажет: все сплошь рабы.
Октябрь 1999
Осенний романс
Певчих стрекоз не бывает, Герцогиня. Дедушка Крылов шутит. Позволяет себе поэтическую вольность - изображает, как удобней воображению. Стрекоза вообще-то стрекочет, но не как сорока - скорей, как кузнечик - короче сказать, в полете крылья у нее трепещут: от каждого - как будто ветер, и каждое - как бы парус, и воздух, растираемый крыльями, гнется и скрипит, не ее это голос, понимаешь? Но ведь и муравьи не говорят!
На то и басня: вроде как цирк, только наоборот - там дрессировщик заставляет животных - нет! нет! конечно, не заставляет! - конечно же, воспитывает... он их так воспитывает, чтобы они подражали нам, людям - то есть чтобы выказывали ум: катались на велосипедах, качались на качелях, танцевали, кланялись... Словом, чтобы хорошо себя вели, слушались укротителя.
Кстати! Дедушка Крылов думал, что смирные даже лучше умных - во всяком случае, нужней: за что, например, крестьянин любит свою лошадку? ведь с нею не интересно, у нее, небось, все мысли только про еду - вот именно: как у Винни-Пуха! - но это спрашивает Лиса, она ревнует крестьянина к Лошади, отнюдь не прочь с ним дружить одна, - не постигает, отчего ей, толковой, предпочитают существо столь ограниченного интеллекта.
- "Эх, кумушка, не в разуме тут сила!
Крестьянин отвечал: - Все это суета;
Цель у меня совсем не та:
Мне нужно, чтоб она меня возила,
Да слушалась кнута".
Вот какой земледелец несентиментальный, не то что некоторые. А кнут это такой рычаг управления - вообще, мы отвлеклись.
Значит, так: цирковые звери - ученые, то есть послушные настолько, что представляются веселыми и умными - все как один. А звери басенные играют в человеческую глупость - причем обычно в глупость непослушных, от которой, по мнению многих, все несчастья, - и тут у каждого роль своя. Сочинитель басни назначает, кому водить - кто в природе смешней похож на человека, похожего на какой-нибудь изъян человеческого ума. Вот Стрекоза: состоит из одного легкомыслия - почти как мы с тобой. Это плохо - Стрекозу надо проучить погубить или хоть пристыдить, а еще лучше - и то и другое. В этом смысл игры, с этой целью дедушка Крылов и заманил Стрекозу (хоть она и не зверь) в басню и покумил с Муравьем.
Нет, настоящая, живая стрекоза - хорошая, обижать ее ни в коем случае нельзя. Вот, смотри, в энциклопедии написано: стрекозы истребляют комаров, мошек и других вредных насекомых - "чем приносят пользу". Я же говорю игра. Дедушка Крылов, конечно, знал, что в природе нет ленивых, ни беспечных, и все, например, насекомые отдают всю жизнь и все силы борьбе за счастье своих потомков.
Другое дело, что одни - вредные, а другие - полезные: по крайней мере, так в энциклопедии. Между прочим, как раз про муравьев там ученые ты только послушай что пишут:
"Многие М. относятся к числу вредных насекомых прежде всего потому, что они охраняют тлей - вредителей культурных растений; кроме того, значительное число видов М. являются вредителями садовых, полевых, технических культур, тепличных растений и пищевых запасов..."
Видишь? Все дело в пищевых запасах! Муравей, когда ни увидишь его, непременно тащит в челюстях какую-нибудь дрянь - вероятно, съестное, - а стрекоза питается своими комарами на лету! Порхает с пустыми крыльями, да еще знай стрекочет - вот и похожа на лентяйку - на какую-нибудь недальновидную тетеньку; одно слово - попрыгунья: лучшее биографическое время проводит в увлечениях, развлечениях, - нет чтобы консервировать на зиму овощи, копить сбережения на черный день, всю жизнь готовиться к старости, - брала бы пример с Муравья...
(Чего дедушка Крылов, скорей всего, не знал - а дедушка Лафонтен и подавно, - как и я до сих пор, - это что европейские наши, типичные, дачные муравьи: озабоченные, целеустремленные, явно - крепкие хозяйственники... так вот, они - кто бы мог поду-матъ? - все поголовно тоже как бы тетеньки "недоразвитые в половом отношении самки", - сказано тут же, в энциклопедии. Попроси наша Стрекоза убежища не у такой вот бескрылой рабочей особи, а у полноценного, крылатого муравья - вдруг разговор вышел бы другой! Грамматический-то род непоправим, даром что у стрекоз - "вторичный копулятивный аппарат самцов высоко специализирован и не имеет аналогов среди насекомых"...
Какие пустяки! не все ли равно? бюджет муравейника не предусматривает затрат на попрошаек, на разных там вынужденных переселенцев, - частной же собственности, как известно, у муравьев нет - - )
Прости, задумался. Итак, Стрекоза не умеет жить - плохо ей придется зимой - так ей и надо - сама виновата - пускай пропадает - я шучу, шучу!
И дедушка Крылов шутит: он, конечно, спасет Стрекозу - допустим, приютит ее на зиму в Публичной библиотеке, - там знаешь сколько мух!
А запасливый, но скаредный, неутомимый, но неумолимый, злорадный Муравей... Не бойся: никто его не обидит, - он же ни при чем, это Баснописец наделил его холодным сердцем, а сам по себе он симпатичный. Наверняка ему начислят достойную пенсию, как ветерану труда и санитару леса, - плюс консервы со склада, и опять же поголовье тлей... Счастливая зима предстоит Муравью!
(Скитаясь по тесным, непроглядным, жарким коридорам, беззвучно приговаривать в такт шагам: - "Ты все пела? это дело: Так поди же, попляши!"
Выпад - укол! Еще выпад - опять укол! Обманное движение: так поди же... - и последний укол, наповал! фехтовальная фраза!
Как восхитительно разрисовывал и раскрашивал этот мастер чужие мысли, ничьи, из неприкосновенного запаса толпы - в том числе, и с особенным наслаждением, главную - что уши выше лба не растут... Впрочем, это у старушки басни наследственный порок - Эзопов комплекс. Ядовитая, стремительная, тяжко-блистающая речь закована в градусник рабской морали.
Твердят наперебой, что Крылов был гораздо умней не только своих покровителей, почитателей, но и собственных басен. Кто его знает; людей он, кажется, презирал буквально до безумия: нарочно им внушал - неряшеством, так скажем, и обжорством - отвращение; даже, говорят, как-то в молодости попробовал нагишом поиграть на скрипке у открытого в Летний сад окна. А жизнь досталась долгая - проигрался, присмирел, притворился. Предпоследний придворный шут: а последним был Тютчев - но уже другого тона: в тунике античной не плясал. Крылову басни доставили славу и покой. Не сорвать черепахе панцирь, обгаженный столичными голубями - - - )
Нет никакой черепахи, сам не знаю, что бормочу. Крылов был очень хороший поэт, Герцогиня. Подрастешь - обследуй непременно свод басен, полюбуйся старинной работой: синтаксис и метр, даже в безнадежно трухлявых, - сплошной восторг. Что Змея практически всегда знаменует иностранца, что вольнодумствующий писатель опасней разбойника, - не важно: благонадежность, возведенная в добродетель, равняется маразму, - а мы с Иваном Андреевичем жили в полицейское время... Прелестнейшие вещи, само собой, - в тени: "Мот и Ласточка", "Крестьянин и Смерть", - смотри не пропусти. Обещаешь?
Навеки твой
Ноябрь 1999
Имена Музы
Тот день, когда меня ты полюбила
И от меня услышала: люблю
Не проклинай! Близка моя могила:
Поправлю все, все смертью искуплю!
Тут никакая Панаева не удержится от слез, никакая общественность. "Мастер жалкие-то слова говорить, - вздыхал, наслушавшись подобных же монологов И. И. Обломова, знаменитый его камердинер: - так по сердцу точно ножом и режет..."
Книга "Стихотворения Н. Некрасова" разрабатывала смерть поэта как сюжет автобиографический.
Перед вами стихи умирающего: почти молодой, тридцати с чем-то лет, он уже в муках разрушенья - недуг сокрушил его силы - как мучительно жаль жизни - только что в первый раз она улыбнулась бедному труженику: голод реже стучится в дверь, - теперь-то и сделать бы что-нибудь настоящее, ан поздно царапай слабеющей рукой последние элегии, а тысячи ненаписанных поэм и повестей уноси с собою... Сиротствуй под осенней вьюгой, несжатая полоса: землепашец не в силах по состоянию здоровья завершить на своем участке сельскохозяйственный цикл - и тщетно урожай скорбит, что не будет употреблен законным владельцем! Всему конец, плакать поздно, стенать - противно, проклятия бесполезны, - хватит, Муза, довольно! - умираю молча, один. Последний, душераздирающий аккорд:
Настанет утро - солнышко осветит
Холодный труп; все будет решено!
И в целом мире сердце лишь одно
И то едва ли - смерть мою заметит...
Такой несчастный голос - кого не растрогает, а тем более - в хороших стихах? Лев Толстой, и тот впадал в сострадательный восторг:
"Я помню, я раз зашел к нему вечером, - он всегда был какой-то умирающий, все кашлял, - и он тогда написал стихотворение "Замолкни, Муза мести и печали" и я сразу запомнил его наизусть".
Года два Некрасов действительно думал - поверив плохим врачам, - что у него горловая чахотка, а значит - пиши пропало. Не струсил, а вконец ожесточился: говорил же вам - порядочный человек в России не жилец! Нищая молодость - непосильный труд (потому что честный, а стало быть недоходный) - озлобленный ум, разбитое сердце, раздраженные нервы - словом, хандра - ну, а за ней и чахотка. Так и знайте: умираю от несовместимости с атмосферой, отравленной продуктами крепостного права:
Ах, странно так я создан небесами,
Таков мой рок,
Что хлеб полей, возделанных рабами,
Нейдет мне впрок!
Оставалось напоследок - чтобы хоть имя забыли не сразу, - распорядиться судьбой сочинений. Тургенев, между прочим, намекал, что нелишне бы поспешить. Некрасов собрал стихи, Панаева переписала их в тетрадь, и 11 июня 1855 года московский купец Солдатенков заключил с автором условие: гонорар полторы тысячи серебром, тираж - две четыреста, книгу издать этой зимой.
Но в половине августа выяснилось вдруг, что прежний диагноз был ошибочный и что хотя эту инфекцию прямо к честному труду и крепостному праву не возвести, зато случай, кажется, не смертельный. При таком благополучном обороте обстоятельств книга, выйди она в самом деле зимой, поставила бы автора в положение отчасти смешное. Расстаться с тетрадью Солдатенков не соглашался ни за что, сам представил рукопись в цензуру. Некрасов пустился на уловки, оттяжки, проволочки, выгадывая время, чтобы книгу пополнить, - и в самый последний момент, летом 56 года, всю ее, уже процензурованную и сверстанную, преобразил одним ударом: вклеив стихотворное предисловие "Поэт и Гражданин".
Оказывается, бывает на свете такое страдание, такая бывает удушливая тоска, что сравнительно с ними даже неизлечимая болезнь - не то чтобы пустяк, но все-таки частность, одно из последствий (впрочем, неизбежное). Изображаемый Поэт, представьте, изменил своей Музе - и она его покинула, - и вот он у двери гроба в ярости безнадежного раскаяния обливает слезами картонную манишку воображаемого Гражданина. И рифмует роковой пламень, сжигающий грудь, с камнем - бросайте его, бросайте в предателя, спасибо скажу! Так убивается, словно предал по расчету не просто низкому, но и неверному. Проклинает себя, как шулер, обыгранный дочиста другим шулером, непобедимым.
Его история странно сбивается на мемуар о разрыве с истеричкой:
Не вовсе я ее чуждался,
Но как боялся! как боялся!
Молод был, видите ли, питал различные надежды, - а с таким жерновом на шее не разбежишься. Пусть неземное существо и в некотором смысле сестра, но ведь кликуша, причем политическая: дух гнева и печали, ненавидящий взгляд и, хуже того, негодующий голос. Не соглашалась притворяться глухонемой! А проживаем в империи: цепи гремят, кнут свищет, палачи на площадях... знаком ли вам, кстати, обычай гражданской казни?.. Одним словом, уволил! Все равно как неблагонадежной прислуге, дал расчет! Отпустил на все четыре стороны... И вовремя - почему и уцелел под николаевским террором, - но для того лишь уцелел, чтобы всю жизнь терзаться презрением к себе! Теперь какие уж стихи? - мало ли что оттепель, - оставь Поэта в покое, назойливый Гражданин! Прекрасная была Муза - бесстрашная, гордая... да только мученический венец украшение слишком дорогое... Не рискнул, а теперь поздно.
Так появился в книге Некрасова другой Поэт - и другой сюжет. Самоубийство таланта - мотив посильней несостоявшейся кончины сочинителя, но из той же оперы, входившей в моду: благородную личность заела среда. Публика тотчас догадалась, что погибают в этих стихах лирические герои, художественные типы предыдущего царствования, - не автор же, на самом-то деле! Ведь у Некрасова с этим падшим Поэтом - ничего общего (кроме мыслей о Музе и о Смерти), а книгу, вне всякого сомнения, написал Гражданин, вот и в увертюре его тема громче (фамусовская такая: "С твоим талантом стыдно спать!"), ему и титул навеки: "Поэт-Гражданин".
В противном случае - выходила бессмыслица. Милостивые, дескать, государи, милостивые государыни! Повергая на суд публики плоды многолетних трудов, сочинитель спешит сообщить, что рабский страх давным-давно истребил в нем так называемое вдохновение. Когда-то ему приходили в голову стихи много лучше тех, что напечатаны в этой книжке. Но они были слишком смелы и неминуемо навлекли бы на автора злобу властей, - и, желая во что бы то ни стало выжить, ваш покорный слуга сжигал их прямо в уме - и навсегда забыл, а доверил перу только то, что мог выдержать печатный станок под сводами предварительной цензуры. Итак, вы не найдете тут произведений, достойных моего дарования. Примите и проч.
- Невозможно! Некрасов тут ни при чем. Он гражданин был в полном смысле слова. Что же до подпольного этого циника и безумца - этого добровольного скопца, - он всего лишь персонаж, отрицательный типичный представитель чего-то там - кажется, искусства для искусства, не правда ли? Не все ли равно, какая и перед кем его вина подразумевается в странной аллегории о Музе, якобы пропавшей без вести! Может быть, это наглядное пособие - на тот случай, ежели дальний - верней, недалекий - потомок удивится когда-нибудь: отчего это Николай Алексеевич не обличал крепостное право при Николае Павловиче, да и вся русская поэзия молчала, как рыба? - вот, смотри, отчего, и не спрашивай впредь! (А Григорович и за ним Тургенев как же осмелились?)
Но это была бы не вся правда - скорей тактическая хитрость. Муза молодого Некрасова (вот какой она к нему являлась: "... начинается волнение, скоро переходящее границы всякой умеренности, - и прежде, чем успею овладеть мыслью, а тем паче хорошо выразить ее, катаюсь по дивану со спазмами в груди, пульс, виски, сердце бьют тревогу - и так, пока не угомонится сверлящая мысль") - первая его Муза недолюбливала так называемый простой народ: за невообразимую грубость чувств (и не она одна - Белинский, например, тоже; и не случайно разглядел истинную поэзию в стихотворении про ямщика, побоями под пьяную руку приучающего образованную женщину к трудовой крестьянской дисциплине, к деревенской гигиене).
Та Муза не любила вообще никого и жила точно в аду: все впечатления жизни ее оскорбляли, нагло напоминая про насилие, деньги, смерть. (Первым из русских писателей заметил Некрасов, как в России холодно, и что бедность ближайшая подруга смерти.) Негодование, стыд и гордость душили ту Музу, точно палач на эшафоте хлестал ее кнутом, как в старину детоубийц и отравительниц - и не было в человеческом языке рифм для мести.
(Шутовская, демоническая чечетка - вот настоящий жанр униженных и обреченных! Или так: резкая беллетристика с пейзажем из блеска и тоски, нейтралитет ума, непроницаемый голос:
Из лесу робких зверей выбивая,
Честно служила ты, верная стая!
Слава тебе, неизменный Нахал,
Ты, словно ветер пустынный, летал!
Стоит взамен тенора пустить контральто - ирония улетучится, охоте конец, - в двадцатом веке оплакивайте, барышни, своего сероглазого короля: он мертвый лежит под старым дубом. Но сантименты молодого Некрасова двусмысленны - и звенят опасным сарказмом:
Чуть не полмира в себе совмещая,
Русь широко протянулась, родная!
Много у нас и лесов и полей,
Много в отечестве нашем зверей!)
... Вторая Муза - была Панаева.
О третьей - Некрасов записал, что будто бы она чаще всего являлась в образе породистой русской крестьянки - "в каком обрисована в поэме моей "Мороз Красный Нос"" - и так лет тридцать кряду.
Но когда Смерть взялась за него всерьез - одурманенный опием, он увидел однажды у своей постели страшную, беззубую старуху на костылях - и это, судя по стихам, была та, первая, Муза Мести и Печали. Он испугался и перестал ее звать. Не исключено, впрочем, что это выдумка. Он умирал гласно, публично передавая в печать немыслимые детали, принимая на смертном одре депутации передовой молодежи... Задобрить, разжалобить, подкупить... И был последний аргумент, неотразимый:
Не русский - взглянет без любви
На эту бледную, в крови,
Кнутом иссеченную Музу...
Но это еще как сказать. Тургенев, допустим, находил в стихах Некрасова "жидовски-блестящий ум la Heine", - а насчет поэтического дара сомневался.
И зря. Некрасов довольно часто писал фальшивые стихи, но поэт был настоящий: фонетику не подделать - хоть этот вот ноющий смысл игры сонорных с передне-зубными, словно у Музы хронический отек носоглотки:
Непрочно все, что нами здесь любимо,
Что день - сдаем могиле мертвеца,
Зачем же ты в душе неистребима,
Мечта любви, не знающей конца?..
Мороз - Народ - Месть - Мать - Земля - Слезы - Нервы - Мазай - Муза Смерть.
Декабрь 1999
Миндальное Дерево Железный Колпак
Стиль как овеществленное время
Взять несколько необъятных слов, подобных облакам, - и так стиснуть, чтобы все вещество смысла упало в память кристаллом цветного сна галлюциногенным леденцом нерастворимым.
Например: Империя, Петербург, Серебряный так называемый век.
Вот, извольте, - четыре строки на всю вашу жизнь:
С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой
Я не стоял под египетским портиком банка,
И над лимонной Невою под хруст сторублевый
Мне никогда, никогда не плясала цыганка.
Полстрофы - как бы кисти Серова: грузный воротила, магнат, меценат короче говоря, новый русский какого-нибудь 1910 года - и тесно ему в раме.
А другие полстрофы - не с чем сравнить, но нельзя забыть, - потому что ветер с моря, и бубен лязгает, - и тяжелое дыхание нетрезвых, праздных, безумных, - и чуть ли не Блок в их толпе... Измятый снег, залитый закатом, острый каблук, пестрый подол, чужое несчастье, обиженный голос.
Все это было с вами, - ничего этого не было с Осипом Мандельштамом, никогда, никогда, - так и знай, читатель 1931 года: к эксплуататорским классам не принадлежал!
А как легко, сдвинув падеж, развернул к себе цыганку!
Только не верьте, будто банковские билеты с изображением Екатерины II печатались на особенно ломкой бумаге. И откуда Мандельштаму знать, что деньги под ногами - как снег...
Тяжелый какой этот хруст, - и что правда, то правда: на декабрьском закате снег у нас ярко-желтый.
Вот и запоминаешь чужие стихи, как собственный горестный сон.
Прописка Годивы
Стихотворение, хоть и сложено в Москве, придумано, должно быть, на Васильевском - на Восьмой линии, 31, в квартире брата - верней, в каморке над черной лестницей (помните: "вырванный с мясом звонок"?)... Тихонов, главарь местных писателей, сказал: "В Ленинграде Мандельштам жить не будет. Комнаты ему мы не дадим", - катись колбаской, надменный скандалист, бывший поэт, а ныне бомж и безработный, - а впрочем - персональный пенсионер и прихлебатель Бухарина, вот и живи, где патрон приютит...
А не надо, когда обсуждают творчество руководителя, выступать с поучениями: что, дескать, поэтическое пространство и настоящая поэтическая вещь как-то там якобы четырехмерны... Ступай теперь в свое измерение. Мандельштам не упирался: этой зимой город показался ему страшен. Да и прежде что в нем было такого прекрасного? Детство, да юность - ну, еще молодость и сколько-то любовей, - одни обиды, короче говоря.
Так отчего ж до сих пор этот город довлеет
Мыслям и чувствам моим по старинному праву?
Он от пожаров еще и морозов наглее,
Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый.
Не потому ль, что я видел на детской картинке
Леди Годиву с распущенной рыжею гривой,
Я повторяю еще про себя под сурдинку:
Леди Годива, прощай! Я не помню, Годива...
С чьей-то все-таки прощается волшебной наготой, - я догадываюсь, да не скажу - полюбуйтесь лучше, как рифмует рыжая грива с лимонной Невой, а Нева - с той английской графиней, - и "никогда, никогда" - с "я не помню"... и лед укрывает строфу!
Но ведь все это поверх синтаксиса, даже как бы вперекор, - а ведь в мыслях мы расставляем запятые и вопросительные знаки, не правда ли? Значит, стихи - непонятные. Спрашивается: отчего этот недоброй памяти город вам дорог? Ответ: вероятно, потому, что в детстве я видел иллюстрацию к балладе Теннисона. Тут не то что Тихонов, а и профессиональный дознаватель озлится: нечего, скажет, темнить. Скучаете по буржуазному строю, так и пишите...
Хотя в ту, первую пятилетку кое-кто еще помнил про графиню Ковентри отчего нельзя было на нее смотреть. (И кто подглядел - вор, а кто помнит предатель, а кто позабыл - тень.) И, в сущности, совсем не причудливый ход мыслей: что любил, например, прекраснейшую из столиц - без взаимности, но это неважно, неважно, - а теперь судьба настаивает, что благородней разлюбить... Или так: согласно кодексу русской классики, добровольно соглашаюсь предпочесть свободе - равенство: вдруг в придачу получится братство... А что и в царстве несправедливости случались минуты красоты - не мне о них жалеть... Сказано отрывисто, но вполне разборчиво, - а трудность для дознавателя только та, что пространство вещи действительно не трехмерное.
Призраки цвета, фигуры звука - и в словах, впервые встретившихся, черты внезапного сходства, - и вся эта нескончаемая игра неожиданности с необходимостью - создают речь как бы не совсем человеческую, в которой смысл фразы бесконечно усилен доставляемым ею наслаждением. Кому она приносит счастье, тот ее и понимает вполне.
Стихи Мандельштама, - написал Владимир Вейдле, - самое пышное и торжественное, что случилось в Петербурге в двадцатом веке.
А Виктор Жирмунский дал формулу: поэзия поэзии. Теперешние ученые отмахиваются: поверхностно! - а по-моему, верно: главное действие Мандельштама - возведение в степень. Он едва ли не каждому слову возвращает ценность метафоры.
Извлекает из слова корень - скажем, квадратный, - и возводит его, скажем, в куб.
И стихотворение - как произведение метафор (не сумма!) - становится метафорой другого порядка, высшего.
Превращается в метафору какого-то множества - или единства, мерцающего в ней, как Метафора всех метафор.
Частности
Дамы влюблялись в него не пылко и ненадолго: слишком был безобидный, совсем без демонизма. Разве что капризный, а в сущности - смешно сказать о поэте - кроткий. Вообще почти смешной: телосложение пингвина, походка, как у Чарли Чаплина. Повадка щегла - лицо донельзя человеческое - и божественный ум! Ни одна не бывала с ним счастлива, - но так весело не было ни с кем.
Ты запрокидываешь голову
Затем, что ты гордец и враль.
Какого спутника веселого
Привел мне нынешний февраль!
- Цветаева ему писала.
И самая красивая из всех говаривала впоследствии, за бездной лет и потерь:
- Очень весело болтали, и непонятно, почему получилась такая трагедия в стихах, - теперь я с грустью понимаю его жизнь, и весело - наше короткое знакомство... Я рада, что послужила темой для стихов. Он был хороший человек, добрый... А что стихи будто бы холодные - неправда; по-моему, горячие, как мало у кого...
Ахматова с ним смеялась, как с близнецом; только ему и прощала, что умней: ведь зато человеческого опыта у него не было никакого; две старые девы - литература и музыка - воспитали подкидыша, как могли, - вот и не стал взрослым.
"Мне часто приходилось, - вспоминает Пунин, - присутствовать при разговоре Мандельштама с Ахматовой: это было блестящее собеседование, вызывавшее во мне восхищение и зависть. Они могли говорить часами, может быть, даже не говорили ничего замечательного, но это была подлинно поэтическая игра в таких напряжениях, которые мне были совершенно недоступны. Почему-то все более или менее близко знавшие Мандельштама звали его "Оськой", а между тем он был обидчив и торжествен, торжественность, пожалуй, была самой характерной чертой его духовного строя, этот маленький ликующий еврей был величествен - как фуга".
Он же, Пунин, вот что утверждает о родстве Мандельштама с Ахматовой: "Это тоже было существо более совершенное, чем люди".
Говорят, Гумилев умел дружить с Мандельштамом; но большинству мужчин с ним было тяжело: высокомерный, самовлюбленный, совершенно ничего не умел только сочинять, - ничего другого и не делал, - вечно требовал в долг без отдачи, - вздорный, нелепый, вульгарный, - вообще непонятно было, кто дал ему такую власть над русской речью. Как сболтнул сгоряча последний поклонник-завистник:
- Черти, что ли, помогают Мандельштаму?
... И горят, горят в корзинах свечи,
Словно голубь залетел в ковчег.
На театре и на праздном вече
Умирает человек.
Ибо нет спасенья от любви и страха:
Тяжелее платины Сатурново кольцо!
Черным бархатом завешенная плаха
И прекрасное лицо...
Все же в некоторых случаях вкус бывает неумолим, как совесть: заслушивались. Сам Александр Блок оттаивал: "Постепенно привыкаешь, "жидочек" прячется, виден артист".
Мандельштам, и дожив до седых волос, не догадывался, что это первое, что думает о нем и друг, и враг: вот еврей. В роковом самозабвении полагал, будто все - пусть многие понаслышке - знают, кто он такой и что сделал в русской литературе, - а стало быть (вторая ошибка!) - чуть ли не за приятный долг почитают - да хоть и скрепя сердце, все равно обязаны - доставлять ему средства к жизни. Хуже того: чувствуя себя носителем смысла времени, убежден был (ошибка третья!), что с его мнениями - равно и сомнениями - кто-кто, а вершители исторических судеб страны не могут не считаться. ("Мы живем, под собою не чуя страны..." - чем не доклад, воображаемый, на предстоявшем съезде - как его там - победителей, что ли?) Не желал притвориться мертвым вел себя, как действующий чемпион, - или как тот, кто необходим, потому что говорит за всех; искренне верил, что полезен, и долго будет советскому народу любезен, - вот и дошел до того, что стал призывать милость к падшим.
Понятно, что его принимали за городского сумасшедшего.
Хотя нельзя теперь не признать: кое-что Мандельштам предвидел. О ленинградских мертвецах сказал за несколько лет до начала Большого террора; что Кремль - кузница казней, - накануне...
Он с болезненным ужасом ненавидел злодейство. Впадал в панику от физического контакта с насильником. Не мог дышать воздухом, в котором кого-нибудь убивают.
Развивалась астма. Он стремительно старел. Боялся одиночества и пространства. Но по-прежнему обожал Время, особенно - настоящее. И приставал к нему с неясностями, остротами, попреками... Пока не надоел.
Причина смерти
Петр Павленко в марте 1938 года писал куда следует- в союз писателей то есть:
"Я всегда считал, читая старые стихи Мандельштама, что он не поэт, а версификатор, холодный, головной составитель рифмованных произведений. От этого чувства не могу отделаться и теперь, читая его последние стихи. Они в большинстве своем холодны, мертвы, в них нет даже того главного, что, на мой взгляд, делает поэзию, - нет темперамента, нет веры в свою страну..."
Надежный писатель был Павленко, проверенный. Один его приятель и соавтор - некто Пильняк - уже лежал, где заслужил, с пулей в черепе, а теперь Петру Андреевичу отдали на перевоспитание кинорежиссера Эйзенштейна, и они вместе сочиняли сценарий про Александра Невского. А Мандельштама Павленко давно уже, с тридцать четвертого года, презирал - потому что один следователь на Лубянке по старой дружбе позволял Петру Андреевичу тайно присутствовать на допросах - в укромном каком-нибудь уголке: за портьерой, либо в шкафу, - чтобы набраться художественных впечатлений, - так вот, Мандельштам, когда его взяли за стихи про товарища Сталина - что будто бы его пальцы, как черви, жирны и он якобы играет услугами полулюдей, и так далее, - держался на допросах жалко и был смешон: брюки без ремня спадают, ботинки без шнурков не держатся, и сам дрожит всем телом. Петр Андреевич любил тогда - хоть и не положено, - за рюмкой кахетинского в кругу товарищей по перу и некоторых существ противоположного пола изобразить истерики Мандельштама.
И все смеялись.
Но теперь, в тридцать восьмом, Павленко было не до шуток. Щекотливейшее поручение он получил: этому недобитку (которого товарищ Сталин пощадил, как якобы мастера, - поверив заступникам, ныне разоблаченным) - поставить окончательный диагноз. У Мандельштама - кто мог вообразить! - хватило наглости вернуться из нетей, объявиться в Москве и - мало того - всучить союзу писателей пук стихотворений: дескать, здравствуйте, советские писатели, я снова с вами! верней, наконец-то я ваш! пишу совершенно так, как нужно, только лучше, чем вы, - извольте же напечатать - и прописка столичная нужна, - и вообще носите на руках, ликуя... Следовало немедля его сплавить, и было совершенно ясно - куда, однако резолюция тридцать четвертого года "изолировать, но сохранить" - вроде бы подразумевала, что Великий Вождь в то время еще надеялся: эта жалкая личность успеет, раз уж настолько вникла в ремесло, хоть отчасти искупить свою вину, создав произведения, блеском ей соразмерные. Стало быть, приходилось намекнуть - не кому-нибудь, а Кормчему: просчетец, мол, с вашей стороны, недосмотр! Но, само собой, не в том смысле, что кто-нибудь гениальней вас понимает литературу, - а что подло воспользовался вашим великодушием гнусный классовый враг - бандит Бухарин, на днях как раз приговоренный к высшей мере.
И Петр Андреевич намекнуть взялся. Написал, что и новые стихи Мандельштама темны и холодны, - а вдобавок пахнут Пастернаком (помимо того, что каламбур вышел удачный, он еще и утешал, напоминая: незаменимых у нас нет). И для примера выписал строфу: добирайтесь, мол, до смысла сами, а я затрудняюсь:
Где связанный и пригвожденный стон?
Где Прометей - скалы подспорье и пособье?
А коршун где - и желтоглазый гон
Его когтей, летящих исподлобья?
Поскольку это единственная цитата в его доносе, - а этот донос (или экспертное заключение, - как вам угодно) убедил Ежова и Сталина, что с Мандельштамом пора кончать, - давайте ненадолго займемся литературоведением. Вчитаемся вместе с ними в четыре роковые строки.
И нам придется признать, что будущий сталинский четырежды лауреат не оплошал - указал на главный, неизлечимый, нестерпимый порок: просто-напросто не умеет пресловутый мастер воспеть полной грудью, без задней мысли жилплощадь повешенных.
И как деликатно указал, и как смело! Другой бы не отважился. Другой вообще не дерзнул бы критиковать стихи о Сталине, - а они, конечно же, о Сталине: кто еще у нас Прометей?
Тому не быть - трагедий не вернуть,
Но эти наступающие губы
Но эти губы вводят прямо в суть
Эсхила-грузчика, Софокла-лесоруба.
Он эхо и привет, он веха, - нет, лемех...
Воздушно-каменный театр времен растущих
Встал на ноги, и все хотят увидеть всех
Рожденных, гибельных и смерти не имущих.
То есть кто-нибудь другой, верхогляд и ротозей, решил бы, чего доброго, что все в порядке: психбольница и ссылка не прошли человеку даром, и наконец-то он поправился и сочиняет то же, что и все, - пока что еще не совсем как все, но лиха беда начало, а навык - дело наживное. Главное направление мысли: кого в 1933 обозвал, говорят, кремлевским горцем - теперь античный титан, причем победитель, а не как в мифологии - узник, - и человечество драматургией труда славит его в амфитеатре всемирной, скажем, истории, отныне, разумеется, не трагичной. Взамен Страшного Суда - что-то вроде нескончаемой овации на вселенском конгрессе Коминтерна... Туманно немножко, зато масштаб почти рекордный. Кто-то, правда, взял выше: про солнце прямо написал, что оно, как орден, у Генерального Секретаря на гимнастерке, - но это в Армении, кажется, и дебютант, - а тут матерый, можно сказать, акмеист перековался, - так пускай себе живет старик потихоньку, дать ему комнату и французского какого-нибудь классика - переводить для денег...
Ведь и могло так повернуться, если бы не Петр Андреевич! Это он заметил, что, сколько автор ни старался, стихи все-таки получились не о Прометее, а о коршуне - он жив и опасен - и на кого, палач желтоглазый, с выпущенными на лету когтями, похож!
Заметил и подчеркнул, - но аккуратно: кому же в здравом уме померещится такое сходство? Решайте сами, а я что? всего лишь недоумеваю.
"Мне трудно писать рецензию на эти стихи. Не любя и не понимая их, я не могу оценить возможную их значительность или пригодность".
Хотя вообще-то - имейте в виду - разбираюсь в этих делах, как мало кто; можно сказать, собаку съел:
"Система образов, язык, метафоры, обилие флейт, аорий и проч., все это кажется давно где-то прочитанным"...
Ну, и все. Ответсек союза писателей переслал под грифом "совершенно секретно" отзыв Павленко наркому внутренних дел и попросил "помочь решить этот вопрос об О. Мандельштаме". Тот помог - и 27 декабря того же года поэт умер в пересыльном лагере "Вторая речка", под Владивостоком.
А вдова (еще не зная, что - вдова) писала новому наркому: за что взяли? мастер для вас так старался! такое все дружественное сочинял! "Мы скорее могли ожидать его полного восстановления и возвращения к открытой литературной деятельности, чем ареста". Так до самой своей смерти и не догадалась, бедная, неистовая, - что коршун погубил Мандельштама!
Коршун - и еще какие-то аории. Навряд ли Сталин полез в словарь за этим термином. Я искал - не нашел.
Железный колпак
Удивительная история, не правда ли? Вроде сломали, заморочили, свели с ума - совсем советский сделался человек: в последний раз влюбившись, героиню лирики - сталинкой с восторгом величал... А погиб из-за строчки настоящей пал смертью поэтов.
Потому что чувство стиля совпадает с чувством чести.
В двухсотмиллионной толпе - тщедушный, нескладный, плешивый, беззубый, безумный, в седой щетине вечный подросток - последним присягнул злодею, - да и то лишь когда, заломив руки за спину, силком пригнули к жирным пальцам.
А перед тем исхитрился еще сплюнуть самозванцу под ноги - точней, прямо на сияющие голенища, - сколько силачей дородных к ним припадали в счастливых слезах...
Впрочем, у Пушкина припасен для Мандельштама сюжет еще важней - в "Борисе Годунове": юродивый в железном колпаке; с мальчишками злыми робок, а преступного царя не боится: нельзя, - в глаза ему кричит, - нельзя молиться за царя Ирода - Богородица не велит. А бояре хором: поди прочь, дурак! схватите дурака!
Но Годунов страдал кошмарами, вообще был Ирод так себе, с комплексами; а Желтоглазый - туго знал свой маневр.
Мне известен еще только один руководитель, столь же уверенно обращавшийся с творческой интеллигенцией: Исхак ибн аль-Аббас - в шестидесятых годах девятого века правитель Басры; точней сказать - наместник багдадского халифа. Ну, типа секретарь обкома. Но тоже вошел в историю благодаря победе над поэтом Дибилем (полное имя - Дибиль ибн Али ибн Разин). В то время и в тех местах Дибиль был популярней, чем Мандельштам в России, но у начальства тоже на плохом счету, - и по таким же причинам: задирал первых лиц империи хулительными стихами. А они очень долго терпели его, не трогали, наивные! - опасаясь, что он каким-нибудь экспромтом успеет перед смертью опозорить своего погубителя навеки. А самомнение у него было тоже, как у Мандельштама: всерьез уверял, что тексты диктует ему Аллах, и во всеуслышание похвалялся опасным своим положением; вот уже пятьдесят-шестьдесят-семьдесят лет, - приговаривал он, - я несу свой крест на плечах, но не нахожу никого, кто распял бы меня на нем. И лишь когда Дибилю исполнилось девяносто шесть, означенный Исхак ибн аль-Аббас опробовал на нем свое противоядие против лирики и сатиры. Вот как рассказано об этом в знаменитой старинной книге.
Как только Дибиль появился в Басре, Исхак послал своих стражников, и они схватили его.
"Исхак приказал принести ковер крови и меч, чтобы отрубить голову Дибилю. Но тот стал заклинать его... - девяносто шесть, напоминаю, - начал умолять Исхака, целовать землю и плакать перед ним. Исхак пожалел его, но сказал:
- Даже если я пощажу тебя и оставлю в живых, то должен тебя опозорить.
Он приказал принести палку и бил его, пока тот не обделался. Тогда Исхак велел положить Дибиля на спину, открыть ему рот, наполнить калом и бить его кнутом по ногам. Он поклялся, что не отпустит Дибиля до тех пор, пока он не проглотит весь свой кал, или он скрутит его..."
Ну, и так далее; не за Сталиным, как видим, приоритет; но он усовершенствовал метод и перевоспитал целую словесность; задал ей верный тон, причем почти не пользуясь кнутом: кое-кого истребил, но исключительно для острастки; заслужил свою участь, если разобраться, один только Осип Мандельштам.
Не странно ли? На площади, занявшей шестую часть земной суши, где яблоку не упасть - столько бояр и особенно стражников, - всего лишь один сыскался исполнитель на такую непременную древнерусскую роль - правда, трудную - в железном-то колпаке, - и кто же?
Шесть слов
Запах цветущего миндаля выветрился из фамилии. Приходило ли в голову Мандельштаму, что Луис Понсе де Леон, августинец, профессор богословия в Саламанке - его какой-нибудь, вполне возможно, прапрадед? Этот марран, четыреста с чем-то лет назад в церковных и литературных кругах довольно известный, был, по проискам коллег, арестован - в трибунале вальядолидской инквизиции признал под пыткой, что "высказывал, утверждал и поддерживал множество еретических, предосудительных и скандальных мыслей и мнений", что сверх того перевел на разговорный, то есть на испанский язык Книгу Иова и Песнь Песней... Отделался сравнительно легко: пятью годами подвала, где сочинял, между прочим, и стихи - через сорок лет после его смерти напечатанные.
Мандельштам на другом краю материка читал зэкам Петрарку - сперва итальянский текст, потом свой перевод. Иногда ему давали за это щепотку курева, кусок сахару. Предлагал всем желающим за полпайки послушать сатиру на Сталина - желающих не находилось. Вслух грезил, что Ромен Роллан напишет о нем Сталину, - и его освободят, - лишь бы до тех пор не отравили. Кончаясь, в тифозном бреду что-то декламировал - не это ли вот?
В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,
И каждый час нам смертная година.
Богиня моря, грозная Афина,
Сними могучий каменный шелом.
В Петрополе прозрачном мы умрем,
Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина.
А может быть, выкрикнул - из "Египетской марки":
- Петербург, ты отвечаешь за бедного твоего сына!
Кто-то запомнил шесть слов - будто бы Осипа Мандельштама последний текст:
Черная ночь. Душный барак. Жирные вши.
Так что сбылась его мечта: он стал поэтом современности.
Сентябрь 2000
Клоун, философ, закрытое сердце
"В этой повести Зощенко выворачивает наизнанку свою пошлую и низкую душонку, делая это с наслаждением, со смакованием, с желанием показать всем:
смотрите, вот какой я хулиган.
... Совершенно справедливо Зощенко был публично высечен в "Большевике",
как чуждый советской литературе пасквилянт и пошляк".
А. Жданов
Напротив Таврического сада, на углу Кирочной и Таврической, прозябает, приняв цвет дождя, скучная каменная игрушка - трехъярусная цитадель оловянного гарнизона. На главной башне - огромный мозаичный герб князя Италийского, на крепостных стенах, тоже смальтой, - сюжеты из его послужного списка: "Отъезд Суворова из Кончанского в поход 1799 года" и "Переход Суворова через Альпы в 1799 году", - однако же в порядке, обратном хронологии: слева - война, справа - мир. Доброкачественный такой кондитерский стиль; ясно, что коробка была дорогая, конфеты - вкусные. На картинке справа фельдмаршал выходит из сельской церкви, где только что отслужен напутственный молебен, - и остановился на крыльце, и крестьяне с хлебом-солью его обступили в восторге и слезах, - и уже поданы сани с рогожною кибиткой, запряженные в тройку гуськом.
А в левом нижнем углу картины - две елочки из-под снега. Младшая совсем дитя, пять лапок короткопалых, одна из них с неестественной кривизной. Эту веточку выложил Миша Зощенко, девятилетний сын мозаиста. В отцовской мастерской - на седьмом этаже, где-то на Васильевском - он чувствовал себя хорошо, как нигде на свете и никогда в дальнейшей жизни.
Суворовский музей открыли в девятьсот четвертом, 13 ноября. Художника Зощенко наградили золотой медалью. В девятьсот пятом он умер - от разрыва сердца - у сына на глазах:
"- Папа, я возьму твой ножичек - очинить карандаш.
Не оборачиваясь, отец говорит:
- Возьми.
Я подхожу к письменному столу и начинаю чинить карандаш.
В углу у окна круглый столик. На нем графин с водой.
Отец наливает стакан воды. Пьет. И вдруг падает.
Он падает на пол. И падает стул, за который он задел".
Это из последней книги - "Перед восходом солнца" - 1943 года, недопечатанной: между двумя сражениями, Сталинградским и Курским, другой полководец разрубил ее, как дождевого червя.
Похвала меланхолии
Писать такую книгу в сорок втором году, печатать в сорок третьем!
Это ведь, кто не знает, - как бы трактат о победе. О полной и окончательной победе автора над собственной неврастенией. Так назывался тогда этот странный недуг, - не исключено, что подобный английскому сплину, или там русской хандре, но вряд ли в точности: это когда тошнит от беспричинного страха, - непередаваемого - сильнее смерти. Когда он, внезапно подкравшись, хватает вас за горло, - цвет жизни гаснет, звук становится глухим и угрожающим, вы, короче говоря, переноситесь в ад, в толпу злорадных демонов: кто зовет к столу, кто - к телефону, а самые безжалостные пытаются вовлечь вас в разговор.
"Во всей медицине, - пишет в трактате "Страдание" К. С. Льюис, - нет ничего столь страшного, как хроническая меланхолия".
Зощенко мучился ею, сколько себя помнил, но к врачам обратился в начале двадцатых, когда его, так сказать, приняли в литературу, - когда кончилась для него гражданская война за кусок хлеба. Лечили его в точности, как Евгения Онегина:
"Мне прописывали воду и вовнутрь, и снаружи. Меня сажали в ванны, завертывали в мокрые простыни, прописывали души. Посылали на море путешествовать и купаться.
Боже мой! От одного этого лечения могла возникнуть тоска".
Главное - он боялся есть. Не мог себя заставить.
"Я безумно похудел. Я был как скелет, обтянутый кожей. Все время ужасно мерз. Руки у меня дрожали. А желтизна моей кожи изумляла даже врачей. Они стали подозревать, что у меня ипохондрия в такой степени, когда процедуры излишни. Нужны гипноз и клиника".
Наконец, в 1926 году, осенью, на краю гибели после очередного приступа, Зощенко поставил жизнь на последнюю карту: он будет сам себе Зигмунд Фрейд и академик Павлов. Разыскать в глубине ума, в потемках памяти - как бы взрывное устройство этого ужаса - и обезвредить.
Через восемь лет он добился успеха - и воспел его в повести 1935 года: "Возвращенная молодость". Ну, а еще через восемь - этот случай самоисцеления описал: чтобы помочь другим страдальцам, но на свою беду.
Это автобиография, верней - история характера - сверху вниз: юность-отрочество-детство. Самые страшные сцены жизни вперемешку с наиболее постыдными. Все разочарования. Все рандеву с Пошлостью и Смертью. Разгадка судьбы оказалась на самом дне - в сцеплении событий младенчества, вообще-то скорей воображенных, добытых возгонкой снов: как-то мама кормила его грудью во время грозы, и один удар грома был особенно сильный; в этот ли раз или в другой, а только несомненно, что хоть однажды да отняли от груди насильно рукой, заметьте, отняли грудь; и когда купали в корыте или, предположим, в ванне, - тоже, должно быть, случился какой-то неприятный инцидент, и уж наверное, без чьей-нибудь руки не обошлось; а четвертое событие подтверждается маминым рассказом, и от него остался трехсантиметровый шрам: двухлетнего Мишу оперировали - то есть, извиваясь от боли, он увидел над собой огромную, страшную руку с ножом.
Вот как просто. Четыре взрывателя, четыре знака: грудь, рука, вода и гром. Поэтому снятся тигры и нищие, поэтому нет радости от женщин, и тревогой обдает вода.
Нищий - что делает? Протягивает руку. "Я увидел руку и действие этой руки - она берет, отнимает".
"Тигр - хищный зверь. Он что делает? Бросается на свою жертву, хватает ее, уносит, терзает. Он пожирает ее. Зубами и когтями рвет ее мясо.
Неожиданно возникли ассоциации с рукой. С этой страшной жадной рукой, которая тоже что-то берет, отнимает, хватает.
Рука нищего, вора приобретала новые качества, свойственные дикому зверю - тигру, хищнику, убийце".
Женщина - что делает? Впрочем, неважно.
"Женщина - это любовь. Любовь - это опасность.
Выстрел, удар, чахотка, болезни, трагедии - вот расплата за любовь, за женщину, за то, что не позволено".
И вообще - у них груди, не говоря уже о руках. Ну, а вода - это вода.
"В воде тонут люди. Я могу утонуть. Вода заливает город. В воду бросаются, чтобы умереть".
И поэтому наводнения снятся тоже.
Цена победы
Вернее, снились. Потому что к 1935 году все как рукой сняло.
Методика излечения описана двояко. Во-первых, научными терминами, как бы сквозь зубы: что-то такое - силой ума удалось разорвать неверные условные связи условных нервных раздражителей. Во-вторых, слогом высоким, даже чересчур:
"Я раньше терпел поражения в темноте, не зная, с кем я борюсь, не понимая, как я должен бороться. Но теперь, когда солнце осветило место поединка, я увидел жалкую и варварскую морду моего врага. Я увидел наивные его уловки. Я услышал воинственные его крики, которые меня так устрашали раньше. Но теперь, когда я научился языку врагов, эти крики перестали меня страшить....
И тогда объятья страха стали ослабевать. И наконец прекратились. Враг бежал.
Но чего стоила мне эта борьба!"
Это написано - вы помните - в сорок третьем. Зощенко уморил себя голодом в пятьдесят восьмом. Страх свел его с ума не торопясь, - было время поразмыслить, чем заплачено за передышку, за несколько лет покоя. Ведь это был не самообман: какой-то камень - или демон - отвалился тогда от сердца.
Я и сам неохотно скажу то, что сейчас скажу.
Но это факт: как раз в 1935 году литературный дар его оставил.
Впрочем, не раньше 3 июня, когда окончена "Голубая книга" - там избранные давнишние сюжеты погружены в ироническую историю морали: эти предисловия и послесловия лучше всех новелл. Как это странно, что Зощенко посчитал нужным проститься с читателем, - неужели предчувствовал?
"А эту Голубую книгу мы заканчиваем у себя на квартире, в Ленинграде, 3 июня 1935 года.
Сидим за письменным столом и пишем эти строчки. Окно открыто. Солнце. Внизу - бульвар. Играет духовой оркестр. Напротив - серый дом. И там, видим, на балкон выходит женщина в лиловом платье. И она смеется, глядя на наше варварское занятие, в сущности, не свойственное мужчине и человеку.
И мы смущены. И бросаем это дело.
Привет, друзья. Литературный спектакль окончен. Начинается моя личная жизнь во всей своей красе.
Интересно, что получится".
Цензура, само собой, слог поскребла. Печатный финал - другой, без литературного спектакля и личной жизни. Привет, друзья, - и все.
А после этого числа сочинились еще только две вещицы по-настоящему смешные - причем из каких материй! - "История болезни" (1938) и "Последняя неприятность" (1939).
И совсем в другом тоне, но тоже сильная - вот эта самая "Перед восходом солнца", где стиль неузнаваемый: предложения - из грамматики, слова - из словаря. Существительные обстоятельств, глаголы движения. Вещество этой прозы - вроде сухого льда (в такую, знаете ли, твердую снегообразную массу обращается углекислый газ при -78,515 по Цельсию). Но эти бедные бесцветные фразы обладают весом и соблюдают ритм. Тающими, исчезающими словами выведен в одном из мнимых пространств - мрачный, твердый узор.
Ровный ряд простых правильных предложений - ни отблеска улыбки. Техника мозаики. Оптика перевернутого бинокля. Мемуары моралиста, рука мастера.
Он не разлюбил игру, но забыл смысл выигрыша - наилучшими ходами устремляется к ничьей.
Сталин опрокинул доску, так сказать, вовремя: до самой смерти Зощенко и долго потом подозревал кое-кто из публики, что "Перед восходом солнца" шедевр.
А позиция была ничейная.
Зато все остальное проиграно. Библиография Зощенко читается, как скорбный лист: падает пульс - дыхание угнетено - кома - клиническая смерть.
Уже "Возвращенная молодость" (1933) - между нами говоря, жизнерадостна чересчур. Наивность на грани фальши.
Что же касается "Истории моей жизни" (1934) - от лица з/к, воодушевленного строительством Беломорканала, - тут Зощенко стер, так сказать, эту грань. И зашел очень далеко. И упал низко.
"Возмездие" (1936) - просто плохое произведение. По-настоящему плохое. В том же году изготовлен и "Черный принц", но этот очерк хоть не притворяется повестью.
"Керенский" (1937) - чуть ли не еще хуже "Возмездия". Тогда же сочинен "Талисман" - как бы шестая повесть пушкинского Белкина, - убогий такой пастиш, старательным таким тупым пером.
"Тарас Шевченко" (1939), "Рассказы о Ленине" (1940). Проза уже потусторонняя.
Несколько скучных комедий, а также невозможные "Рассказы партизан" (1944 - 1947). Еще горстка новелл после "Голубой книги": почти все - через силу. Здесь же - пресловутые "Приключения обезьяны", - хотя одна шутка там все-таки живет:
"Ну - обезьяна. Не человек. Не понимает, что к чему. Не видит смысла оставаться в этом городе".
И все. После этой злосчастной обезьяны, и анафемы, провозглашенной Ждановым, и неслыханного постановления ЦК ВКП (б) - Зощенко ничего и не сочинял, кроме писем к товарищу Сталину.
Вот и получается, что художником он был, пока не выздоровел, - лет пятнадцать. Пока не истратил весь талант на борьбу с талантом.
Перед заходом солнца
- Я ведь организую свою личность для нормальной жизни, - говорил, например, в двадцать седьмом еще году Корнею Чуковскому (тоже, кстати, безумцу, и с похожим сюжетом). - Надо жить хорошим третьим сортом. Я нарочно в Москве взял себе в гостинице номер рядом с людской, чтобы слышать ночью звонки и все же спать. Вот вы и Замятин все хотели не по-людски, а я теперь, если плохой рассказ напишу, все равно печатаю. И водку пью.
Догадывался ли он, что так называемое чувство юмора - как бы изотоп, что ли, страха смерти; верней - двойная инверсия; что смех и страх, короче, - сиамские близнецы, сросшиеся виском?
А только не слишком дорожил Михаил Зощенко этим своим знаменитым смехом, - "который был в моих книгах, но которого не было в моем сердце". С горькой гордостью приговаривал: клоун должен уметь все - и что он временно исполняет обязанности пролетарского писателя, - а на самом деле продолжать без конца "Декамерон" для бедных прискучило. Покончив с меланхолией, он обещал своим бедным новую "Похвалу глупости" - "с эпиграфом из Кромвеля: "Меня теперь тревожат не мошенники, а тревожат дураки"".
А написал - что написал. И в сорок третьем году был вполне доволен своей литературой, как и состоянием здоровья. Видно, изменило ему чувство реальности. Видно, думал, что дар у него - неразменный:
"Я вновь взял то, что держал в своих руках, - искусство. <...>
И много лет я не знаю, что такое хандра, меланхолия, тоска. Я забыл, какого они цвета.
Оговорюсь - я не испытываю беспричинной тоски. Но что такое дурное настроение, я, конечно, и теперь знаю - оно зависит от причин, возникающих извне".
Этого уже не напечатали - то есть напечатали через тридцать лет, - а настроение испортили тотчас и навсегда. Насмешка судьбы: отныне и до самой смерти - ни единой минуты, не отравленной ужасом и обидой. Ни дня, ни строчки.
Лично я не сомневаюсь, что сгубила Зощенко эта последняя повесть "Перед восходом солнца". Непристойное сквернословие в так называемом докладе Жданова и в зловещем Постановлении ЦК явственно отдает жарким, смрадным дыханием Генералиссимуса. Так он обходился только с лютыми, личными врагами. В "Приключениях обезьяны" вы не найдете - современники тоже недоумевали, не найдете ничего такого, что распалило бы злобу даже в распоследнем дураке. Легкомысленная такая детская сказка на мотив "Колобка". Что Сталин был дурак - не верится, хотя гипотеза соблазнительная: объяснила бы всё. Но слово слишком человечное. Хотя, действительно, в данном эпизоде Великий Вождь смешон, насколько может выглядеть смешным существо, уничтожающее атомной бомбой три странички про мартышку - и автора страничек заодно.
А настоящую причину раскрыть он не мог. Не исключено, что и самому себе не отдавал отчета: что сделал с ним Зощенко. Много лет я подозревал мотив отчасти метафорический: как-никак, "Перед восходом солнца" - трактат о страхе. То есть о секретном стратегическом топливе. Неважно, что формулу Зощенко вывел самодельную, приблизительную. Отвращение к страху - вот что вывело Сталина из себя, думал я. Он принял это как личное оскорбление, хотя вряд ли мог растолковать себе, в чем дело. Вероятно, полагал, что ему противно само это возмутительное зрелище: человек посреди войны, как Архимед какой-нибудь, бесстыдно углублен в отвлеченные мысли. Просто сил никаких нет не пронзить его дротиком или там чем попало.
Но, как сам же М. М. и написал, отрицая Судьбу, - "жизнь устроена проще, обидней и не для интеллигентов".
Недавно нейрофизиологи установили, что мозг убийцы действует в особом режиме. В США, например, обследовали убийц, которые официально были признаны вменяемыми. Обнаружилось, что функции лобных областей их мозга ослаблены и снижено потребление глюкозы в прифронтальных отделах. Испанские и русские ученые доказали, что в мозгу агрессора - избыток какого-то пептида вазопрессина, зато недостача серотонина. И так далее. Не в названиях дело. Главное - что у людей, склонных к депрессии, - все ровно наоборот. И поэтому, что меланхолику полезно - для убийцы травма или яд!
Должно быть, Сталин, читая Зощенко, страдал невыносимо.
Фольклор
На писательском собрании в Смольном после доклада Жданова пошли, как водится, речи негодяев, - а порядочные люди затаились. Как только перешли к голосованию, порядочные бросились к дверям, доставая на ходу папиросы. Но эта испытанная уловка не застала охрану врасплох: никого не выпустили из зала. Порядочным пришлось вернуться на свои места и проголосовать вместе со всеми.
Так рассказывал мне один человек.
А другой - что был все-таки голос против: такой Дилакторской, детской писательницы. Она и выступить осмелилась: не могу, сказала, согласиться, что и в рассказах о Ленине Зощенко проявил себя как подонок, пошляк, хулиган. Она вроде бы до войны служила в Детгизе и подписала эту книжку в печать!
Третий, усмехаясь, припомнил, как возвращался той августовской сорок шестого года ночью из Смольного. А жил на канале Грибоедова, в писательском доме, где и многие другие. Шли гурьбой, ночь была теплая, компания молодая, - разговорились, расшутились, разыгрались чуть не в пятнашки. Вышли на Конюшенную площадь, повернули к набережной канала - и остановились: вдоль решетки навстречу им шел Зощенко. Франтовской плащ, кожаная кепка, трость. И ясно было, что он уже много часов так ходит взад-вперед, тростью трогая перила. Его-то на собрание не пригласили, что случилось - не намекнули. Вот он и ждал возвращения соседей.
Они, конечно, воспользовались темнотой - безмолвно разбежались по подъездам.
Зато есть легенда, что после того, как Постановление распубликовали в газетах, Зощенко получил по почте от разных неизвестных - сорок хлебных карточек!
Кто знает - все может быть. Цифра немножко слишком круглая.
Философия слога
Пятнадцать лет он был поэтом. Владел блаженным искусством лишних слов:
"Вот опять будут упрекать автора за это новое художественное произведение.
Опять, скажут, грубая клевета на человека, отрыв от масс и так далее.
И, дескать, скажут, идейки взяты, безусловно, не так уж особенно крупные.
И герои не горазд такие значительные, как, конечно, хотелось бы. Социальной значимости в них, скажут, чего-то мало заметно. И вообще ихние поступки не вызовут такой, что ли, горячей симпатии со стороны трудящихся масс, которые, дескать, не пойдут безоговорочно за такими персонажами".
(Прямо урок поэтики: уберите ненужное - и все пропало!)
Он был писатель без иллюзий, работал под девизом из Эпиктета: человек это душонка, обремененная трупом. Но, в отличие от римского раба, полагал, что за это стоит человека пожалеть - именно за то, что подловат, поскольку глуп, и пошловат, ибо смертен. Так и писал: бедняга человек. И с охотой поступил в гувернеры к Пришедшему Хаму. И смешил дикарей, пресерьезно изображая говорящую обезьяну.
Всю жизнь обижался на прошедшую словесность: зачем притворялась, будто бывают какие-то там высокие чувства, якобы сильней первичных потребностей?
"Автору кажется, что это совершеннейший вздор, когда многие и даже знаменитые писатели описывают трогательные мучения и переживания отдельных граждан, попавших в беду, или, скажем, не жалея никаких красок, сильными мазками описывают душевное состояние уличной женщины, накручивая на нее черт знает какие психологические тонкости и страдания. Автор думает, что ничего этого по большей части не бывает.
Жизнь устроена гораздо, как бы сказать, проще, лучше и пригодней. И беллетристам от нее мало проку".
Мировая война и ее такие же ужасные дочери обучили его этой окопной беспощадной, бесшумной стилистике: ребячество - играть с Пошлостью в прятки, а в жмурки - дурной тон. Крикливую магию подобных игр - изыски какого-нибудь Александра Блока - он передразнивал грубей, чем убогую ерунду всех этих монтеров, управдомов. На каждом шагу отчаянно шпынял, мстительно пародировал, все не мог рассчитаться. Дар достался ему как долг обиды.
"... наш прославленный поэт считал это чувство за нечто высшее на земле, за нечто такое, с чем не могут даже равняться ни строчки уголовных законов, ни приказания отца или там матери. Ничего, одним словом, он говорит, не действовало на него в сравнении с этим чувством. Поэт даже что-то такое намекает тут насчет призыва на военную службу - что это ему тоже было как будто нипочем. Вообще что-то тут поэт, видимо, затаил в своем уме. Аллегорически выразился насчет военной трубы и сразу затемнил. Наверно, он в свое время словчился-таки от военной службы..."
(Ай, молодца, клоун! Ай, класс! Так и надо гражданину Блоку. А теперь вместо него попляши на горячих угольках сам-друг с гражданкой Ахматовой, спиной к спине, - вот вам на старость и вечность железный двойной ошейник, забавный в школьном учебнике выйдет параграф, - так сказать, во вкусе Достоевского: и скверный анекдот, и вечный муж, - поделом и ей. Адски ловкая, между прочим, комбинация.)
Михаил Зощенко - вероятно, единственный из всех писателей - не верил в трагизм (и упразднил его в бессмертной повести "Мишель Синягин") и не боялся на свете ничего - кроме приступов страха.
Но Джугашвили его разгадал - храбреца, гордеца, дворянчика, офицера: обругать, как собаку, ни за что, на всю страну - моментально сломается и навсегда. Тем более, что товарищи по перу не останутся в стороне - прогонят из литературы в толчки. Клоун, кажется, любил поголодать? Вот и пусть поголодает.
"Эта отрубленная голова была торжественно поставлена на стол. И жена Марка Антония, эта бешеная и преступная бабенка, проткнула язык Цицерона булавкой, говоря: "Пусть он теперь поговорит"".
Бродит по Сестрорецкому кладбищу раздраженная тень, трогает тростью прутья ограды.
Декабрь 2000
В пустыне, на берегу Тьмы
Начали! Строки Пятая и Шестая:
Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила...
Один ли я вижу - и не галлюцинация ли: что его породила природа в день гнева степей? В день гнева жаждущих степей - гнева жажды, гнева от жажды. Изнемогая, негодуя на судьбу, то есть на свое местоположение - под самым Солнцем, - обезвоженная почва, прежде чем обмякнуть, превратиться в море бесплодного праха, каменеет и разражается, как проклятием, - исчадием. Извергает, изрыгает, исторгает из последних глубин вещество своей смерти что-нибудь вроде мертвой воды, вязкой Аш-два-О из антимира - и рисует в раскаленном воздухе огромный восклицательный знак, одетый корой, покрытый листьями, истекающий влагой.
Бывают у Пушкина такие глубокие инверсии - вроде зеркального шифра - с обращенной симметрией. Помните?
Что ум высокий можно скрыть
Безумной шалости под легким покрывалом.
Или:
Твоим огнем душа палима,
Отвергла мрак земных сует...
По-моему, он так наверстывает опоздание мысли. Когда волнение слишком сильней слов. Ну, что это - можно скрыть высокий ум под легким покрывалом безумной шалости? Старомодная, между нами говоря, сентенция, и с иностранным акцентом. Душа, палимая огнем, - вообще скучает по прохладительным напиткам. Вращая строку на вертикальной оси, Пушкин переходит как бы в ультразвук: таких интонаций голосу не взять (проверь, проверь), нас пронзает не текст, а восторг, пробежавший по тексту.
Так, по-моему, и тут: нить фразы сложена вдвое, а концы перекручены.
Это получилось не сразу. Сперва он написал:
Природа Африки моей
Его в день гнева породила...
И, конечно, проговорился о важном, но без пользы для хода темы. Кто же не знает, что африканская природа своенравна? Смотри лицейскую тетрадь по географии. Анчар, стало быть, сотворен в одну из пятниц на неделе, как случайная гримаса первобытного зла: ботаническая химера. Примерно так, полагаю, и было напечатано в английском журнале: в лесах Малайзии встречается удивительное создание природы; туземцы приписывают Упасу дьявольские свойства, и проч. Журнал - чего-то там "Magazine" - читали в Малинниках барышни. А стихи получались - для детей, вроде того, что Африка ужасна - да, да, да! Не в Корнеи ли податься Чуковские?
"Na днях было сборище у одного соседа; я должен был туда приехать. Дети его родственницы, балованныя ребятишки, хотели непременно туда же ехать. Мать принесла им изюму и черносливу, и думала тихонько от них убраться. - Но Петр. Марк, их взбуторажил, он к ним прибежал: дети! дети! мать Вас обманывает - не ешьте черносливу, поезжайте с нею. Там будет Пушкин - он весь сахарный, а зад его яблочный; его разрежут и всем вам будет по кусочку - дети разревелись; Не хотим черносливу, хотим Пушкина. - Нечего делать - их повезли, и они сбежались ко мне облизываясь - но увидев что я не сахарный а кожаный совсем опешили. Здесь очень много хорошеньких девчонок (или девиц, как приказывает звать Борис Михайлович) я с ними вожусь платонически, и от того толстею и поправляюсь в моем здаровьи - прощай, поцалуй себя в пупок если можешь".
Он переменил:
Природа пламенных степей
Его в день гнева породила...
Эпитет оказался бесцветным и неосязаемым. Окружающие слова сквозь него потянулись друг к дружке - и цепочка смыслов (наподобие молекулярной, надо полагать) распалась на природу степей и день гнева.
Это было хорошо, потому что бедняга глагол стушевался - как Станционный Смотритель (еще не написанный), - окончательно вжался в угол, - авось, не оконфузит героиню явным фамильным сходством. (Вовсе бы его убрать, да вот беда - незаменим.)
Это было еще потому хорошо, что День Гнева - словосочетание величавое и роскошное. Моцарт в нем гремит (тоже не написанный пока), соборный орган у святой Екатерины на Невском:
Dies irae, dies illa
Solvet saeclum in favilla
Teste David cum Sibylla.
Тот день, день гнева, развеет земное в золе, клянусь Давидом и Сивиллой. И так далее, по тексту Фомы из Челано, тринадцатый век.
Пушкин, однако, латинским гимнам не учился.
Зато читал Ветхий Завет - в частности, пророков, - и у девятого из так называемых малых пророков, у Софонии (ах! нет у меня под рукой Библии на церковнославянском! Обойдемся синодальным переводом):
"Близок великий день Господа, близок - и очень поспешает: уже слышен голос дня Господня. Горько возопиет тогда и самый храбрый!
День гнева - день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы,
День трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен.
И Я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их как помет.
... Ибо истребление, и притом внезапное, совершит Он над всеми жителями земли".
Замечу к слову - незаурядная личность был этот Софония (жил и работал при царе Осии, между 642 и 611 до нашей, естественно, эры). Проницательный геополитик: предсказал крушение нескольких держав, - и его пророчества исполнились. А стихи - в манере Иосифа Бродского, меланхолически-отчетливой:
"И прострет Он руку Свою на север - и уничтожит Ассура и обратит Ниневию в развалины, в место сухое, как пустыня.
И покоиться будут среди нее стада и всякого рода животные; пеликан и еж будут ночевать в резных украшениях ее; голос их будет раздаваться в окнах, разрушение обнаружится на дверных столбах, ибо не станет на них кедровой обшивки.
Вот чем будет город торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем: "я - и нет иного, кроме меня". Как он стал развалиною, логовищем для зверей! Всякий, проходя мимо него, посвищет и махнет рукою".
Конфликт Создателя с цивилизацией - а природа, соблюдая строгий нейтралитет, остается в некотором даже выигрыше. Хотя не исключено, что производит мутантов (типа ежа голосистого), и Анчар, подобный атомному грибу, - действительно вечный памятник Дню Гнева. Что же, летим прямо в эпилог человеческой истории - полюбоваться, как потомки случайно уцелевших, - вот этих самых вышеозначенных свистунов - одичав, добивают друг друга?
Сомнительно, чтобы Пушкин тратил время в Малинниках, Тверской губернии, Старицкого уезда, на подобные пустяки.
"Здесь думают, что я приехал набирать строфы в Онегина и стращают мною ребят, как букою. А я езжу по пороше, играю в вист по 8 гривен роберт [далее густо зачеркнуто - не Пушкиным - два-три слова] - и таким образом прилепляюсь к прелестям добродетели и гнушаюсь сетей порока - скажи это нашим дамам; я приеду к ним [здесь тоже несколько слов густо вымарано - не Пушкиным] - - полно. Я что-то сегодня с тобою разоврался".
Нет, пророков оставим пока в покое: нас интересует не чем все кончится, - но с чего все началось.
"И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла".
До самого центра оранжереи прародители человечества, как мы знаем, не доплелись: прикорнули под деревом № 2, после чего их лишили допуска (взамен выдав кожаную одежду и лицензию на размножение) - якобы за нарушение правил внутреннего распорядка, а на самом деле - дабы вселенная не превратилась в коммуналку. Ужасная приблизилась вдруг перспектива: Творцу препираться с тварью из-за мест общего пользования - причем без малейшей надежды на скончание времен!
"И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно".
Стало быть, игрушка задумана была как заводная - или на батарейках - в общем, с ограниченным сроком годности. Выходит, предусмотрен был и акт смерти - то есть, конечно же, самоубийства, - разумеется, с применением оружия биологического (какого же еще?): действующего, например, как интеграл уже испытанных идей - дерева и змея.
Рай находился в Эдеме, на востоке. Сад Гесперид - на западе, в Ливии. Адам и его самка побрели к экватору.
Но все-таки не Бог сотворил Анчара! Или, во всяком случае, не вместе с прочей растительностью, не во Вторник, не сразу после неба и земли. Анчар проник в программу не ранее третьего дня - когда решалась проблема освещения:
"И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды...
... И увидел Бог, что это хорошо".
А впоследствии оказалось, что большее светило нагревает планету неравномерно. Астрофизика прижала биологию. Природа в борьбе с климатом водрузила над пустыней древо яда - как бы из воспламененного солнцем песка...
Не желчью ли рвет собаку, издыхающую от бешенства - от водобоязни?
Пушкин переменил "пламенных" на "жаждущих":
Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила
- и вся фраза перестроилась под тяжестью неустойчивого причастия, точно только этого звука - библейского - и ждала: жадная и жалкая - чахлая и скупая.
Тень Апокалипсиса исчезла, связь роковых феноменов установилась, - и проступил рисунок инверсии: гнев степей.
Пушкин, без сомнения, заметил - и рассердился, - что стих двоится в глазах. Вымарал было гнев. Переменил на зной:
... Его в день зноя породила...
Ведь в сущности-то сочинял про жару. Про жарищу в Африке - точно какой-нибудь в конце века Дядя Ваня.
Кошмар сосны о пальме (Гейне только что написал, некто в "Северной лире" - не Тютчев ли? - перевел, упустив разность температур, - а Лермонтов когда еще вникнет). Кому какая пустыня выпала. На версты и версты кругом безжизненный прах: рыхлая вода. И пальма - или баобаб? - в общем, древо яда наведено морозом на оконном стекле. Как жарко поцелуй пылает на морозе! Как дева юная свежа в пыли снегов!
Дом стоял на берегу Тьмы, замерзшей реки: одноэтажный, с колоннами из корабельных сосен. Комнаты глубокие, потолки низкие. Днем превесело: три барышни, да еще мамаша. Но по ночам не до них, знаете ли:
"Тысяча благодарностей, сударыня, за внимание, которым Вы удостаиваете Вашего преданного слугу. Я бы непременно пришел к Вам - но ночь внезапно застала меня среди моих мечтаний. Здоровье мое удовлетворительно, насколько это возможно. Итак, до завтра, сударыня, и благоволите еще раз принять мою нежную благодарность".
На записке дата - 3 ноября. (Год, понятно, 1828.) Под "Анчаром" - 9 ноября.
Диктатура якобы пролетариата распорядилась включить эти стихи в детскую диету исключительно ради Двадцать первой строки:
Но человека человек
- ну, и Двадцать второй.
За поразительное сходство с обрывком пропагандистского клише. Это же политическая формула несправедливости: "эксплуатация человека человеком". Знайте, милые крошки, что до 1917 года весь мир жил по этой формуле, на нашем лишь Архипелаге отмененной, - вот и Пушкин подтверждает.
Действительно - на Двадцать первой строке история Смерти переходит в историю Глупости. Но замечаешь это позже - в Двадцать третьей:
И раб послушно в путь потек
Мы еще не понимаем, что в этой-то самой строке один из двоих и становится рабом (и этот новый статус подчеркнут аллитерацией), - но кого хоть однажды не царапнул вопрос: а чего это он такой послушный? трус или, наоборот, герой? Туда и тигр нейдет, - а он без колебаний - только потому, что взглянули как-то особенно; подумаешь, взгляд...
Хотя это, наверное, так только сказано, для эффектной сестры таланта: властным взглядом. Что они, телепаты глухонемые? Наверняка маршрут экспедиции был заранее оговорен. А пресловутый взгляд сработал вроде стартового пистолета.
И "человека человек" - игра слов, риторический оборот, упрощенное уравнение. За спиной у типа, умеющего так убедительно смотреть, всегда маячит кто-нибудь еще. Как в "Сказке о рыбаке и рыбке": на плечах топорики держат. Кремневые, не кремневые, - главное, чисто конкретные. Тут попробуй, не потеки.
Но все эти наши предположения рассыпаются в предпоследней строфе:
Принес - и ослабел и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.
Чувствуете ли вы, какую насмешку, донельзя презрительную, подсказывает рифма? Нет? Скажите тогда: что позабыл этот царь или там князь под сводом шалаша? Зашел проведать умирающего раба, как демократ и гуманист? Или такое нетерпение любопытства: недоспал, не позавтракал, прибежал за образцами самолично, не доверяя никому, на властный взгляд больше не полагаясь?
Что ж, допустим. Ну, а путешественник-то наш отважно-послушный - как посмел отнести секретные материалы по месту жительства? Ведь несомненно, что властным взглядом однозначно было предписано: доставить в собственные руки. Не явился тотчас по прибытии в резиденцию вождя? Это же бунт и преступная халатность, никаким плохим самочувствием не оправдать. Чаадаев за подобное промедление поплатился отставкой.
То есть в задаче спрашивается: чей шалаш - и где дворец?
Ответ: речь идет об одном и том же архитектурном сооружении. Дворец представляет собою хижину.
(В "Капитанской дочке", начатой лет через пять: "Нас привели прямо к избе, стоявшей на углу перекрестка. У ворот стояло несколько винных бочек и две пушки. "Вот и дворец", - сказал один из мужиков; "Сейчас об вас доложим". Он вошел в избу".)
Каменный век, лыковая лачуга.
Такой, представьте, ад в шалаше.
Два несчастных дикаря. Один возомнил себя Робинзоном - и послал добровольного Пятницу за смертью. Став единственным обладателем боевого отравляющего вещества, сделался - на наших глазах, при нас, в этом самом шалаше, в этой самой строке - непобедимым владыкой. На полет стрелы вокруг никого, а дальше - чуждые пределы. Этот пассионарный дебил - царь или там князь шести соток раскаленного песка на краю света, от Анчара верстах в двадцати: день туда, ночь - обратно.
Владыка - лыка.
Мы расстаемся навсегда после предпринятой им биологической атаки: успешно распространил смертоносную инфекцию. Неизбежно умрет, скажем, к вечеру: из листьев Анчара веников не вяжут.
Так что жанр этого стихотворения - басня. О любви к рабству. О любви к гибели. Быть может, и просто - о любви. О жаре. О механизме распространения самиздата и вируса.
Пушкин в этом году все недомогал. Жаловался приятелям на "нынешнее состоянье моего Благонамеренного, о коем можно сказать то же, что было сказано о его печатном тезке: ей ей намерение благое, да исполнение плохое". Винил некую Софью Остафьевну: за скверный, надо думать, санитарный контроль в столичном центре холостого досуга.
Ну, а в Третьем отделении стихи поняли, как всегда: как в советской школе. Почуяли клеветнические измышления, порочащие общественный и государственный строй. Извольте доказать, милостивый государь, что вы не антикрепостник, не правозащитник презренный! Пушкин возражал:
"... обвинения в примениях <sic> и подрозумениях не имеют ни границ ни оправданий, [ибо] если под [именем] слов. дерево будут разуметь конституцию, а под [именем] словом стрела <свободу> Самодержавие - - -"...
Удивительней другое.
Как известно, неандертальцы, подобно динозаврам, вымерли без объяснения причин. Череп последнего найден в Замбии, в пещере, на уступе. Этот человек, по старинке именуемый родезийским, умер 30 000 лет назад, совсем один. И властный ли был у него взгляд - попробуй теперь узнай.
С тех пор в ход пошли кроманьонцы.
И то сказать: Адам был неудачная модель: лицо без подбородка, покатый лоб, выступающие надбровные дуги. Правда, объем мозга не уступал современному, и на закате палеолита неандертальский ВПК пришел к удачным разработкам: изобретение лука сильно способствовало прогрессу. Но в смысле внешности - кроманьонцы не в пример симпатичней: почти как мы.
Так вот: Пушкин, конечно же, про человека из этой пещеры Брокен-Хилл не знал, и знать ни в коем случае не мог. Как же примерещилась ему ни с того ни с сего подобная история?
И отчего в этом стихотворении, таком на вид простодушном, звук столь необыкновенной силы: как бы голос трубы над пустыней, - верней, как бы трубный глас?
Февраль 2001
НЕТЛЕННЫЙ МУРАВЕЙНИК
Из интервью
в "Литературной газете" (май, 2000)
- Петербургский миф, как и любой другой, - это реальность, отнятая у нас в ощущениях. Ушедшая в слова. Объект бесчисленных высказываний, отрицающих друг дружку, - представляется таинственным ядром, где они пересекаются.
В восемнадцатом веке преобладал восторг, приблизительно равный энтузиазму первых советских пятилеток, - что-то вроде того, что "воля и труд человека дивные дивы творят"; город этот, самый молодой в России и непохожий на Россию, воспринимался как победа человеческого ума и привозного камня над болотом, над трясиной, над косными силами природы.
В девятнадцатом - выяснилось, что в Петербурге, как и повсюду, почти все живущие несчастны, - и те, кто обслуживает имперскую бюрократическую машину, и те, кто прислуживает тем, кто ее обслуживает. Бедность, дороговизна, плохие жилищные условия, скверный климат, совсем нет свободы и, главное, никакой защиты от судеб. Несчастная столица несчастной страны ничего такого особенного, всеобщий жребий, - но здесь-то проживают вроде как самые образованные, целый класс умственного пролетариата, лучшие умы и перья, и участь свою принимают с обидой. Причем обижаются - как ни смешно на среду обитания. Дескать, никакой это не парадиз, а - грандиозная мышеловка. А что внутренние поверхности изукрашены - так тем страшней. И на медном лице изобретателя - Чудотворного Строителя - Главного Прораба замерещилась поэтам злорадная ухмылка.
Но вот что правда, то правда: чересчур много насильственных смертей на квадратный метр. Это помимо того, что Петербург поставлен на человеческих костях. Вот заберитесь, если удастся, на кровлю Мраморного дворца - на площадку подле Часовой башни. Туг одна из лучших точек обзора. На другом берегу Невы, прямо перед вами - Петропавловская крепость - политическая тюрьма, сгубившая не знаю сколько жизней. Несколько градусов к востоку - Дом политкаторжан - возведен для революционеров после революции - отсюда их чуть ли не всех и увели на расстрел. Еще правей, уже на левом берегу - Большой Дом - государственная бойня - сколько человеческой крови утекло подземной трубой в Неву? - катерами, говорят, в иные дни приходилось разгонять багровый след. Еще поворот по часовой стрелке - Михайловский замок, тут убили Павла Первого. Еще поворот - Спас-на-Крови... А между ними крыши, крыши - сотни старых домов, в них десятки тысяч квартир - в каждой кого-нибудь взяли, чтобы уничтожить как врага народа.
Вы топчетесь у Часовой башни Мраморного дворца, не зная, на чем остановить взгляд: до чего же красив этот город убитых!
Солнце так светит (особенно - белой ночью), вода так сверкает, листва так роскошно мрачна, здания так убедительно имитируют античность... Ослепительный эшафот. Но когда красота настолько волнует - вы ищете за ней тайну.
... Подростком я прочитал в каком-то пособии для юных натуралистов, что за муравьями удобней всего наблюдать, поместив их в стеклянную банку, наполненную сухой хвоей. Они будто бы довольно скоро привыкают к новому уровню освещенности, принимаются сновать взад-вперед и доить, например, тлей как ни в чем ни бывало.
Петр Алексеевич Романов был типичный юннат - и с неограниченными возможностями для опытов. Он придумал и велел воздвигнуть огромный, насквозь прозрачный муравейник - и назвал: Санкт-Питербурх. Обитатели, хоть и прижились - и даже стали потихоньку размножаться, - а все-таки томились; проклинали свой удел в различных сочинениях. И сложили первый миф - так сказать, муравьиный.
Потом, от отчаяния, перебили друг друга; жилища погибших муравьев достались существам, которых они прежде нещадно эксплуатировали, - этим самым тлям. Так вот, теперешний так называемый Петербургский миф - это второй цикл сказаний: о муравьях, о Создателе муравейника, и так далее. Тлиный миф о нетленном муравейнике.
Или вообразим декорацию грандиозной оперы; музыка оборвалась давным-давно, солистов и кордебалет, не говоря о дирижере и оркестрантах, вывели во двор и расстреляли; рабочие сцены и капельдинеры расхаживают между нарисованных дворцов, перекликаются, строят куры костюмершам, в кулисах заводят быт. Так из Санкт-Питербурха получается в конце концов - Ленинград. Выцветшие, линялые, полуразрушенные декорации время от времени угрожающе скрипят, из оркестровой ямы доносятся какие-то струнные вздохи недоигранная опера напоминает о себе - жизнь идет как бы в двух измерениях.
... В реальности человек выходит - вот, например, я - после работы на улицу: темный воздух, мокрое небо, грязный асфальт, тусклые дома, злые лица, и расписание общественного транспорта придумал, несомненно, враг рода человеческого.
Но бывают минуты: идешь по Дворцовой набережной, справа Зимний дворец, слева Петропавловская крепость... Не важно, что в крепости казнили и мучили, в Зимнем дворце тоже занимались разными глупостями, да и жили там, в основном, дураки. А просто смотришь - прекрасно, фасады отражают солнце, и Нева блестит, - а иной раз можно увидеть, как солнечный луч тугой золотой нитью соединяет шпиль Крепости со шпилем Замка - летом на закате случается такое поразительное мгновение - и говоришь себе - нет, не мерзость, все-таки не мерзость, именно этими словами сам с собой почему-то говоришь.
... Это был город фасадов, ландшафт для иностранцев - пусть видят: вот, у нас все как у людей, северные Афины, и оштукатурено под мрамор. А за этими фасадами копошилась оргтехника - говорящие, даже пьющие ксероксы в вицмундирах, разные башмачкины и девушкины оповещали пространство империи о благих намерениях властей. Петербург был построен для размножения документов. Переписал десять тысяч бумаг, исходящих и входящих, кончились чернила - спи спокойно, бедняга Башмачкин-Девушкин, на Митрофаньевском каком-нибудь кладбище, пока его не разорят.
Так трактовал этот город условия человеческого существования.
Мы прописаны в руинах метафоры, сочиненной не про нас, - бесчеловечно государственной.
Неуютно. Фундамент затоплен, и небосвод ненадежный, протекает. Зато похоже - именно изнутри - на реальность, на мироздание как оно есть, без иллюзий.

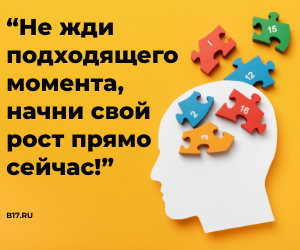

Комментарии к книге «Муравейник (Фельетоны в прежнем смысле слова)», Самуил Лурье
Всего 0 комментариев