Ролло Мэй
ЛЮБОВЬ И ВОЛЯ
Перевели О.О.Чистяков и А.П.Хомик
Rollo May. Love and Will. N.Y.: W.W.Norton&Co., 1969
М.: "Рефл-бук" — К.: "Ваклер", 1997
Терминологическая правка В.Данченко
К.: PSYLIB, 2005
ВВЕДЕНИЕ: НАШ ШИЗОИДНЫЙ МИР
Часть Первая: ЛЮБОВЬ
ПАРАДОКСЫ ЛЮБВИ И СЕКСА
ЭРОС В ПРОТИВОБОРСТВЕ С СЕКСОМ
ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ
ЛЮБОВЬ И ДЕМОНИЧЕСКОЕ
ДЕМОНИЧЕСКОЕ В ДИАЛОГЕ
Часть Вторая: ВОЛЯ
ВОЛЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
ЖЕЛАНИЕ И ВОЛЯ
ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ
ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ В ТЕРАПИИ
Часть Третья: ЛЮБОВЬ И ВОЛЯ
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛЮБВИ И ВОЛИ
СМЫСЛ ЗАБОТЫ
ОБЩНОСТЬ СОЗНАНИЯ
Примечания
I. ВВЕДЕНИЕ: НАШ ШИЗОИДНЫЙ МИР
Кассандра: Аполлон — вот мудрец, который дал мне это ремесло…
Хор: Уже тогда владела ты божественным искусством?
Кассандра: Да; уже тогда предсказывала я города судьбу.
Эсхил, Агамемнон
Поразительная вещь — любовь и воля, которые в былые времена всегда помогали нам справиться с жизненными невзгодами, в наши дни сами стали проблемой. Да, когда человек достигает переходного возраста, у него действительно всегда возникают проблемы с любовью и волей; а наш век — это эпоха радикальных перемен, "переходный возраст" нашей культуры. Рушатся старые мифы и символы, в которых мы привыкли искать опору; весь мир объят беспокойством; мы цепляемся друг за друга и пытаемся убедить себя, что испытываемое нами чувство — это любовь; мы не принимаем волевых решений, потому что боимся, выбрав нечто одно, потерять другое, и чувствуем себя слишком неуверенно, чтобы рисковать. В результате разрушается фундамент придающих всему единство эмоций и процессов — наиболее яркими образцами которых являются любовь и воля. Индивид вынужден обратить свой взор внутрь себя; он одержим нового рода проблемой личности, а именно: "Даже если я знаю, кто я такой, я ничего не значу". Я не могу воздействовать на других людей. Следующим шагом является апатия. И вслед за ней начинается насилие. Потому что ни одно человеческое существо не может вынести постоянного оцепенения от чувства собственного бессилия.
Любви как средству решения житейских проблем придается такое большое значение, что самоуважение человека зависит от того, обрел он ее или нет. Люди, которым кажется, что они нашли ее, готовы лопнуть от самодовольства, уверенные в том, что располагают неопровержимым доказательством своего спасения, подобно тому как кальвинисты считали богатство зримым свидетельством своей принадлежности к избранным. Те же, кому не удалось обрести любовь, не просто считают себя в большей или меньшей степени обездоленными, но утрачивают самоуважение, а это влечет за собой более глубокие и опасные последствия. Они чувствуют себя представителями новой касты неприкасаемых и признаются психотерапевту, что страдают бессонницей, причем не обязательно потому, что чувствуют себя особенно одинокими или несчастными, а потому, что их терзает гнетущее убеждение, будто они не сумели разгадать великую тайну жизни. И между тем. на фоне постоянного роста количества разводов, настойчивого опошления любви в литературе и изобразительных искусствах и несомненного факта, что для множества людей секс стал настолько же бессмысленным, насколько доступным, эта самая "любовь" стала казаться невероятной редкостью, если не полной иллюзией. Некоторые представители "новых левых" пришли к заключению, что любовь уничтожена самой природой нашего буржуазного общества, а предлагаемые ими реформы имеют своей целью построение "мира, в котором будет больше возможностей для любви".1
В такой противоречивой ситуации, половая форма любви — предельный общий знаменатель последней редукции до низшей ступени на лестнице, ведущей к спасению души — по вполне понятным причинам стала нашей манией; ибо секс, корни которого уходят в неподвластную переменам биологию человека, всегда представляется надежным средством обретения хотя бы подобия любви. Но и секс стал для западного человека скорее испытанием и бременем, чем путем к спасению. Сходящие с издательского конвейера книги о технике любви и секса, хоть и держатся в течение нескольких недель в списке бестселлеров, сводятся к обычному пустозвонству: похоже на то, что большинство людей смутно понимает, что отчаянное стремление усовершенствовать технику спасения, прямо пропорционально нашему непониманию того, где нам искать это спасение. По иронии природы, человеческим существам всегда свойственно ускорять шаг, если они сбились с пути; и утрачивая понимание смысла любви, мы начинаем с большим усердием заниматься исследованиями, статистикой и техникой секса. Какими бы положительными и отрицательными качествами ни отличались исследования Кинси и Мастерса-Джонсона, они симптоматичны для цивилизации, которая все больше утрачивает понимание смысла любви одного человека к другому. Любовь стала считаться мотивацией, силой, которая толкает нас вверх по лестнице жизни. Но происходящие в наши дни большие перемены указывают на то, что сама эта мотивационная сила поставлена под сомнение. Любовь сама превратилась в проблему.
Поистине, любовь стала настолько внутренне противоречивым явлением, что некоторые исследователи семейной жизни пришли к заключению, что "любовь" — это просто название способа подчинения более сильными членами семьи более слабых. Рональд Лэинг попросту утверждает, что любовь является прикрытием для насилия.
То же самое можно сказать и о воле. Во времена королевы Виктории существовало убеждение, что в жизни есть только одна настоящая проблема — принятие рационального решения относительно того, что следует делать; воля же — это "сила", которая заставляет нас выполнить решение. Сейчас речь идет уже не о том, чтобы решить, что следует делать, а о том, чтобы решить, как принять решение. Стало быть, под сомнение поставлена сама основа воли.
Является ли воля иллюзией? Многие психологи и психотерапевты, начиная с Фрейда, утверждают, что так оно и есть. Термины "сила воли" и "свободная воля", в обязательном порядке присутствовавшие в словарном запасе наших отцов, почти полностью выброшены из современных ученых споров; или же эти слова употребляются просто в насмешку. Люди отправляются к терапевтам в поисках замены утраченной ими воли: они либо хотят узнать, как заставить "бессознательное" управлять их жизнью, либо хотят научиться новейшей технике психологической обработки, чтобы вновь обрести возможность вести себя подобающим образом, либо хотят услышать о новых лекарствах, которые помогут им обрести интерес к жизни. Или же, наконец, они хотят научиться новейшим методам "высвобождения аффекта", не понимая того, что аффект не существует сам по себе, а является побочным продуктом отношения человека к жизненной ситуации. И вот в чем вопрос: чего же человек хочет от этой ситуации? Лесли Фарбер в своей книге о воле утверждает, что главной патологией современности является недееспособность воли и что наше время следовало бы назвать "веком слабоволия".2
Наша эпоха радикальных перемен, загоняет индивида назад, в его сознание. Когда потрясение почти полностью разрушило сами основы любви и воли, мы неизбежно уходим вглубь нашего сознания и ищем в нем, равно как и в "невыразимом коллективном сознании" нашего общества, источники любви и воли. В данном случае "источник" для меня аналогичен бьющему из-под земли ключу, с которого начинается большая река. Если нам удастся найти такие источники любви и воли, мы, вероятно, сможем открыть новые формы, в которых нуждаются эти жизненно важные сферы опыта, чтобы выжить в новую эпоху, в которую вступает человечество. В этом смысле, наши поиски, как и любая такого рода затея, являются нравственными исканиями, потому что мы ищем основу нравственности новой эпохи. Всякий мыслящий человек чувствует, что занимает позицию Стивена Дедала: "Я иду вперед…, чтобы выковать в кузнице своей души еще не существующую совесть моей расы".
Использовав в названии этой главы термин "шизоидный" я имел в виду: неспособность чувствовать; боязнь близости; отчуждение. Под этим термином я пониманию не признак психопатологии, а, скорее, общее состояние нашей цивилизации и склонности творящих ее людей. Энтони Сторр, говоря об индивидуальной психопатологии, утверждает, что шизоидная личность отличается холодностью, надменностью, высокомерием и отстраненностью. Эти качества могут привести к взрыву агрессии. Все это, говорит Сторр, является сложной маской, за которой скрывается подавляемое стремление к любви. Отстраненность шизоида — это защита от враждебности, и источник ее кроется в искажении любви и недоверии ко всему, что выходит за рамки детства, которое заставляет его вечно бояться действительного осуществления любви, "потому что любовь угрожает самому его существованию".3
В этом я согласен со Сторром, но я утверждаю, что шизоидное состояние — это общая тенденция переходного периода, и в том "невнимании и отсутствии помощи", с которыми сталкиваются дети и о которых говорит Сторр, виноваты не только родители, но и почти все аспекты нашей цивилизации. Родители сами являются беспомощными и невежественными детьми своей цивилизации. Шизоидный человек — это естественный продукт человека технологического. Это один единый образ жизни, и он все более активно осваивается, и это может привести ко взрыву насилия. В ее "нормальном" состоянии шизоидность подавлять не требуется. А вот перерастет ли шизоидный характер данного конкретного индивида в шизофреническое состояние, покажет только будущее. Но вероятность этого будет гораздо меньшей (что наблюдалось у многих пациентов), если индивид способен откровенно признать определенную шизоидность своего нынешнего состояния. Шизоидная личность, продолжает Энтони Сторр, "убеждена в своей непривлекательности и воспринимает любую критику, как нападки и оскорбление".4
Мне очень нравится определение Сторра, но в одном месте он допустил серьезный прокол. Говоря о шизоидном характере, он в качестве примеров приводит Фрейда, Декарта, Шопенгауэра, Бетховена. "В случае Декарта и Шопенгауэра сам их отказ от любви дал толчок к возникновению их философий". А вот, что он пишет о Бетховене:
"В качестве компенсации за свое разочарование и возмущение реальными человеческими существами Бетховен придумал идеальный мир любви и дружбы… В его музыке, пожалуй, громче, чем у любого другого композитора, слышится изрядная агрессия в смысле властности, энергии и силы. Есть все основания предполагать, что, не сублимируй Бетховен свою враждебность в музыке, он легко мог бы стать жертвой параноидального психоза".5
Дилемма Сторра заключается в том, что если у этих людей действительно наблюдалась психопатология, то в случае их "исцеления" мы бы лишились их творений. Стало быть, как я полагаю, следует признать, что шизоидное состояние может быть конструктивным способом разрешения глубинных проблем. Но если другие цивилизации подталкивают шизоидную личность к творчеству, то наша цивилизация подталкивает человека к шизоидному — отстраненному и механическому — образу жизни.
Сосредоточиваясь на проблемах любви и воли, я не забываю и о положительных особенностях нашего времени и о сегодняшних возможностях самоосуществления индивида. Вполне очевидно, что когда все вокруг словно с цепи сорвалось, и каждый в известной степени предоставлен самому себе, все больше людей начинают искать себя и обращаются к самопознанию. Правда также и то, что причитания по поводу разгула индивидуализма раздаются громче всего как раз тогда, когда до самой личности никому нет дела. Но я как раз пишу о проблемах; это они настоятельно требуют нашего внимания.
У проблем есть одна любопытная особенность, которая еще не оценена соответствующим образом: они предсказывают будущее. Актуальная проблема представляет собой экзистенциальный кризис, который может получить, но пока еще не получил разрешения; и вне зависимости от того, насколько серьезно мы воспринимаем слово "разрешение" — если бы не появились какие-то новые возможности, то не было бы и кризиса, а было бы только отчаяние. Наши психологические загадки выражают наши бессознательные желания. Проблемы возникают тогда, когда мы обнаруживаем, что наш мир неадекватен нам или мы неадекватны ему; иногда это бывает мучительно, как пишет Йитс:
Мы… чувствуем
Раненья боль,
Удар копья…
Проблема как пророчество
Я пишу эту книгу на основании моего двадцатипятилетнего опыта активной работы на поприще психотерапии, в ходе которой мне приходилось иметь дело с людьми, пытавшимися понять и разрешить раздиравшие их противоречия. Причиной этих противоречий, в особенности в течение последнего десятилетия, как правило, было что-то неладное в каком-то аспекте любви или воли. В определенном смысле, каждый терапевт все время занимается, или должен заниматься, поиском в прямом смысле этого слова — поиском причины.
Здесь я слышу возражения своих коллег по экспериментальной психологии, которые говорят, что полученные нами в ходе терапии данные невозможно сформулировать с математической строгостью и что они исходят от людей, являющихся психологическими "отходами" нашей цивилизации. В то же время я слышу голоса своих друзей-философов, настаивающих, что никакая модель человека не может быть основана на данных, полученных от людей, страдающих неврозами и прочими расстройствами непсихотического характера. Я согласен с обоими этими предостережениями.
Но ни психологи в своих лабораториях, ни философы в своих кабинетах не могут игнорировать тот факт, что мы на самом деле получаем чрезвычайно важные и зачастую уникальные данные от людей, проходящих курс терапии, — данные, которые можно получить от человеческого существа только тогда, когда мы отбрасываем свойственные нам притворство, лицемерие и сдержанность, за которыми все мы укрываемся, вращаясь в обществе как "нормальные люди". Только в критической ситуации эмоциональных и духовных страданий — а именно такая ситуация заставляет людей искать помощи терапевта — они проходят через мучительный процесс открытия корней своих проблем. Любопытно также, что если мы не ориентированы на то, чтобы помочь человеку, то он не захочет, а в определенном смысле и не сможет сообщить нам что-либо важное. Замечание Гарри Ст. Салливана по поводу исследований в области терапии по-прежнему не утратило своей актуальности: "Если целью беседы не является помощь человеку, то вас кормят баснями, а не сообщают реальные данные".6
Да, классифицировать информацию, которую мы получаем от наших пациентов, можно, пожалуй, лишь очень приблизительно. Но поскольку главным источником этой информации являются самые острые внутренние противоречия человеческого существа и его жизненный опыт, то богатство ее содержания с лихвой компенсирует сложности с ее толкованием. Одно дело — обсуждать гипотезу агрессии как результата разочарования и совсем другое — видеть напряженность пациента, его горящие яростью или ненавистью глаза, оцепенелое тело, слышать его глухие стоны, когда он заново переживает произошедшее много лет назад событие — отец выпорол его за то, что у него украли велосипед, хотя в том не было его вины. Воспоминание об этом происшествии возбуждает в нем ненависть, которая в данный момент направлена на всех отцов во всем его мире, в том числе и на меня, сидящего с ним в этой комнате. Такие данные являются эмпирическими в самом глубоком смысле этого слова.
С пониманием относясь к сомнениям моих коллег насчет построения теории на основе данных, полученных от "неудачников", я, в свою очередь, хотел бы задать им вопрос: Разве в любом человеческом конфликте не проявляются как универсальные характеристики человека, так и специфические проблемы данного индивида? Софокл писал не просто о патологии отдельного индивида, когда он, шаг за шагом, провел нас через драму царя Эдипа, мучительную борьбу человека за право узнать, "кто я есть и откуда я пришел". Психотерапевт ищет наиболее специфические характеристики и события в жизни данного индивида — и забывая об этом, любая терапия рискует погрязнуть в пресных, лишенных экзистенциального смысла, туманных обобщениях. Но психотерапевт также ищет те элементы человеческого конфликта данного индивида, которые являются базисом постоянных и неизменных качеств, свойственных жизненному опыту любого человека — и если мы забываем об этом, то терапия начинает непомерно сужать рамки сознания пациента и делает его жизнь более банальной в его глазах.
Психотерапия обнажает как непосредственную ситуацию "болезни" индивида, так и архетипические качества и характеристики, которые и делают человеческое существо человеческим. Именно архетипические характеристики подверглись специфической деформации у данного пациента, что оказало воздействие на его индивидуальные качества, создав ему психологические проблемы. Толкование проблем пациента в психотерапии — это отчасти также и выявление толкования человеком самого себя, с архетипическими формами которого мы сталкиваемся в литературе. Если взять два разных примера, то Орестея Эсхила и Фауст Гете — это не просто портреты двух данных конкретных людей, один из которых жил в Греции в V веке до нашей эры, а другой в Германии XVIII века, это картины борьбы, через которую все мы, вне зависимости оттого, к какой расе мы принадлежим, и в каком веке живем, проходим, когда взрослеем, пытаемся определить себя как индивидуальное человеческое существо, стремимся по мере своих сил упрочить наше бытие, пытаемся любить и творить и прилагаем все усилия к тому, чтобы достойно встретить все события нашей жизни, в том числе и нашу смерть. Одно из преимуществ жизни в переходный период — в "век терапии" — заключается в том, что это настойчиво ставит нас перед лицом возможности, даже когда мы просто пытаемся разрешить наши индивидуальные проблемы, обрести новый смысл в человеке вечном и более глубоко постичь те качества, которые делают человеческое существо человеческим.
Наши пациенты — это те люди, которые выражают подсознательные и бессознательные тенденции нашей цивилизации и живут ими. Невротик, или человек страдающий душевным недугом, отличается тем, что обычно применяемые цивилизацией защитные средства в его случае не действуют — болезненная ситуация, в чем он в той или иной мере отдает себе отчет.7 "Невротик" или "страдающий душевным недугом" человек — это человек, чьи проблемы настолько серьезны, что он не может разрешить их с помощью обычных институтов цивилизации, типа работы, образования, религии. Наш пациент не может — или не хочет — приспособиться к обществу. Это, в свою очередь, может быть вызвано одним или двумя следующими взаимосвязанными моментами. Во-первых, это имевшие место в его жизни определенные травматические или неприятные впечатления, которые сделали его более чувствительным, чем среднестатистический человек, и менее способным справляться со своей тревогой. Во-вторых, такой человек может отличаться большой оригинальностью и большим потенциалом, которые требуют выражения, но будучи заблокированы, делают его больным.
Художник и невротик
Сходство художника и невротика, в котором зачастую усматривается нечто таинственное, вполне понятно, если посмотреть на него с представленной здесь точки зрения. Как художник, так и невротик говорят от имени своего общества, из его подсознательных и бессознательных глубин, живут их жизнью. Но художник занимает позитивную позицию, рассказывая о своих ощущениях своим собратьям. Невротик занимает негативную позицию. Но ощущая те же глубоко скрытые смыслы и те же противоречия своей цивилизации, он не способен выразить свои ощущения в образах, понятных ему самому и его собратьям.
Как искусство, так и невроз, обладают пророческой функцией. Поскольку искусство — это информация, исходящая из бессознательного, то оно являет нам образ человека, который пока живет только в тех членах общества, которые, в силу своего обостренного сознания, идут в авангарде общества — то есть одной ногой уже ступили в будущее. Сэр Герберт Рид заявил, что художник предвосхищает научные и интеллектуальные достижения расы.8 Тростник и ноги ибиса, образующие треугольный узор на древнеегипетских вазах эпохи неолита, были предвестием последующего развития геометрии и математики, с помощью которых египтяне читали по звездам и измеряли Нил. Парфенон, этот образец присущего древним грекам великолепного чувства пропорции, могучие своды романской архитектуры, или средневековые соборы, во всех этих творениях человека Рид прослеживает, как в тот или иной исторический период искусство выражает тенденции, которые пока что скрываются в бессознательном, но со временем будут сформулированы философами, религиозными лидерами, учеными. Искусство предвосхищает будущее социальное и технологическое развитие общества на десятилетия вперед, если речь идет о поверхностных изменениях, и на столетия, если речь идет о событиях, вроде открытия математики, имеющего глубочайший смысл.
Точно так же художник выражает социальный конфликт еще до того, как общество осознает наличие этого конфликта. Художник — эта "антенна расы", как сказал Эзра Паунд — выражает, в жизненных формах, создать которые мог бы только он один, глубины сознания, которые он переживает в опыте своего бытия, когда он творит свой мир по образу своему и пытается покорить его.
Здесь мы сразу же погружаемся в самую гущу вопросов, поднимаемых в этой книге. Ибо мир, представленный в работах современных художников, драматургов и прочих представителей искусства, — это шизоидный мир. В изображаемом ими мире любовь и воля сталкиваются с чудовищными преградами. В этом мире, при всех его высокоразвитых и бомбардирующих нас со всех сторон информацией средствах связи, истинное общение между людьми становится все более трудным и редким. Как заметил Ричард Гилман, самыми выдающимися драматургами нашего времени становятся те, кто избирает темой своих пьес именно разобщенность — кто показывает, как Ионеско, Дженет, Беккет и Пинтер, что уделом современного человека стало существование в мире, в котором практически уничтожено общение между людьми. Мы проживаем наши жизни, выговариваясь магнитофону, как в пьесе Беккета Последняя запись Краппа; мы становимся все более одинокими по мере того, как в наших домах увеличивается количество радиоприемников, телевизоров и телефонных аппаратов. В пьесе Ионеско Лысое сопрано есть сцена, в которой случайно встретившиеся мужчина и женщина ведут вежливую, хотя и несколько манерную, беседу. По ходу беседы они узнают, что оба приехали в Нью-Йорк тем же самым утренним десятичасовым поездом из Нью-Хэвена и, что удивительно, живут в одном и том же доме на Пятой Авеню. Батюшки, да они живут в одной и той же квартире и у каждого из них есть дочь семи лет. Наконец, к своему неописуемому удивлению они обнаруживают, что являются мужем и женой.
То же самое мы наблюдаем и у художников. Сезанн, признанный родоначальник современного направления в живописи, — человек, который вел такую размеренную и благонамеренную жизнь, какую только может вести представитель французского среднего класса, — рисует шизоидный мир пустых пространств, камней, деревьев и лиц. Он обращается к нам из глубин старого мира механики и заставляет жить в новом мире свободно парящих пространств. "Здесь мы свободны от причин и следствий, — пишет Мерло-Понти о мире Сезанна, — …причины и следствия смешались в вечном Сезанне, который одновременно является и формулой того, чем он хочет быть, и формулой того, что он хочет делать. Между шизоидным темпераментом Сезанна и его работой существует гармония, потому что в его работе проявляется метафизическое ощущение болезни… В этом смысле быть шизоидом и быть Сезанном — это одно и то же".9 Только шизоидный человек может нарисовать шизоидный мир; то есть только человек, достаточно чувствительный для того, чтобы проникнуть в глубинные психические конфликты, может представить наш мир, таким, каков он есть в его более глубоких формах.
Но в самом отображении нашего мира в искусстве таится также и наша защита от обесчеловечивающего воздействия на нас техники. Шизоидный характер заключается и в столкновении с обезличивающим человека миром, и в отказе принять это обезличивание как должное. Ибо художник находит более глубокие планы сознания, где мы можем приобщиться непосредственно к опыту другого человека, к самой природе его, минуя обманчивую внешнюю очевидность. Ярким примером является Ван Гог, психоз которого, не в последнюю очередь, был связан с его отчаянным стремлением рисовать свои ощущения. Или же Пикассо, с его, казалось бы взрывной страстью, чье проникновение в шизоидный характер нашего современного мира прослеживается в разорванных на части быках и крестьянах Герники или в портретах со смещенными глазами и ушами — картинах, у которых не было названий, а лишь номера. Нет ничего удивительного в замечании Роберта Мазервелла, что наш век — это первый век, когда художники так же разобщены, как и все остальные; каждый из них должен полагаться только на себя.
Художник представляет расколотый образ человека, но в самом акте превращения его в произведение искусства поднимается над ним. Этот его творческий акт придает смысл нигилизму, отчуждению и всем остальным составляющим состояния современного человека. Снова приведу цитату из Мерло-Понти, в которой идет речь о шизоидном темпераменте Сезанна: "Итак, болезнь перестает быть абсурдным фактом и роком и становится общей возможностью человеческого существования".10
Невротик и художник — поскольку оба они выражают бессознательное расы — указывают нам на болезнь, которая по прошествии определенного времени поразит ту или иную часть общества. Невротик испытывает то же самое смятение, возникающее из его ощущения нигилизма, отчуждения и так далее, но он не способен придать ему смысл; он оказывается между двух огней — между неспособностью превратить свое смятение в произведение искусства и неспособностью пресечь это смятение. Как заметил Отто Ранк, невротик — это "artiste manque",* художник, который не может трансформировать раздирающие его противоречия в искусство.
* Несостоявшийся художник (фр.).
Если мы примем это как реальность, то тем самым не только обретем свободу творчества, но и заложим основы нашей человеческой свободы. Точно так же, если мы с самого начала признаем шизоидное состояние нашего мира, это может помочь нам найти любовь и волю в нашем веке.
Невротик как пророк
Наши пациенты предвещают развитие цивилизации, осознанно переживая то, что общая масса людей до поры до времени держит в своем бессознательном. Судьба предназначила невротику роль Кассандры. Тщетно оплакивает Кассандра свою судьбу "ласточки-вещуньи", сидя на ступенях дворца в Микенах, куда привез ее Агамемнон из Трои.11 Она знает, что родилась под несчастливой звездой, что ее удел — "струящаяся печальной песней боль".12 и что она обречена предсказывать беды и несчастья. Жители Микен считают ее безумной, но верят, что она говорит правду и что она обладает особой способностью предвидеть события. В наше время человек, раздираемый психологическими страстями, несет в себе бремя сотрясающих его эпоху конфликтов и обречен самими своими действиями предсказывать явления, которые впоследствии захлестнут все общество.
Первым и наиболее убедительным доказательством этого тезиса являются половые проблемы, которые Фрейд обнаружил задолго до Первой мировой войны у своих пациентов, большая часть жизни которых пришлась на эпоху королевы Виктории. В те времена в приличном обществе не допускалось не только никаких разговоров на тему секса, но и малейшего намека на них.13 Но со временем, уже после Второй мировой войны в отдельных странах эти проблемы вырвались на поверхность в очень острой форме. Еще в двадцатых годах все словно помешались на сексе и его функциях. Даже человек с самым развитым воображением не может сказать, что "причиной" этого был Фрейд. Просто он, опираясь на полученную от пациентов информацию, изучил и истолковал глубинные социальные конфликты, которые "нормальные" члены общества могли до поры до времени подавлять и действительно подавляли. Невротические проблемы — это язык, на котором бессознательное обращается к сознанию общества.
Вторым, правда, не столь ярким примером, является рост агрессивности, отмеченный у пациентов в начале тридцатых годов. Среди прочих на это обратила внимание еще Хорни, а как сознательный феномен это проявилось в нашем обществе десять лет спустя.
Третьим значительным примером можно считать проблему тревоги. В конце тридцатых — начале сороковых годов некоторые терапевты, в том числе и я, были поражены тем фактом, что у многих из наших пациентов состояние тревоги проявлялось не просто как симптом патологии или подавленности, но как общее свойство характера. Я, Хобарт Моуэр и другие исследователи начали изучать состояние тревоги в самом начале сороковых годов. В те годы в нашей стране это состояние считалось не более чем симптомом патологии.14 Я помню, как в конце сороковых годов в своих докладах я отстаивал концепцию нормальной тревоги, и как мои профессора выслушивали меня в уважительном молчании, но при этом сильно хмурились.
Поэт Оден, как и всякий поэт, способный к пророчествам, в 1947 г. опубликовал свою поэму Век тревоги и Бернстайн сразу же написал симфонию на эту тему. В том же 1947 г. Камю писал о "веке страха", а Кафка уже рисовал в своих романах яркие картины грядущего тревожного века.15 Формулировки научного истеблишмента, как и положено, не поспевали за тем, что нам пытались сказать наши пациенты. Так, в 1949 г. на ежегодном семинаре Американской ассоциации психопатологов по теме "тревога", концепции "нормальной тревоги", изложенной в моем докладе, было по-прежнему отказано в праве на существование стараниями большинства присутствовавших там психиатров и психологов.
Но уже в пятидесятые годы радикальный сдвиг в умах массы людей стал очевиден; теперь все заговорили об этом и конференции по этой теме стали проводить повсеместно. Концепция "нормальной" тревоги постепенно прижилась в психиатрической литературе. Все люди, как нормальные, так и невротики, осознали, что живут в "тревожное время". То, что в конце тридцатых — начале сороковых годов проявилось в произведениях искусства и в настроениях наших пациентов, теперь вырвалось наружу в разных странах.
Наш четвертый пример относится уже к современности — это проблема идентичности. На первых порах, в конце сороковых — начале пятидесятых годов, эта проблема заботила лишь терапевтов с их пациентами. Она была описана, на основе полученных в ходе психологических исследований данных, в книге Эриксона Childhood and Society (1950), в моей книге Man's Search for Himself (1953), книге Аллена Вилиса The Quest for Identity (1958) и в книгах других толкователей психотерапии и психоанализа. В конце пятидесятых — начале шестидесятых годов проблема идентификации была на устах у каждого думающего человека; она стала постоянной темой карикатур в Нью-Йоркере; десятки книг, написанных на эту тему, стали бестселлерами в своей области. Культурные ценности, благодаря которым люди в прежние времена обретали свое чувство самобытности, были отброшены.16 Наши пациенты знали об этом еще до того, как об этом узнало общество, и у них не было никакой защиты от опасных и болезненных последствий этого явления.
Разумеется, острота подобных проблем отчасти зависит от веяний моды. Но полностью списать на моду историческую динамику возникновения психологических проблем и социальных изменений было бы верхом несправедливости. Ван ден Берг в своей, безусловно, спорной и рассчитанной на скандал книге вообще утверждает, что все психологические проблемы являются продуктом социоисторических перемен в обществе. Он полагает, что не существует никакой "человеческой природы", а есть только изменчивая натура человека, зависящая от изменений в обществе, и мы должны называть проблемы наших пациентов не "неврозом", а "социозом".17 Не обязательно соглашаться с Ван ден Бергом: я, например, полагаю, что психологические проблемы являются порождением диалектического взаимодействия трех факторов: биологического, индивидуального и историко-социального. Как бы то ни было, Берг без обиняков заявил о том, каким страшным и разрушительным упрощением является убеждение, что психологические проблемы возникают, "как гром среди ясного неба", просто потому, что общество осознало их существование, или же потому, что мы придумали им названия. Мы действительно придумываем новые слова, поскольку нечто очень важное происходит на бессознательном, невыразимом словами уровне, и это нечто жаждет выражения; наша задача и состоит в том, чтобы приложить все усилия к пониманию и выражению этих поворотов в ходе нашего развития.
Пациентами Фрейда были, в основном истерики, которые, по сути, несли в себе подавляемую энергию, которая могла быть высвобождена с обращением терапевта к бессознательному. Однако сегодня, когда практически все наши пациенты оказываются компульсивно-обсессивными невротиками (или имеют личностные расстройства, представляющие собой более общую и менее острую форму того же недуга), мы обнаруживаем, что главным препятствием для терапевта является неспособность пациента чувствовать. Наши пациенты — это люди, которые могут до второго пришествия разговаривать о своих проблемах и, как правило, являются людьми умственного труда; но они неспособны на подлинные чувства. Вильгельм Райх назвал таких людей "живыми машинами", а Дэвид Шапиро ссылается на это в своей книге, говоря об "умеренном и ровном образе жизни и образе мышления" людей такого плана. В понимани проблем пациентов XX века Райх явно опередил свое время.18
Возникновение апатии
Выше я процитировал утверждение Лесли Фарбера, что наш исторический период следует называть "эпохой слабоволия". Но что тому причиной?
Я попытаюсь ответить на этот вопрос. Я полагаю, что в основе слабоволия лежит притупление чувств, приводящая в отчаяние догадка, что, возможно, ничто в этом мире не имеет значения, состояние очень близкое к апатии. Памела X. Джонсон, написав статью об убийствах на болотах Англии, обнаружила, что не может отделаться от чувства, что "мы, возможно, приближаемся к состоянию, которое психологи называют полным равнодушием".19 Если доминирующим настроением наших дней является апатия или полное равнодушие, то мы можем понять на более глубоком уровне, почему же любовь и воля столь трудно даются сегодня.
Явления, которые мы, к своему замешательству, обнаружили у наших пациентов в пятидесятые годы, были предвестием того, что по прошествии нескольких лет стало серьезной проблемой всего общества. Я хотел бы привести несколько цитат из своей книги Человек в поисках себя, написанной в 1952 г. и опубликованной годом позже:
"Это может показаться странным, но я хочу сказать, на основании своей клинической практики, а также практики моих коллег по психологии и психиатрии, что главной проблемой людей, живущих в середине двадцатого века, является пустота".20
"Хотя сегодня может показаться смешной бессмысленная скука, которую испытывали люди десять или двадцать лет тому назад, но в наши дни для многих людей пустота из скуки превратилась в бессилие и отчаяние, что само по себе очень опасно".21
"…Человеческое существо не может в течение долгого времени жить в состоянии пустоты; если человек не движется в определенном направлении, то это не значит, что он просто пребывает в состоянии стагнации; накапливаясь, неосуществленные возможности выливаются в патологию, отчаяние и, в конце концов, в разрушительные действия".22
"Ощущение пустоты или вакуума… как правило, порождается чувством, что ты бессилен что-либо изменить в своей жизни или в окружающем мире. Внутренний вакуум — это конечный результат постепенно растущего убеждения человека в том, что он, как личность, не может руководить своей жизнью… не может изменить отношение к нему других людей или хоть как-то повлиять на окружающий мир. В итоге он погружается в глубокое отчаяние, характерное для столь многих наших современников. И коль скоро его желания и чувства не имеют никакого значения, то он отказывается от желании и чувств".23
"…Кроме того, апатия или равнодушие являются защитными средствами от чувства тревоги. Когда человек постоянно глядит в лицо опасности, справиться с которой ему не под силу, то его последней линией обороны становится стремление, по крайней мере, перестать испытывать само ощущение опасности".24
Эта проблема вырвалась наружу только в середине шестидесятых годов в нескольких происшествиях из разряда несчастных случаев, которые потрясли сами основы нашего общества. Наша "пустота" переросла в отчаяние и жажду разрушения, в насилие и жажду убийства; сейчас уже никто не станет отрицать, что эти явления идут рука об руку с апатией. Газета Нью-Йорк Таймс сообщала в марте 1964 г.: "В течение более чем получаса 38 респектабельных, законопослушных жителей района Куинс наблюдали, как убийца, нападая на женщину в Ки Гарденс, трижды нанес ей удары ножом".25 В апреле того же года, Таймс в проникнутой возмущением передовице рассказала о другом инциденте, когда толпа подстрекала стоявшего на карнизе отеля психически неуравновешенного юношу прыгнуть вниз, называя его "трусом" и "слабаком". "Чем же отличаются эти люди от римлян, с горящими глазами бесновавшихся при виде того, как люди и звери рвут друг друга на части на арене Колизея?… Не говорит ли это поведение толпы в Олбани об образе жизни множества американцев?… Если это так, то колокол звонит по каждому из нас".26 В мае того же года, одна из статей в Таймс начиналась словами: "Крики жертвы изнасилования привлекли внимание сорока человек, но никто ничего не сделал".27 Происшедшие в последующие несколько месяцев многочисленные события такого же рода вывели нас из состояния апатии на достаточно длительный период времени, чтобы мы поняли, насколько мы стали апатичными, насколько современная городская жизнь развила в нас привычку к невмешательству и равнодушию.
Я понимаю, что значение отдельных событий легко преувеличить, и у меня нет желания слишком сильно настаивать на своей правоте. Тем не менее, я действительно убежден, что в нашем обществе наблюдается явное движение к состоянию полного равнодушия как жизненной установке, или свойству характера. Полное моральное разложение, о котором интеллектуалы рассуждали несколько десятилетий тому назад, теперь становится ужасной реальностью улиц наших городов и подъездов наших домов.
Как же нам назвать это состояние, о котором говорит столько наших современников — отчуждение, невозмутимость, отстраненность, полное равнодушие, безразличие, моральное разложение, обезличивание? Каждый из этих терминов обозначает часть того состояния, о котором я говорю, — состояния, при котором мужчины и женщины дистанцируются друг от друга и от объектов, которые когда-то вызывали у них сильные эмоции и желание действовать.28 Вопрос об источнике этого явления я хочу на время оставить открытым. Я использую термин "апатия", несмотря на его изначальную узость, потому что в своем буквальном значении он больше всего соответствует описываемому мною состоянию: "отсутствие чувств, страстей, эмоций или волнения, безразличие". Апатия и шизоидный мир идут рука об руку, как причина и следствие друг друга
Апатия имеет особо важное значение, поскольку она тесно связана с любовью и волей. Прямой противоположностью любви является совсем не ненависть, а апатия. Прямой противоположностью воли является совсем не нерешительность — которая, собственно, может представлять собой усилие, вступившее в борьбу за решение, согласно Уильяму Джемсу, — а отстраненность, безучастность, нежелание принять участие в важных событиях. В этом случае вопрос о воле вообще никогда не будет стоять на повестке дня. Взаимосвязь любви и воли зиждется на том факте, что оба эти термина обозначают выход человека во внешний мир, его стремление к новым горизонтам, желание оказать воздействие на другого человека и на неодушевленный мир, и, вместе с тем, его готовность самому стать объектом воздействия; человек приспосабливается к миру или требует, чтобы мир приспособился к нему. Вот почему столь большие трудности с любовью и волей возникают именно в "эпоху перемен", когда стерты все привычные ориентиры. Блокирование каналов, по которым мы оказываем воздействие на других людей и по которым они оказывают воздействие на нас, представляет собой страшный разлад, приводящий в смятение и любовь и волю. Апатия — это уход чувств; она может начинаться со стремления к невозмутимости, с отработанной привычки к беззаботности и отстраненности. "Я не хотел оказаться в это замешанным" — так ответили все тридцать восемь жителей Ки Гарденс, когда их спросили, почему они ничего не предприняли. Апатия, действующая подобно фрейдовскому "инстинкту смерти", — это постепенный отказ от участия в чем-либо, пока человек не обнаруживает однажды, что жизнь полностью прошла мимо него.
Глядя на общество свежим взглядом, какой-нибудь студент, зачастую, понимает его лучше, чем представитель старшего поколения — хотя дети склонны воспринимать все весьма упрощенно и винить во всем институты общества. "Мы совершенно не чувствуем, чтобы здесь шла какая-то интересная в интеллектуальном плане жизнь", — сказал редактор колумбийского Спектейтора.29 Студент — обозреватель газеты Мичиган Дэйли — писал: "К своему позору, это учреждение не сумело привить учащимся даже начального интереса к работе ума". Он говорил о сползании "к чему-то похуже посредственности — то есть к абсолютному безразличию. Возможно, даже безразличию к самой жизни".30 "Мы все стали отдельными отверстиями на перфокарте Ай-Би-Эм", — заметил один студент из Беркли. "В 1964 г. мы решили сами проделать кое в чем отверстия и устроили беспорядки, но настоящая революция здесь произойдет только тогда, когда мы решимся сжечь не только призывные повестки, но и компьютерные перфокарты".31
Между апатией и насилием существует диалектическая связь. Апатичный образ жизни провоцирует насилие; а в тех случаях, о которых шла речь выше, насилие способствует распространению апатии. Насилие — это абсолютно разрушительный суррогат, который моментально заполняет созданный равнодушием вакуум.32 Существуют разные степени насилия, от относительно нормального шокового эффекта, который вызывают у нас многие формы современного искусства, порнография и непристойности, — достигающие своей цели посредством насилия над нашим образом жизни, — до крайней патологии в форме политических убийств и убийств на болотах. Когда внутренняя жизнь превращается в пустыню, когда слабеют чувства и набирает силу апатия, когда человек не может воздействовать на другого человека или по-настоящему задеть его за живое, тогда вспыхивает насилие, — как демоническая потребность в контакте, бешеная сила, рвущаяся к этому контакту самым прямым путем из всех возможных.33 Это один из аспектов хорошо известной связи между сексуальными чувствами и насильственными преступлениями. Причинение боли и страданий другому человеку доказывает по крайней мере то, что на него все-таки можно оказать воздействие В разобщенном обществе, где правят средства массовой информации, средний гражданин знает в лицо десятки телеведущих, которые каждый вечер улыбаясь входят в его дом — сам же он так и остается неузнанным. В этом состоянии отчуждения и анонимности, болезненном для любого человека, у среднего гражданина вполне могут возникать фантазии, балансирующие на краю самой настоящей патологии "Анонимный" человек мыслит следующим образом: "Если я не могу вызвать в ком-нибудь чувство, или кого-то задеть за живое, то я, по крайней мере, могу заставить вас испытать какие-то сильные ощущения, причинив вам боль, я, по крайней мере, удостоверюсь, что мы оба что-то чувствуем, и я заставлю вас заметить мое присутствие!" Многие дети и подростки заставляют группу заметить свое существование посредством деструктивного поведения, и хотя такого человека осуждают, общество, по крайней мере, обращает на него внимание. Ощущение, что тебя активно ненавидят, доставляет почти такое же удовольствие, как и ощущение, что тебя активно любят; оно ликвидирует совершенно невыносимую ситуацию анонимности и одиночества.
Но приняв к сведению пагубные последствия апатии, мы должны теперь обратиться к факту ее необходимости, а также к тому, как, в своей "нормально-шизоидной" форме, она может быть превращена в конструктивную функцию. Трагический парадокс заключается в том, что в наше время мы вынуждены использовать апатию, как средство защиты.
Гарри Ст. Салливан замечает: "Апатия — любопытное состояние; это способ пережить поражение, не понеся материального ущерба, хотя если она длится слишком долго, то вред причиняет уже само это состояние. Мне апатия представляется чудесным средством защиты, с помощью которого потерпевшая сокрушительное поражение личность обретает покой и пребывает в нем до тех пор, пока не сможет заняться чем-нибудь еще".34 Чем дольше не представляется такая возможность, тем дольше держится апатия; и рано или поздно она становится состоянием души. Эта бесчувственность выражается в боязни порывов неустранимых потребностей, ледяном спокойствии по отношению к суперстимулам, нежелании броситься в бурный поток жизни из боязни не справиться с ним. У любого, кто хоть раз побывал в метро в час пик, с его какофонией шумов и безликими толпами человеческих существ, вышесказанное не может вызвать никакого удивления.
Нетрудно себе представить, каким образом живущие в шизоидном мире люди должны защищаться от ужасного сверхстимулирования — от хлещущего из радио- и телеприемников потока слов и шумов, от конвейерных потребностей коллективизированной промышленности и гигантских, напоминающих фабрики, университетов с неимоверным количеством факультетов, курсов и т. п. В мире, в котором числа неумолимо превращаются в наше средство идентификации, грозя, подобно лаве, удушить и испепелить все живое на своем пути; в мире, в котором слово "нормальность" обозначает умение не волноваться; в мире, в котором секс стал настолько доступен, что сохранить хоть какой-то внутренний центр можно только одним способом — научиться бесстрастно совершать половой акт — в этом шизоидном мире, который молодые люди ощущают более непосредственно, поскольку у них не было времени возвести линию обороны, притупившую чувства старшего поколения, нет ничего удивительного в том факте, что проявления любви и воли становятся все более проблематичными и даже, как полагают некоторые люди, вообще невозможными.
Однако какую пользу можно извлечь из этой шизоидной ситуации? Мы уже знаем, как Сезанн мог превращать свой шизоидный раскол личности в способ выражения наиболее важных форм современной жизни и тем самым смог устоять перед отупляющими тенденциями общества, благодаря своему искусству. Мы уже поняли, что эта шизоидная позиция является необходимостью; теперь мы попытаемся понять, каким образом можно использовать к своей выгоде ее здоровые аспекты. Конструктивная шизоидная личность сопротивляется духовной пустоте надвигающейся технологии и не позволяет ей опустошить себя. Она живет и работает с машинами, сама машиной не становясь. Она считает необходимым оставаться достаточно отстраненной, чтобы отделить смысл от ощущения, но при этом избежать обнищания своей внутренней жизни.
Доктор Бруно Беттельгейм обнаружил нечто подобное, поняв преимущества сноба (которого я назвал бы шизоидом) во время своего пребывания в концентрационном лагере в годы Второй мировой войны.
"Психоаналитики были убеждены, что… снобизм человека по отношению к другим людям и его эмоциональная отстраненность от мира являются слабостями характера. Из моего рассказа… о достойном восхищения поведении в концентрационных лагерях группы людей, которых я называю "миропомазанными", можно заключить, насколько я был потрясен этими надменными людьми. Они практически полностью разорвали связь со своим бессознательным, но, тем не менее, сохранили прежнюю структуру своей личности, не расставались со своими принципами перед лицом самых страшных испытаний; пребывание в концентрационном лагере не наложило почти никакого отпечатка на их личность… Те самые люди, которые, по теории психоанализа, должны были оказаться слабыми личностями, готовыми рассыпаться от первого же удара, обернулись героями и лидерами, и в основном благодаря силе своего характера.35
И в самом деле, исследования показали, что к жизни в космическом корабле и неизбежному при такой жизни недостатку "чувственности" (что грозит человечеству в XXI веке) лучше всего приспосабливаются те, кто способен отрешиться и уйти в себя. Делая выводы из собранных в ходе этих исследований данных, Артур Дж. Бродбек пишет: "Есть основания полагать, что условиям длительных космических путешествий лучше всего будет соответствовать именно шизоидная личность".36 Такая личность сохраняет тот внутренний мир, который наш перенасыщенный стимулами век обычно разрушает. Эти интроверты могут существовать вопреки всемогущему стимулу или его отсутствию, потому что они сумели развить в себе конструктивное "шизоидное" отношение к жизни. Поскольку мы вынуждены жить в том мире, какой имеем, то правильное определение конструктивного шизоидного отношения к жизни является частью нашей проблемы.
Апатия есть устранение воли и любви, заявление, что они "ничего не значат", нежелание брать на себя обязательства. Она необходима во времена смятения и стресса; а имеющееся на сегодняшний день огромное количество стимулов является формой стресса. Но апатия, в противоположность "нормальной" шизоидной установке, ведет к пустоте и снижает способность человека к самозащите, к выживанию. Каким бы оправданным ни было то состояние, которое мы называем апатией, нам обязательно нужно искать новую основу для его первых жертв — любви и воли.
Часть Первая:
ЛЮБОВЬ
II. ПАРАДОКСЫ ЛЮБВИ И СЕКСА
"Половое сношение — это человеческий двойник космического процесса".
Древнекитайское изречение
Один пациент рассказал мне следующее сновидение: "Я нахожусь в постели со своей женой, а между нами лежит мой бухгалтер. Он собирается совершить с ней половой акт. Происходящее вызывает у меня смешанные чувства — только почему-то все это кажется мне вполне уместным".
Из наблюдений доктора Джона Шимеля
На Западе традиционно говорят от четырех типах любви. Первый — это секс, или то, что мы называем вожделением, либидо. Вторым является эрос, любовь, как стремление к воспроизводству или творчеству — высшим, по мнению древних греков, формам бытия и отношений между людьми. Третий тип — это филия, или дружба, братская любовь. Четвертым типом является агапэ (или каритас, о которой говорили древние латиняне) — забота о благе другого человека, прототипом которой является Божья любовь к человеку. Любое человеческое чувство подлинной любви является смесью (в различных пропорциях) все четырех типов любви.
Мы начали с секса не только потому, что в нашем обществе все с него начинают, но также и потому, что именно с него начинается биологическое существование каждого человека. Каждый из нас обязан своим существованием тому факту, что в какой-то момент истории мужчина и женщина перепрыгнули ров как писал Томас Элиот, "между желанием и конвульсией". Как бы наше общество не преуспело в опошлении секса, он по-прежнему несет в себе энергию воспроизводства, сохраняющее расу стремление, будучи источником величайшего удовольствия, какое только может испытать человеческое существо, и вместе с тем — самого распространенного беспокойства. Его демонические формы могут загнать индивида в трясину отчаяния, но если секс соединяется с эросом, он может поднять человека из пропасти отчаяния на вершину экстаза.
Древние воспринимали секс, как нечто само собой разумеющееся, точно так же, как они воспринимали смерть. Только наш век сумел сделать секс чуть ли не самой главной нашей заботой, взвалив на него бремя всех остальных форм любви. Хотя Фрейд в значительной степени преувеличивал значение сексуальных феноменов как таковых, — здесь он был всего лишь глашатаем борьбы тезиса и антитезиса современной истории — половое влечение, тем не менее, является основой стремления расы к продлению своего существования и, разумеется, имеет то значение, о котором говорил Фрейд, но не настолько большое. Какой бы банальностью ни обернулся секс в наших книгах и пьесах, как бы мы ни защищались от его силы с помощью цинизма и хладнокровия, половое влечение готово в любой момент захватить нас врасплох и доказать, что оно по-прежнему остается mysterium tremendum.*
* Ужасная тайна (лат.).
Но стоит нам только взглянуть на отношения между сексом и любовью в наше время, как мы немедленно оказываемся в водовороте противоречий. А потому давайте определим наши ориентиры, начав с короткого феноменологического очерка странных парадоксов, которые окружают секс в нашем обществе.
Страсти вокруг секса
Во времена королевы Виктории, когда отрицание половых импульсов, чувств и желаний считалось хорошим тоном и в приличном обществе никто и не упоминал о сексе, всю эту тему окружала атмосфера священного отвращения. Мужчины и женщины общались друг с другом так, словно ни у тех, ни у других половых органов просто нет. Уильям Джемс, который вне всякого сомнения был первопроходцем, человеком, во многом опередившим свое время, относился к сексу с вежливой брезгливостью, столь характерной для начала века. В его двухтомном эпохальном труде Принципы психологии сексу посвящена только одна страница, в конце которой он добавляет: "Обсуждать эти подробности несколько неприятно…".1 Но верность прозвучавшего за столетие до викторианской эпохи предупреждения Уильяма Блейка, который заявил, что "тот, кто хочет, но не действует, подобен тому, кто носит в себе бациллы чумы", была впоследствии неоднократно доказана психотерапевтами. Фрейд — викторианец, решившийся заинтересоваться сексом, — был прав в своем описании целого клубка невротических симптомов, которые являлись результатом отсечения такой жизненно важной части человеческого тела и сознания.
Затем, в двадцатые годы, буквально в одночасье все совершенно изменилось. Знаменем либеральных кругов стало убеждение, что противоположная подавлению позиция — а именно: половое воспитание, свобода слова в области секса и открытое выражение своих половых эмоций — должна оказать благотворное воздействие и является единственно возможной для просвещенного человека. За удивительно короткий срок после окончания Первой мировой войны мы перестали вести себя так, словно секса вообще нет, и принялись только о нем и говорить. Мы стали уделять сексу больше внимания, чем любое другое общество со времен Древнего Рима, а некоторые ученые даже полагают, что мы озабочены сексом больше, чем все существовавшие в истории цивилизации. Если бы сегодня на Таймс-Сквер приземлился пришелец с Марса, то кроме как о сексе нам не о чем было бы с ним поговорить.
И мания эта не является чисто американской. По другую сторону океана, например в Англии, "в бой ринулись все — от приходских священников до биологов". В толковой передовице лондонской газеты The Times Literary Supplement говорится о "настоящем извержении "пост-Кинсианского" утилитаризма и "пост-Чаттерлеевской" морали. Откройте любую газету, в любой день (особенно в воскресенье), и вы почти наверняка найдете там откровения какого-нибудь умника о его взглядах на противозачаточные средства, аборты, супружеские измены, непристойные публикации, добровольные гомосексуальные связи между взрослыми людьми или (за неимением мнения по вышеуказанным вопросам) о нравственных установках современной молодежи".2
Отчасти в результате этой радикальной перемены многие современные терапевты редко имеют дело с пациентами, у которых, как у истерических пациентов Фрейда начала века, присутствуют симптомы подавления секса. Собственно, люди, которые обращаются к нам за помощью, являются полной противоположностью пациентам Фрейда: очень много говорят о сексе, отличаются большой половой активностью и не испытывают практически никаких нравственных сомнений на счет того, что заниматься любовью нужно когда угодно и с каким угодно количеством партнеров. На что жалуются наши пациенты, так это на отсутствие чувств и страстей. "Любопытным аспектом фермента этих жарких споров является то, что эмансипация, похоже, никому не доставляет никакого удовольствия".3 Так много секса — и так мало смысла и даже просто радости в нем!
Если люди викторианской эпохи не хотели, чтобы кто-нибудь знал о том, что секс их волнует, то мы такой скромности стыдимся. Если бы вы в начале века назвали какую-нибудь даму "сексуальной", то она восприняла бы это, как оскорбление; теперь она считает это комплиментом и в награду обращает на вас благосклонное внимание. Проблемами наших пациентов часто являются фригидность и импотенция, но мы с удивлением и грустью замечаем как отчаянно они пытаются скрыть от всех отсутствие у них половых ощущений. Воспитанный мужчина или воспитанная женщина викторианской эпохи чувствовали себя виновато, если получали удовольствие от секса; мы же чувствуем себя виновато, если удовольствия не получаем.
Итак, один из парадоксов заключается в том, что просвещение не решило половых проблем нашей цивилизации. Разумеется, просвещение принесло свои положительные плоды, в основном, в плане упрочения свободы индивида. Большинство внешних проблем решено: "знания" о сексе можно приобрести в любом книжном магазине, противозачаточные средства продаются повсюду, за исключением Бостона, где по-прежнему верят в то, что секс, как сказала в свою брачную ночь одна английская графиня, "слишком хорош для простолюдина". Пары могут без стеснения и ощущения вины обсуждать свои половые отношения и пытаться прийти ко взаимному удовлетворению в сексе и придать ему больший смысл. Чувство вины перед окружающими и обществом ослабло, и глупец тот, кто этому не порадуется.
Но внутреннее ощущение вины и беспокойства только усилилось. И в определенном смысле с ним труднее справиться, оно острее и тягостнее для индивида, чем ощущение вины перед внешним миром.
Вызов, который мужчина бросал женщине, звучал когда-то просто и незатейливо — ляжет она с ним в постель или не ляжет? Вопрос заключался в том, как женщина справляется с нравственными устоями своего времени. Но теперь мужчины думают уже не о том, "захочет она или нет?", а о том, "сможет ли она?" Теперь испытанию подвергается личная адекватность женщины, а именно ее способность испытать хваленый оргазм — что может обернуться ударом, grand mal.* Хотя мы можем признать, что второй вопрос ставит проблему принятия сексуальных решений на более подходящее место, не стоит упускать из виду тот факт, что в первом случае проблема решалась гораздо проще. В моей практике был случай, когда одна женщина боялась лечь с мужчиной в постель из страха, что "он посчитает, что я плохо занимаюсь любовью". Другая женщина боялась, потому что "я даже не знаю, как это делается", полагая, что ее возлюбленный затаит на нее обиду. Еще одна женщина до смерти боялась выходить второй раз замуж из опасения, что не сможет испытывать оргазм, как она не могла его испытывать с первым своим мужем. Зачастую женщины формулируют свои колебания следующим образом: "Ему не очень понравится и он больше не придет".
* Большая беда (фр).
В былые времена вы могли осуждать суровые нравы общества и сохранять самоуважение, говоря себе, что ваши действия или их отсутствие — это вина общества, а не ваша. И это давало вам время на принятие решения о том, что вы хотите делать, или на постепенное привыкание к необходимости принятия такого решения. Но когда дело заключается только в качестве ваших действий, то испытанию подвергается непосредственно ваше чувство собственной адекватности и самоуважения, все бремя контакта перемещается вовнутрь, и речь идет уже только о том, как вы справитесь с этим испытанием.
Любопытный факт: учащиеся колледжей борются с администрацией за право девушек посещать мужское общежитие в любое время суток, совершенно не подозревая, что ограничения зачастую являются благодеянием. Они дают студенту возможность найти себя. Студент имеет запас времени, чтобы обдумать свое поведение и не принимать никаких решений прежде, чем будет готов к этому, он имеет возможность испытать себя, проявить осторожность в отношениях, что является частью любого процесса взросления. Лучше иметь возможность открыто и спокойно не вступать ни в какие половые отношения, чем вступать в них под давлением — насилуя свои чувства физической связью без связи психологической. Юноша может пренебречь правилами, но, по крайней мере, ему есть чем пренебрегать. Смысл сказанного мною не меняется от того, подчиняется юноша правилам или нет. Многие современные студенты, у которых их новая половая свобода по вполне понятным причинам вызывает тревогу, подавляют это беспокойство ("человек должен любить свободу"), а затем компенсируют вызванное этим подавлением дополнительное беспокойство нападками на администрацию, обвиняя ее в том, что она не дает им еще больше свободы!
Произведя недальновидную либерализацию половой сферы, мы не заметили, что предоставленная индивиду ничем не ограниченная свобода выбора сама по себе свободой не является, зато способствует обострению внутренних противоречий. Сексуальной свободе, которой все мы поклоняемся, явно не хватает человечности.
В искусстве мы тоже постепенно приходим к пониманию иллюзорности веры в то, что для решения проблемы достаточно одной только свободы. Возьмем, к примеру, драматургию. В статье под названием Сексу капут? Говард Таубманн, бывший театральный критик Нью-Йорк Таймс, подытожил то, что кочевало из пьесы в пьесу: "Занятия сексом напоминают поход по магазинам "от нечего делать": желание не имеет с этим ничего общего, даже особого любопытства тоже не наблюдается".4 Или обратимся к художественной литературе. Леон Идель пишет: "В битве против викторианцев поле боя осталось за экстремистами. В результате наш роман скорее обеднел, чем обогатился".5 Своим зорким оком Идель увидел главное — при исключительно реалистичном "просвещении" произошла "дегуманизация" секса в художественной литературе. "Половые отношения у Золя, — настаивает он, — отличаются большей правдивостью и человечностью, чем любой половой акт, описанный Лоуренсом".6
Выигранная битва против цензуры за свободу выражения действительно была великой победой, но не превратились ли ее достижения в новую смирительную рубашку? Писатели, как романисты, так и драматурги, "скорее заложат свои печатные машинки, чем отдадут издателю рукопись без обязательной сцены откровенно-анатомического описания полового поведения своих персонажей…".7 Наше "догматическое просвещение" обернулось поражением: оно привело к уничтожению той самой половой страсти, которую было призвано защитить. Безоглядно увлекшись реалистическими изображениями на сцене, в художественной литературе и даже в психотерапии, мы забыли, что пищей эроса является воображение, и реализм как не сексуален, так и не эротичен. И в самом деле, нет ничего менее сексуального, чем полная нагота, в чем можно убедиться, проведя час-другой на нудистском пляже. Для того, чтобы трансформировать физиологию и анатомию в межличностный опыт — в искусство, в страсть, в эрос, миллионы форм которого способны потрясать или очаровывать нас, требуется инъекция воображения (которое я далее буду называть "интенциональностью").
Может быть, "просвещение", которое сводится к подробному изучению всех реалий, является бегством от беспокойства, вызванного связью человеческого воображения с эротической страстью?
Спасение — в технике!
Второй парадокс заключается в том, что новое увлечение техникой секса дает результат, противоположный ожидаемому. У меня часто возникает ощущение, что половая страсть или даже удовольствие, получаемое людьми от полового акта, обратно пропорциональны количеству прочитанных этими людьми пособий или тиражам такого рода изданий. В технике, как таковой, разумеется, нет ничего дурного, будь то техника актерского мастерства, игры в гольф или занятий любовью. Но когда увлечение техникой секса переходит определенную границу, то занятие любовью вырождается в механический процесс и идет рука об руку с отчуждением, чувством одиночества и обезличиванием.
Один из аспектов отчуждения заключается в том, что искусного любовника прежних времен сменяет компьютерный программист с его современной эффективностью. Пары уделяют очень много внимания соблюдению графика занятий любовью — эту практику подтвердил и стандартизировал Кинси. Если они отстают от графика, то начинают беспокоиться и считают своим долгом заниматься любовью вне зависимости оттого, хочется им этого или нет. Мой коллега, доктор Джон Шимель, замечает: "Мои пациенты стоически выносили отчаянное рукоприкладство своих партнеров или вообще не придавали ему значения, но отставание от графика занятий сексом они воспринимали как уход любви".8 Если мужчина не поспевает за графиком, то ему кажется, что он теряет свой мужской авторитет, а если женщина долгое время не вступала в связь с мужчиной или с ней по крайней мере не заигрывали, то ей кажется, что она утратила свою женскую привлекательность. Выражение "простой", которым женщины обозначают такое положение дел, также предполагает какой-то временной перерыв, типа антракта. При таком бухгалтерском учете — сколько раз мы занимались любовью на этой неделе? уделил(ла) ли он(она) мне достаточно внимания этим вечером? была ли достаточно долгой прелюдия? — остается только удивляться, что это самое спонтанное из всех проявлений умудряется сохранить свою спонтанность. Если Фрейд говорил, что за кулисами сцены, на которой происходит половой акт, прячутся родители, то теперь можно сказать, что там прячется компьютер.
При этой зацикленности на технике нет ничего странного в том, что типичным вопросом по поводу акта любви является не "Были ли в этом акте страсть, или смысл, или удовольствие?", а "Насколько хорошо я справился со своей задачей?".9 Возьмем к примеру то, что Сирил Конноли называет "тиранией оргазма", и озабоченность достижения одновременного оргазма, которая является еще одним аспектом отчуждения. Признаюсь, разговоры об "апокалипсическом оргазме" вызывают у меня недоумение. Почему эти люди прилагают такие страшные усилия? Какую безграничную неуверенность в себе, какую внутреннюю пустоту и какое одиночество они пытаются замаскировать этим стремлением к грандиозным результатам?
Даже сексологи, которые, как правило, утверждают, что чем больше секса, тем он приятнее, сегодня удивляются этой одержимости стремлением к оргазму и тому значению, которое придается "удовлетворению" партнера. Мужчина считает своим долгом спросить женщину, все ли у нее "получилось", или все ли с ней в "порядке", или использует какой-нибудь другой эвфемизм, говоря об ощущении, к которому неприменимы никакие эвфемизмы. Симона де Бовуар и другие женщины, пытающиеся дать объяснения акту любви, напоминают нам, мужчинам, что в этот момент женщина меньше всего хочет услышать такой вопрос. Более того, зацикленность на технике лишает женщину того, чего она больше всего хочет, как в физическом, так и в эмоциональном смысле, а именно — чтобы в пиковый момент мужчина забыл обо всем на свете. Именно это состояние мужчины дает ей тот восторг или экстаз, на какой она только способна. Когда мы отбросим всю эту чушь о "ролях" и их "исполнении", то становится ясно, сколь важное значение имеет сам факт близости — знакомство, развитие отношений, возбуждение от незнания, к чему это приведет, самоутверждение и желание отдать себя партнеру — для того, чтобы половой акт стал запоминающимся событием. Разве не эта близость заставляет нас вновь и вновь вызывать в памяти это событие, когда нам хочется хоть какого-то тепла?
Чудные дела творятся в нашем обществе: составляющие человеческих отношений — общность вкусов, фантазий, мечтаний, надежд на будущее и прошлых неудач — вызывают у людей скорее смущение, чем желание лечь друг с другом в постель. Люди больше стесняются нежности, которая идет рука об руку с психологической и духовной обнаженностью, чем физической наготы половой близости.
Новые пуритане
Третий парадокс заключается в том, что наша хваленая половая свобода превратилась в новую форму пуританства. Я пишу это слово с маленькой буквы, потому что не хочу, чтобы это явление путали с истинным пуританством. То пуританство (вспомним страсти Эстер и Диммсдейла в Алой букве Хоуторна) имеет с нынешним мало общего.10 Я говорю о пуританстве, которое пришло к нам от наших викторианских бабушек и дедушек, вместе с индустриализацией, и возведением нравственных и эмоциональных перегородок.
Я считаю, что нынешнее пуританство состоит из трех элементов. Первый элемент — отчуждение от тела. Второй — отделение эмоции от разума. Третий — использование тела как машины.
Новое пуританство считает слабое здоровье синонимом греха.11 Когда-то грехом считалось удовлетворение своих сексуальных желаний; теперь грех — это неполное сексуальное самовыражение. Современный пуританин считает, что не выражать свое либидо аморально. По обе стороны океана дела обстоят следующим образом: "Вряд ли можно найти более угнетающее зрелище, — пишет лондонская Times Literary Supplement, — чем прогрессивный интеллектуал, готовый лечь с кем-нибудь в постель из чувства нравственного долга… Самым великодушным пуританином в мире является человек, проповедующий спасение посредством правильно направленной страсти…".12 Раньше женщина чувствовала себя грешницей, когда оказывалась в постели с мужчиной; теперь она чувствует себя виновато, если после определенного количества свиданий она все еще удерживается от этого; ее грех состоит в "подавлении своих эмоций", в отказе "дать". И партнер, который всегда является вполне просвещенной личностью (или, по крайней мере, притворяется таковой), ни за что не желает смягчить это ее ощущение вины и откровенно сердится на нее (если бы она могла ему достойно возразить, то ей было бы гораздо проще справиться с этим конфликтом). Но при этом партнер великодушно остается рядом с ней и с каждым свиданием он готов бескорыстно помочь ей освободиться от своего греха. И в этом случае, ее "нет", разумеется, только усиливает ее ощущение вины.
Все это, разумеется, означает, что люди не только обязаны учиться исполнению своей сексуальной партии, но в то же самое время, должны быть готовы исполнять ее, не поддаваясь страсти и не принимая на себя всякие неуместные обязательства — последнее может быть истолковано как нездоровая претензия к партнеру. В викторианскую эпоху человек искал любви без секса; современный человек ищет секса без любви.
Однажды я развлечения ради набросал импрессионистский эскиз отношения современной просвещенной личности к сексу и любви. Мне хотелось поделиться с читателем своим представлением о том, кого я считаю "новым снобом".
"Новый сноб кастрирован не обществом. Подобно Оригену, он сам себя кастрировал. Секс и тело являются для него уже не чем-то само собой разумеющимся, а орудиями, которые нужно оттачивать, подобно тому, как телеведущий оттачивает свой голос. Новый сноб выражает свою страсть в страстном поклонении нравственному принципу отказа от любой страсти, любви ко всем и каждому, которая тем самым теряет силу для кого бы то ни было. Он смертельно боится необузданных страстей, а уздой для них становится именно теория полного самовыражения. Проповедуемая им догма свободы — это его орудие подавления; а его принцип полного либидозного здоровья, полного полового удовлетворения — это его отрицание эроса. Старый пуританин боролся с сексом и при этом был человеком страсти; наш новый пуританин борется со страстью и при этом является человеком секса. Его целью является укрощение тела, превращение природы в своего раба. Исповедуемый новым снобом железный принцип полной свободы — это вовсе не свобода, а новая смирительная рубашка. Он поступает так только потому, что боится своего тела и дремлющей в его природе страсти, боится примитивных желаний и своей способности к воспроизводству. Это современный бэконианец, стремящийся покорить природу, умножить свои знания с целью упрочения своей власти. И именно с помощью полного самовыражения вы получаете власть над половым влечением (так рабов заставляли работать до изнеможения, чтобы у них не было сил даже думать о бунте). Для нас секс становится таким же орудием, каким для пещерного человека были лук и стрелы, палица или топор. Секс — новое орудие, Machina Ultima".*
* Здесь: последнее средство (лат.).
Это новое пуританство пробралось в современную психиатрию и психологию. В некоторых книгах по консультациям для семейных пар утверждается, что при обсуждении полового акта терапевт должен пользоваться исключительно словом "трахаться" и должен настаивать на том, чтобы им пользовались и пациенты; дескать, любое другое слово вызывает скованность у пациентов. Дело здесь не в слове самом по себе; конечно же, чистое вожделение, животное, хотя осознанное, самозабвенное плотское удовольствие, которое вполне уместно называть таким образом, не может быть выведено за рамки спектра человеческих ощущений. Но вот что интересно — употребление некогда запрещенного слова теперь становится обязанностью — во исполнение долга нравственной честности. Отказ говорить о биологической стороне совокупления, разумеется, способствует скованности пациента. Но его скованности также способствует и употребление слов вроде "трахаться" как определения сексуального события, когда целью наших поисков является близость двух людей, о которой они должны помнить завтра и еще отнюдь не одну неделю. В первом случае скованность призвана служить сокровенности, во втором — это симуляция откровения на службе у отчуждения личности, ее защита от тревог, внушаемых близостью. Если первый тип скованности был проблемой во времена Фрейда, то второй тип стал проблемой современности.
Новое пуританство несет с собой обезличивание всего нашего языка. Мы уже не занимаемся любовью, а "имеем секс"; мы уже не ложимся в постель, а "уламываем" кого-нибудь или (Боже, спаси нас и наш язык) нас "уламывают". Это отчуждение становится настолько нормальным явлением, что в некоторых психотерапевтических учебных заведениях молодых психиатров и психологов учат, что использование во время приема слова "трахать" имеет чисто "терапевтическое" значение; что пациент наверняка подавляет какие-то эмоции, если он говорит "заниматься любовью"; стало быть, нашей священной обязанностью (вот оно воплощенное новое пуританство!) является доведение до его сведения, что он исключительно "трахается". Все так горят желанием сбросить последние оковы викторианской стыдливости, что позабыли, что разного рода человеческие ощущения обозначаются разными словами. Большинство людей, скорее всего, испытывают различные формы половых отношений, обозначаемые различными терминами, и им не составляет труда разобраться, чем они отличаются друг от друга. Я не собираюсь оценивать различные типы ощущений; любой из них относится к соответствующему типу отношений. Любой женщине иногда хочется, чтобы ее подхватили на руки, похитили, вызвали в ней страсть тогда, когда ей поначалу этого совсем не хочется, как в знаменитой сцене между Ретом Батлером и Скарлет О'Хара в Унесенных ветром. Но если всю жизнь ее только "уламывают", то, поверьте, ее ощущение отчуждения и отвращения к сексу не за горами. Если терапевт не принимает во внимание эти разные типы ощущений, то он будет уродовать и усекать сознание пациента и будет способствовать сужению диапазона телесных ощущений пациента, а также его или ее способности к глубоким отношениям. И в этом заключается главный недостаток нового пуританства: оно чудовищно ограничивает чувства, лишает любовный акт его безграничного разнообразия и богатства, способствует эмоциональному обнищанию.
Нет ничего удивительного в том, что новое пуританство сеет откровенную враждебность между членами нашего общества. И эта враждебность, в свою очередь, часто выражается словами из области секса. Мы говорим презрительно "отъебись" или "пошел на хуй", чтобы показать человеку, что совершенно в нем не нуждаемся. В данном случае, биологическое вожделение подвергается reductio ad absurdum.* И в самом деле, в современном языке ругательства вроде "хуй" и "ебать" представляют собой самый распространенный способ выражения откровенной враждебности. И я думаю, что это не случайно.
* Сведение к абсурду (лат.).
Фрейд и пуританство
Удивительное дело — как получилось, что психоанализ Фрейда переплелся и с новым половым либерализмом, и с новым пуританством. Заядлые критики социальных устоев на светских вечеринках склонны приписывать Фрейду роль зачинателя или, по крайней мере, первого глашатая новой половой свободы. Но все они не замечают как раз того, что Фрейд и психоанализ отразили и выразили новое пуританство в его как положительной, так и отрицательной формах.
Позитивный момент пуританства психоаналитика состоит в том, что он настаивает на предельной честности и незыблемой нравственности, примером чего являлся сам Фрейд. Негативный момент состоит в том, что в этой системе тело и самосознание человека, справедливо или несправедливо, сводятся к механизму удовлетворения посредством "сексуальных объектов". Вполне в духе нового пуританства также склонность психоаналитиков говорить о сексе, как о "потребности", в смысле напряжения, которое следует снять.
Итак, мы должны исследовать эту проблему, чтобы увидеть, как новым сексуальным ценностям было придано любопытное направление, после того как они были рационализированы психоаналитиками. "Психоанализ — это кальвинизм в шортах-бермудах, — едко заметил доктор Макфи Кэмпбелл, президент Американской ассоциации психиатров (1936–1937 г.), говоря о философских аспектах психоанализа. Этот афоризм верен только наполовину, но это очень важная половина. Фрейд, с его сильным характером, способностью сдерживать свои эмоции, неутомимым трудолюбием, сам являлся прекрасным примером пуританина в положительном смысле этого слова. Он преклонялся перед Оливером Кромвелем, генералом-пуританином, и назвал свого сына его именем. Филип Рифф в своем исследовании Freud: The Mind of the Moralist указывает, что эта "склонность к воинственному пуританству была распространена среди евреев-интеллектуалов и является признаком определенного типа характера, отличительной чертой которого являются яростная независимость и незыблемость нравственных устоев, а не конкретное вероисповедание или вера в определенную доктрину".13 Аскетичный стиль работы Фрейда является примером одного из наиболее важных аспектов пуританства, а именно ухода в науку как в монастырь. Его неутомимая энергия была посвящена исключительно достижению научных целей, которые он ставил превыше всего в жизни (и самой жизни, пожалуй), сублимируя в них свою страсть в буквальном, а не фигуральном смысле этого слова.
Сам Фрейд вел очень ограниченную половую жизнь. Его половое самовыражение началось поздно, когда ему было около тридцати, и закончилось рано, когда ему было около сорока, если верить его биографу Эрнесту Джонсу. На сорок первом году жизни Фрейд писал своему другу Вильгельму Флиссу, признаваясь в депрессии, и добавил: "Такому человеку, как я, половое возбуждение тоже не нужно". Есть еще одно свидетельство того, что его половая жизнь закончилась примерно в этом возрасте. В своем Толковании сновидений Фрейд сообщает, что однажды, когда ему было уже за сорок, он почувствовал физическое влечение к молодой женщине, машинально протянул к ней руку и коснулся ее. Комментируя этот случай, он говорит о своем удивлении тем, что "еще способен" на такие чувства.14
Фрейд верил в контроль и власть над направленностью полового влечения и был убежден, что они имеют особое значение, как для культурного развития личности, так и для развития ее характера. В 1883 г., в период свого долгого обручения с Мартой Бернайс, молодой Фрейд пишет своей будущей жене:
"…в наблюдении за развлечениями масс нет ничего ни приятного, ни поучительного; по крайней мере, нам они не очень по вкусу… Я помню, что произошло, когда я был на Кармен: толпа давала выход своим эмоциям, а мы были сдержанны. Мы были сдержанны, чтобы сохранить свою целостность, мы экономили наше здоровье, нашу способность получать удовольствие, наши эмоции; мы берегли себя для чего-то, сами не зная для чего. И это постоянное подавление природных инстинктов придает нам утонченность… И исключительную принадлежность к кругу людей, которые как мы соединяются друг с другом на всю жизнь, которые годами подвергают себя лишениям и чахнут в тоске, чтобы сохранить верность, которые, скорее всего, не пережили бы такого несчастья, как потеря любимого человека…"15
Основой Фрейдовой доктрины сублимации является эта вера в то, что индивид наделен либидо в определенном количестве, что он может сдерживаться, "экономить" эмоции в одном случае, чтобы получить большее удовольствие в другом, и что если он потратит свое либидо на половые приключения, то не сможет осуществлять свои способности, скажем, в области искусства. Положительно оценивая работу Фрейда, Пауль Тиллих, тем не менее, замечает, что "концепция сублимации является самым пуританским убеждением Фрейда".16
Я нисколько не хочу умалить значение психоанализа, когда указываю на его связь с пуританством. Лучшие представители подлинного пуританского движения, — до того как оно, в конце XIX века, выродилось в викторианскую мораль с ее стремлением повсеместно воздвигнуть свои перегородки и ограничения, — отличались таким достойным восхищения качеством, как преданность истине и чистоте. Пуританству современная наука во многом обязана своим прогрессом, который вообще вряд ли был бы возможен без этих монахов в миру с их научными лабораториями. Более того, такие явления культуры, как психоанализ, всегда являются и причиной, и следствием; они отражают и выражают новые тенденции в развитии цивилизации, и в то же время формируют эти тенденции и воздействуют на них. Если мы сознаем, что происходит, то мы можем, пусть даже в незначительной степени, повлиять на направленность этих тенденций. И значит у нас есть надежда на развитие новых ценностей, которые помогут нам справиться с той новой неоднозначной ситуацией, в которой оказалась наша цивилизация.
Но пытаясь понять содержание наших ценностей на основании психоанализа, мы теряем ориентацию и приходим в противоречие не только с ценностями как таковыми, но и с нашим представлением о самих себе. Надеяться на то, что психоанализ взвалит на себя бремя заботы о наших ценностях, значит совершать ошибку. Психоанализ может, обнажая ранее скрытые мотивы и желания, а также расширяя горизонты сознания, подготовить почву для обретения пациентом тех ценностей, с помощью которых тот сможет изменить себя. Но сам по себе психоанализ никогда не сможет взять на себя ответственность за принятие решений, способных изменить жизнь человека. Огромный вклад Фрейда заключается в том, что светом Сократова призыва "познай себя" он осветил новые глубины, которые составляют новый континент, континент подавляемых, бессознательных мотивов. Он также развил технику личностных отношений в терапии, основанную на концепциях переноса и сопротивления, технику, которая помогает сознанию проникнуть в эти новые глубины. Как бы ни падала или же как бы ни росла популярность психоанализа, одно неопровержимо — открытия Фрейда и его коллег, работавших в этой области, являются бесценным вкладом не только во врачебную психологию, но и в нравственность, поскольку они очищали ее от налета лицемерия и самообмана.
Я хочу, чтобы читатель понял: многие члены нашего общества, жаждущие достичь нирваны посредством автоматического изменения своего характера и снять с себя всякую ответственность, всецело отдавшись со своею psyche техническому процессу, главные свои ценности "свободы выражения" и гедонизма просто протащили контрабандным путем из нового содержания психоанализа в свое старое пуританство. Тот факт, что смена отношения к сексу и нравственности произошла так быстро — за какое-то десятилетие (в двадцатые годы) — свидетельствует в пользу предположения, что мы сменили наши одежды и роли в большей степени, чем наши характеры. Мы упустили возможность нацелить наши чувства и воображение на обогащение страсти и обретение нового смысла в любви и в удовольствии, которое мы от нее получаем; мы доверились технике самого процесса. С торжеством "свободной" любви все разучились любить; свобода принесла нам не освобождение, а новое рабство. В результате наши сексуальные ценности пришли в смятение и противоречие, а плотская любовь теперь представляет для нас почти неразрешимый парадокс.
Я не хочу ни преувеличить значение этого явления, ни упустить из виду положительные аспекты гибкости современной половой морали. Смятение, о котором я здесь говорю, идет рука об руку с реальной возможностью освобождения индивида. Теперь пары не стесняются утверждать, что секс является источником удовольствия и наслаждения; их больше не преследует ложное убеждение, что секс как природный акт являет собой грех; они стали замечать истинное зло в человеческих отношениях, типа манипулирования друг другом. Получив свободу, которой никогда не было у викторианцев, они могут искать пути обогащения своих отношений. Даже растущее количество разводов, какой бы серьезной ни была эта проблема, имеет положительный психологический эффект, поскольку теперь супругам сложнее оправдать неудачный брак, ссылаясь на догму, согласно которой они "прикованы" друг к другу. Возможность обретения нового партнера заставляет нас взять на себя ответственность выбора: оставаться нам с нынешним партнером или покинуть его. Теперь у нас есть возможность развить в себе ту отвагу, место которой — между биологическим сладострастием, с одной стороны, и стремлением к глубоким отношениям, к познанию друг друга и всем остальным, что мы называем человеческим взаимопониманием — с другой. Из простого стремления бороться с нравственными устоями общества отвага может перерасти во внутреннюю способность посвятить себя другому человеческому существу.
Но сейчас уже нет никакого сомнения в том, что эти положительные явления не возникают сами собой. Они станут возможны, если мы сумеем понять описываемые здесь противоречия и справиться с ними.
Мотивация
Будучи куратором в двух аналитических институтах, я сознательно наблюдаю за работой с одним из пациентов каждого из шести психиатров или психологов, которые проходят здесь подготовку, чтобы стать аналитиками. В качестве примеров я приведу шесть случаев, с которыми имели дело эти молодые аналитики, потому что я достаточно много знаю о них, а так же потому, что могу воспринимать их более объективно, поскольку они не являются моими пациентами. Каждый из этих пациентов, ложась с кем бы то ни было в постель, не испытывает особого чувства стыда или вины — и, как правило, часто меняет партнеров. Женщины — их четверо — все говорят, что не чувствуют ничего особенного в ходе полового акта. Две женщины ложатся с мужчиной в постель по следующим мотивам: они не хотят, чтобы мужчина их бросил, и хотят соответствовать распространенному убеждению, что секс — "это то, чем надо заниматься" в определенном возрасте. Мотивы третьей женщины — не совсем обычны — она делает это по доброте душевной. Она воспринимает секс, как подарок, который женщина может сделать мужчине, однако требует от мужчины весьма дорогого ответного подарка — внимания к себе. Только одна женщина, похоже, испытывает настоящее физическое сладострастие, за которым скрывается мотивация, определяемая смешанным чувством великодушия и злости ("Я заставлю его доставить мне удовольствие"!). Двое пациентов-мужчин поначалу были импотентами, а теперь, хотя и способны совершить половой акт, периодически имеют проблемы с потенцией. Но вот знаменательный факт: они никогда не говорят о том, что половой акт доставил им огромный "кайф". Основной мотив их занятий сексом заключается в демонстрации своих мужских достоинств. У одного из мужчин есть и специфическая мотивация: он хочет рассказывать аналитику о своих любовных приключениях, вне зависимости от того, были они удачными или не очень, как о них рассказывают друг другу приятели, и это, похоже, доставляет ему больше удовольствия, чем сами занятия любовью.
Давайте копнем поглубже и спросим: Какие мотивы лежат в основе этих моделей поведения? Что в наше время заставляет людей рьяно стремиться к сексу, в то время как раньше они столь же рьяно отказывались от него?
Разумеется, главным мотивом является стремление к самоутверждению, которое свойственно как женщинам, так и мужчинам, что показала Бетти Фридан в своей книге Мистика женственности (The Feminine Mystique) Это стремление способствовало распространению идеи равенства полов и взаимозаменяемости ролей в сексе. Приверженность идее равенства оплачена ценой отрицания не только биологических различий между мужчиной и женщиной, — которые имеют основополагающее значение, чтобы не сказать больше, но и эмоциональных различий между ними, которые являются источником столь многих радостей полового акта. Идея равенства порочна сама по себе: потребность доказать свою идентичность с партнером означает подавление своих неповторимых чувств — а именно это и подрывает ощущение своей уникальности. Эта идея вносит свой вклад в то положение вещей в нашем обществе, при котором мы становимся машинами даже в постели.
Еще один мотив — надежда индивида на спасение от одиночества. С ней рука об руку идет отчаянное стремление избавиться от ощущения пустоты и угрозы апатии; человек охает и содрогается, рассчитывая в ответной дрожи тела партнера найти подтверждение того, что его собственное тело еще не умерло; человек жаждет ответной реакции, надеясь найти в ней подтверждение того, что его чувства еще живы. И льстит себе, называя это любовью.
Когда отовсюду слышишь рассказы мужчин об их половых подвигах, то часто возникает такое впечатление, что мужчины находятся в процессе превращения в мастеров полового атлетизма. Но за какой же приз идет борьба? Не только мужчины, но и женщины стремятся доказать свою половую мощь — они тоже обязаны поспевать за графиком, обязаны демонстрировать страсть и испытывать хваленый оргазм. Сейчас большинство терапевтов уже пришли к заключению, что, в динамическом смысле, озабоченность демонстрацией своей половой мощи, как правило, является компенсацией ощущения полового бессилия.
Использование секса в качестве доказательства своей половой мощи во всех этих разных сферах привело к концентрации внимания на технике. И здесь мы наблюдаем еще одну любопытную модель самоуничтожения. Зацикленность на технике секса напрямую связана с ослаблением сексуальных ощущений. Иногда увлечение техникой принимает смехотворные формы: мужчина, прежде чем совершить половой акт, смазывает свой пенис анестезирующей мазью. Его ощущения ослабляются, благодаря чему он может оттягивать оргазм. От коллег я узнал, что им нередко приходится выписывать это "средство" от преждевременной эякуляции. Доктор Шимель сообщает: "Одного мужчину приводила в отчаяние его 'преждевременная эякуляция', хотя она имела место не раньше, чем через десять минут после начала полового акта. Сосед-уролог посоветовал ему перед совокуплением пользоваться анестезирующей мазью. Пациент был полностью удовлетворен решением и очень благодарен урологу".17 Ему было нужно только доказать свои мужские способности, ради чего он был готов отказать себе в каком бы то ни было удовольствии.
Один из моих пациентов рассказал мне, что обратился к врачу с проблемой преждевременной эякуляции и ему тоже прописали анестезирующую мазь. Я, как и доктор Шимель, больше всего удивился тому, что пациент принял такое решение, не задавая никаких вопросов и не испытывая никаких сомнений. Разве это лекарство не помогает ему решить его проблему, разве оно не способствует достижению им лучших показателей? Но к тому времени, когда этот молодой человек пришел ко мне, он уже был импотентом во всех смыслах этого слова, вплоть до того, что уже был неспособен справиться с такими явно не аристократическими замашками своей жены, как битье его туфлей по голове во время поездки на машине. Он был бессилен покончить с этой жалкой пародией на брак. И его член, прежде чем его довели лекарствами до бесчувствия, похоже, был единственным, у кого хватало "ума" испытывать правильное желание, а именно поскорее убраться оттуда.
Притупить свои ощущения, чтобы показать себя с лучшей стороны! Это столь же яркий, сколь и кошмарный символ того порочного круга, в котором оказалась наша цивилизация. Чем больше человеку хочется продемонстрировать свою половую мощь, тем больше он относится к половому акту — этому самому интимному и личностному из всех актов — как к выступлению, которое будут оценивать по его внешним достоинствам, тем больше он воспринимает себя как машину, которую следует завести, наладить и направить, и тем меньше чувств у него остается, как по отношению к самому себе, так и к своему партнеру; и чем слабее его чувства, тем больше он утрачивает подлинные сексуальные аппетиты и способности. Эта схема самоуничтожения, в конце концов, приводит к тому, что самый умелый любовник — потенциальный импотент.
В наших размышлениях начинают звучать горькие нотки, когда мы напоминаем себе, что эта чрезмерная озабоченность "удовлетворением" партнера является выражением, хотя и искаженным, основного элемента полового акта: самоутверждения и удовольствия от ощущения своей способности отдать себя партнеру. Мужчина часто бывает бесконечно благодарен женщине, которая позволяет ему удовлетворить ее — позволяет ему довести ее до оргазма, если использовать понятие, которое зачастую является символом этого события. Это точка, которая находится точно посередине между сладострастием и нежностью, между "сексом" и "агапэ" — и она воплощает в себе и то. и другое Многие мужчины не могут считать себя полноценными представителями нашей цивилизации, покуда не сумеют удовлетворить женщину. Сама структура отношений между людьми такова, что половой акт не может считаться полноценным и не может принести полного удовольствия, если мужчина и женщина не чувствуют, что они способны удовлетворить друг друга. И именно эта неспособность ощутить удовольствие от удовлетворения партнера зачастую лежит в основе эксплуатации сексуальности, чем отличаются насильники, и "безотказности" в сексе, свойственной соблазнителям-донжуанам. Дон Жуан должен вновь и вновь совершать половой акт, потому что он вечно остается неудовлетворенным, совершенно вопреки тому факту, что он обладает полноценной потенцией и, технически говоря, испытывает хороший оргазм.
Теперь проблемой является не желание и потребность удовлетворить партнера как таковые, а тот факт, что эти потребность и желание воспринимаются людьми только в техническом смысле — доставить физическое ощущение. В нашем языке нет даже слова, которым можно было бы обозначить обмен чувствами и фантазиями, желание поделиться внутренним психическим богатством, которым ничего не стоит превратить ощущение в эмоцию, а эмоцию — в нежность и, иногда, в любовь.
Неудивительно, что современная тенденция к механизации секса так тесно связана с проблемой импотенции. Отличительной чертой машины является ее способность совершать все необходимые движения и при этом ничего не чувствовать. Одного способного студента-медика, который пришел в психоанализ в том числе и по причине своей импотенции, посетило следующее просветление в сновидении. В своем сне он попросил меня вставить ему в голову трубку, пропустить ее через все его тело и вывести через пенис. В своем сновидении он был уверен, что это обеспечит ему чрезвычайно сильную эрекцию. До этого сей умный сын нашего сложного времени совершенно не понимал, что решение его проблемы, как он себе его представлял, на самом деле было ее причиной, а именно его восприятие себя как "секс-машины". Его символ отличается необычайной образностью: мозг, интеллект, задействован, но, как истинный символ нашего века отчуждения, его труба совершенно проходит мимо центров эмоций, таламуса, сердца и легких, даже желудка. Прямая дорога от головы к пенису — но сердце-то потеряно!.18
Я не располагаю статистикой, благодаря которой можно было бы сравнить нынешний уровень импотенции с импотенцией в прошлые времена, и, насколько мне известно, еще никому пока не удалось добыть такие сведения. Но у меня сложилось такое впечатление, что в наше время уровень импотенции повышается, несмотря на полную свободу во всех смыслах (а может, благодаря ей). Все терапевты соглашаются с тем, что к ним с этой проблемой приходят все больше и больше мужчин, хотя нельзя сказать со всей определенностью, о чем свидетельствует это явление — о действительном росте импотенции или просто о появившейся возможности говорить о ней. Эта тема, разумеется, относится к числу тех, по которым вряд ли можно собрать точную статистику. Тот факт, что Human Sexual Response — книга, посвященная импотенции и фригидности, — несмотря на дороговизну и неуклюжий стиль, в течение многих месяцев занимала первые места в списке бестселлеров, является очевидным доказательством того, что многие мужчины нуждаются в помощи в борьбе с импотенцией. Как бы там ни было, но как юношам, так и людям старшего возраста, все труднее становится считать "да" ответом.
Чтобы увидеть, какие любопытные формы принимает новое пуританство, вам достаточно открыть любой номер Плейбоя, этого весьма смелого журнала, который покупают якобы только студенты и святоши. Вы найдете там обнаженных девушек с силиконовыми грудями бок о бок со статьями уважаемых авторов, и когда первая краска смущения сойдет с вашего лица, вы придете к заключению, что этот журнал определенно выступает за новое просвещение. Но если вы приглядитесь более внимательно, то увидите на лицах девушек странное выражение: отстраненное, механическое, негостеприимное, пустое — типичная шизоидная личность в худшем смысле этого слова. Вы обнаружите, что они совсем не "сексуальные", и что Плейбой просто перенес фиговый листок с гениталий на лицо. Вы читаете письма в редакцию и в первом же из них, озаглавленном Жрец Плейбоя, узнаете о священнике, который "проповедует философию Хефнера молодым людям и многочисленным представителям клира", о том, что "истинная христианская этика и мораль не противоречат философии Хефнера" и что — при этом выражается полное одобрение — "большинство представителей клира в своих фешенебельных домах ведут скорее образ жизни плейбоев, чем аскетов".19 Вы обнаруживаете в журнале еще одно письмо, в котором Иисуса называют плейбоем, потому что он любил Марию Магдалину, хорошую пищу, хороший уход за собой и изгонял фарисеев. И вы задумываетесь над тем, к чему это религиозное обоснование и почему люди, если они готовы к тому, чтобы их освободили, не могут просто наслаждаться своим освобождением?
Циники могут сказать, что письма в редакцию написаны самой редакцией, романтики — что они действительно отобраны из сотен других писем. Но и в том, и в другом случае, они говорят об одном и том же. В них представлен образ американского мужчины — обходительного, независимого, уверенного в себе холостяка, который рассматривает девушек как "аксессуары плейбоя", как придаток к его модной одежде. Вы не найдете в Плейбое рекламы грыжевого бандажа или средства от облысения, или чего-либо еще, отвлекающего от этого образа. Вы обнаружите, что хорошие статьи (которые, откровенно говоря, просто покупает редактор, который в состоянии нанять себе помощника со вкусом и заплатить соответствующую сумму) подтверждают истинность этого образа.20 Харви Кокс приходит к заключению, что Плейбой в принципе является антисексуальным журналом и представляет собой "самую последнюю и самую хитрую изо всех неустанных попыток человека расстаться со своей человечностью". Кокс считает, что Плейбой является только "частью феномена, свидетельствующего об ужасном факте появления нового вида тирании".21 Поэт-социолог Кальвин Хертон, говоря о Плейбое в контексте мира моды и развлечений, называет этот журнал новым половым фашизмом.22
Плейбой действительно является отражением важного аспекта жизни американского общества: Кокс называет этот аспект "подавляемым страхом перед близостью с женщинами".23 Я пойду дальше и скажу, что этот журнал, — как образец нового пуританства, — черпает свою динамику из подавляемой тревоги американских мужчин, которая глубже даже страха установления тесных отношений. Это подавляемое беспокойство по поводу импотенции. Весь красиво сварганенный журнал нацелен на поддержание иллюзии потенции, которой не грозят никакие испытания. Отстраненность (как и невозмутимость) в Плейбое возведена в идеал. И это возможно, как раз потому, что иллюзия воздухонепроницаема, рассчитана на мужчин, опасающихся за свою потенцию, и спекулирует на этом страхе, Характер иллюзии проявляется и в том, что меньше всего читают Плейбой мужчины, достигшие тридцатилетнего возраста, которые уже не могут избежать общения с реальными женщинами. Иллюстрацией к этой иллюзии является и тот факт, что сам Хефнер. бывший учитель воскресной школы и сын ярых методистов, практически никогда не покидает своей большой конторы в северном Чикаго. Укрывшись в этой крепости, он трудится в окружении своих "крольчих" и среди шума своих безалкогольных вакханалий, на которых пьют только пепси-колу
Бунт против секса
При такой мешанине сексуальной мотивации — там присутствуют почти все мотивы полового акта, за исключением желания заниматься любовью — не стоит удивляться притуплению чувств и практически полному исчезновению страсти. Это притупление чувств зачастую принимает форму своеобразной анестезии (при которой мазь уже не нужна) у людей, которые прекрасно справляются с механическими аспектами полового акта. Мы уже начинаем привыкать к такого рода жалобам с кушетки или из кресла. "Мы занимались любовью, но я ничего не чувствовал". И снова поэты говорят нам то же самое, что и наши пациенты. Т Элиот пишет в Бесплодной земле о том, что происходит после того, как очаровательная женщина по глупости совершает безрассудство и соблазнивший ее за чаем прыщавый клерк уходит
Уже едва ли думая о нем,
Она глядится в зеркало немного,
И мысль к ней приходит об одном:
"Все кончилось. И ладно. Слава Богу"
Когда девица во грехе падет
И в комнату свою она вернется —
Рукою по прическе проведет
И модною пластинкою займется.*
* The Waste Land (перевод С Степанова)
Секс — это пограничная зона перед "последней неосвоенной территорией", многозначительно заявляет в Одинокой толпе Давид Ризман. Джеральд Сайкс вторит ему: "В мире, давно уже сером от биржевых сводок, графиков, налогов и лабораторных анализов, бунтарь находит единственное что еще зеленеет, — это секс".24 Действительно, энергия, дух приключений, стремление испытать себя, открытие новой безбрежной и удивительной области чувств и ощущений в себе самом и в отношениях с другими людьми, и самоутверждение в этом — такой опыт поистине представляет собой переживание "пограничной ситуации". Все это — обычные проявления сексуальности, как составляющей психосоциального развития любой личности. В нашем обществе секс действительно обладал такой силой, по крайней мере несколько десятилетий, начиная с двадцатых годов, когда почти все остальные формы деятельности отошли в сторону, "выцвели", лишились духа авантюризма. Но по различным причинам — одна из них заключалась в том, что секс, как таковой, должен был взвалить на себе бремя самоутверждения личности во всех остальных сферах жизни — эти присущие "пограничью" новизна, свежесть и дух опасности стали все больше и больше утрачиваться.
Ибо мы сейчас живем в пост-ризмановскую эпоху и ощущаем отсроченные последствия ризмановского ("переориентированного") поведения, "отраженного" (по принципу радара) образа жизни. Последняя неосвоенная территория превратилась в бурлящий Лас-Вегас и совсем перестала быть неосвоенной. Молодые люди уже не могут ощущать себя кем-то вроде контрабандистов, принимая участие в сексуальном бунте, поскольку не осталось ничего, против чего можно было бы бунтовать. В исследовательских работах по наркомании среди молодежи говорится, что молодые люди объясняют ее, как бунт против родителей, этакое стремление "побеситься", которое раньше осуществлялось в сексе, и которое теперь можно осуществить разве что в наркотиках. В одном из исследований указывается, что учащимся "секс навевает скуку, в то время как наркотики являются для них синонимом запретного плода, приключений, любопытных ощущений и дарованной им обществом вседозволенности".25
Мы уже не удивляемся, что многие молодые люди воспринимают то, что когда-то называли "занятием любовью", как жалкое "пыхтение с игрою в ладушки", если воспользоваться выражением Олдоса Хаксли, обнаружившим сегодня свое пророческое звучание; мы принимаем как должное, когда они говорят нам, что им трудно понять, о чем это говорили поэты, и нам нередко приходится выслушивать перепевы все тех же разочарований: "Мы улеглись в постель, но из этого не вышло ничего хорошего".
Я сказал, что уже не осталось ничего, против чего можно бунтовать? Впрочем, есть одна такая вещь, и ею является сам секс. Неосвоенная территория, познание себя, самоутверждение могут находить свое выражение и часто его находят в бунте против всякой сексуальности. Я, конечно, не являюсь его сторонником. Я просто хочу указать на то, что сам бунт против секса — эта современная Лисистрата в облике робота — уже стучится в ворота наших городов или, если не стучится, то, по крайней мере, к ним приближается. Сексуальная революция, в конце концов, набросилась на саму себя, но уже не вопия, а хныча.
Итак, нет ничего удивительного в том, что, при дальнейшей механизации секса, неуместности страсти и затухании даже удовольствия, порочный круг замкнулся. И мы обнаруживаем, mirabile dictu,* переход от анестетического отношения к антисептическому. Проявляется тенденция к тому, чтобы половые контакты положить на полку и забыть о них. Это еще один и уж точно наименее конструктивный аспект нового пуританства: последний в итоге превращается в новый аскетизм. Об этом весьма образно говорится в стихах, родившихся в студенческом городке, населенном, похоже, очень эрудированными студентами:
Интересную весть нам декан сообщил:
Если б только Эдип ЭВМ получил,
Он смог бы побольше о сексе узнать,
Вообще не ложась с той царицей в кровать.
Маршалл Маклюэн, как и многие другие, приветствует этот бунт против секса. "Секс, такой, каким мы его сегодня себе представляем, вскоре, может быть, совсем отомрет, — пишут Маклюэн и Леонард. — Сексуальные концепции, идеалы и активность уже изменились почти до неузнаваемости… Девушка с разворота Плейбоя, — с ее старательно снятыми непомерного размера грудями и ягодицами, — свидетельство предсмертных конвульсий уходящего века".26 Далее Маклюэн и Леонард предсказывают, что в новом асексуальном веке эрос не только не потеряется, но станет вездесущим, и вся жизнь будет куда более эротичной, чем это сейчас можно себе представить.
* Странно сказать (лат.).
Хотелось бы поверить в это оптимистическое утверждение. Но, как обычно, глубокое понимание Маклюэном ныне существующих феноменов, к сожалению, помещается в историческую схему — относящуюся к доплеменному периоду, с его якобы наименьшими различиями между мужчиной и женщиной — что, впрочем, не имеет никакой фактической основы.27 При этом он не приводит никаких доказательств в пользу своего "оптимистического" предсказания, что именно новый эрос, а не апатия станет преемником разнополости по ее отречении от власти над жизнью человека. И в самом деле, в статье Маклюэна и Леонарда имеются удивительные противоречия, порожденные поклонением авторов новому "электронному" веку. Соотнося Твигги* с Рентгеном и противопоставляя ее Софии Лорен, которую они соотносят с Рубенсом, авторы спрашивают: "Что нам показывает рентгеновский снимок женщины? Не реальную картину, а глубокий, содержательный образ. Не какую-то конкретную женщину, а человеческое существо".28 Прекрасно! Вообще-то, на рентгеновском снимке мы видим совсем не человеческое существо, а обезличенную, фрагментацию сегмента кости или ткани, понятен этот снимок только специалисту и гляди мы на него хоть тысячу лет, нам ни за что не увидеть в нем человеческое существо, или известных нам мужчину или женщину, не говоря уже о любимом человеке. Такой "оптимистический" взгляд на будущее просто вселяет ужас.
* Популярная в конце шестидесятых годов очень худая манекенщица.
А если я позволю себе, от нечего делать, предаться эротической фантазии, в которой отдам предпочтение Софии Лорен, а не Твигги, то меня, стало быть, выгонят из Нового Общества?
Более серьезно к нашему будущему отнеслись участники дискуссии на эту тему, организованной Центром по изучению демократических институтов в Санта-Барбаре. В докладе, озаглавленном Асексуальное общество, откровенно говорится о том, что "мы стремительно несемся не к бисексуальному или мультисексуальному, а к асексуальному обществу: юноши отращивают длинные волосы, а девушки носят брюки… Романтика уйдет из нашей жизни; в сущности, она уже почти ушла… Если женщина получит гарантированный Ежегодный Доход и Противозачаточную Таблетку, то захочет ли она выходить замуж? Да и зачем ей это будет нужно?".29 Элеонора Гарт, участница дискуссии и автор доклада, говорит о том, что радикальные перемены могут произойти даже в отношении к рождению и воспитанию детей.
"Как насчет того времени, когда потомство можно будет выбирать из банка спермы и можно будет помещать оплодотворенное яйцо в матку женщины, для которой это будет ее работой? Захочет ли женщина воспроизводить своего супруга, если мужья вообще еще будут существовать?… Никакой ревности, никаких проблем, никакого обмена любовью… А как насчет детей, выведенных в пробирке?… Сможет ли любовь коллектива развить в ребенке те человеческие качества, которые в нем развивает (по крайней мере, в теории) современное воспитание? Оказавшись в таких условиях, не утратят ли женщины чувство самосохранения и не станут ли они ориентироваться на смерть, подобно нынешнему поколению американских мужчин?… Я здесь ничего не отстаиваю, я просто нахожу ужасными некоторые возможные варианты нашего развития".30
Миссис Гарт и ее коллеги по Центру признают, что суть этой революции заключается не в том, что у человека есть половые органы и половые функции, как таковые, а в том, что происходит с нашими человеческими качествами. "Меня беспокоит реальная возможность исчезновения наших человеческих, животворных качеств по мере развития науки и тот факт, что никто не обсуждает альтернативные — как положительные, так и отрицательные — возможности этого развития".31
Так вот, цель этой книги как раз и заключается в том, чтобы поднять вопрос об альтернативных — как положительных, так и отрицательных — возможностях, то есть об уничтожении или утверждении тех качеств, которые мы называем "человеческими, животворными".
III. ЭРОС В ПРОТИВОБОРСТВЕ С СЕКСОМ
Эрос, бог любви появился, чтобы создать землю.
До этого были лишь тишина, пустота и неподвижность.
А сейчас повсюду — жизнь, радость и движение.
Раннеантичная мифология
У Афродиты и Ареса родилось несколько прекрасных детей…
Эрос, младший сын, был назначен богом любви.
Хотя к Эросу относились с нежностью и вниманием,
этот родившийся вторым ребенок не взрослел, как другие дети,
а оставался маленьким, пухлым, розовокожим мальчиком,
с прозрачными крыльями, ямочками на щеках и проказливым выражением на лице.
Афродита, беспокоясь о его здоровье,
обратилась за советом к Фемиде,
которая пророчески ответила:
"Любовь не может расти без Страсти"
Позднеантичная мифология
В предыдущей главе мы заметили, что современные парадоксы любви и секса отличаются одной общей чертой, а именно, банализацией и секса, и любви. Притупляя чувства во имя улучшения показателей, используя секс как орудие самоутверждения, пряча чувствительность под слоем чувственности, мы выхолостили и опустошили секс. В банализации секса нам активно помогают средства массовой информации, которые нас к этому и подстрекают. У переполняющих полки книжных магазинов книг о сексе и о любви есть одна общая черта — они предельно упрощают и любовь, и секс, представляя эти явления, как что-то среднее между игрой в теннис и страхованием жизни. В ходе этого процесса мы лишили секс его силы, потому что обошли стороной эрос; в итоге мы дегуманизировали и то, и другое.
В этой главе я хочу поговорить о том, что в основе выхолащивания секса лежит отделение секса от эроса. Более того, мы противопоставили секс эросу, используя секс именно для того, чтобы избежать обременительно глубоких отношений, связанных с эросом. В "высокоинтеллектуальных" дискуссиях о сексе, особенно в тех, что посвящены свободе от цензуры, часто можно услышать утверждение, что наше общество нуждается в полной свободе эротического выражения. Однако не только наши пациенты, но и наши романы, пьесы и даже сама природа наших научных исследований указывают на то, что где-то в глубинах нашего общества происходит совершенно обратный процесс. Мы бежим от эроса; и секс — резвый скакун, уносящий нас от погони.
Секс — самый действенный наркотик для того, чтобы забыть об обременительных аспектах эроса. Чтобы добиться этого, мы должны еще больше сузить понятие секса чем больше мы зацикливаемся на сексе, тем более убогими становятся связанные с ним ощущения. Мы используем чувственность секса в качестве защиты от страсти эроса.
Месть угнетенного эроса
Свой тезис я сформулировал на основании нескольких странных феноменов, которые я замечал как у своих пациентов, так и в нашем обществе в целом; это — психические "извержения", которые обладают любопытным взрывным качеством. Подобные феномены имеют место в тех сферах, где их, если смотреть на проблему с точки зрения здравого смысла, следовало бы меньше всего ожидать. Большинство людей пребывают в уверенности, что развитие технологии в значительной степени избавило нас от риска нежелательной беременности и венерических заболеваний, стало быть, ipso facto, страх, который люди когда-то испытывали перед сексом и любовью, сейчас можно сдать навечно в музей. Злоключения, о которых писали романисты былых времен — когда женщина отдавалась мужчине, и это влекло за собой незаконную беременность и изгнание из общества (Алая буква), или распад семьи и самоубийство (Анна Каренина), или венерическое заболевание (реальная жизнь) — ушли в прошлое. Сейчас, говорим мы себе, слава Богу и науке, мы свободны от всего этого! В результате секс стал свободным, а любовь легкой и доступной во всех мыслимых количествах как нечто, всегда готовое к употреблению, подобно тому, что студенты называют "моментальным Дзеном". И любые разговоры о глубочайших конфликтах, которые раньше ассоциировались с трагическими и демоническими началами, являются анахронизмом и абсурдом.
Но я дерзну спросить: а не стоит ли за всем этим жесточайшее подавление? Подавление не секса, а чего-то, лежащего в основе биофизики и биохимии тела, каких-то психических потребностей, которые глубже, важнее и содержательнее секса. Это подавление, разумеется, освящено обществом — но именно по этой причине и трудно распознаваемо и куда более эффективно. Я, конечно же, не ставлю под сомнение достижения современной медицины и психологии как таковые: ни один здравомыслящий человек не может не восхищаться изобретением контрацептивов, эстрогена и лекарств от венерических заболеваний. Я искреннее считаю, что нам повезло, что мы родились в этом веке с его свободой выбора, а не в эпоху королевы Виктории с ее строгой моралью. Но восторги по поводу достижений технологии уводят нас в сторону от проблемы, которая гораздо глубже и абсолютно реальна.
Мы открываем утреннюю газету и читаем, что в просвещенной Америке каждый год делается миллион нелегальных абортов; что наблюдается бешеный рост добрачной беременности. Если верить статистике, то одна из шести сегодняшних тринадцатилетних девочек должна забеременеть в результате внебрачной связи еще до того, как ей исполнится двадцать лет — это в два с половиной раза больше, чем десять лет тому назад.1 Рост наблюдается в основном среди девочек из рабочих семей, но и среди представительниц среднего и высшего класса этот показатель поднялся достаточно высоко, чтобы можно было понять, что проблема не ограничивается исключительно неблагополучными слоями общества. Более того, резкий рост наблюдается не среди пуэрториканских или негритянских девушек, а среди белых — здесь процент незаконнорожденных детей от общего числа всех родившихся детей за десять лет поднялся с 1,7 до 5,3. Мы столкнулись с любопытной ситуацией — чем больше контроля за рождаемостью, тем больше внебрачных беременностей. Если читатель поспешит возопить, что нужно изменить варварский закон об абортах и активизировать половое воспитание, я вполне с ним соглашусь, но я могу и должен задать следующий вопрос. Громкие требования активизации полового воспитания вполне могут обернуться средством самоуспокоения, благодаря которому можно просто не задавать себе пугающие вопросы. Может быть истинный источник этой проблемы находится не на уровне сознания и вообще не имеет отношения к рациональным интенциям? Может быть он находится в более глубоких пластах того, что я называю интенциональностью?
Вот что пишет Кеннет Кларк о негритянских девушках из низших слоев общества: "Маргинальная негритянская женщина использует свой пол для самоутверждения. Ее хотят и этого почти достаточно… ребенок является символом того, что она — женщина, и ей не помешает иметь что-то свое".2 Это стремление доказать свою самотождественность и ценность, может быть, более ярко выражено у девушек из низших слоев общества, но оно точно так же свойственно девушкам из среднего класса, которые лучше скрывают его, внешне соблюдая приличия.
В качестве примера возьмем мою пациентку, принадлежавшую к высшим слоям среднего класса. Ее отец был банкиром в маленьком городе, а мать — приличной дамой, которая всегда "по-христиански" относилась к любому человеку, но, как обнаружилось в ходе терапевтических сеансов отличалась чрезвычайной фригидностью, неподатливостью, и похоже, даже была очень недовольна, когда у нее родилась девочка. Моя пациентка получила хорошее образование, ей едва исполнилось тридцать, а она уже занимала видный пост в большом издательстве и явно располагала всеми сведениями о сексе и контрацепции. Тем не менее, за несколько лет до того, как она стала приходить ко мне, то есть когда ей было около двадцати пяти, у нее были две внебрачные беременности. Обе беременности вызвали у нее острое чувство вины и смятения, но разделавшись с одной, она тут же "подзалетела" во второй раз. Еще когда ей было лет двадцать, она вышла замуж и прожила в браке два года. Ее муж, интеллектуал, как и она, был эмоционально холоден и каждый из них, агрессивно требуя внимания к себе, старался заставить другого вдохнуть какую-то жизнь и какой-то смысл в этот пустой брак. После развода, когда эта женщина жила одна, она добровольно вызвалась читать по вечерам слепым. Она забеременела от молодого слепого человека, которому читала. Хотя это событие и последовавший аборт очень расстроили ее, она очень быстро забеременела во второй раз.
Абсурдно думать, что мы сможем понять это поведение, отталкиваясь от "половых потребностей". Ведь именно то, что она не испытывала сексуального желания, и привело ее к половым отношениям, которые стали причиной беременности. Мы должны обратиться к представлениям этой женщины о самой себе и ее попыткам найти свое место в этом мире, если мы хотим иметь хоть какую-то надежду на понимание динамики этих беременностей.
Если говорить о диагнозе, то эту женщину можно назвать типичной современной шизоидной личностью: умной, умеющей четко выражать свои мысли, организованной, хорошим работником, но опасающейся близких отношений и занимающей в этом отстраненную позицию. Эта женщина всегда считала себя человеком, обреченным на совершенную пустоту, ни за что не способным испытать какое-нибудь сильное чувство, даже под действием ЛСД, — человеком, взывающим к миру, чтобы он дал ей немного страсти, немного жизни. Будучи внешне привлекательной особой, она не испытывала недостатка в поклонниках, но ее отношения с ними имели тенденцию к быстрому "угасанию" и в них не было той "изюминки", которой ей так хотелось. Она следующим образом описала свой половой акт с одним из этих мужчин, с которым у нее были наиболее близкие отношения: они напоминали двух животных, цепляющихся друг за друга в поисках тепла, отчего она приходила в полное отчаяние. В начале терапевтического курса ее посетило сновидение, которое потом возвращалось к ней в разных формах. Она — в одной комнате, родители — в другой, и комнаты эти разделены стеной, не достающей до потолка; и как бы сильно она ни стучала в стену, и как бы громко она ни кричала, родители ее не слышат.
Однажды она пришла на прием прямо с художественной выставки, чтобы рассказать мне, что нашла символ, точно соответствующий ее представлениям о самой себе: одинокие фигуры Эдварда Хоппера, на картинах которого всегда присутствует только одна фигура — девушка-билетерша в ярко освещенном, роскошном, но совершенно пустом театре; женщина, в одиночестве сидящая у окна верхнего этажа викторианского дома и глядящая на пустынный в межсезонье пляж; одинокий человек в кресле-качалке на крыльце дома, который похож на том дом в маленьком городе, где выросла моя пациентка. Картины Хоппера — это горечь и тихое отчаяние, опустошенность человеческих ощущений и желаний, которые мы обозначаем словом-клише "отчуждение".
Конечно, трогательно, что причиной ее беременности стала связь со слепым человеком. Мы тронуты ее элементарной душевной добротой, проявившейся в желании дать ему что-то и что-то доказать самой себе, но больше всего нас поражает аура "слепоты", окружающая всю эту историю с беременностью. Она — одна из многих людей нашего мира изобилия и технологической мощи, которые переместились (в человеческом измерении) в мир слепоты, где никто никого не видит, и где наше соприкосновение в лучшем случае является неловким движением пальцев по телу другого человека в попытке представить себе, как он выглядит, попытке, обреченной на неудачу по причине непроглядной тьмы.
Мы можем заключить, что женщина забеременела для того, чтобы (1) добиться самоуважения, доказав себе, что ее кто-то хочет — поскольку ее супруг ее не хотел; (2) компенсировать ощущение эмоциональной бедности — беременность, наполняя ее матку, выполняет эту задачу почти в буквальном смысле слова, если воспринимать пустоту матки, как символ эмоционального вакуума; (3) выразить свое негодование по отношению к отцу и матери, их удушающе-лицемерному окружению, состоящему из представителей среднего класса. Все это само собой разумеется.
Ну а как насчет более глубокой подоплеки происходящего, обусловленной присущими этой женщине и нашему обществу внутренними противоречиями (попросту являющейся их составляющей), способными опрокинуть все наши рациональные интенции? Абсурдно думать, что эта женщина, да и любая другая женщина, беременеет только по незнанию. Эта женщина живет в век, когда знания о сексе и контрацептивы как никогда раньше доступны женщинам из благополучных слоев общества, а общество во весь голос вопит, что беспокойство по поводу секса — архаично, и призывает ее освободиться от всех сомнений по поводу любви. Так как быть со всепроникающей тревогой, порождаемой именно этой новой свободой? Тревога, которая ложится бременем на сознание индивида, подрывая его способность делать выбор — если и представляет собой не совсем непосильную ношу, то все равно довольно тяжкую; тревога, которую в наш утонченный и просвещенный век нельзя разрядить в истерике, как это делали женщины викторианских времен (ибо сегодня каждый должен быть свободным и не иметь комплексов), а стало быть приходится загонять вглубь, что приводит к притуплению чувств, удушению страсти вместо сдержанности, свойственной женщинам XIX века.
Короче говоря, я полагаю, что девушки и женщины, в этой неоднозначной ситуации, являются жертвами отчасти сильнейшего подавления в них самих и в нашем обществе эроса и страсти, а отчасти — чрезмерной доступности секса, ставшего орудием подавления. Приходится признать, что наше "догматическое просвещение" содержит в себе элементы, которые лишают нас даже средств борьбы с этой новой внутренней тревогой. Мы имеем дело с "местью угнетенного", так к нам возвращается всячески подавляемый эрос, от которого нам никуда не деться, как бы мы ни пытались откупиться от него с помощью секса; это — самая примитивная месть угнетенного, суть которой состоит именно в том, чтобы посмеяться над нашей хваленной властью над чувствами.
То же самое мы наблюдаем и у пациентов-мужчин. Готовящийся в аналитики молодой психиатр, мысли которого постоянно заняты страхом, что он является гомосексуалистом. Ему — около двадцати пяти лет, он никогда не вступал в половые отношения с женщиной, и хотя у него не было реальных гомосексуальных контактов, мужчины обращались к нему с подобными предложениями достаточно часто, чтобы он был вынужден задуматься над тем, не излучает ли он определенную "ауру". Во время прохождения курса терапии он познакомился с женщиной и в результате естественного развития отношений вступил с ней в половую связь. По меньшей мере во время каждого второго полового акта они не пользовались никакими контрацептивами. Несколько раз я обращал его внимание на большую вероятность того, что женщина может забеременеть; он — и так зная об этом в силу своего медицинского образования — соглашался с этим и благодарил меня. Но когда он, по-прежнему продолжая совокупляться без контрацептивов, однажды выразил обеспокоенность задержкой менструации у этой женщины, я сам почувствовал какую-то смутную тревогу и раздражение от его глупости. Но затем я вдруг осознал, что по наивности не понял сути происходящего. Я сказал ему прямо: "Мне кажется, ты хочешь, чтобы эта женщина забеременела". Он было принялся отчаянно возражать, но потом остановился и задумался над истинностью моего утверждения.
Разумеется, все разговоры о том, что им следует делать, были здесь бесполезны. Этот молодой человек, который до сих пор не мог почувствовать себя настоящим мужчиной, испытывал жгучую потребность не просто доказать, что является им — в этом смысле оплодотворение женщины значительно важнее простой способности совершить половой акт — но и почувствовать хоть какую-то власть над природой, принять участие в примитивном, мощном и основополагающем акте творения, почувствовать пульсацию космических глубин. Мы не поймем проблем этих людей, если не осознаем, что наши пациенты были лишены именно этих глубинных источников человеческих ощущений.3
Во многих случаях с внебрачной беременностью — или ее эквивалентом — мы замечаем вызов самой системе общественных устоев, которая убивает страсть и считает, что техника может заменить чувства, вызов обществу, которое призывает людей к скучному и бессмысленному существованию и вселяет в них, особенно в молодых, чувство обезличенности, которое причиняет больше страданий, чем подпольный аборт. Всякий, кто долгое время работает с пациентами, не может не понимать, что причиняемые деперсонализацией психологические и духовные мучения переносятся гораздо тяжелее, чем физическая боль. Более того, физическая боль (или положение изгоя, или насилие, или преступление) зачастую становятся желанным избавлением от этих мучений. Неужели мы стали настолько "цивилизованными", что забыли о том, что девушка может жаждать зачатия, и не только по психобиологическим причинам, но и для того, чтобы вырваться из безводной пустыни лишенного чувств существования, хотя бы раз, если не навсегда, сломать живучее представление о том, что "ебля — это спасение от пустоты существования" ("Что мы будем делать завтра? — кричит богатая куртизанка у Т.Элиота, — Что мы вообще будем делать?") Или мы забыли о том, что девушка может хотеть беременности, потому что сердце никогда не становится абсолютно бесстрастным, и она просто хочет выразить то, в чем ей было отказано и отчего она сама отказалась в своем сознании в наш "холодный век"? По крайней мере, беременность — это что-то настоящее и благодаря ей мужчина и женщина убеждаются, что они живут настоящей жизнью.
Отчуждение воспринимается как утрата внутренней способности быть личностью. Я слышу как кричат такие люди: мы жаждем нечто сказать миру, но "наш сорванный голос" напоминает "визг крысы, порезавшей лапы о битое стекло".4 Мы ложимся друг с другом в постель, потому что не можем услышать друг друга; мы ложимся в постель, потому что мы не решаемся посмотреть друг другу в глаза, — в постели всегда можно отвернуть голову.5
Нет ничего удивительного в том, что бунт направлен против тех норм морали, которые кажутся людям причиной отчуждения; это вызов тем нормам общества, которые сулят добродетель без испытания, безопасный секс, дармовую мудрость и все удобства без всяких усилий — при условии, что человек согласится на бесстрастную любовь, а там и на бесчувственный секс. Отрицание дьявола приводит только к тому, что демоны возвращаются в новом обличье, чтобы неотступно преследовать нас; голос Геи будет услышан, и когда вернется тьма, черная мадонна займет место белой.
Наша беда заключается совсем не в научном прогрессе и просвещении как таковых, а в использовании их как покрова, под которым мы прячемся от волнений, связанных с сексом и любовью. Маркузе утверждает, что в обществе, отличающемся очень свободными нормами сексуальной морали, секс развивается в направлении слияния с эросом. Нет никакого сомнения в том, что наше общество пошло в прямо противоположном направлении: мы отделили секс от эроса, а затем попытались подавить эрос. Поэтому страсть, которая является одним из элементов всячески подавляемого эроса, поднимает бунт и вносит разлад в само бытие индивида.
Что есть эрос?
В наше время эрос считается синонимом "эротизма, полового возбуждения". "Эрос" назывался журнал, посвященный таинствам секса и содержавший "рецепты возбуждающих средств" и искрометные шутки типа: "Вопрос: Как этим занимаются дикобразы? Ответ: Осторожно". Начинаешь задумываться: неужто все позабыли о том, что эрос, по словам такого авторитета, как святой Августин, есть сила, влекущая людей к Богу. Подобные недоразумения делают безвременную кончину эроса неизбежной: ибо в наш перенасыщенный стимулами век нам не нужен стимул, который больше ничего не стимулирует. А потому мы обязательно должны разобраться в значении этого имеющего огромное значение термина.
Раннеантичная мифология повествует, что жизнь на земле была создана Эросом. Мир был пуст и безжизнен, и именно Эрос "схватил свои животворные стрелы и пронзил холодную грудь Земли", и "мрачная ее поверхность вмиг покрылась пышной зеленью". Это очень притягательный символ того, как Эрос задействует секс — эти пронзающие фаллические стрелы — в качестве инструмента, с помощью которого он сотворяет жизнь. Далее, Эрос был тем, кто вдохнул "дух жизни" в ноздри глиняных форм мужчины и женщины. С тех самых пор функция эроса заключается в том, чтобы дарить дух жизни, в противоположность функции секса, которая заключается в снятии напряжения. Эрос был одним из четырех первых богов, к которым относились также Хаос, Гея (мать-земля) и Тартар (бездна Аида под телом земли). Как говорит Джозеф Кэмпбелл, Эрос всегда, независимо от облика, является прародителем, первотворцом, источником жизни.6
Секс довольно точно можно определить физиологически — он представляет собой нарастание напряжения в теле человека и снятие этого напряжения. Эрос же, напротив, является переживанием личностных интенций и смыслов акта. Если секс есть ритм стимула и реакции, то эрос есть состояние бытия. Фрейд, а вслед за ним и другие, определяли удовольствие от секса, как снятие напряжения; что касается эроса, то здесь мы, напротив, не хотим спада возбуждения и стараемся его удержать, погрузиться в него и даже его усилить. Конечная цель секса — удовлетворение и расслабление, в то время, как эрос — это желание, стремление, вечная тяга к расширению горизонтов.
Все это соответствует определениям секса и эроса, предлагаемым в словарях. В словаре Вебстера секс* (от латинского sexus — "раскол") определяется, как "физиологические различия… свойство быть мужчиной или женщиной… отличительные функции мужчины или женщины".7
* В английском языке слово "секс" [sex] имеет два значения — "пол" и "половой акт". — Прим. перев.
Эрос же, напротив, определяется такими терминами, как "жгучее желание", "томление", "возвышенная, самодостаточная любовь, зачастую имеющая чувственное качество".8 Как и для нас, для латинян и греков секс и любовь были разными понятиями; но вот что вызывает наше удивление — латиняне крайне редко говорили о sexus. Секс их не интересовал; их волновала amor. To же самое и с греками — каждому известно греческое слово "эрос", но практически никто ни разу в жизни не слышал слова, которым они обозначали секс. Это — "φυλον", от которого произошел зоологический термин "филум", племя или род. Греческое слово "филия", обозначающее братскую любовь, происходит от совершенно другого корня.
Стало быть, секс является зоологическим термином и совершенно справедливо применяется как к человеческим существам, так и ко всем животным. Кинси был зоологом и в силу своей профессии изучал половое поведение людей с зоологической точки зрения. Мастерс — гинеколог и изучает секс с точки зрения специалиста по половым органам и способам их функционирования: стало быть, секс — это система нейрофизиологических функций, и половая проблема заключается в том, что вы делаете с вашими половыми органами.
Эрос, напротив, взмывает на крыльях человеческого воображения, он всегда выше любой техники и смеется над всеми пособиями из серии "как это делается", весело кружа над нашими механическими правилами, "занимаясь" любовью, а не манипулируя органами.
Ибо эрос — это влекущая нас сила. Суть эроса заключается в том, что он манит нас за собой, в то время как секс подталкивает нас сзади. Это отражается в нашем повседневном языке, когда мы говорим, что нас "влечет" к тому или иному человеку, или когда мы говорим, что нас "привлекает" новое место работы. Что-то в нас реагирует на другого человека или на другую работу, притягивает нас. Мы причащаемся, вбирая в себя эти формы, новые возможности, высшие смыслы, в нейрофизиологическом измерении, но также в эстетическом и этическом. Греки верили, что такой притягательной силой обладают знания и даже нравственная добродетель. Эрос есть стремление к единению с тем, к чему мы причастны — залог единения с нашими возможностями, единения со значимыми в нашем мире личностями, в отношениях с которыми мы осуществляем себя. Эрос есть стремление человека посвятить себя поиску arete, благородной и праведной жизни.
Короче говоря, секс — это отношения, которые сводятся к набуханию органов (которому мы стремимся дать приятную разрядку) и секреции желез (продукт которых мы стремимся высвободить, получив при этом удовлетворение). А эрос — это отношения, в которых мы не ищем разрядки, а скорее стремимся развивать, порождать и творить мир в его формах. От эроса мы ждем усиления стимуляции. Секс — это потребность, эрос — это желание; именно эта примесь желания и усложняет любовь. Когда мы, американцы, рассуждаем о сексе, то говорим почти исключительно об оргазме; можно согласиться с тем, что целью полового акта в его зоологическом и физиологическом смысле действительно является оргазм. Но оргазм не является целью эроса; его цель — разделить с другим человеком наслаждение и страсть, обрести новые измерения опыта, новые переживания, которые расширяют и углубляют бытие двух людей. Обычно, если верить бытующим в народе мнениям, а также свидетельствам Фрейда и прочих ученых мужей, — после снятия полового напряжения нам хочется заснуть, или, как говорят шутники, одеться, пойти домой и заснуть уже там. Но от эроса мы ждем как раз противоположного — мы не хотим спать, мы хотим думать о любимом человеке, наслаждаться воспоминаниями, находить все новые и новые грани той призмы, которую китайцы называют "ощущением тысячи удовольствий".
Именно в этом стремлении к единению с партнером проявляется присущая человеку нежность. Ибо источником нежности является эрос, а не секс, как таковой. Эрос — это стремление достичь полноты отношений. Иные это единство обретают в абстрактных формах. Так, философ Чарльз Пирс жил в одиночестве в своем доме в Милфорде, штат Пенсильвания, разрабатывая свою математическую логику, испытывая поистине эротические ощущения; он писал, что "на научный поиск мыслителя должен вдохновлять истинный эрос". Или это может быть единение как причастность к эстетическим, философским или же новым этическим формам. Но наиболее очевидным стремлением к единению является половое влечение двух индивидов. Два человека, стремясь, как стремятся все индивиды, преодолеть разобщенность и изолированность, — которые все мы претерпеваем, будучи индивидами, — могут достичь единения, в котором, на какое-то мгновение, два изолированных, индивидуальных опыта обращаются в подлинное единство. Соучастие выливается в новый гештальт, новое бытие, новое поле притяжения.
Наши экономические и биологические модели сбивают нас с толку и мы начинаем думать, что целью любовного действа является оргазм. У французов есть пословица насчет эроса, в которой куда больше истины: "В желании главное — не его удовлетворение, а его длительность". Андре Моруа, говоря о том, что предпочитает такую любовную игру, в которой оргазм является не целью, а естественным завершением, приводит еще одну французскую пословицу: "Самое приятное — это начало".
Если судить по воспоминаниям, которые люди выносят из своих занятий любовью, и по сновидением наших пациентов, оргазм является отнюдь не самым значительным моментом в этом процессе. Самым значительным скорее является момент вхождения, проникновения мужского члена во влагалище женщины. Нас потрясает именно этот момент, являющийся великим чудом, оглушающим и бросающим в дрожь — или разочаровывающим и повергающим в отчаяние, что открывает нам ту же истину, только с другой точки зрения. Это момент, когда реакции человека на ощущения от занятия любовью являются наиболее истинными, наиболее индивидуальными, наиболее непосредственными. Этот момент, а совсем не оргазм, является моментом единения и осознания того, что мы овладели друг другом.
Древние считали Эроса "богом", или, если точнее, даймоном.* Тем самым они символически выражали ту фундаментальную истину человеческого существования, которая гласит, что эрос всегда понуждает нас подняться над собой. Слова Гете о том, что "женщина всегда влечет нас вверх", следует понимать в том смысле, что "Эрос, в облике женщины, влечет нас вверх". Это, с одной стороны, наша субъективная, глубоко личная истина, с другой — объективная, социальная, обусловленная извне, то есть эта истина наших отношений с объективным миром. Древние, считая секс само собой разумеющейся вещью, естественной функцией тела, не видели никакой потребности в его обожествлении. Антоний, скорее всего, удовлетворял свою половую потребность с помощью куртизанок, сопровождавших римскую армию; но когда он встретил Клеопатру, на сцену вышел эрос и перенес Антония в совершенно другой мир, где его ожидали и величайшее блаженство, и гибель.
* "Дух-хранитель" в пантеоне греческих богов. Римляне называли этого духа "гением". — Прим. перев.
Художники всегда инстинктивно понимали разницу между сексом и эросом. В пьесе Шекспира друг Ромео Меркуцио насмешливо напоминает ему о его предыдущей возлюбленной, описывая ее во вполне современной анатомической манере:
Тебя я заклинаю ясным взором
Прекрасной Розалины, благородным
Ее челом, пунцовыми устами,
Ногою стройной, трепетным бедром
И прелестями прочими ее… (Акт II, сцена 1)
Это описание героини "во плоти", завершающееся, как и положено, "трепетным бедром" и намеком на прилагающиеся "прочие прелести", звучит так, словно взято из современного реалистического романа. Меркуцио так говорит, потому что сам не влюблен; с его точки зрения, стороннего наблюдателя, речь идет о феномене секса, который должен давать то, что любому молодому и жизнерадостному жителю Вероны дает женская красота.
А говорит ли Ромео на этом же языке? Абсурдный вопрос! Джульетта ввела его в состояние эроса:
Она затмила факелом лучи!
Сияет красота ее в ночи,
Как в ухе мавра жемчуг несравненный.
Редчайший дар, для мира слишком ценный! (Акт II, сцена 5)*
* Перевод Т.Л.Щепкиной-Куперник.
Примечательно, что Ромео и Джульетта были членами двух враждующих семей. Эрос перелетает через стены вражды. Я, вообще-то, нередко задумывался, не "враг" ли вызывает у нас особо острые эротические чувства. Эрос странным образом влечет нас к "чужаку", представителю отверженного класса, иной расы или национальности. Шекспир правильно выразил сущность эроса, описав, как любовь Ромео и Джульетты, несмотря на весь ее трагизм, примирила враждовавших Монтекки и Капулетти и объединила весь город Верону.
Эрос по Платону
В мудрости древних можно найти основания всегда ощутимого в эросе стремления к единению с любимым человеком, к продлению наслаждения, достижению глубин смысла и преумножению его сокровищ. Эрос придает смысл нашим отношениям не только в мире людей, но и в мире вещей, — к машине, которую мы создаем, к дому, который мы строим, к делу, которому мы посвящаем жизнь.
В поисках корней нашего понимания эроса, мы обращаемся к Платонову Пиру, который по-прежнему удивляет и восхищает читателей современностью понимания любви.9 Диалог Платона, в котором описывается пиршество (метко названное самым известным возлиянием в истории), посвящен исключительно спору об эросе. Дело происходит в доме Агафона, куда Сократ, Аристофан, Алкивиад и другие были приглашены, чтобы отпраздновать присуждение Агафону награды за лучшую трагедию. По ходу празднования все присутствующие по очереди излагают свои мысли об эросе и делятся опытом в этой области.
"Так что же такое Эрот" — спрашивает Сократ в своей речи, имеющей решающее значение. В качестве ответа он приводит слова Диотимы ("женщины очень сведущей в этом и во многом другом"): это нечто среднее между бессмертным и смертным… Великий гений, назначение коих быть "посредниками между людьми и богами… Пребывая посредине, они заполняют промежуток между теми и другими, так что Вселенная связана внутренней связью".*
* Платон, Собр. соч., в 4-х т., т.2, сс.112–113. — Пир, 202d-e.
Эрос является богом не в том смысле, что стоит над человеком, а потому, что обладает способностью собрать воедино все вещи и всех людей, способностью вдохнуть жизнь во все вещи. Под последним я понимаю придание уникальной внутренней формы, которую подлинно любящий находит в любом человеке, — в любой вещи, — и с которой он соединяет себя. Платон продолжает, что Эрос является богом, демиургом, составляющим творческий дух человека. Эрос — это сила, которая влечет человека не только к единению с другим человеком в половой или других формах любви, но и разжигает в человеке жажду знаний и страстное желание единения с истиной. Благодаря эросу мы не только становимся поэтами и изобретателями, но и обретаем высокую нравственность. Любовь, в форме эроса, является генерирующей энергией и генерирует эта энергия "нечто вроде вечности и бессмертия". Это значит, что в моменты такого творчества человек пребывает ближе всего к бессмертию.
Эрос есть стремление к единению и воспроизводству в биологическом царстве. Диотима говорит, что "страсть деторождения" мы наблюдаем у птиц и животных и что даже они "пребывают в любовной горячке", которая начинается со стремления к единству… Человеческое существо постоянно меняется:
"…всегда обновляется, что-то непременно теряя, будь то волосы, плоть, кости, кровь или вообще все телесное; да и не только телесное, но и то, что принадлежит душе: ни у кого не остаются без перемен ни его привычки и нрав, ни мнения, ни желания, ни радости, ни горести, всегда что-то появляется, а что-то утрачивается.
А еще удивительнее, однако, дело обстоит с нашими знаниями: мало того, что какие-то знания у нас появляются, а какие-то мы утрачиваем и, следовательно, никогда не бываем прежними и в отношении знаний…".*
* Там же, с. 118. — Пир, 207d-e, 208а.
Однако, при всех этих переменах, что же связывает воедино все это разнообразие? Эрос, живущая в нас могучая жажда цельности, стремление придать смысл и общий рисунок нашей многоцветности, придать форму обедняющей нас бесформенности, укрепить наше единство, чтобы противостоять существующим в нас разрушительным наклонностям. Этот аспект ощущения, который является одновременно психологическим, эмоциональным и биологическим, и есть эрос.
Это эрос зовет людей искать исцеления в психотерапии. В противоположность нашим современным доктринам приспособляемости, гомеостаза или снятия напряжения, эрос всегда зовет к расширению пределов нашего Я, постоянно подпитывает стремление индивида целиком посвятить себя поискам высших форм истины, красоты и добра. Греки верили, что это постоянное обновление Я служит неотъемлемой частью эроса.
Греки также знали, что в эросе всегда присутствует тенденция, сводящая его к простому половому желанию — к вожделению, страсти, или по-гречески epithymia. Но они настаивали, что биологический аспект не противоречит эросу, а является его низшим уровнем:
"Те, у кого разрешиться об бремени стремится тело… обращаются больше к женщинам и служат Эроту именно так, надеясь деторождением приобрести бессмертие и счастье и оставить о себе память на вечные времена…" Но есть и такие, "которые беременны духовно, и притом в большей даже мере, чем телесно, — беременны тем, что как раз душе подобает вынашивать… разумение и прочие добродетели. Родителями их бывают все творцы и те из мастеров, которых можно назвать изобретательными",* то есть первооткрывателями.
* Там же, с. 119. — Пир, 208е, 209а.
Мы пребываем в эросе не только тогда, когда ощущаем свою биологическую энергию вожделения, но также тогда, когда способны раскрыться и посредством воображения, а также духовного и эмоционального чувства слиться с формами и смыслами, находящимися вне нас — в мире межличностных отношений и окружающем нас мире природы.
Эрос — это преимущественно связующий элемент. Это мост между бытием и становлением, он соединяет факт с его значением для нас. Короче говоря, эрос является извечной творящей силой, о которой говорил Гесиод, ныне же трансформировавшейся в силу, которая находится как "внутри", так и "вне" человека. Мы видим, что у эроса много общего с предлагаемым в этой книге концептом интенциальности: и то и другое предполагает стремление человека к единению не только с объектом любви, но и с объектом знания И сам этот процесс подразумевает, что человек уже до какой-то степени приобщился к знанию, которое он ищет, и к человеку, которого он любит.
Позднее святой Августин увидел в эросе силу, которая влечет людей к Богу. Эрос есть стремление к мистическому единению, которое происходит в религиозном переживании единения с Богом или во фрейдовском "океаническом" опыте.14 Элемент эроса присутствует также в фатальной любви человека — amor fati, как называл ее Ницше. Под фатумом я понимаю не какие-то особенные или случайно приключающиеся с нами невзгоды, а, скорее, примирение с конечностью бытия человека, с ограниченностью наших сил и разума, с неизбывной перспективой немощи и смерти. Миф о Сизифе представляет судьбу человека в самой мрачной форме, какую можно только себе представить; но Камю считал, что человек, которому хватает мужества, чтобы примириться с осознанием своего фатума, найдет в своей судьбе нечто, достойное любви, что введет его в эрос:
"Я оставляю Сизифа у подножия его горы!… Эта вселенная, отныне лишенная властелина, не кажется ему ни бесплодной, ни ничтожной. Каждая крупица камня, каждый отблеск руды на полночной горе составляет для него целый мир. Одной борьбы за вершину достаточно, чтобы заполнить сердце человека. Сизифа следует представлять себе счастливым".15
Эрос подталкивает человека к самоосуществлению, но это самоосуществление не сводится к эгоцентрическому навязыванию субъективных прихотей и желаний пассивному миру. Идея "покорения" природы или реальности привела бы древних греков в ужас и была бы немедленно заклеймена, как hubris — гордыня, которая оскорбляет богов и неизбежно будет иметь для человека печальные последствия. Греки всегда относились к объективному, данному миру с почтительным уважением. Мир греков приводил их в восторг — его красота, его форма, его бесконечные перемены, которые не переставали вызывать в них жажду познания, жажду раскрыть его тайны; они были навечно влюблены в этот мир. Они не разделили бы и наши современные сентиментальные убеждения, что жизнь сама по себе является или хорошей или плохой; с их точки зрения, все зависит от того, как сам человек к ней относится. Само их трагичное мировоззрение заставляло их наслаждаться жизнью. Никакой "прогресс" и никакое богатство не помогут вам обмануть смерть; так почему бы не смирится со своей судьбой, выбрать подлинные ценности и наслаждаться и верить в свое бытие и то Бытие, частью которого мы есть?
"Разве прекрасное не достойно вечной любви?" — восклицает Еврипид. Вопрос риторический, но ответ — нет. Прекрасное следует любить не в силу инфантильной потребности или потому что оно символизирует душу, не потому, что в нем воплощен еще не сфокусированный на цели секс как таковой или "подсказка" в механизмах приспособляемости, и даже не потому, что оно дает нам счастье, — а просто потому, что оно красиво. Прекрасное влечет нас-, так любовь заставляет нас жить.
Какое отношение все это имеет к психотерапии? Я убежден, что очень большое. Обманчивое в своей простоте замечание Сократа — "лучшего помощника, чем эрос, человеческой природе найти не просто" — мы можем отнести как к процессу психотерапии, так и к внутреннему стремлению личности к психическому здоровью. Судя по Диалогам Платона, Сократ был величайшим в истории психотерапевтом. Его молитву в конце диалога с Федром можно было бы начертать на стене кабинета каждого психотерапевта:
"Милый Пан и другие здешние боги, дайте мне стать внутренне прекрасным! А то, что у меня есть извне, пусть будет дружественно тому, что у меня внутри. Богатым пусть я считаю мудрого, а груд золота пусть у меня будет столько, сколько ни унести, ни увезти никому, кроме человека рассудительного".*
* Платон, Собр. соч., т 2, с. 191. — Федр, 27 с.
Фрейд и Эрос
Но древние греки знали, как это рано или поздно понимает каждое общество и почти каждый индивид, что цельность личности в условиях реальной жизни требует остроты и открытости сознания, которые вовсе не просто сохранить. Тогда начинается истощение эроса, сведение его к чисто половому удовлетворению или похоти. В наше время мы наблюдаем несколько направлений мысли, не приемлющих эрос. Одно из них — идеалисты, которые, подобно Дени де Ружману, отождествляют эрос с половой страстью и это отождествление отчасти объясняет их подозрительное и отрицательное отношение к эросу. Ибо эрос всегда неизбежно становился камнем преткновения с точки зрения любой чисто умозрительной или религиозной категории.
Встречаются сегодня также и "натуралисты", напоминающие раннего Фрейда, который мужественно боролся за то, чтобы свести любовь к либидо. Такой количественный подход отвечал Гельмгольцевой модели в физической науке XIX столетия, идеалам которой Фрейд был всецело предан. Его потребность в отрицании эроса была настолько велика, что этот термин даже не указан в индексе к его Общему введению в психоанализ. В первых двух томах книги Эрнеста Джонса Жизнь и работа Фрейда, этот термин также не указан в индексе, хотя во втором томе содержится около тридцати фрагментов, где обсуждается тема либидо. В третьем томе Джонс пишет: "Упоминания об Эросе встречаются только в ранних работах Фрейда [до написания По ту сторону принципа удовольствия — 1920 г.]". Джонс приводит только два незначительных упоминания, в которых прилагательное "эротический" является синонимом прилагательного "сексуальный". И только в этом последнем томе нам сообщают, что Фрейд открывает эрос в его истинной форме. Он открывает его, как аспект человеческого опыта, который не только отличается от либидо, но и в очень важном смысле противоположен либидо. Тут-то и происходит примечательное событие: Фрейд признает, что полное удовлетворение либидо ведет, через инстинкт смерти, к самоуничтожению. И тогда эрос — дух жизни — приходит на помощь к либидо, дабы спасти его от безвременной кончины в пучине собственных противоречий.
Но мы забегаем вперед. Говоря о Фрейде в связи с этой темой, мы должны различать три аспекта. Во-первых, это его влияние в самых широких кругах, которое действительно было очень велико Когда популяризация выпячивает буквальный смысл его концептов "влечение" и "либидо", фрейдизм самым непосредственным образом начинает привносить банальность и в секс и в любовь, несмотря на то, что у его основоположника были прямо противоположные намерения.16
Фрейд хотел обогатить и расширить понятие секса, включив в него все — от ласк и кормления грудью до творчества и религии. "Мы используем слово сексуальность в том же всеобъемлющем смысле, в каком немцы используют слово lieben".17 Это значительное расширение объема термина "секс" объясняется спецификой венской культуры викторианских времен, ибо любая жизненно важная человеческая функция, если она подавляется так, как в те времена подавлялся секс, будет просачиваться во все остальные виды человеческой деятельности, придавая им особую окраску.
Второй аспект — это использование самим Фрейдом таких терминов, как "половой инстинкт", "влечение" и "либидо". Мы обнаруживаем, что Фрейд, как и любой другой мыслитель с таким богатством идей, весьма двусмысленно использует эти термины, непринужденно меняя их значение по мере развития мыслей. Его концепции либидо и полового влечения включают в себя "демонические" элементы, которые выходят за рамки физиологического определения секса, о чем мы поговорим ниже. В начале его карьеры его друзья настаивали, чтобы он использовал термин "эрос", поскольку он более цивилизованный и не намекает на нечто "постыдное", как, скажем, "секс"; но он упрямо — и обоснованно, если смотреть с его точки зрения — отказывался потакать таким образом предрассудкам. Похоже, в то время он считал, что эрос — это то же самое, что секс. Он придерживался модели половой любви (либидо), которой в определенном, необходимом количестве обладает каждый человек; и любой другой, отличный от полового единения, вид любви является всего лишь выражением "бесцельного" само по себе полового влечения.
Вера Фрейда в то, что мы обладаем строго определенным количеством любви, привела его к утверждению, что когда человек любит другого человека ослабевает его любовь к самому себе.
"Мы видим полную противоположность между либидо, сосредоточенным на Я, и либидо, сосредоточенным на объекте. Чем больше задействовано одно, тем слабее становится другое. Высшая фаза развития либидо, направленного на объект, проявляется в состоянии влюбленности, когда субъект полностью отказывается от себя ради объекта катексиса".18
Это похоже на страх потерять себя, влюбившись ненароком. Но исходя из своего клинического опыта, я уверен, что если сводить все к подобной модели секса, это уничтожает жизненно важные ценности. Опасность потерять себя, поддавшись влюбленности, возникает в результате головокружения и шока, которые испытывает человек, выброшенный на берег нового континента чувств. Мир внезапно неимоверно расширяет свои горизонты и мы оказываемся в краях, о существовании которых даже не подозревали. Способны ли мы отдать себя любимому человеку и при этом сохранить самостоятельность? По вполне понятным причинам это пугает нас; но эту тревогу, которую вселяют в нас необозримые пределы и опасности нового континента — вкупе со всеми восторгами — не следует путать с утратой самоуважения.
Вообще-то, повседневные наблюдения любого человека прямо противоположны точке зрения Фрейда. Когда мы влюбляемся, мы чувствуем себя более ценными и относимся к себе более заботливо. Все мы встречали неуверенных в себе, застенчивых юношей и девушек, которые, влюбившись, неожиданно приобретали более твердую походку и внутреннюю уверенность в себе, а на их лицах было написано: "Теперь вы смотрите на человека, который что-то из себя представляет". И это нельзя объяснить "возвратным катексисом либидо" от любимого человека; ибо это возникающее с любовью внутреннее чувство самоценности не зависит от того, отвечают вам на любовь взаимностью или нет. Наилучшую общепринятую ныне формулировку этой проблемы предложил Гарри Ст. Салливан, который в изобилии предоставил доказательства того, что мы любим других людей в той мере, в какой способны любить себя самих, и если мы не ценим себя, мы не можем ценить или любить других.
Что ж, то, что первые две трети жизни и деятельности Фрейда прошли без единого упоминания об эросе, не значит, что он согласился бы с нашим современным поклонением "свободе самовыражения". Он бы косо посмотрел на все идущие в нашем обществе разговоры о необходимости делать то, что "естественно", и возведение в идеал обитающего на одном из островов где-то в южных морях счастливого дикаря из книги Руссо. В 1912 г. Фрейд писал:
"… Не составляет труда доказать, что психическая ценность эротических [читай — сексуальных] потребностей уменьшается по мере того, как их удовлетворение становится все более доступным. Чтобы поднять уровень либидо, необходимо препятствие; и там, где естественных препятствий на пути к удовлетворению было недостаточно, люди во все времена возводили стены условностей, чтобы получать от любви наслаждение. Это относится, как к индивидам, так и к нациям. В те времена, когда на пути к половому удовлетворению не возникало никаких трудностей, например в периоды упадка древних цивилизаций, любовь утрачивала всякую ценность, и жизнь становилась пустой. Для восстановления незаменимых аффективных ценностей требовались сильные реактивные формации… аскетическое течение в христианстве придало любви психологическую ценность, какой ей никогда не мог придать языческий античный мир".19
Вышеприведенные слова Фрейд написал за два года до Первой мировой войны. И вскоре после окончания войны он уже понял, какие последствия имеет эта проблема для каждой отдельной личности. Определенные радикальные мысли не могли не возникнуть у него при виде того, что страдающие от вызванных войной неврозов пациенты не ведут себя в соответствии с принципом удовольствия. То есть эти пациенты не стремились избавиться от болезненной травмы — более того, они хотели обратного; в своих Сновидениях и в реальной жизни они вновь и вновь переживали эту боль. Они пытались использовать засевшую в их памяти травму, вновь пережить тревогу, чтобы успокоить какую-то другую боль или перестроить свои отношения с миром таким образом, чтобы эта травма могла иметь смысл. Как не крути, но происходило что-то бесконечно более сложное, чем простое снятие напряжения и обострение удовольствия. Это привлекло внимание Фрейда к клиническим проблемам мазохизма и непреодолимому влечению к повторению переживания. Он увидел, что любовь, — куда более сложная вещь, чем представляется в его ранних теориях, — всегда существует в связи со своей полярной противоположностью — ненавистью Отсюда было уже рукой подать до его теории, согласно которой жизнь всегда существует в полярности со смертью.
Теперь мы подошли к третьему аспекту взглядов Фрейда на секс и эрос, проявившемуся в более поздних его работах и имеющему для нас наиболее важное значение. Он начал понимать, что само по себе удовлетворение полового влечения — полное удовлетворение либидо с сопутствующим ему снятием напряжения — всегда отмечено тяготением к саморазрушению и смерти.
Сразу же после Первой мировой войны, когда Фрейду было шестьдесят четыре года, он написал работу По ту сторону принципа удовольствия, которая вызывала и вызывает бесконечные споры даже среди самих психоаналитиков Работа начинается с подытоживания предыдущих убеждений Фрейда насчет того, что "ход ментальных событий, автоматически регулируемый принципом удовольствия начинается с неприятного напряжения и принимает такое направление, чтобы его окончательный результат совпал со Снятием напряжения".20 Половые инстинкты (которые, ворчливо замечает он, так трудно "учить приличиям") являли нам первоочередной пример цели удовольствия как снятия напряжения. Целью инстинкта, подчеркивает Фрейд, является возвращение предыдущего состояния. Это положение он позаимствовал из второго закона термодинамики, согласно которому энергия вселенной постоянно истощается. Поскольку " инстинкт есть изначально присущее органической жизни стремление восстановить предыдущее положение вещей" и "неодушевленные вещи существовали прежде живых".21, значит наши инстинкты толкают нас обратно в неодушевленное состояние. Инстинкты движутся в направлении нирваны, которая представляет собой полное отсутствие возбуждения. "Целью любой жизни является смерть".22 И здесь мы упираемся в самую спорную из теорий Фрейда — теорию об инстинкте смерти или Танатосе. Наши инстинкты, которые вроде бы двигают нас вперед, на самом деле ведут нас по большому кругу, и мы обречены вернуться к смерти. Человек, это "столь благородное по своим задаткам создание", шаг за шагом движется по дороге, которая закончится тем, что он снова станет неодушевленным камнем. Из праха мы вышли, во прах и возвратимся.23
Затем произошло примечательное событие, важность которого, с моей точки зрения, не сознается теми, кто изучает наследие Фрейда. Фрейд впервые заговорил об эросе, как о центральном и необходимом понятии. Вероятно, нет ничего удивительного в том, что этот человек, который, будучи венским мальчиком-гимназистом, вел дневник на греческом языке, теперь, столкнувшись к величайшей дилеммой своей жизни, нашел в мудрости древних выход из тупика. Эрос приходит, чтобы спасти секс и либидо от вымирания.
Эрос появляется на сцене как противоположность Танатосу, инстинкту смерти. Эрос борется за жизнь с нашим влечением к смерти. Эрос "соединяет и скрепляет, созидает и сочетает, повышая наше внутреннее напряжение".24 Эрос придает новизну напряжению, пишет Фрейд.25 Эрос наделяется не только более сильным, чем у либидо, характером, но и в очень важном смысле отличным от характера либидо. Эрос, "возводящий города", как называет его Оден, противостоит принципу удовольствия, с его снятием напряжения, и делает человека способным создавать цивилизации. "Эрос функционирует с самого начала жизни и представляется инстинктом жизни, противоположным инстинкту смерти". Теперь человеческое существование представляет собой битву новых титанов — Эроса и Танатоса.
Фрейд сам пишет о том, как он ощутил противоречивость происходящих в его ментальности событий в процессе рождения этой теории: "… инстинкты смерти по самой своей природе немы… и шум жизни по большей части создает Эрос. И борьба с Эросом!".26 Вот смелая непоследовательность гения! И одним из наиболее серьезных проявлений непоследовательности является попытка Фрейда по-прежнему отождествлять этот Эрос с половыми инстинктами. Он говорит о "либидо Эроса", "либидо Подсознания", "либидо Я", "десексуализированном либидо" и "не-десексуализированном либидо" — пока читатель не начинает чувствовать, что Фрейд испытывает необходимость загнать все свои открытия, даже такие великие, как новое открытие эроса, в прокрустово ложе своей старой энергетической системы.
Мы сможем разобраться во всех этих хитросплетениях, если будем все время помнить тот важный факт, что Фрейд заговорил об эросе только тогда, когда ему пришлось признать, что функционирующие на основе принципа удовольствия половые инстинкты ведут к самоуничтожению. Итак, этот Эрос действительно представляет собой что-то по-настоящему новое. В конце одного из своих эссе Фрейд нежно называет его "проказником", и у нас складывается впечатление, что этот Эрос не позволит инстинкту смерти так просто установить в подсознании покой, "поддерживаемый принципом удовольствия" и купленный ценой апатии. Фрейд пишет: "Когда торжествует удовлетворение, Эрос выводится из игры, и инстинкт смерти может беспрепятственно достигать своей цели".27
Дилемма, которая стоит перед нашим обществом, похожа на дилемму Фрейда — предположение, что конечной целью существования является удовлетворение импульсов, завело секс в тупик скуки и банальности. Эрос зовет нас вперед, в царство новых возможностей; это предел досягаемости человеческой фантазии и интенциональности. Некоторые авторитетные ученые.28, опровергая буквализмы представлений об инстинкте смерти, указывают, что применение здесь второго закона термодинамики неверно, поскольку растения и животные пополняют запасы своей энергии из окружающей среды. Отсюда — эрос является нашей способностью постоянно вести диалог со своим окружением, как с миром природы, так и с миром людей.
Фрейд сам гордился тем, что связал свой концепт эроса с воззрениями древних греков. Он пишет: "… любому, кто надменно и с презрением смотрит на психоанализ, следовало бы вспомнить, насколько тесно обостренная сексуальность психоанализа связана с Эросом божественного Платона".29 Когда сторонники Фрейда написали несколько статей, в которых указывали на тесную связь его эроса с эросом Платона, мастер с энтузиазмом подтвердил их точку зрения: "По своим истокам, функции и связи с половой любовью Эрос в философии Платона полностью совпадают с силой любви, с либидо психоанализа, что было подробно показано Нахмансоном (1915) и Пфистером (1921)".30 Однако Фрейдова концепция эроса не просто отличается от концепции Платона, но, главное, как утверждает профессор Дуглас Морган, долгие годы тщательно изучавший Платоновы и Фрейдовы представления о любви, состоит в том, что
"Фрейдова любовь является почти что противоположностью Платоновой любви. Их метафизические основания и динамическая направленность не просто различны, но, по сути, противоречат друг другу. Эти две концепции настолько далеки от совпадения, о котором говорил Фрейд, что если в одной из них есть хоть какой-то смысл, то вторая уже не может быть верной".31
С этой точкой зрения согласен и Филип Рифф: "… эрос психоанализа совершенно не похож на эрос Платона".32
Что у Фрейда было общего с Платоном, так это вера в то, что любовь является фундаментальным человеческим опытом, что она присутствует во всех действиях человека и является глубокой, мощной мотивирующей силой. "И тот, и другой считали, что Эрос включает в себя и генитально-половую, и братскую любовь, любовь к отечеству и любовь к науке, искусству и совершенству".33 Но на вопрос "что есть любовь" мы получаем совершенно разные ответы. Даже после введения в свои работы понятия эроса, Фрейд определял его, как силу, "вырывающуюся из хаотичных, неразличимых, инстинктивных источников энергии, по пути предсказуемости и предписанности, по направлению к жизненности и к частично и болезненно цивилизованной любви".34 И сила эта подталкивает человека сзади, тогда как для Платона эрос всецело связан с открывающимися перед человеком возможностями, которые "влекут" его вперед; это стремление к единению, способность прийти к новым формам человеческих переживаний. Эрос отличается "целенаправленностью и движением к чему-то большему, чем природа".35 Цивилизация, в рамках которой учился, мыслил и работал Фрейд, была разобщенной цивилизацией, и эта разобщенность проявилась уже в его определениях любви и секса — и полстолетия спустя еще более откровенно проявляется в наших определениях. Этим, отчасти, можно объяснить ошибочное представление Фрейда об общности его эроса с эросом Платона.36
Но со своей стороны, я высоко ценю Фрейдову интуицию или, если позволите, его "надежду" на то, что в его эросе есть что-то от Эроса Платона. Это еще один пример того, с чем мы часто сталкиваемся у Фрейда (что лежит в основе частого и важного для него обращения к мифам): характер и смысл его концепции выходит за рамки его методологии и за рамки логики строгого применения понятий. Я не согласен с профессором Морганом, когда он говорит, что Фрейдова и Платонова концепции любви несовместимы друг с другом. Исходя из опыта своей клинической работы с пациентами, я полагаю, что они не только совместимы, но и являются двумя сторонами одной и той же медали, которые одинаково необходимы в психологическом развитии человеческого существа.
Единство Эроса: случай из практики
Я приведу пример психоаналитического сеанса, имевшего место как раз тогда, когда я писал эту главу, и, как я считаю, демонстрирующего не только противоположность Платоновых и Фрейдовых взглядов на эрос в терапии, но и взаимосвязь между ними.
Моей пациенткой была женщина лет под тридцать. Она страдала от страшной притупленности чувств и отсутствия непосредственности, из-за чего ее половые отношения с супругом были серьезной проблемой для них обоих, а также от застенчивости, которая иногда просто парализовала ее. Она родилась в старой аристократической американской семье, занимавшей видное положение в обществе. Ее честолюбивый отец, мазохистка мать и три старших брата представляли собой жесткую структуру, в которой ей пришлось расти. В ходе терапевтического лечения она научилась — при ее рациональном темпераменте — искать причину своего эмоционального паралича в той или иной ситуации, разбираться, что происходит, когда она ничего не чувствует в сексуальном плане, и она обрела способность ощущать и выражать гнев, половую страсть и прочие чувства, причем делать это довольно свободно. Этому в значительной степени способствовало исследование ее детства и тяжелых травм, полученных ею в ее слишком дисциплинированной семье, и этот анализ оказал благоприятное воздействие на ее сегодняшнюю жизнь.
Но на определенной стадии мы зашли в тупик. Женщина продолжала спрашивать "почему", но это уже не вело ни к каким изменениям; складывалось такое впечатление, что ее эмоции сами были себе причиной. Сеанс, о котором я намерен рассказать, имел место в тот период, когда она работала над возможностью достичь подлинной любви к своему супругу.
Женщина рассказала мне, что предыдущим вечером была в игривом настроении и попросила своего супруга достать жука, который якобы залез за шиворот ее платья. Несколько позднее этим же вечером, когда она подписывала чеки за своим письменным столом, муж неожиданно обнял ее. Она пришла в ярость от того, что ее прервали, и поцарапала ему лицо ручкой. Рассказывая мне об этом происшествии, она тут же выдала несколько готовых объяснений своего гнева, оправдывая его тем, что в детстве ее старшие братья всегда мешали ей, чем бы она ни занималась. Когда я не принял это объяснение, спросив женщину для чего она дала волю своим чувствам в этом случае, она рассердилась: я лишал ее "свободы спонтанных проявлений". Разве я не понимаю, что она должна "доверять своим инстинктам"? Разве мы не потратили столько времени на то, чтобы помочь ей научиться чувствовать? И что, наконец, я имею в виду, когда спрашиваю ее о том, что она делает со своими чувствами? Более того, мой вопрос прозвучал словно обвинение, брошенное ей ее семьей. Она закончила свою агрессивную речь утверждением: "Чувства есть чувства!"
Мы легко можем разобраться в той противоречивой ситуации, в которую попала эта женщина. Она полностью испортила вечер со своим мужем. Внешне она искала возможность установить между ними отношения подлинной любви, а на самом деле сделала все наоборот. Одной рукой он притягивала мужа к себе, а другой немедленно отталкивала его. Своему противоречивому поведению она находила распространенное в наше время оправдание, а именно — что чувство есть субъективный внутренний импульс, эмоции (термин произошел от слова e-movere — "выходить наружу") — это силы, которые приводят человека в движение, и потому эти эмоции надо "переживать" так, как вы считаете нужным в данный момент. Пожалуй, это наиболее распространенное в нашем обществе бездумно принятое убеждение насчет эмоций. Нечто вроде эндокринной гидравлики — мы имеем внутреннюю секрецию адреналина и потребность дать выход своему гневу, или мы имеем гонадную гиперфункцию и должны найти сексуальный объект. (Что бы там Фрейд ни имел в виду на самом деле, эти представления освящены его именем.) Это убеждение соответствует популярной механистической модели тела, а также более сложным детерминистским моделям, которые обрушивались на многих из нас на первых занятиях по психологии и физиологии.
А вот чего нам не говорили — потому что практически никто этого не замечает — так это того, что подобная система является совершенным солипсизмом и крайне шизоидна. В ней мы разделены подобно монадам, отчуждены друг от друга и между нами не наведено никаких мостов. Мы можем "переживать эмоции" и вступать в половые отношения до второго пришествия, и никогда не ощутить подлинной связи с другим человеком, разве что и вправду случится второе пришествие. Ситуация не становится менее ужасной от понимания того, что очень много людей, если не большая часть нашего общества, ощущают такое вот одиночество. А поскольку чувства делают их одиночество еще более болезненным, то они перестают их испытывать.
Из поля зрения моей пациентки (и нашего общества) выпал тот факт, что эмоции — это не только толчок в спину, но и указатель, импульс к формотворчеству, призыв к созиданию ситуации. Чувства — это не просто случайное моментальное состояние, а указатель в будущее, возможность понять, какую форму я хочу придать чему-то. За исключением случаев наиболее серьезной патологии, чувства всегда имеют место в личностном поле, в переживании себя как личности и в воображении присутствия других людей, даже если на самом деле никого рядом нет. Чувства — в их правильных проявлениях есть способ общения с людьми, которые значимы для нас в нашем мире, это — стремление завязать с ними отношения; они являются языком, с помощью которого мы возводим мосты от личности к личности. То есть можно сказать, что чувства — интенциональны
Первый аспект эмоций как "подталкивающих" нас сил, относится к прошлому и связан с причинностью и детерминизмом прошлого опыта индивида, включая детский и архаический. Это регрессивная сторона эмоций, которой Фрейд придавал такое большое значение. В этом плане, исследование детства пациента и возвращение к былым переживаниям играют существенную роль для достижения устойчивого результата психотерапевтического лечения.
Второй аспект, напротив, зарождается в настоящем времени и указует в будущее. Это прогрессивная сторона эмоций Наши чувства, подобно кисти и краскам художника, являются средствами, с помощью которых мы сообщаем миру нечто очень важное. Наши чувства не только подразумевают другую личность, но и в самом деле отчасти сформированы чувством присутствия другого человека. Мы чувствуем в магнетическом поле. Чувствительный человек овладевает умением, зачастую сам того не сознавая, улавливать чувства окружающих его людей, подобно скрипичной струне, которая реагирует на вибрацию любой другой музыкальной струны в данных стенах, хотя в столь бесконечно малой степени, что ухо может не слышать ее звучания. Любой пользующийся взаимностью влюбленный "инстинктивно" знает об этом. Это одно из главных (если не самое главное) качеств, отличающих хорошего терапевта.
Если мы имеем дело с первым аспектом эмоций, то вопрос "почему" вполне логичен и точен. Но второй аспект требует вопроса "ради чего". Подход Фрейда приблизительно отвечает первому аспекту эмоций, и он, вне всякого сомнения, не согласился бы с моим вопросом "ради чего". Представления Платона и греков об эросе связаны со вторым аспектом: эмоция — это влекущая вперед сила; мои чувства предвосхищение достоинств целей, идеалов, грядущих возможностей. Такое различение делается также и в современной логике: причина — это прошлые соображения, объясняющие нам почему мы поступили так или иначе; цель, напротив, — это то, чего мы хотим добиться своим поведением. Первая связана с детерминизмом. Вторая сообщает вам движение навстречу новым возможностям. Следовательно, она связана со свободой. Мы принимаем участие в формировании будущего в силу нашей способности постигать новые возможности и реагировать на них; пытаясь перенести их из воображения в реальность Это — процесс активной любви. Это наш эрос отвечает эросу других людей и эросу мира природы.
Вернемся к моей пациентке: в ходе вышеупомянутого сеанса она ощутила безнадежность, причиной которой было смутное понимание того, что она оказалась в ловушке. Через два сеанса ей пришлось сказать: "Я всегда искала причины своих чувств по отношению к Джорджу. Я верила, что это является самым важным — что этот процесс приведет меня к нирване. И вот я уже перебрала все причины. Может быть, никаких причин и нет". Интересно, что она сама не поняла, насколько блестящей была ее последняя фраза. Ибо, как в терапии, так и в жизни, когда мы достигаем той стадии, на которой все наши основные потребности по большей части удовлетворены и не толкают нас в спину, мы действительно обнаруживаем "отсутствие причин", в том смысле, что причины утратили свою значимость.37 Конфликт, с одной стороны, становится застоем и скукой, а с другой — открывает Я индивида навстречу новым возможностям, углублению сознания, выбору нового пути в жизни и исполнению выбора.
Моя пациентка ясно осознала различия между "причиной" и "целью" и это привело ее к нескольким важным озарениям. К ее большому удивлению, одним из них было радикальное изменение значения, которое она придавала ответственности. Теперь она видела ее уже не как внешние и пассивно принятые ею ожидания ее семьи, а как активную ответственность перед самой собой, исходящую из осознания силы, которую она обрушила в тот вечер на своего супруга. Теперь она должна была решить, какой путь в жизни ей следует избрать вообще и вместе с супругом в частности.
У меня есть все основания сказать — опять же за исключением случаев сильной патологии — что все эмоции, какими бы противоречивыми они ни казались, образуют своеобразное единство в гештальте, который составляет "я". Клиническая проблема — как в случае с беспокойным ребенком, который просто вынужден таким образом высказывать свою любовь к родителям, которые, на самом деле, ведут себя враждебно и деструктивно по отношению к нему — заключается в том, что человек не может или не хочет сознавать, что он чувствует или что он делает со своими чувствами, Когда моя пациентка сумела проанализировать два своих противоречивых поступка, совершенных ею по отношению к своему супругу в течение одного вечера, то оказалось, что оба они были мотивированы ее злостью на него и на мужчин вообще, что она создавала ситуацию, в которой могла бы доказать, что ее муж — грубая скотина И в том, и в другом действии, она исходила из убеждения, что мужчина является носителем власти (то же самое относилось и ко мне в ходе терапевтического "процесса нирваны"). В то же время она оставалась капризным, своенравным ребенком. Она могла уживаться с мужчинами на основе сложившейся в детстве схемы, но — и эта тревога особенно сильно проявилась в ходе последующих сеансов — могла ли она общаться с ними, как взрослый человек?
На крыльях Эроса мы, если так можно выразиться, поднимаемся к новой концепции причинности. Нас больше ничто не заставляет представлять человеческое существо этаким шаром в причинно-следственном бильярде, способным отвечать только на вопрос "почему" и отличающимся предсказуемым поведением, И в самом деле, Аристотель считал, что мотивация эроса так сильно отличается от детерминации прошлым, что даже не называл ее причинностью. Тиллих пишет "У Аристотеля мы находим доктрину всемирного эроса, влекущего все к высшей форме, чистой реальности, которая движет миром не как причина (kinoumenon), а как объект любви (eromenon), И описываемое им движение — это движение от потенциального к реальному, от dynamis к energeia…".38
Я предлагаю считать, что действия человеческих существ мотивируются новыми возможностями, целями и идеалами, которые манят за собой и влекут в будущее. Это никак не исключает того факта, что всех нас в какой-то мере толкает в спину прошлое, определяющее, в некотором смысле, наши поступки. Но это сила действует заодно со своей другой половиной. Эрос дает нам причинность, в которой соединяются "почему" и "зачем". Первое является частью всякого человеческого опыта, потому что все мы принадлежим к конечному миру природы; в этом отношении, любой из нас, принимая любое важное решение, должен выяснить, какое воздействие он может оказать на реальную ситуацию. Этот аспект особенно важен в проблемах невроза, в ходе которого прошлые события действительно оказывают неотвратимо повторяющееся, последовательное и предсказуемое влияние на действия личности. Фрейд был прав, когда говорил, что в неврозе и болезни действует жесткая, детерминистская причинность.
Но он ошибался, когда пытался перенести этот принцип на все человеческое бытие. Аспект цели, возникающий в том момент, когда индивид способен осознать, что он делает, открывает перед ним новые будущие возможности и вводит элемент личной ответственности и свободы.
Симптомы недомогания Эроса
Здесь мы ведем речь об Эросе классического века, когда он все еще был творящей силой и мостом между человеком и богами. Но "здоровье" этого Эроса ухудшилось. Платоново понимание Эроса является чем-то средним между представлениями Гесиода об Эросе как о могучем демиурге и более поздними представлениями об Эросе, как о больном ребенке. Эти три аспекта Эроса являются также точным выражением психологических архетипов человеческого восприятия: каждый из нас в разное время воспринимал его и как творца, и как посредника, и как банального плейбоя. Наш век отнюдь не впервые в истории человечества столкнулся с банальностью любви, равно как и с тем, что любовь без страсти впадает в недуг.
Из очаровательной легенды, приведенной в начале этой главы, ми видим, что древние греки лаконичным и насыщенным языком мифа изложили озарения, порожденные архетипами человеческой психе. Эрос, дитя Ареса и Афродиты, "не вырос, как остальные дети, а остался маленьким, розовым, пухлым ребенком с легкими крыльями и проказливым лицом с ямочками на щеках". Встревоженной матери сообщили, что "Любовь не может расти без Страсти". Далее в мифе говорится:
"Тщетно богиня пыталась понять скрытый смысл этого Ответа. Он открылся ей только тогда, когда родился Антерос, бог страсти. Эрос стал расти вместе со своим братом и превратился, в красивого стройного юношу; но стоило им только расстаться, как он обязательно возвращался к своим детским формам и к детским шалостям".39
Эти обезоруживающе наивные слова, в которые греки любили облачать свои самые глубокие премудрости, содержат несколько моментов, имеющих решающее значение для наших сегодняшних проблем. Прежде всего, если матерью Эроса является Афродита, то отцом — Арес. То есть любовь неразрывно связана с агрессией.
Во-вторых, Эрос, который во времена Гесиода считался могучим творцом, породившим буйство зелени на выжженной земле и вдохнувшим жизнь в человека, теперь выродился в ребенка, пухлое, розовое, игривое создание, иногда просто в толстого младенца, балующегося с луком и стрелами. Мы видим его в образе изнеженного Купидона на стольких изображениях, как античных времен, так и XVII–XVIII веков. "В архаическом искусстве Эрос представлен как красивый крылатый юноша. Потом он становился все моложе и моложе, и в эллинские времена предстает уже младенцем". В александрийской поэзии он дегенерировал в проказливого мальчишку.40 Причина этого вырождения, должно быть, кроется в самой природе Эроса, поскольку об этом вырождении говорится в мифе, который действительно родился несколько позднее версии Гесиода, но, тем не менее, задолго до распада греческой цивилизации.
И это подводит нас к самой сути того, что случилось с нашим временем: эрос утратил страсть и стал чем-то скучным, детским, банальным.
Как это часто бывает, миф говорит об остром конфликте, сотрясающем сами основы человеческого бытия, как это было с древними греками и как это происходит с нами: мы бежим от эроса, когда-то могучего первоисточника жизни, к сексу, капризной игрушке. Эрос разжалован в бармена, подающего вино и виноград, в стимулятор для флирта, задача которого — все время удерживать жизнь на мягкой перине чувственности. Он символизирует не творческое воплощение энергии — полового, воспроизводящего и прочих начал — а непосредственность удовлетворения. И, mirabile dictu, мы обнаруживаем, что в мифе говорится о том, что происходит в наше с вами время: эрос утрачивает интерес даже к сексу. В одной из версий мифа, Афродита ищет его, чтобы заставить заниматься положенным ему делом: распространять любовь с помощью своего лука и стрел. А он, выродившийся в праздного недоросля, играет в карты с Ганимедом и при этом еще и жульничает.
Ушел дух животворных стрел, ушло создание, которое могло вдохнуть жизнь в мужчину и женщину, ушли яркие праздники Диониса, ушли зажигательные танцы и мистерии, которые возбуждали посвященных посильнее, чем хваленые снадобья нашего технического века, ушли даже пасторальные пирушки. Эрос действительно стал плейбоем! Героем пепсикольных вакханалий.
Неужели цивилизация всегда только и делала, что укрощала Эроса, чтобы подчинить его нуждам общества, озабоченного самопродлением? Лишала его силы, дающей жизнь новому бытию, новым идеям и страстям, ослабляла его до такой степени, что он переставал быть творцом, сокрушающим старые формы во имя создания новых? Укрощала его до такой степени, что он становился символом стремления к постоянной расслабленности, праздному времяпрепровождению, пресыщенности и, в конце концов, к апатии?.41
Здесь перед нами встает новая и специфическая проблема всего западного мира — война между эросом и технологией. Технология и секс между собой не воюют: наши технические изобретения — от противозачаточных таблеток до книжек из серии "как это делается" — способствуют безопасности, доступности и эффективности секса. Секс и технология едины в стремлении "приспособиться"; полностью сняв напряжение за выходные, с тем чтобы в понедельник лучше трудиться в лишенном воображения мире. Чувственные потребности и их удовлетворение не вступают в конфликт с технологией, по крайней мере, не вступают с ней в непосредственное столкновение (во что выльются их отношения в перспективе — это уже другой вопрос).
Но эрос и технология вряд ли совместимы друг с другом и вряд ли даже могут избежать непрерывной войны. Влюбленный, как и поэт, является угрозой для конвейера. Эрос разрушает старые формы и создает новые, а это, естественно, представляет собой угрозу для технологии. Технология требует регулярности, предсказуемости и режима по часам. Неукрощенный эрос борется со всеми представлениями и ограничениями времени,
Эрос — это внутренний стимул к созданию цивилизаций. Но цивилизация набрасывается на своего основателя и дисциплинирует эротические импульсы. Это еще не закрывает путь к обогащению и расширению сознания. Эротические импульсы могут и должны подчиняться определенной дисциплине: поклонение свободе выражения любого импульса растворяет ощущение в реке без берегов, воды которой попусту растекаются во всех направлениях. Дисциплинированный эрос создает формы, в которых мы можем развиваться и которые защищают нас от невыносимой тревоги. Фрейд считал, что дисциплинирование эроса необходимо для цивилизации и что создающая цивилизации энергия порождается подавлением и сублимацией эроса. Это тот редкий случай, когда с Фрейдом соглашается даже де Ружман, памятуя о том, что:
"… без половой дисциплины, которую так называемые пуританские тенденции навязали нам с момента рождения Европы, наша цивилизация не опередила бы те народы, которые считаются неразвитыми, и скорее всего отстала бы от них: не было бы ни организованного труда, ни технологии, которые создали современный мир. Да не было бы также и проблемы чувственности! Авторы эротических романов наивно забыли об этом факте, безоглядно предаваясь поэтической или морализаторской страсти, что слишком часто отчуждает их от истинной природы "жизненных фактов" и их сложных связей с экономикой, политикой и культурой".42
Но наступает момент (современный западный технологический человек должен будет пройти через это испытание), когда культ техники уничтожает чувство, подрывает страсть и стирает индивидуальность. Технически дееспособный любовник, впадая в противоречие, каковым является совокупление без эроса, в сущности является импотентом. Он утратил способность увлекаться; он слишком хорошо знает, что делает. На этой стадии техника ослабляет сознание и разрушает эрос. Орудия являются уже не продолжением сознания, а его заменителем, более того, они стремятся подавить и усечь его.
Должна ли цивилизация обязательно укрощать эрос, чтобы уберечь общество от развала? Гесиод жил в бурном, архаическом VI веке, близком к истокам цивилизации и моментам ее зачатия и рождения, когда воспроизводящие силы отличались активностью и человек должен был, встречаясь с хаосом, придавать ему новые формы. Но позднее, с растущей потребностью в стабилизации, возникает тенденция к погребению демонического и трагического. Это становится предзнаменованием падения цивилизации. Мы видим, как изнеженные Афины покоряются более примитивным македонцам, те, в свою очередь, — римлянам, а римляне — гуннам. А мы — желтой и черной расам?
Эрос — основа жизнеспособности цивилизации, ее сердце и душа. И когда снятие напряжения вытесняет творящий эрос, падение цивилизации становится неминуемым.
IV. ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ
"Встреча со смертью — и избавление от нее — делает все таким бесценным, таким священным, таким прекрасным, что я сильнее, чем когда-либо, чувствую желание любить его, обнимать его, покоряться ему. Моя река никогда не выглядела такой красивой… Смерть и вечно присутствующая рядом с нами ее возможность делают любовь, страстную любовь, более возможной. Я сомневаюсь, что мы были бы способны страстно любить, вообще испытывать экстаз, если бы знали, что никогда не умрем"
Из письма Абрахама Маслоу,
написанного после перенесенного инфаркта
Перед нами один из наиболее глубоких и многозначительных парадоксов любви. Он заключается в усиливающейся готовности к любви, которую дает нам осознание неизбежности смерти и, одновременно с этим, в обострении предчувствия смерти, которое несет с собой любовь. Мы вспоминаем, что даже стрелы, с помощью которых творит Эрос, — эти животворные стрелы, которые он вонзает в холодную грудь земли, чтобы выжженная поверхность покрылась буйной зеленой растительностью, — и те отравлены. Здесь мы видим порождающий тревогу элемент человеческой любви. Ибо стрелы Эроса пронзают, "как грубые, так и мягкие сердца, неся с собой либо смерть, либо исцеляющее блаженство".1 Смерть и наслаждение, боль и радость, тревога и чудо рождения — вот пряжа, из которой соткана ткань человеческой любви.
Это Эрос "лишает члены силы" и "путает самые тщательно разработанные планы всех богов и всех человеческих существ".2 Так говорит Гесиод в своей Теогонии, Он писал это в тот чрезвычайно творческий архаический период (примерно 750 г. до н. э.), когда Греция была охвачена брожением, вылившимся в рождение городов-государств и нового греческого человека — индивида, отличающегося уверенностью в себе и достоинством. Стало быть, "подавление" рациональных функций непосредственно связано с творящей силой Эроса. Эрос "лишает силы члены… всех богов и всех человеческих существ"! Эрос разрушает, чтобы творить.3 Можно ли более выразительно сказать о том, что акт создания формы и жизни из хаоса и наделения человека жизненной силой требует страсти, которая выше разума, "расчета" и "планирования".
Любовь как предчувствие смерти
Любить — значит открыться, как всему положительному в этом мире, так и всему отрицательному — печали, грусти и разочарованию, равно как и радости, самоосуществлению и немыслимой ранее остроте сознания. Сначала я опишу это явление феноменологически, в идеальной форме в качестве парадигмы.
Когда мы влюбляемся "по уши", мир вокруг нас содрогается и меняется, и не только внешне. Меняется все наше ощущение того, что мы делаем в этом мире. Как правило, это потрясение осознанно переживается в его положительных аспектах — мы открываем прекрасные новые небеса и земли, чудесным образом внезапно созданные любовью. Любовь — вот ответ на все, напеваем мы. Помимо этих банальных уверений, наша западная цивилизация похоже принимает участие в романтическом — и обреченном на неудачу — заговоре, направленном на поддержание иллюзии, что над всем этим властвует эрос. Уже сама отчаянность попыток сохранить эту иллюзию свидетельствует о присутствии подавляемого противоположного полюса.
Этим противоположным моментом является сознавание неизбежности смерти: Ибо тень смерти всегда лежит на восторгах любви. В этой тени прячется ужасный неотвязный вопрос: не уничтожат ли нас эти новые отношения? Когда мы любим, мы открываем ворота своей крепости. Ураган уносит нас прочь от родных берегов; и хотя мы надеемся достичь нового континента, новой жизни, мы не можем быть в этом уверены. Все изменилось и, возможно, уже никогда не придет в прежнее состояние. Наш мир уничтожен; откуда нам знать, будет ли он отстроен заново? Мы отдаемся и сдаемся; можем ли мы знать, что получим свою свободу назад? Мы просыпаемся и видим, что мир ходит ходуном: когда же прекратится это землетрясение?
Самое безудержное веселье сопровождается сознаванием неизбежности смерти — и чувство это не менее сильное. Похоже на то, что одно не может обойтись без другого.
Это ощущение крушения мира является внутренним и, как верно говорится в мифе, по сути, это делает с нами эрос. Это не просто то, что с нами делает другой человек. Любить безоглядно — значить рисковать потерять все. Эта обостренность сознания имеет что-то общее с экстазом мистика в его единении с Богом: точно так же, как мистик не может быть уверен в присутствии рядом с ним Бога, так и любовь несет с собой такое обостренное сознавание того, что нас уже не может быть никаких гарантий безопасности.
Это балансирование на лезвии бритвы, эти головокружительные перепады тревоги и радости непосредственно связаны с потрясением как неотъемлемым свойством любви. Эта пронизанная страхом радость — не сводится к вопросу о том, ответят вам на любовь взаимностью или нет. И в самом деле, настоящий спор идет внутри самого человека и его тревога почти не ослабевает даже тогда, когда любимый человек действительно отвечает ему взаимностью. Парадокс, но бывает так, что тревога влюбленного усиливается как раз тогда, когда ему отвечают взаимностью, а не тогда, когда его чувства остаются без ответа. Ибо если человек имеет дело с безответной любовью, которая даже становится самоцелью некоторых пишущих о любви авторов, или с любовью на расстоянии, которой посвящены произведения Данте и всего движения "стилистов" в итальянской литературе, он, по крайней мере, может продолжать заниматься своими обычными повседневными делами, писать свою Божественную Комедию или свои сонеты или романы. Только в том случае, когда любовь осуществляется, эрос может в буквальном смысле "лишать члены силы", как это было у Антония с Клеопатрой, или у Париса с Еленой, или у Абеляра с Элоизой. Вот поэтому человеческие существа боятся любви. И, вопреки всему, что написано в сентиментальных книгах, у них есть для этого причины.
Если говорить о повседневной человеческой жизни, то эта связь между любовью и смертью становится наиболее явной, пожалуй, тогда, когда у человека появляются дети. Человек может почти не думать о смерти — и гордится своей "храбростью" — до тех пор, пока не станет отцом. Затем в своей любви к своему ребенку он обнаруживает ощущение беззащитности перед смертью: Жестокий Сборщик Дани может в любое время отнять у него ребенка, объект его любви. В этом смысле любовь есть ощущение великой уязвимости.
Любовь есть напоминание и о нашей смертности. Когда умирает кто-то из наших друзей или членов нашей семьи, мы очень ярко осознаем мимолетность и невозвратность жизни. Но при этом возникает и более острое ощущение даруемых жизнью огромных возможностей и стремление совершить рискованный прыжок. Некоторые человеческие существа (а может быть и большинство) ощущают глубокую любовь, осознают драгоценность дружбы, преданности, верности только в момент чьей-нибудь смерти. Абрахам Маслоу глубоко прав, когда сомневается в том, что мы были бы способны страстно любить, если бы знали, что никогда не умрем.
Если обратиться к мифологии, то одной из причин той скуки и вялости, что царили в любовных делах обитателей Олимпа, было именно бессмертие богов. Любовные отношения Зевса и Геры протекают совершенно неинтересно, пока в них не вмешивается смертный. Любовь обретает способность менять ход истории только тогда, когда Зевс спускается к Леде или Ио и влюбляется в смертную женщину, которая жаждет иметь ребенка, потому что знает, что не будет жить вечно. Наше ощущение смертности не только обогащает любовь, оно порождает ее. Любовь есть перекрестное опыление смертности и бессмертия. Вот почему демон Эрос описывается как нечто среднее между богом и человеком, и его природе присущи отличительные черты и того, и другого.
Я пользуюсь, в известном смысле, идеальными категориями. Я полностью отдаю себе отчет в том, что подобную сильную увлеченность другим человеком многие из моих коллег могут назвать невротической. Мы живем в эпоху "холодных" отношений — ни один человек ни за что не должен привязываться к другому настолько сильно, чтобы не иметь возможности расстаться с ним в любой момент! Но я согласен называть такую привязанность невротической только в том случае, если она представляет собой "зацикленность" или навязчивую идею; если от партнера требуют постоянного существования на этом уровне. Хотя никто из нас не может долго жить на таком уровне, этот уровень остается чем-то вроде фона, идеальной ситуации, которая должна где-то существовать, чтобы придавать смысл скучным и серым дням, которые рано или поздно настанут.4
Связь любви и смерти нашла впечатляющее отражение в литературе. Итальянские авторы часто играют словами amore (любовь) и morte (смерть). В природе эта связь имеет свои биологические аналоги. Пчела-самец умирает, после осеменения Королевы. Еще более ярким примером является богомол: во время совокупления самка откусывает голову самцу и его предсмертные конвульсии сливаются с любовной дрожью, в результате чего толчки становятся сильнее. После совокупления осемененная самка съедает самца, накапливая питание для будущего потомства.
У Фрейда эта угроза смерти ассоциируется с истощением Эроса.
"Причиной тому является сходство того состояния, которое наступает после полного полового удовлетворения, со смертью, и тот факт, что у низших животных смерть совпадает с актом совокупления. Эти создания умирают в ходе акта воспроизводства потому, что после ликвидации Эроса посредством процесса удовлетворения, инстинкт смерти может беспрепятственно выполнять свою задачу".5
С моей точки зрения, причиной страха смерти — или, как я назвал его выше, предчувствия смерти — у человеческих существ является не просто истощение эроса, но переплетение переживаний любви и смерти на всех стадиях человеческого развития.
Связь любви со смертью отчетливо видна в половом акте. В любой мифологии половой акт ассоциируется со смертью, и любой терапевт видит эту связь еще более ясно благодаря своим пациентам. Пациентка с проблемой фригидности, никогда не испытывавшая оргазма в ходе совокупления, рассказала мне сон, ярко иллюстрирующий эту тему секса и смерти. В этом сновидении она впервые ощутила себя женщиной. И в этом же сновидении у нее возникла странная убежденность в том, что она должна будет прыгнуть в реку и утонуть. Сновидение закончилось ощущением сильной тревоги. В эту ночь, в ходе полового акта, она впервые испытала оргазм. Человек должен обладать способностью подчиниться, "сдаться", в ходе занятий любовью, если он хочет необходимой для оргазма спонтанности.
В сновидении этой женщины возникло нечто очень важное — способность посмотреть в лицо смерти, способность, которая является предпосылкой развития, предпосылкой самосознания. В данном случае я воспринимаю оргазм как психофизический символ способности отказаться от своего "я", расстаться со своим нынешним безопасным состоянием, чтобы совершить прыжок в более глубокое ощущение. Неслучайно оргазм часто является символом смерти и нового рождения. Миф о гибели в воде и новом рождении кочевал из религии в религию и из цивилизации в цивилизацию, как миф о крещении — существо погружалось в воду, тонуло, умирало, чтобы родиться снова. То был смелый прыжок в небытие, с перспективой обретения нового бытия.
Поэтому каждый подлинный любовный опыт отличается целомудрием. Он каждый раз представляется чем-то новым; мы убеждены, что до нас этого никто и никогда не ощущал, и самонадеянно полагаем, что навсегда запомним это ощущение. Когда я читал в университете лекцию на эту тему, два разных молодых человека подошли ко мне, чтобы сказать с глазу на глаз, что они меня понимают, потому что сами влюблены, но искренне опасаются, что другие студенты меня не поймут. Боюсь, что подобная уверенность — я, и никто другой раньше никогда не влюблялся! — является обычным явлением.
Мифология, эта сокровищница откровений, рождавшихся как попытка толкования человеком своих внутренних ощущений и внутреннего мира на протяжении многих веков, прямо и выразительно говорит о связи любви с тревогой и смертью. Нам нет нужды вспоминать Тристана и Изольду, хотя этот миф, пожалуй, самый яркий. Опираясь на всю эгейскую доисторическую мифологию, Джозеф Кэмпбелл указывает, что образ богини Афродиты и ее сына Эроса — "не что иное, как космическая мать и ее сын — вечно умирающий и вечно-живущий бог". Все мифы о происхождении Эроса имеют именно эту основу, говорит Кэмпбелл.
"Он рождается из яйца Ночи. Он является сыном то Геи и Урана, то Артемиды и Гермеса, то Исиды и Зефира: все без исключения трансформации имеют одну и ту же мифологическую подоплеку, указывая на хорошо нам сейчас известный вечный список тем — добровольно приносящая себя в жертву личность, смерть которой является нашей жизнью, плоть и кровь которой мы вкушаем; жертвой является юная обнимающаяся пара из примитивного ритуала любви-смерти, которую в момент экстаза убивают, чтобы поджарить на священном огне и съесть; жертвами являются растерзанный вепрем Аттис или Адонис, убитый Сетом Осирис, разорванный на куски, зажаренный и съеденный Титанами Дионис. В более поздних очаровательных аллегориях Эроса (Купидона) и его жертвы, бог играет роль злобного врага — неукротимый вепрь, злой брат Сет, кровожадные Титаны — влюбленный же является воплощением умирающего бога".6
Кэмпбелл говорит, что в мифологии древнего Египта любящий и любимый являются палачом и жертвой, которые как будто в какой-то момент пребывают в конфликте, но на самом деле скрываются за кулисами человеческого разума в "пожирающей жизнь, искупающей жизнь, создающей жизнь и оправдывающей жизнь мрачной тайне любви".7
Насколько иначе предстают теперь человеческие проблемы любви, по сравнению с тем, как они выглядят в наших бесконечных разговорах об искусстве любви, о любви как об ответе на наши потребности, как молниеносному самоосуществлению, как удовлетворенности, или же, как технике коммуникации типа "товары — почтой"! Что ж тут удивляться тому, что мы пытаемся свести эрос к чистой физиологии секса или избегаем этой дилеммы вообще, сохраняя полную невозмутимость, используя секс как наркотик и вакцину от порождающего тревогу воздействия эроса.
Можно совершить половой акт, не ощущая при этом никакой особой тревоги. Но совокупляясь в ходе случайных связей, мы отгораживаемся от нашего эроса — то есть мы отрекаемся от страсти в пользу обыденности ощущений; мы отказываемся думать о символическом и личностном смысле акта. Если мы можем заниматься сексом без любви, то нам кажется, что мы спасаемся от демонической тревоги, которая на протяжении многих веков признавалась неотъемлемой частью человеческой любви. Далее, если мы даже можем использовать саму половую активность как бегство от налагаемых эросом обязательств, мы хотим надеяться, что тем самым возвели перед тревогой непреодолимую стену. И мотивом полового акта уже является не чувственное наслаждение или страсть, а искусственный мотив самоутверждения и безопасности; секс сведен к стратегии снятия беспокойства. Тем самым мы готовим почву для последующей импотенции и утраты эмоциональности.
Смерть и одержимость сексом
У отношений любви со смертью есть еще одна сторона. Одержимость сексом помогает современному человеку скрывать страх перед смертью. Мы, люди XX века, меньше защищены от этого всеобщего страха, поскольку утратили веру в бессмертие, которой были вооружены наши предки. Кроме того, нам недостает и какой-нибудь общезначимой цели в жизни. Соответственно, мысли о смерти в наше время почти повсеместно подавляются. В то же время, никто из нас не может не замечать невероятной одержимости сексом: в нашем юморе, нашей драматургии, нашей экономике, даже в телевизионных рекламных роликах. Эта одержимость унимает тревогу в какой-то другой области и спасает человека от необходимости посмотреть в лицо чему-то весьма неприятному. Так что же нам пришлось бы увидеть, если бы мы смогли пробиться сквозь эту одержимость сексом? Что мы должны умереть. Поджидающая нас неизбежная смерть не заметна среди окружающих нас кричащих красок секса.
Когда я стремлюсь доказать наличие у меня потенции, чтобы скрыть и заглушить свой внутренний страх перед импотенцией, я действую по схеме, такой же древней, как и само человечество. Смерть есть символ абсолютной импотенции, полного бессилия и конечности, и возникающая из этого неизбежного переживания тревога заставляет нас отчаянно искать бессмертия в сексе. Половая активность — это самый удобный способ заглушить внутренний ужас перед смертью, и, осеняемые символом воспроизводства, мы торжествуем над самой смертью.
Заметьте, что мы подавляем мысли о смерти и ее символизм всеми способами, удивительно похожими на те, какими викторианцы подавляли секс.8 О смерти не говорят, она непристойна, как порнография; если секс был просто непристоен, то смерть — это непристойное недоразумение. О смерти не говорят в присутствии детей и вообще не говорят, за исключением тех случаев, когда уйти от этой темы просто невозможно. Мы кладем наших покойников в до глупости красивые гробы, точно так же, как женщины викторианских времен прятали свои тела в пышных платьях. Мы бросаем на гроб цветы, чтобы смерть лучше пахла. С нашими напоминающими спектакль похоронами и вычурными надгробиями мы ведем себя так, словно покойник вроде бы не совсем умер.9; мы неустанно повторяем психо-религиозную заповедь, гласящую, что чем меньше скорби, тем лучше.10 Ограждение детей, камуфлирующие запахи и оболочки, ханжеские церемонии, внутреннее притворство, наконец, — все это поразительно напоминает подавление секса викторианцами.
Но человеческое существо не может заблокировать какой бы то ни было важный биологический или эмоциональный аспект общения, не выработав при этом эквивалентное количество внутреннего беспокойства. Если имеет место одержимость, то мы можем предположить наличие какого-то эквивалентного подавления. Куда направляется порожденная подавлением страха смерти и ее символов энергия? В нашу неотвязную зацикленность на сексе. Подавление страха смерти равно одержимости сексом. Секс — это самый легкий способ доказать нашу жизненную силу, продемонстрировать, что мы все еще "молоды", привлекательны и сильны, доказать, что мы еще живы. На секс возложена задача доказать всю полноту нашей власти над природой. Эта надежда имеет вполне понятную биологическую основу, в том смысле, что половое влечение и воспроизводство действительно являются единственным способом продлить наше имя и наши гены в детях, которые будут жить после нашей смерти.
Современная озабоченность сексом выходит далеко за пределы этого биологического факта, который всегда был известен человеку. Неотвязная зацикленность на сексе одурманивает индивида, так что ему нет нужды признавать тот факт, что он умирает и что смерть — единственная неизбежность в нашей жизни — может случиться в любой момент. Чем больше наше отчуждение от природы — предельными символами этого отчуждения являются атомная бомба и радиация — тем ближе мы, на деле, к смерти. Стало быть, насилие над природой, принявшее форму расщепления атома, связано с нашим страхом смерти, нашим чувством вины (которое всегда усиливает страх) и нашей соответственно удвоившейся потребностью подавлять мысли о смерти.11 И здесь возникает символ матери; мы говорим о матери-природе. Отсюда уже недалеко от восприятия расщепления атома как обретения власти над "извечным женским началом". Атомная бомба ввергает нас в конфликт с символической матерью. Вот почему создание бомбы представляет собой такой важный символ почти для каждого человека. Не удивительно, что у западного человека начинают появляются признаки глубоко спрятанного, но очень сильного чувства вины!
Стремление подавить мысли о смерти особо явно наблюдается у западного человека, поскольку он верит в "миф о власти". (Я использую термин "миф" не в широко распространенном отрицательном смысле, дескать, это "неправда", а в его исторически точном смысле, имея в виду психобиологическую схему, которая придает значимость и направленность чувствам.) Миф о власти играл центральную роль в борьбе западного человека за индивидуальность со времен Возрождения и оказал решающее влияние на формирование его психологического и духовного характера. Зацикленность западного человека на манипулировании природой, которая привела к таким поразительным успехам в физических науках и индустриализации, в конце XIX века и в XX веке распространилась на человеческие существа. Итак, манипулируя собой, я добиваюсь власти. Но ровно настолько, насколько успешно я это делаю, моя власть не является подлинной; я попал в ловушку неразрешимой дилеммы. Я, собственно, являюсь тем куском живой материи, которым я же манипулирую. Манипулирование собой, как и манипулирование другим человеком, никогда не увеличивает власть, а напротив, подрывает ее. Мы всегда допускаем присутствие за своей спиной некой наделенной властью личности или обязательного стандарта, то есть присутствие манипулятора. Но с расширением системы индивидуальность этого "закулисного" лица или стандарта почти полностью утрачивается. Этот контроль за контролирующим является вполне реальной вещью, хотя и труднодоступной для понимания; он неизбежно возобновляется, пока не становится демоническим в самом худшем смысле этого слова.
Миф об индивидуальной власти приобрел чрезмерно большое влияние, особенно на нас, американцев, выросших на настоящем "фронтире" — экономическом, социальном, географическом.* На Диком Западе, который я беру в качестве примера, решающее значение имела способность человека защитить свою жизнь своими собственными руками, культивирование грубого и активного типа физической силы и умение не позволить доброте или сентиментальным чувствам отрицательно сказаться на скорости выхватывания револьвера. И в самом деле, револьвер, как символ пениса, полезного только тогда, когда он тверд и направлен точно в цель, о чем впервые сказал Фрейд, в Америке имел куда больше смысла, чем в Вене; это один из очень немногих специфических культурных символов, который живет, невзирая ни на какие перемены в обществе. Жизнь и легенда Эрнеста Хемингуэя — яркая картина мужских достоинств "фронтира" — физической силы, умения охотиться, половой доблести (отчасти компенсировавшей его реальную, борьбу со страхом импотенции и самой импотенцией); отсюда и выбор тем, и стиль его произведений. Но неотвязно тревожные думы о смерти, часа прихода которой никто не знает, стали оказывать на него столь страшное давление, что к шестидесяти пяти годам он стал импотентом и совершил самое последнее деяние, с помощью которого человек может утвердить свою власть, а именно покончил жизнь самоубийством. До тех пор, пока вы можете цепляться за индивидуальную власть, вы можете смеяться смерти в лицо. Но как только вы утратили это преимущество, вам остается либо примириться с неизбежной и зачастую унизительной для вас победой смерти, либо сломя голову ринуться ей навстречу, как это сделал Хемингуэй.
* "Фронтир" [frontier, буквально "граница"] — так называли американцы границу новых земель, занятых пионерами, где все приходилось начинать с нуля, где белый поселенец был один на один с индейцами и природой в целом, где не существовало никаких законов кроме права силы. — Прим. перев.
Секс и смерть имеют между собой то общее, что они оба являются биологическими аспектами mysterium tremendum. Загадка (в данном случае мы подразумеваем ситуацию, когда все, что мы знаем, не способствует разрешению проблемы) этих двух событий в жизни человека абсолютно неразрешима. Оба они связаны с сотворением и уничтожением; стало быть, вряд ли можно удивляться тому, что они так сложно переплетены в человеческом опыте переживаний. И в том, и в другом случае, мы не можем контролировать происходящее… мы не можем остаться в стороне от любви и смерти — если же пытаемся сделать это, мы уничтожаем все то ценное, что есть в этом опыте.
Чувство трагизма в любви
Я вспоминаю спор с одним своим очень уважаемым коллегой-психотерапевтом и другом о смысле трагедии Ромео и Джульетты. Мой друг утверждал, что проблема Ромео и Джульетты заключалась в том, что им никто не дал соответствующей консультации. Если бы они ее получили, то не совершили бы самоубийства. Я был ошарашен и сказал, что не думаю, чтобы Шекспир именно это имел ввиду, и что Шекспир, так же, как и другие классические авторы, создававшие бессмертную литературу, написал в своей пьесе о том, как половая любовь может полностью овладеть мужчиной и женщиной, вознося их на вершину блаженства и погружая в бездну отчаяния — одновременное присутствие этих моментов мы и называем трагедией.
Но мой друг настаивал, что трагизм — негативное явление, и мы, с нашим научным просвещением, изжили его — или, по крайней мере, должны изжить в ближайшее время. Я доказывал ему, что восприятие трагедии, как исключительно отрицательного явления, — это глубокое недоразумение. Трагедия не только не отрицает жизнь и любовь, она является облагораживающим и углубляющим аспектом наших переживаний и полового влечения, и любви. Понимание трагичного не только помогло бы нам избежать вопиюще упрощенного подхода к жизни, но и оказало бы своеобразную услугу — защитив от банализации секса и любви, в том числе в психотерапии.
Я, разумеется, не говорю о "трагедии" в распространенном смысле, как о "катастрофе". Я имею в виду акт самосознания, личное осознание того, что любовь несет с собой как наслаждение, так и страдание. В этом контексте я говорю о том факте, который был известен на протяжении всей истории человечества, но наш век умудрился забыть его, а именно — что половая любовь обладает способностью загонять человеческие существа в ситуацию, в которой они могут уничтожить не только самих себя, но и множество других людей. Достаточно вспомнить Елену и Париса или Тристана и Изольду, которые, вне зависимости от того, были это реальные исторические личности или нет, являются мифическими примерами способности половой любви подчинить себе мужчину и женщину и превратить их отношения в ураган, который бросает вызов разуму и свергает его власть. Эти мифы неслучайно вновь и вновь находят свое отражение в классической литературе Запада и передаются из поколения в поколение. Ибо истории, которые пришли из мифических глубин истории человеческой любви, можно забыть только ценой обнищания всех наших разговоров и книг о любви и сексе.
Трагическое есть выражение того аспекта сознания, который придает ценность и достоинство человеческой жизни, обогащая ее. Стало быть, трагическое не только делает возможными самые человечные эмоции — вроде жалости, в древнегреческом ее понимании как сочувствия своему ближнему и сопереживания — без него любовь становится пресным суррогатом, а Эрос остается недоразвитым ребенком.
Читатель может со мной не согласиться. Каков бы ни был смысл классической трагедии, разве сегодняшние так называемые трагические произведения искусства, пьесы или романы, не вопиют об утрате смысла? Разве у О'Нила в его Пришествии ледяного человека не идет речь об отсутствии в человеке величия и достоинства, и разве В ожидании Годо не является попыткой выражения пустоты?
На эти возражения я могу дать двоякий ответ. Во-первых, представляя мнимое отсутствие величия в человеке и его деяниях, или отсутствие в них смысла, эти произведения делают бесконечно больше. Они указывают на то, что и есть трагедией нашего времени, а именно — на полное смятение, на банальность и двусмысленность, на вакуум нравственных норм и, соответственно, неспособность к действию, или, как в пьесе Кто боится Вирджинии Вульф? парализующий страх перед своей собственной нежностью. Да, в Пришествии ледяного человека мы видим, что величие покинуло человека, но уже само это предполагает существование величия, достоинства, смысла. Ни кому бы и в голову не пришло напоминать древним грекам, что убийство Орестом своей матери имеет какой-то смысл. Но жена Вилли Ломана из Смерти коммивояжера взывает к нам: "Обязательно нужно проявлять внимание", и она совершенно права. Если человек сломлен, то это уже кое-что значит, даже если он всего лишь коммивояжер. (Сегодня нам, пожалуй, пришлось бы объяснять публике, почему убийство Орестом своей матери заключает в себе глубокий смысл: ибо мы принадлежим к тому поколению, которое выучило наизусть, что такое убийство вообще не является проблемой, требующей отчаянной борьбы с фуриями, а потом — осознания своей вины и ответственности, мольбы о прощении, но представляет собой действие психологического, контрэдипова механизма, временно вышедшего из-под контроля!) С моей точки зрения, лучшими романами, пьесами и картинами современности являются те, которые доводят до нас ужасный смысл бессмысленности. В итоге, самой трагической вещью оказывается крайняя установка: "Не важно", "Не стоит беспокоиться". Предельно трагическим состоянием, в негативном смысле, является апатия, непробиваемая "невозмутимость", которая отказывается признавать существование подлинной трагедии.
Но, в порядке опровержения, я бы хотел задать следующий вопрос: "Разве эти произведения, которые мы так любим цитировать, не говорят о том, что случилось с любовью и волей в наше время?" Возьмите противоречивое действие, так ярко отображенное в Ожидании Годо. Диди говорит: "Пошли", но в ремарке сказано: "Они не двигаются с места". Более яркий образ проблемы воли, стоящей перед современным человеком, его неспособности совершать значимые поступки, трудно представить себе. Они ждут Годо. но в этом ожидании есть упование: ожидание уже само по себе подразумевает веру и надежду. И они ждут вместе. Или же возьмем Кто боится Вирджинии Вульф? и вспомним это яростное отрицание любви в ожесточенных супружеских ссорах. Это изображение неспособности правильно использовать те любовь и нежность, которые у них действительно есть, больше говорит о том, в чем заключается проблема любви современного человека, чем тома научных работ на эту тему.
Трагедия разобщенности
У трагического аспекта любви есть еще один источник. Это тот факт, что мы разделены на мужчин и женщин, что влечет за собой постоянное наше стремление друг к другу в жажде завершенности, обреченно быстротечной. Это еще один источник радости и разочарования, экстаза и отчаяния.
Здесь я должен обратиться к весьма сложному понятию — онтологии. В буквальном смысле, онтология — это "наука о бытии". Но из этого определения трудно что-либо понять, особенно нам, живущим в XX веке американцам, не привыкшим к онтологическому мышлению. Я никогда не забуду, как Пауль Тиллих рассказывал своим ученикам о шоке, который он испытал, когда в свою бытность студентом философского факультета впервые услышал вопрос: "Почему нечто — есть, а ничто — не есть?" Этот вопрос выводит человека на онтологический уровень. Почему существует такая вещь, как секс? И почему не существует не-секса; почему мы не размножаемся так, как это делает земляной червь, разрезанный на кусочки, которые становятся новыми живыми существами? Мы не можем с легкостью ответить: это — "эволюция" — просто она пошла в этом направлении. Мы также не можем отделаться столь же легким ответом: "такова божья воля" — дескать, по какой-то теологической "причине" мы были созданы именно такими. Оба этих противоположных ответа сами порождают вопросы. Нет, мы должны задать прямой онтологический вопрос, изучая бытие конкретной вещи, — в данном случае секса, — чтобы найти убедительный ответ. Если "секс есть человеческий аналог космического процесса", то мы никак не можем делать свои выводы на основании того, какие именно прически носят в этом десятилетии юноши и девушки. Онтология стремится исследовать фундаментальные структуры бытия, неизменно присущие каждому человеку.
С онтологической точки зрения, существование мужского и женского начала является выражением фундаментальной полярности всей реальности. Причина динамического движения самой маленькой молекулярной частицы заключается в том, что частица содержит в себе отрицательный и положительный заряды, между которыми существует напряжение, а стало быть и движение. Опираясь на эту аналогию с молекулярными частицами материи и энергии, Альфред Уайтхед и Пауль Тиллих полагают, что реальность по своему онтологическому характеру являет собой отрицательно-положительную полярность. Уйатхед и многие современные мыслители, высоко оценившие его труды, рассматривают реальность, не как состоящую из субстанций, пребывающих в неизменных состояниях, а как процесс динамического движения между полярностями. Вот почему Уайтхед смог разработать философию процесса. И в самом деле, можно показать, что все в нашей реальности обладает женско-мужским характером — скажем, теорию Гегеля о тезисе, антитезисе и синтезе, несомненно можно рассматривать в этом свете. Тиллих указывает, что "знающим труды Гегеля людям хорошо известно, что он начинал, с философии любви, и без преувеличения можно сказать, что диалектическая схема Гегеля является абстрактной производной от его конкретного интуитивного понимания природы любви, как разделения и воссоединения".12
В ходе полового акта, мы непосредственно и глубоко ощущаем этот полярный ритм. Половой акт является самым мощным проявлением связи, какое только можно себе представить, поскольку он является драмой сближения, экстаза и полного единения, затем определенного отстранения (словно любовники не могут поверить, что все это было на самом деле, и жаждут заглянуть друг другу в глаза) и нового полного единения. Это не может быть случайной прихотью природы — в сексе мы совершаем таинство близости и отчуждения, единства и отстраненности, мы отрываемся друг от друга и вновь сливаемся в предельном единстве. Ибо это вечно повторяющееся проникновение друг в друга, прикосновение и отстранение, присутствуют уже в неуверенном ритме узнавания друг друга, и это является сутью ухаживаний, как птиц и животных, так и мужчин и женщин. Ритм соединения в двуединое существо и неизбежного возвращения к индивидуальной самостоятельности образуют два необходимых полюса человеческого бытия, целиком проявляя себя в ходе полового акта.
Скорее всего, именно эта полярность лежит в основе спонтанно возникающих в разных культурах и цивилизациях мифов о сексе, как о единении человека с другой половиной своего "я". Наиболее известный из этих мифов приводит Аристофан в Пире Платона — миф об гермафродите. Но главное сказано в аналогичном мифе из Упанишад. Вот что говорится здесь о человеке, каким он был сразу после его сотворения: "Но он не чувствовал никакой радости. Стало быть, когда мужчина одинок, он не чувствует никакой радости". Поэтому "была сотворена жена, чтобы заполнить пустоту".13
Но нам нет нужды обращаться к мифам, чтобы оценить значение этой полярности. Однажды, я провел неделю на Афоне, маленьком острове, расположенном в Эгейском море в двенадцати милях от побережья северной Греции и населенном монахами, обитающими в пятнадцати или двадцати монастырях. Считается, что с двенадцатого века ни одна женщина не вступала на берег Афона. Но сами монахи переняли женские жесты, женскую манеру разговаривать, ходить и вести себя. Однажды я поймал себя на мысли, что смотрю на удаляющегося от меня по деревенской улице монаха, как на женщину. То же самое явление можно наблюдать и в другой, весьма не похожей на первую, чисто мужской группе, а именно во французском Иностранном Легионе, солдаты которого танцевали друг с другом на палубе французского корабля в Средиземном море. Здесь не идет речь о гомосексуализме; в любом случае, одним гомосексуализмом этот феномен объяснить нельзя. Я бы сказал, что в отсутствие женщин нам нет особого смысла вести себя по-мужски; и наоборот — мы становимся более мужественными в присутствии женщин, а они в нашем присутствии становятся более женственными. Назначение каждого пола — подчеркивать особенности противоположного пола.
Любому из нас известно, что стоит собрать множество мужчин в рамках одной организации — армии, тайного общества, монастыря — и их можно заставить полностью сосредоточиться на выполнении поставленной задачи. Но при этом наблюдается любопытная вещь — отсутствие энергичности в других сферах. Мы наблюдаем нечувствительность, отсутствие разнообразия реакций; мужчины примиряются с авторитарной системой, не помышляя о бунте. Но введите в эту группу, словно в Эдем, женщину — и сознание обостряется, нравственное чутье активизируется и даже начинают появляться первые ростки бунта. Каждый пол в буквальном смысле этого слова "заводит" противоположный, давая ему жизненную силу, энергию и даже подсказывая идеи.
В силу самого факта существования двух полов, воспроизводство выливается во все большее разнообразие. Полярность мужского и женского, перемешивание и соединение генов приводят к бесконечному разнообразию; это порождает оригинальность и новые комбинации возможностей. Только низшие формы природы, типа земляного червя, размножаются путем отделения частей от одного и того же организма (впрочем, среди едких замечаний Джорджа Бернарда Шоу касательно судьбы рода человеческого есть и предупреждение о том, что такая участь может ждать и человека, если он будет продолжать превыше всего ставить эффективность!). При изучении тех регионов американского континента, население которых отличается более высоким ростом, было высказано предположение, что одной из причин этого феномена является смешение с новой группой людей, прибывающей в эту местность и образующей семьи с представителями уже давно живущей здесь "породы". Хорошо известно также и то, что хотя кровосмешение не причиняет никакого биологического вреда, браки между членами одной семьи, тем не менее, запрещены практически в каждом обществе, поскольку они несут с собой оскудение генофонда общества, стирание различий, в результате чего блокируется развитие расы.
Как говорит голландский философ Бюйтендейк, мужчины и женщины оснащены разными типами мускулатуры. Он указывает, что скелет и мускулатура мужчины образуют в основном прямые линии, пересекающиеся под прямыми углами — чтобы было лучше ударять, толкать, вонзать и совершать прочие действия, упрочающие положение мужчины. Женщина состоит из изгибов и округлостей — чтобы ей было удобнее открываться, вынашивать и вскармливать потомство, доставляя и испытывая при этом чисто женское удовольствие. Толкающий механизм пениса действует уже в маленьком мальчике, который совершает характерные движения, словно желает проткнуть своим пенисом разные вещи. Маленькая девочка находится на своем полюсе, она стремится к состоянию гармонии, к сохранению, формированию каждой вещи без подавления ее лобовой атакой, а как бы исподволь. У нашего общества мужские доблести ассоциируются с действием, а женские — с пассивностью. Если копнуть поглубже, то выясняется, что эта точка зрения ошибочна, хотя и заманчива. Мнение, что женщины предназначены лишь для поддержания мирных искусств, так же неверно (ошибка, допускаемая при любых обобщениях), как и мнение, что мужчины предназначены для поддержания воинственных искусств. На самом деле, мужчина и женщина каждый по своему и активны, и пассивны.*
* Я понимаю, что некоторые женщины будут не согласны с мнением Бюйтендейка. Действительно, культурные параллели следует воспринимать, как иллюстрацию, а не как жесткий культурно обусловленный стандарт поведения. Однако и отрицать существование различий между полами на том основании, что различие в формах поведения не более чем культурно обусловлено — как это делают некоторые представители феминистского движения — столь же ошибочно.
Тот факт, что наше общество в значительной степени и несправедливо переоценивает эти характеристики, еще не повод для того, чтобы забыть об истинных различиях Действительно, в XIX веке так называемые мужские достоинства подразумевали, что мужчина, дабы доказать свою силу, должен покорять не только природу, но и самого себя, а также всех женщин, которые попадаются на его пути. Существовало и стереотипное представление о женщине — как об особе приятной, кроткой, неспособной позаботиться о себе, не переносящей бранных словечек в своем присутствии и готовой упасть в обморок при первом же удобном случае. Реакцией на этот стереотип стало движение за ликвидацию такого рода различий; теперь толпа кричала уже не "да здравствуют различия", а "все — равны", и обоим полам было положено одинаково реагировать на одни и те же вещи. Но, к нашему ужасу, мы обнаружили, что пытаясь избавиться от несправедливой дискриминации, мы вместе с ней "выплеснули из купели" и те различия, которые давали нам радость.
Ибо в нашем крестовом походе за равенством мы проглядели даже тот факт, на который указывала доктор Елена Дойч, что женщина обладает вагинальной реакцией "втягивания", которая, вообще-то, может доставлять ей больше удовольствия, чем апокалипсическое ощущение оргазма. Язык отражает эти различия: в английском языке реакция втягивания обозначается словом "invaginate", а вот для соответствующей мужской реакции названия не существует. Самым близким аналогом являются разные формы с основой "phall" ("phallis" — фаллический и пр.), которые, по сути, подразумевают агрессивность, атакующее поведение захватчика и т. п. и, хотя и не всегда, могут нести в себе оттенок враждебности. Мужчина ощущает не только свой ответный напор, но и свою реакцию на это втягивание; и если женский оргазм сложен и не концентрирован в одной точке, то мужчина обладает встроенным неврологическим и физиологическим механизмом, который "заводит" оргазм и который, если довести его до определенного уровня возбуждения, остановить уже невозможно,
И напоследок еще об одном простом и элементарном онтологическом факте, характеризующем сексуальность. Заключается он в том, что половая жизнь обладает функцией продления рода; она может создать новое живое существо, ребенка. Это приводит к изменениям в теле и в жизни женщины в течение, по крайней мере, девяти месяцев, вне зависимости от того, остается с ней мужчина или нет; и, за исключением патологических случаев, жизнь женщины радикально меняется на период куда больший, чем девять месяцев. Об этом прекрасно сказано в примитивных словах абиссинской женщины знатного рода:
"… День, когда женщина наслаждается своей первой любовью, рассекает ее надвое… Мужчина, испытав свою первую любовь, остается таким, как и прежде. Женщина с первого дня своей первой любви становится уже другой, и так продолжается всю жизнь. Мужчина проводит ночь с женщиной и уходит. Его жизнь и тело никогда не меняются. Женщина беременеет. Она уже не такая женщина, как та, у которой нет ребенка. В течение девяти месяцев она носит в своем теле плод ночи любви. Что-то растет. Что-то врастает в ее жизнь, чтобы уже никогда из нее не уйти. Она — мать. Она остается матерью, даже если ее ребенок умрет, даже если умрут все ее дети. Ибо однажды она носила ребенка у себя под сердцем. И он никогда не покинет ее сердце. Даже когда он мертв. Всего этого не знает мужчина… Он не знает разницы между "до любви" и "после любви", "до материнства" и "после материнства". Только женщина может знать об этом и говорить об этом… Ей надлежит всегда быть девой и всегда быть матерью. До каждой любви она — дева, после каждой любви она — мать…".14
Некоторые психологи, например Карен Хорни, утверждают, что тот факт, что женщины могут рожать детей, а мужчины — нет, вызывает у мужчин зависть, заставляющую их отчаянно доказывать свои творческие способности, создавая цивилизации. При психоанализе, эта зависть зачастую вырывается на поверхность в форме униженности и отчаяния. Один пациент-южноамериканец каждый раз рыдал на диване психоаналитика, что он никак не может простить своей матери, что она родила его и он должен был сосать ее грудь — и он твердо верил, что каждый мужчина носит в себе такую же свирепую зависть. Архетипические корни этого конфликта уходят бесконечно глубже, чем современные "западные" проблемы — в глубь оснований истории человечества и самого бытия.
Но противоположная тенденция является не менее сильной. Когда в одной из предыдущих глав я сказал о том, что новый сноб-пуританин боится своей способности к воспроизводству, я имел в виду, что его тревога порождается глубоко двойственным отношением к своей способности создать другое человеческое существо. С одним из моих пациентов ежемесячно приключались приступы импотенции, как раз в период наибольшей способности его жены к зачатию, несмотря на то, что и он, и его жена, осознанно хотели иметь ребенка. Однако из фантазий мужчины выяснилось, что он не хотел быть отцом ребенка, который мог бы стать его соперником в борьбе за внимание женщины, а хотел сам быть, как ее мужем, так и ее ребенком.
Эта двусмысленность присутствует во введенном Фрейдом термине "комплекс кастрации" (изначальный страх перед кастрацией, по его мнению, является источником всех остальных страхов). Однако кастрация означает совсем не то, о чем думал Фрейд и думает большинство людей, то есть не отсечение мужского члена. Для этого существует другой термин. Под кастрацией же понимается отсечение яичек, превращение в евнуха; она представляет собой утрату способности к воспроизводству. У евнухов при дворе султана могла иметь место эрекция и они были способны совершить половой акт; но никто из них не мог стать отцом ребенка. Несмотря на все шалости в гареме, чистота крови сохранялась. Я думаю, что в данном случае Фрейд, сам того не замечая, глядел глубже, ибо беспокойство по поводу способности к воспроизводству — невзирая ни на какой контроль за рождаемостью — является поистине фундаментальным.
Трагедия контрацепции
В качестве примера возьмем молодую женщину лет тридцати, которая несколько лет назад пришла ко мне на консультацию и какое-то время была моей пациенткой. Выпускница одного из лучших женских колледжей Новой Англии, она выросла в зажиточном пригороде, была умной и привлекательной и представлялась во всех отношениях милой девушкой. В колледже она впитала типичную для середины сороковых годов веру в большую сплоченную семью и решила сразу же после окончания колледжа выйти замуж и создать таковую. Она блестяще осуществила свой план, выйдя замуж за парня из соседнего колледжа и родив пятерых детей, каждого с интервалом в два года, как ей и хотелось.
Но когда этой женщине было около тридцати лет и она пришла ко мне на консультацию, она рассказала, что "влюблена" и у нее роман с автомехаником, к которому, впервые в своей жизни, она испытывает сильную страсть. Она сообщила, что теперь знает, что всегда не только не любила своего супруга, но и презирала его. К тому времени, когда она подумала о психотерапии (по настоянию своих друзей), она со своими детьми переехала в дом своих родителей в пригороде — курьезное и жалкое завершение некогда грандиозных планов.
Мы с ней не могли осуществить по-настоящему эффективное терапевтическое лечение, поскольку она считала свою любовь с автомехаником "священной" и не хотела углубляться в нее. Когда я случайно встретился с ней несколько лет спустя, она выглядела увядшей женщиной средних лет, прилежно трудящейся во имя своих детей. Эта дочь очень обеспеченных родителей загнала себя в ситуацию, найти выход из которой было так же трудно (если не труднее), чем из извечной стереотипной трагедии "заблудшей девушки" с незаконнорожденным ребенком. И причина явно заключалась не в отсутствии информации, планирования и ответственности. Моя пациентка — современная умная женщина, мать пятерых детей — во многих отношениях оказалась в той же ловушке, что и ее предшественницы-викторианки, жившие до эмансипации женщин и изобретения контрацептивов.
Я привел этот случай в качестве примера того, что одна только способность к семейному планированию не избавляет от трагедий. Психологический смысл контрацепции состоит в расширении сферы ответственности. Однако такой тип личных отношений не только не является более легким, но может быть и более трудным.
Поскольку контрацепция ослабляет беспокойство по поводу возможности забеременеть в результате данного полового акта, то наша цивилизация использует ее как символ того, что мы раз и навсегда оставили у себя за спиной трагический аспект половой любви. Что ж, я обеими руками "за" контрацептивы и планирование рождаемости — польза от них настолько очевидна, что о ней даже не нужно говорить. Но этот почти повсеместно принятый принцип контроля за рождаемостью не должен заслонить от нас тот факт, что контрацепция, каким бы благодеянием она ни была для половой жизни, ни на йоту не меняет сути того, о чем мы здесь говорим. Она действительно освобождает индивида, от цепей неотвратимой беременности, но она же может усилить его психологическую амбивалентность.
Трагический аспект секса и любви силен так же, как и всегда, даже при наличии контрацепции, но из биологической области автоматизма последствий перенесен в область психологическую. Собственно, там и должна иметь место трагедия; трагический аспект создают не биологические факты, типа смерти и продления рода, сами по себе, а отношение человеческих существ к этим неизбежностям человеческой судьбы. Трагедия всегда есть вещь психологическая и духовная.
Существует также дилемма личной ответственности, которая приходит вместе со свободой выбора — иметь ребенка или нет. Возможность планировать рождаемость существует уже не первый десяток лет, и хотя мы пользуемся ею, мы так и не смогли взять на себя связанную с ней психологическую и личную ответственность. Мы беспечно уворачиваемся от нее, в результате чего мы, как общество в целом, испытываем по отношению к нашим детям чувство вины. Мы все делаем для них, способствуем их развитию и, считая это признаком своей терпимости, потакаем всем их капризам и аморальным выходкам (теперь вот позволяем им курить марихуану), так что бедные дети вынуждены прилагать неимоверные усилия для того, чтобы найти хоть что-то в этих вечно идущих на попятную родителях, против чего можно было бы бунтовать. Когда они уходят, мы говорим: "Хорошо проведите время", мы волнуемся, если они плохо провели время, и беспокоимся, если они провели его слишком хорошо. И все это время мы втайне завидуем им и их молодости, тому, насколько хороши их молодые годы по сравнению с нашей трудной юностью. В результате такого отношения к молодому поколению, как к особам королевской крови, наследникам Бог знает чего, мы до такой степени превращаемся в горничных, шоферов, поваров и сиделок, в домашних учителей и вожатых, в бездонные денежные мешки, что наши дети (и это не удивительно) восстают и орут на нас: "Ради Бога, оставьте нас в покое!" И это самая большая угроза для всех нас — ибо мы преисполнены смутным и неотвязным чувством какой-то вины перед нашими детьми и не можем оставить их в покое. И вина, которую мы пытаемся загладить, не относится к чему-то конкретному, что мы сделали или чего мы не сделали при их воспитании; это чувство вины порождено самим фактом, что мы завели детей. Ибо теперь уже не "Бог" решает, иметь нам детей или нет; решаем мы. И хоть кто-нибудь попытался задуматься над смыслом этого важнейшего факта?
Или представьте себе пары — при необходимости контроля за рождаемостью таких обязательно будет много — которые запланируют иметь только одного ребенка, подумайте о том громадном психологическом грузе, который ляжет на плечи этого несчастного ребенка. У наших пациентов, особенно специалистов высокого класса, мы наблюдаем большое искушение к чрезмерной заботе о ребенке. Когда он зовет, родители бегут к нему сломя голову; когда он хнычет, они приходят в замешательство; когда он болеет, они считают себя виновными в этом; когда он не спит, они выглядят так, словно это они находятся на грани нервного срыва. В силу самой той ситуации, в которой ребенок родился, он становится маленьким диктатором и не может быть иным, даже если бы захотел. И, разумеется, всегда присутствует тот противоречивый и все усложняющий факт, что это внимание на деле выливается в ограничение свободы ребенка, и он вынужден, словно наследник престола, нести на себе непосильное для ребенка бремя.
Контрацепция, как любое устройство и любая машина, может увеличить нашу свободу вообще и свободу выбора в частности. Но обретенные таким образом новые возможности и свобода в то же самое время усиливают нашу тревогу и амбивалентность, амбивалентность, которая проявляется в банализации секса и любви. Доктор Сеймур Халлек, заведующий психиатрическим отделением студенческой службы здоровья университета штата Висконсин, говорит, что девушки, которые в наш век Великой Таблетки становятся неразборчивыми, выражаются следующим образом: "Слишком это утомительное дело — говорить нет".15 Сделать нечто банальным, снизить его значение, сказать "это — не важно" — есть способ избавиться от беспокойства. Разве апофеоз ситуации не сводится к тому, что контрацепция поставлена на службу равнодушному, неразборчивому, "сегодня-здесь-завтра-там" отношению к половой жизни? Если мы воспринимаем сам половой акт, который несет в себе столько энергии, и ту притягательную силу, которой в критической точке обладает чье-то имя или чувственный образ, как нечто банальное и не имеющее особого значения, то мы совершаем насилие над нашей природой, если не над Природой вообще.
При контрацепции секс может стать, по крайней мере в некоторых случаях, чисто личностными отношениями. И эта проблема есть ни много — ни мало — проблемой поиска смысла этих личностных отношений.
V. ЛЮБОВЬ И ДЕМОНИЧЕСКОЕ
"Если мои дьяволы оставят меня, то, боюсь, мои ангелы тоже разлетятся кто куда".
Рильке, Письмо 74 (Briefe aus den Jahren 1907 bis 1914)
"Эрот — даймон" — сказано в Платоновом Пире. Вот так просто и прямо Платон посвящает нас и своих пирующих друзей в глубинные аспекты любви. Отождествление Эроса с демоном, столь естественное для греков, является камнем преткновения для практически всех современных теорий любви. А потому нет ничего удивительного в том, что современный человек стремится обойти стороной все демоническое царство (если вообще не отказать ему в праве на существование или подавить его). Но сделать это — значит "кастрировать" Эрос — лишить себя самих всех плодотворных источников, присущих любви. Ибо полярной противоположностью демоническому является вовсе не рациональная надежность и спокойное счастье, а "возвращение к неодушевленности", или говоря языком Фрейда, инстинкт смерти. Антидемоном является апатия.
Определение демонического
Демоническое — это любая естественная функция, которая обладает способностью целиком подчинять себе личность. Секс и эрос, гнев и ярость, жажда власти — вот примеры демонического. Демоническое может быть как созидательным так и разрушительным, и, как правило, является и тем, и другим одновременно. Когда эта функция искажается и один элемент узурпирует власть над всей личностью, мы имеем дело с "одержимостью демоном", что является традиционным историческим определением психоза. Демон — это отнюдь не живое существо; под ним следует понимать фундаментальную, архетипическую функцию человеческих переживаний — экзистенциальную реальность современного человека и, насколько нам известно, всего человечества.
Демоническое — это стремление каждого существа к самоутверждению, умножению и увековечению. Демоническое становится злом, когда оно всецело подчиняет себе Я, невзирая ни на целостность этого Я, ни на уникальность форм и интенций других существ и их потребность в единении. Тогда демоническое проявляется, как чрезмерная агрессивность, враждебность, жестокость — вещи, которые больше всего ужасают нас в самих себе и которые мы подавляем каждый раз, когда можем это сделать, или, что бывает чаще, проецируем на других. Но эти вещи являются обратной стороной той самой уверенности в себе, которая придает нам творческие силы. Вся жизнь — это река, берегами которой являются эти два аспекта демонического. Мы можем подавить демоническое, но нам никуда не уйти от апатии и последующего взрыва, которые следуют по пятам за подавлением.
Греческое понятие "даймон" — источник нашего современного концепта — включало в себя и творческие способности поэта и художника, и способности нравственного и религиозного лидера, но также и заразительную энергию влюбленного. Платон уверял, что творческую личность охватывает экстаз, "божественное безумие". Это одно из первых упоминаний об очень сложной и никогда не находившей решения проблеме подобия между гением и безумцем.
Сократ, в своей Апологии, пытаясь рассказать молодому поколению о ложном "даймонизме", описывает своего "даймона": "Этот знак, что-то вроде голоса, начал приходить ко мне, когда я был еще ребенком". После того, как Сократа признали виновным, ему дали время, чтобы он мог сделать выбор между изгнанием и смертью. Сократ вернулся к своим судьям и сказал им, что выбирает смерть. Свой выбор он объяснил следующим образом:
"О мои судьи — ибо я действительно могу называть вас судьями — я хотел бы рассказать вам об одном чудесном обстоятельстве. Доселе божественный дар, источником которого является внутренний оракул, по обыкновению спорил со мной даже по мелочам, словно в любом деле я собирался совершить оплошность или ошибку. Но оракул не проявил никаких признаков несогласия, ни когда я покидал свой дом сегодня утром, ни когда я произносил свою речь… Это есть признак того, что случившееся со мною является добром, и ошибаются те из нас, кто думает, что смерть — это зло. Ибо, если бы я направлялся в сторону зла, а не добра, то мой внутренний голос обязательно воспротивился бы мне".1
Итак, "даймон", который, по мнению Сократа, обитает в каждом человеке, играет роль ангела-хранителя.
Демоническое — это не сознание; сознание, в значительной степени является общественным продуктом, связанным с установлениями данной культуры и, говоря языком психоанализа, с властью Сверх-Я. Демоническое больше связано с силой природы, чем с силой Сверх-Я, и находится за пределами добра и зла. Демоническое не является также "зовом человека к самому себе", о чем говорил Хайдеггер, а после него — Фромм, потому что источник его находится в той области, где корни нашего Я уходят в силы природы, которые этому Я не подвластны и воспринимаются как давящие на нас тиски судьбы. Демоническое поднимается скорее из основ бытия, чем из Я как такового. Особенно яркой иллюстрацией этого являются творческие способности. Мы ни за что не могли бы применить к сознанию данное Итсом определение демонического как "другой Воли", "этого ошеломляющего, непредсказуемого, быстроногого скитальца…. нашего бытия".2 Неприложимы к понятию сознания и слова Гете о демоническом. Говоря о "мощной энергии", излучаемой демоническими личностями, он заявляет: "Все нравственные силы вместе взятые не устоят перед ними… И победить их может только сама Вселенная, которую они вызвали на бой".3
Ближе всего к "приручению" демонов подобрался Аристотель, в своей концепции этического "эвдемонизма". В греческом языке слово eudaimonia (счастье) означало "присутствие в человеке доброго гения".4 Быть счастливым — значит жить в гармонии со своим демоном. В наше время, мы назвали бы "эвдемонизмом" состояние гармонии потенциальных возможностей и прочих свойств человека с его поведением.
Демон наставляет индивида в каждой конкретной ситуации. Латинским эквивалентом слова "демоническое" было слово genii (или jinni). Это термин из римских религиозных концепций, от которого происходит наше слово "гений" и который первоначально обозначал покровительствующее божество, духа, управляющего судьбой человека. Потом это слово стало обозначать особые умственные способности или особый талант. Поскольку "гений" (от латинского genere) означает "генерирующий", "производящий на свет", то демоническое следует понимать как голос происходящих внутри индивида генеративных процессов. Демоническое — это уникальная схема способностей к восприятию и прочих способностей, благодаря которой индивид является "собой" перед лицом "своего" мира. Его голос может звучать в сновидениях, а человек с обостренными чувствами может слышать его во время осознанных медитаций и самоанализа. Аристотель считал, что сновидения можно назвать демоническими; он как бы вторит нашим утверждениям, когда говорит: "ибо сама Природа демонична". Фрейд цитирует это замечание Аристотеля и добавляет, что оно содержит "глубокий смысл, если его правильно понимать".5
Вырожденная форма этой концепции, заключающаяся в вере в то, что нами овладевают летающие вокруг нас рогатые чертики, сводится к внешней проекции нашего внутреннего опыта овеществленного в формах объективной реальности. Просвещение и Век Разума, пребывая в восторге от своих успешных попыток дать всеобъемлющее разумное объяснение жизни, совершенно справедливо отбросили эту концепцию, посчитав ее непродуктивным подходом к психическим расстройствам. Но только в течение двух последних десятилетий нам стало ясно, что, отринув фальшивую "демонологию", мы, вопреки своим намерениям, сделали весь наш подход к душевным недугам банальным и мелким. Эта банальность особенно вредно сказалась на нашем восприятии любви и воли. Ибо деструктивная деятельность демонического является всего лишь обратной стороной идущей от него конструктивной мотивации. Если, как метко сказал Рильке, мы изгоним наших дьяволов, то нам следует быть готовыми к тому, что наши ангелы тоже распрощаются с нами. В демоническом сокрыта наша жизненная сила, наша способность принимать в себя энергию эроса. Мы должны заново открыть демоническое в его новой форме, адекватной нашим проблемам и плодотворной на сегодняшний момент. И это будет не просто воссоздание образа, но воссоздание реальности демонического.
Демоническим нужно руководить и направлять его в определенное русло. Вот здесь человеческое сознание приобретает особое значение. Поначалу мы ощущаем демоническое, как толчок слепой силы. Она безлика, в том смысле, что превращает нас в орудие природы. Она толкает нас к слепому самоутверждению, когда мы впадаем в раж, или, когда мы занимаемся сексом, к триумфу нашей биологии — оплодотворению женщины. Когда я в гневе, меня меньше всего волнует, кто я такой или кто ты такой; я хочу только нанести удар и уничтожить тебя. Когда мужчина находится в состоянии острого полового возбуждения, он утрачивает ощущение себя, как личности, и хочет только одного — "уломать" (этот глагол не оставляет никаких сомнений насчет его готовности применить силу) женщину, причем не важно какую. Но сознание может включать демоническое в личностное. В этом и состоит цель психотерапии.
У демонического всегда есть биологическая основа. Гете, который очень хорошо знал демонические порывы своих современников (ярким свидетельством чего является его Фауст) и которого всегда завораживали демонические состояния, вторит Аристотелю: "Демоническое есть сила природы". Но главной проблемой всегда остается разрушение цельности: один элемент личности узурпирует всю полноту власти и навязывает индивиду деструктивное поведение. Например, эротико-сексуальный порыв толкает индивида к физическому единению с партнером; но когда этот порыв всецело подчиняет себе его Я, он влечет индивида в разные стороны и принуждает его разрываться между всевозможными связями, не принимая во внимание цельность его индивидуальности, Я его партнера, интересы общества. Карамазов-отец, возвращаясь как-то вечером домой в компании своих пьяных сотоварищей, совокупляется в канаве с умственно неполноценной женщиной и, в результате, дает жизнь своему убийце. Достоевский, как и положено истинному художнику, инстинктивно понимавший суть демонического, заставляет родившегося в результате этого совокупления юношу убить своего отца.
"Эрос — это даймон", — сказала Диотима, признанный авторитет в вопросах любви среди пирующих друзей Платона. Даймоническое скорее связано с эросом, чем с либидо и сексом как таковыми. Скорее всего, с удовлетворением всех половых потребностей Антония вполне справлялись его наложницы (это было, по неудачному выражению Мастерса и Джонсона, "регулярным снятием полового напряжения"). Но демоническая сила, подчинившая себе Антония, когда он встретил Клеопатру, представляла собой нечто совсем другое. Когда Фрейд представил эрос как противоположность и соперника либидо, то есть как силу, которая противостоит инстинкту смерти и борется за жизнь, то он говорил об Эросе как говорят о демоне. Демоническое борется со смертью, оно борется всегда, чтобы доказать свою жизненную силу, оно не смиряется ни со старостью, ни вообще с возрастом человека. Мы обращаемся именно к демоническому, когда призываем тяжело больного человека "не сдаваться" или когда мы с грустью говорим о неизбежности смерти нашего друга как о факте его отказа от продолжения борьбы. Демоническое никогда не примет в качестве ответа рациональное "нет". В этом отношении демоническое — враг всяческой техники. Оно не приемлет будильников, девятичасового рабочего дня или конвейера, которым мы подчиняемся, словно роботы.
Если демоническое особенно ярко проявляется в творческих способностях, то мы должны обнаружить убедительные доказательства его присутствия в поэтах и художниках. Поэты часто осознают, что они борются с демоническим, добывая из его глубин нечто, поднимающее Я на новый уровень. Вильям Блейк сказал: "Любой поэт — из свиты Дьявола".6 Ибсен подарил другу экземпляр своей пьесы Пер Гюнт с надписью на форзаце:
"Жить — значит сражаться с троллями,
обитающими в сердце и душе.
Писать — значит устраивать самому
себе Судный День".7
Все поэты могли бы подписаться под следующим заявлением Вильяма Батлера Йитса:
"Боги и демоны вечно сражаются
В сердце моем…"8
В своих эссе Йитс заходит настолько далеко, что называет демоническое "другой Волей", которая, по его мнению, есть внешняя сила, но сосредоточенная на его личном бытии. Ниже я привожу целиком ту цитату, на которую уже ссылался в этой книге:
"Только когда мы предугадаем и поймем, чего мы страшимся, мы будем вознаграждены встречей с этим ошеломляющим, непредсказуемым быстроногим бродягой. Мы не смогли бы найти его, если бы он не принадлежал, в определенном смысле, нашему бытию, но, при этом, таким же несовместимым с нами образом, как вода несовместима с огнем, как шум несовместим с тишиной. Это самое трудное из всех вещей, ибо то, что достается легко, никогда не сможет быть частью нашего бытия".9
Если судить по живописным полотнам и статуям, то с еще большей уверенностью можно сказать, что демоническое является постоянным спутником и — хотя этого нельзя доказать — вдохновением художников всех мастей. Похоже на то, что наше технологическое общество склонно разрешать людям искусства "приглашать к себе демоническое", давая ему прибежище, хотя косо смотрит на такого рода попытки представителей других профессий. Только в искусстве современный человек позволяет себе признать наличие у него нелестных, жестоких и ужасных аспектов, которые являются частью демонического. И в самом деле, искусство можно, с определенной точки зрения, определить как специфический метод прийти к согласию с глубинами демонического. Пикассо живет в окружении демонов и рисует, отдаваясь во власть их, что и приносит ему бешеный успех; его Герника, на которой изображены разорванные на куски тела мужчин, женщин, детей и быков, обитавших в беззащитной испанской деревушке, разрушенной бомбежкой "люфтваффе", представляет собой незабываемо яркую картину демонического — и поднимается над ним, придавая ему исполненную смысла форму. Пауль Клее вполне сознает, что его картины являются спором между детской игрой, с одной стороны, и демоническими силами — с другой, и пишет в своих дневниках о демоническом. И в самом деле, демоническое занимает важное место в сознании современных художников. Чтобы убедиться в этом, достаточно хотя бы раз втянуть на картины сюрреалистов второго и третьего десятилетия нашего века, с нарисованными на них ведьмами, демонами и карикатурными человеческими фигурами. Но более и более мощным проявлением демонического является абстрактное искусство, с его изломанными пространствами, которые часто наводят на мысль колдовстве нигилизма, с его — несочетающимися цветами и с его отчаянными попытками найти — с помощью то ли одержимости, то ли изобретательности — новые формы общения.
Далее, следует обратить внимание на тот большой интерес, какой Запад в XX веке стал проявлять к примитивному искусству, будь то африканское или китайское искусство, или искусство крестьян Центральной Европы. Работы художников прошлого, входивших в непосредственный контакт с демоническим (например, Иеронима Босха и Матиаса Грюневальда), — вот полотна, которые особенно волнуют современного человека. Несмотря на то, что эти картины написаны четыре столетия тому назад, они на редкость точно соответствуют нашим умонастроениям и даже сейчас являют нам зеркало, в котором мы видим свое отражение. Нет ничего удивительного в том, что демоническое пробуждается и может "с цепи сорваться" во времена общественных трансформаций, когда обычные психические защитные средства ослаблены или полностью уничтожены. Как и художники нашего века, Босх и Грюневальд жили и рисовали во время хаоса психологических и духовных потрясений, когда средневековье уже было при смерти, а новая история еще не началась. И люди действительно боялись ведьм, колдунов и всех прочих, кто утверждал, что знает, как договориться с демонами.
Некоторые терминологические замечания
Прежде чем мы начнем углубляться в смысл понятия, стоит прислушаться к возражениям наших современников по поводу самого этого слова. Концепт "демоническое" представляется нам неприемлемым не по причине внутренних недостатков, а из-за наших отчаянных попыток отрицать то, что он обозначает. Это слишком сильный удар по нашему нарциссизму. Мы же "приличные" люди и, подобно культурным гражданам Афин времен Сократа, не любим, когда нам, вне зависимости от того, согласны мы с этим в душе или нет, напоминают, что даже в любви нами движут жажда власти, злость и потребность взять реванш. Хотя о демоническом нельзя сказать, что оно является злом само по себе, оно ставит нас перед очень сложным выбором — то ли использовать его осознанно, с чувством ответственности и ценности жизни, то ли — слепо и безрассудно. Когда демоническое подавляется, оно имеет свойство в той или иной форме вырываться на поверхность (крайними формами являются политические убийства, патологические зверства, которым подвергались жертвы убийств на болотах, и прочие ужасы, ставшие, увы, яркой приметой нашего века). Энтони Сторр пишет: "Мы можем вздрагивать в ужасе, когда читаем в газетах или исторических книгах о жестокостях, совершаемых людьми в отношении других людей, в глубине души зная, что в каждом из нас живут те же свирепые импульсы, которые ведут к убийствам, пыткам и войнам".10 В репрессивном обществе отдельные индивиды, носители демонического начала своего времени, вершат жестокость от имени всего общества.
Да, мы действительно пытаемся забыть о демоническом. Когда в январе 1968 г. в своем Обращении к Конгрессу президент Джонсон в числе своих задач упомянул устранение с улиц преступности и насилия, то это вызвало самую продолжительную за время его речи бурю аплодисментов. Но когда президент упомянул о таких задачах, как строительство недорогого жилья и улучшение расовых отношений, в конгрессе не раздалось ни одного хлопка. Итак, мы осуждаем деструктивную сторону демонического; но мы, подобно страусам, зарываем голову в песок, чтобы ничего не слышать о том, что с деструктивной стороной можно справиться только посредством трансформации ее же энергии в конструктивную деятельность.
Чего стоит самое праведное желание изгнать банды с улиц, если не вспомнить, в какой дом должен вернуться каждый из них? В наших городах демоническое существует повсюду вокруг нас — оно принимает пугающую форму индивидуального насилия на улицах Нью-Йорка и ужасающую форму еще более яростного расового насилия в сотрясаемых мятежами Ньюарке и Детройте. Сколь бы наши граждане и конгрессмены ни сожалели о присущем движению "черной силы" насилии, мы можем быть уверены в том, что подавленная и загнанная в угол сила выльется в насильственные действия, если только не будет использована конструктивно.
Насилие — это заблудшее демоническое. Это "одержимость дьяволом" в самой ее мрачной форме. Мы живем в переходный период, который отказался от устоявшихся форм конструктивного использования демонического; в такие времена демоническое имеет тенденцию проявляться в своих наиболее деструктивных формах.
Великолепным примером пагубных последствий забвения демонического является взлет Гитлера. Неспособность Америки и государств Западной Европы признать существование демонического лишила их возможности реалистично оценить значение Гитлера и нацистского движения. Я хорошо помню начало тридцатых годов, когда Гитлер пришел к власти. Я только что окончил колледж и поехал в Европу на преподавательскую работу. В те дни я и мои либеральные американские и европейские друзья так сильно верили (последние, правда, в меньшей степени) в мир и всемирное братство, что даже не замечали Гитлера или представляемую им деструктивную демоническую реальность. В нашем цивилизованном XX веке человеческое существо просто не может быть столь жестоким — все, о чем пишут газеты, неправда. Наша ошибка заключалась в том, что мы позволили нашим убеждениям сузить поле нашего восприятия. В нашем восприятии не было места для демонического; мы верили, что мир каким-то образом должен соответствовать нашим убеждениям. Непризнание демонического само оборачивается демоническим; оно превращает нас в сообщников деструктивной одержимости.
Отрицание человеком демонического приводит к его самокастрации в любви и самоаннуляции его воли. В результате этого отрицания подавленное демоническое принимает извращенные формы агрессии, которые возвращаются в наш мир, чтобы преследовать нас.
Демоническое в психотерапии примитивных народов
Народная психотерапия владеет чрезвычайно интересными и поучительными способами общения с демоническим. Доктор Рэймонд Принс, психиатр, который прожил несколько лет среди аборигенов йоруба и, изучая их, снял на пленку потрясающую церемонию, которую я приведу здесь в качестве иллюстрации.11
Когда знахарь племени должен излечить какого-то члена общины оттого, что мы бы назвали "психологическими проблемами", в этом обряде принимает участие вся деревня. После обычного ритуала разбрасывания костей и церемонии, в ходе которой, по поверью, "проблема" — половое бессилие, депрессия или что-нибудь другое — переносится на козла, которого (как "козла отпущения") потом ритуально убивают, и все население деревни в течение нескольких часов предается неистовым пляскам. Этот танец составляет основную часть лечения. Главное в этой пляске то, что жаждущий исцеления абориген отождествляет себя с фигурой, которая, по его мнению, демонически завладела им.
В фильме доктора Принса, человек, проблемой которого было половое бессилие, надел одежду своей матери и в течение долгого времени танцевал так, словно был ею. Из этого мы можем заключить, что аборигены достаточно хорошо понимали, что причиной импотенции этого человека были его отношения с матерью — по всей видимости, это была чрезмерная зависимость от нее, наличие которой он в своем "образе себя" отрицал. А потому для "лечения" было необходимо, чтобы он посмотрел в лицо демоническому в самом себе и примирился с ним. Что ж, стремление цепляться за свою мать является естественной частью жизненного опыта любого человека, оно абсолютно необходимо для нашего выживания в период младенчества и является источником нашей нежности и чувствительности в более зрелом возрасте. Если человек считает, что это его стремление слишком сильно или же что он должен его подавлять по каким-то другим причинам, он проецирует его во внешний мир: женщина, с которой он ложится в постель становится злом, дьяволом, который кастрирует его. В результате он становится импотентом, кастрируя сам себя.
Скорее всего, этот человек зациклился на женщинах — стал "одержимым" ими — и обнаружил, что тщетно борется со своим наваждением. Я не знаю, представлял ли он свою мать демоном или нет — как правило, "демон" принимает символический образ. Если говорить точно, то демоническое — это его болезненные внутренние отношения с матерью. Стало быть, в неистовой пляске он "приглашает демоническое", приветствует его. Он не только становится с дьяволом лицом к лицу, но принимает его, приручает его, отождествляется с ним, ассимилирует его, как конструктивную часть самого себя — и становится более нежным и чувствительным, и в то же самое время, более сексуально полноценным мужчиной.
В фильме доктора Принса мы также видим девушку лет восемнадцати, которая считает, что она "одержима" властью мужчины над нею. В ходе этого ритуала она танцует в форме британского чиновника, отвечающего за перепись населения в этом регионе. Этот чиновник явно является символом ее демонических проблем с властью. Мы надеемся, что после целительного транса, она уже не будет такой "серенькой мышкой", будет смелее отстаивать свои права, будет более смело говорить с властями и будет более уверенной в любовных отношениях с мужчинами.
Мужчина и девушка смело отождествили себя с тем, чего они боялись, с тем, что они прежде так отчаянно старались отрицать. Отсюда следует принцип самоотождествления с тем, что тебя преследует, не для того, чтобы с ним бороться, а для того, чтобы принять его в себя; ибо оно должно представлять какой-то подавляемый элемент нас самих. Мужчина отождествляется с женской составляющей себя — и становится отнюдь не гомосексуалистом, а мужчиной, способным на полноценные отношения с женщинами. Когда вы видите его в женском одеянии и девушку в форме чиновника, то вам кажется, что вы смотрите фильм о маскараде. Но это не так: никто из танцующих жителей деревни даже и не думает улыбаться; они пришли сюда, чтобы отправить важный обряд ради блага членов своей общины, и они сами отчасти впадают в такой же транс, что и пациенты. Поддержка общины придает мужчине и девушке смелости для "приручения" демонического.
Действительно, следует обратить особое внимание на важность той поддержки, какую могут оказать индивиду, решившемуся взглянуть в лицо своим "демонам", его друзья, соседи и земляки. Трудно себе представить, каким образом мужчина и девушка из фильма смогли бы найти в себе мужество стать лицом к лицу с демоническим, если бы не участие и тактичная поддержка общины. Община образует надежный межличностный мир людей, в котором все связаны между собой, и человек уже не один противостоит разрушительным силам.
Заметьте, что оба действующих лица отождествляют себя с представителем противоположного пола. Это напоминает нам об идее Юнга, что подавляемая теневая сторона Я представляет противоположный пол, anima, если речь идеи о мужчинах, и animus, если речь идет о женщинах. Но вот что особенно интересно: термины anima и animus можно понимать как связанные с чувством враждебности и злыми намерениями,* а также подразумевая одухотворение, одушевление, оживление.** В основе этих терминов — латинское слово anima, душа или дух. Итак, прошедшая сквозь сито истории мудрость слов гласит, что подавляемая часть вашего Я служит источником враждебности и агрессии, но если вы можете с помощью сознания включать ее в систему вашего Я, то она становится воодушевляющим вас источником энергии.
* По-английски "враждебность", "злоба", "вражда" — animosity. — Прим. перев.
** По-английски "оживлять", "одушевлять" — animate. — Прим. перев.
Вы принимаете в себя демоническое, ибо в противном случае оно подчинит вас себе. Единственный способ справиться с подчиненностью демону — это подчинить его себе, смело взглянув ему в глаза, придя к соглашению с ним, включив его в себя. Этот процесс имеет несколько полезных аспектов. Он укрепляет Я, поскольку включает в него то, что было за его пределами. Он ликвидирует "раскол" в вашем Я и парализующую его амбивалентность. И личность становится более "человечной", сокрушая барьеры самодовольства и высокомерия, которые являются обычными защитными средствами человеческого существа подавляющего в себе демоническое.
В ходе этой терапии мы наблюдаем освобождение пациента от болезненных пут прошлого. В данном конкретном случае мужчина освобождается от нездоровой зависимости от матери. Это связано с тем (о чем так часто говорится в мифах, легендах и психотерапии), что демоны воспринимаются, как существа женского пола. Фурии древних греков были женщинами; женщиной была Горгона. В своем скрупулезном исследовании мифологического мира всех человеческих цивилизаций Джозеф Кэмпбелл приводит длинный перечень женских божеств и персонажей, которые считались демоническими. Он считает, что эти персонажи были богинями земли и имели отношение к плодородию; они представляли "землю-мать". Я, со своей стороны, полагаю, что женщина так часто представляется демоном, потому что каждый индивид, как мужчина, так и женщина, начинает свою жизнь, будучи привязанным к матери. Это "биологическое заточение" в утробе женщины, которая вынашивает человеческое существо, создает узы, которые мы просто в силу того, что рождаемся привязанными к пуповине, должны разорвать, если хотим обрести свое собственное сознание и самостоятельность действий — иными словами, если мы хотим владеть собой. Но справившись с "заточением" и провозгласив свою самостоятельность, индивид должен сам призвать демоническое вернуться на уровень сознания. В этом заключается здоровая зависимость зрелого человека.
Наконец, мы наблюдаем замечательную параллель между происходящим с этими двумя пациентами и темой нашей книги. Один из пациентов начинает с проблемы любви — он не может добиться эрекции. Заканчивает он тем, что призывает на помощь свою волю: преодолевая пассивную зависимость от матери, он может самоутвердиться и обретает способность к половому акту. Для девушки все явно начинается с проблемы воли — она не может найти себя в столкновении с властью; заканчивается все, будем надеяться, обретением ею способности любить мужчину с большим самозабвением. Итак, любовь и воля — взаимосвязаны: помогая одному, мы укрепляем второе.
Обращение к истории
Сейчас мы постараемся получше разобраться в значении слова "демоническое". В древней Греции слово "демон" было синонимом слова "бог", и очень близким синонимом слова "судьба". Гомер и предшественники Платона никогда не использовали во множественном числе ни слово "судьба", ни слово "демон".12 У меня есть своя "судьба", точно так же, как у меня есть свой "демон" — это отражает само состояние жизни, в которое мы вовлечены. Главная наша дилемма всегда сводится к следующим вопросам: "В какой мере это состояние является внешней силой, воздействующей на нас?" (древние были склонны как раз к такой точке зрения) и " В какой мере это состояние является внутренней силой индивидуальной психики человека?" (во что верили греческие рационалисты более позднего периода). Придерживавшийся последней точки зрения Гераклит заявлял: "Характер человека — это его демон".13
Этот гордиев узел был разрублен Эсхилом, которому принадлежит основная заслуга в новом истолковании древних мифов и религии с целью приспособить их к нарождавшемуся самосознанию греков. Эсхил сформулировал концепцию демонического для обретающего индивидуальность греческого гражданина, который был призван достичь вершин развития, взяв на себя ответственность за цивилизацию и за себя самого. В пьесе Эсхила Персы, царица говорит о заблуждениях Ксеркса, которые стали причиной катастрофы Персии, и называет эти заблуждения "демоном". Здесь нам представляют человека, как пассивную жертву демона. Но призрак Дария, прослышав о попытке Ксеркса заковать в цепи священный Босфор (проявление величайшей гордыни), заявляет, что "могучий демон отнял у него рассудок". В данном случае речь идет уже о чем-то другом. Теперь демоническая сила не просто подчиняет себе индивида, делая его своей жертвой, а действует — в психологическом смысле — посредством индивида; она мешает ему здраво мыслить, затрудняет видение реальности, но все же возлагает на него ответственность за совершаемое. В этом заключается извечная дилемма личной ответственности человека, вопреки судьбе, которая им движет. Здесь предельно конкретно выражена мысль, что истина и реальность могут быть психологизированы только до определенной степени. Эсхил не безличен, а надличностен, он одновременно верит и в судьбу, и в нравственную ответственность.
Трагический герой Эсхила самоутверждается в своей самостоятельности, забыв о природе вещей, что и приводит его к гибели. Смерть, одряхление, время — вот те реальности природы, в которых мы живем и которые, в назначенный срок, поставят нас на колени.
Уже у Эсхила демоническое как субъективно, так и объективно — и именно в этом смысле я говорю о нем в моей книге. Проблема всегда заключается в том, чтобы видеть обе стороны демонического, различать феномены внутреннего опыта переживаний индивида, не пытаясь при этом чрезмерно психологизировать нашу связь с природой, с судьбой и с основами нашего бытия. Если демоническое воспринимается как исключительно объективная вещь, то вы рискуете сползти в суеверие, считая человека всего лишь жертвой внешних сил. С другой стороны, если вы воспринимаете демоническое как исключительно субъективную вещь, вы излишне психологизируете демоническое; вам все начинает казаться проекцией и все становится для вас иллюзорным; вы заканчиваете тем, что попросту игнорируете силы природы и такие объективные условия бытия, как старость и смерть. Последнее ведет к солипсизму сверхупрощению. Попав в ловушку солипсизма, мы утрачиваем нашу последнюю надежду. Величие Эсхила состоит в том, что он абсолютно ясно видит обе стороны. В финале его Орестеи Афина советует людям:
Кто разумен, тому ли пути не найти
К мудрым, добрым речам?
Пусть чудовищны лики подземных богинь —
Верю твердо: великое счастье стране
Принесут они. Чтите пришелиц благих,
Благодарные граждане!14
Но к концу V века до н. э., отмеченного небывалым расцветом, демоническое стало защитником рациональной самостоятельности человека. Оно стало помощником человека в его стремлении к самоосуществлению; оно предупреждало его, когда он находился на грани утраты своей самостоятельности. Сократ — лучший представитель этого направления — ни в коей мере не исповедовал чистый рационализм, но смог сохранить свою рациональную самостоятельность именно потому, что согласился с тем, что основа ее находится в надрациональной сфере. Именно поэтому он одержал верх над Протагором. Сократ верил в демоническое; он серьезно воспринимал и сновидения, и предсказания Дельфийского оракула. Он не закрывал глаза на такие демонические феномены, как чума в Афинах в 431 г. до н. э. или война со Спартой. Философия Сократа имела динамические истоки, что и уберегло ее от скуки рационализма, в то время как убеждения Протагора не выдержали испытания, поскольку пренебрегали динамическими, иррациональными силами человеческой природы. Додс пишет, что философия Протагора, зиждившаяся на вере в то, что "человек есть мера всех вещей", страдала "ложным" оптимизмом, и наверняка он умер несчастливым человеком, поскольку смерть его пришлась на начало войны Афин со Спартой.15
Жившие несколько веков спустя люди эпохи Просвещения не переставали сражаться с демоном Сократа. Чрезвычайно интересно наблюдать, как Томас Джефферсон, уверовавший в Век Разума, размышляет над тем фактом, что Сократ отдавал себя под "опеку Демона-хранителя". Джефферсон с сожалением высказывает абсурдную (для нас, крепких задним умом) мысль: "Сколь многие из наших наимудрейших людей по-прежнему верят в реальность такого вдохновения, проявляя при этом абсолютное здравомыслие во всех остальных вопросах" (!).16 Джон Квинси Адамс тоже был искренне озадачен: "Трудно сказать, являлся ли это [демон Сократа] выражением суеверия или же образным выражением Сократа… Когда Сократ говорит, что ему приходилось слышать внутренний голос, то вряд ли можно считать, что он имеет в виду исключительно Благоразумие или совесть".17
Нет, Сократ имел в виду не Благоразумие или совесть, и ни Джефферсон, ни Адамс не могли игнорировать тот факт, что менее суеверного человека, чем он, трудно себе представить. И хотя это было просто образным выражением в смысле "метафоры", это было символическим выражением. Ибо язык символов и мифов — это единственный способ выразить фундаментальные архетипические переживания, всецело затрагивающие человека. Демоническое принадлежит к той сфере опыта, где дискурсивный, рациональный язык может рассказать только часть истории; и ограничиваясь этим дискурсивным языком, мы обедняем себя. Поэтому Платон, который также обращался к языку символов и мифов в тех случаях, когда только этот язык мог передать смысл его слов, смог написать, что Бог дал каждому человеку своего демона, и этот демон есть связь человека с божественным. Смысл слов Сократа легче понять сегодня, спустя несколько веков после эпохи Просвещения и несколько десятилетий после эпохи Фрейда, когда мы изучаем подсознание и знаем "темные" и рациональные пружины не только вдохновения и творчества, но и всех прочих действий человека.
Сейчас же давайте обратим внимание на единство добра и зла, которого достигли греки в их концепте демона. Демон — это мост между богом и человеком, и в нем есть что-то и от того, и от другого. Жить в согласии со своим демоном (эвдемонизм) трудно, но чрезвычайно полезно. Демон — это самая мрачная форма естественных устремлений, но если человек осознает наличие у него этих устремлений, он может до определенной степени ассимилировать и направить их. Демоническое уничтожает исключительно рационалистические планы и открывает личности глаза на имеющиеся у нее творческие возможности, о которых она даже не подозревала. Платон метафорически представил демонов в образе могучих, храпящих лошадей, управление которыми требует от человека напряжения всех его сил. И хотя человек никогда не разрешит этот конфликт, эта борьба дает ему неиссякаемый источник формообразования и потенциальных возможностей, вселяющий в нас и ужас, и благоговейный восторг.
В эпоху эллинизма и в христианскую эпоху дуалистический раскол между положительной и отрицательной сторонами демона становится все более заметен. Согласно нашим теперешним представлениям, все небожители разделяются на два лагеря — чертей и ангелов. Первые следуют за своим вождем Сатаной, вторые служат Богу. И хотя эти представления никогда не имели вполне рационального объяснения, похоже, что в свое время человек надеялся на то, что при наличии такого раскола ему будет легче бороться с чертями.
Но хотя, расколов эту борьбу добра и зла на чертей и ангелов, эллины и первые христиане приобрели некоторый нравственный динамизм, многое все же было потеряно. Причем важно, что именно было потеряно: классическая организмическая концепция бытия — как объединяющего в себе созидательные и деструктивные возможности. Мы видим начало проблемы, о которой говорил Рильке — если изгнать чертей, то и ангелы дадут деру.
Слово происходит от греческого diabolos. Интересно, что diabolos буквально означает "разрывать на части".18 Еще более интересно, что в греческом языке слово diabolos было антонимом слова simbolos, которое означало "соединять". Из этого можно сделать очень серьезные выводы насчет онтологии добра и зла. "Символическое" — это то, что соединяет; "дьявольское" — прямая его противоположность, оно разрушает и разрывает на части. Оба эти аспекта присутствуют в демоническом.
Первоначально бывший архангелом, Сатана, получил специфическое прозвище — "вражья сила".* Это он искушает Еву в Райском Саду и Иисуса на горе. Но если мы приглядимся более внимательно, то мы увидим, что Сатана — это не просто враг; Сатана берет себе в помощники живущего в саду змея, который несомненно является демоническим элементом природы. В Эдеме Сатана является воплощением демонического сладострастия и жажды могущества, утолить которую можно посредством обретения знания, сулящего человеку бессмертие, "подобно богам". Господь разгневался на Адама и Еву за то, что они вкусили плоды с "древа познания добра и зла", опасаясь, что они посмеют вкусить плоды с "древа вечной жизни". Эта драма в Райском Саду (как и искушение Иисуса на горе) является символическим представлением демонической жажды сладострастия и власти, а Сатана является символом, воплощающим эти демонические порывы.
* Автор прибегает к непереводимой игре слов. В английском языке вместо слова "дьявол" часто используется эвфемизм "Old Adversary" — "извечный враг". Но слово "adversary" имеет и другое значение — "оппонент, другая сторона в споре", то есть другая сторона одного и того же процесса. — Прим. перев.
Необходимость в Сатане, Люцифере и прочих демонических фигурах, которые все в свое время были архангелами, психологически обоснованна. Их нужно было изобрести нужно было создать, чтобы сделать возможными человеческие действия и человеческую свободу. В противном случае, не было бы никакого сознания. Ибо каждая мысль, создавая что-либо, что-нибудь и разрушает чтобы подумать об одной вещи, я должен не думать о другой; сказать "да" чему-то одному, значит сказать "нет" чему-то другому, и "нет" должно присутствовать в самой амбивалентности "да". Воспринимая эту вещь, я должен отгородиться от других. Ибо сознание работает по принципу "или — или" оно как деструктивно, так и конструктивно. Без бунта сознания не бывает.
Итак, надежда на то, что от Сатаны или другой "вражьей силы" можно избавиться посредством постепенного приближения к совершенству, является неконструктивной и, попросту, несбыточной. Она принципиально несбыточна. Святые не лукавили, когда называли себя величайшими грешниками. "Усовершенствование" — это ублюдочная концепция, тайком проникшая в этику из техники, и является результатом смешения этих двух сфер.
Одна беда с этой космической схемой "ангелы против дьяволов" — и это создает чудовищные трудности — ангелы представляют собой слишком слабые и неинтересные создания. Они, по определению, бесполы; зачастую они похожи на Купидона — самое убогое воплощение Эроса. Похоже, что их основная функция заключается в том, чтобы носиться по свету, вручая послания и объявления — что-то вроде небесного аналога компании "Вестерн Юнион". Они — как правило бессильные создания, за исключением нескольких архангелов, вроде Михаила. Я, например, замечаю их разве что в качестве статистов в какой-нибудь эпической драме вроде Рождества Христова.
Ангелы скучны? Да — но только до своего падения! Вот тогда-то ангел начинает вызывать большой интерес. Люцифер, низвергнутый с небес ангел, становится динамичным героем в Потерянном Рае Мильтона. Когда ангел становится на путь независимого самоутверждения — называйте это гордыней, отказом соблюдать дисциплину или как хотите — вот тогда он способен привлечь наше внимание и даже вызвать восхищение. Он утверждает себя, он сам делает выбор, он осуществляет свою индивидуальную страсть. Если мы подумаем о Люцифере, как о символическом олицетворении какого-то очень важного порыва в человеческой psyche — стремления к развитию, к зреющей в индивиде новой форме, которую он потом видит в окружающем его мире — тогда это утверждение независимости выбора определенно является положительным аспектом развития. Наше беспокойство должен вызывать тот ребенок, который в течение слишком долгого времени остается "ангелочком"; подросток-"чертенок" подает куда больше надежд на успешное развитие.
Падший ангел — это тот же ангел, только обретший новые силы от демонического, силы, которые находят выход в дуализме, в противовес дезинтеграции, присущей мифологемам античного языческого мира. Рильке прав в своем желании сохранить в себе и ангелов, и дьяволов, потому что и те, и другие в равной мере необходимы. Вместе они составляют демоническое. И кто осмелится сказать, что дьяволы Рильке внесли в его поэзию меньший вклад, чем его ангелы?
Деление мира на ангелов и чертей получает свое развитие в средние века и "демон" однозначно становится синонимом "дьявола". Люди Средневековья были, похоже, очарованы своими "демонами", даже тогда, когда проклинали их; по какой же еще другой причине по стенам их соборов поползли смеющиеся и зловещие чудовища и химеры и всевозможные твари, вырезанные в камне художниками, знавшими демоническое не понаслышке? В тот преисполненный страстей период истории, люди восторгались своей "демонической" природой. Но это никоим образом не мешало им клеймить своих врагов, как пособников дьявола, что было очень удобно во время религиозных войн, в частности, во время восстания альбигойцев. Человек явно всегда был склонен записывать в воинство дьявола всякого чужака, инакомыслящего, просто непохожего на него индивида, а себя причислять к ангелам.
Новое открытие демонического как силы, которую нельзя измерять категориями добра и зла, "было вызвано антирациональным культом гения, сложившимся в конце XVIII века", пишет профессор Вольфганг Цукер.19 Это было выражением глубокого несогласия с идеями Просвещения и с утилитарными мелкобуржуазными представлениями о порядке, а также протестом против господствовавшего тогда морализма и интеллектуализма в теологии. Профессор Цукер очень убедительно пишет:
"Необходимой общественной предпосылкой этого явления было крушение старого строя и возникновение нового маргинального класса художников, которые уже не были мастеровыми. Именно в это время в обиход вошли определения "artiste" и "Kuenstler", которые обозначали не специфический род деятельности, а образ жизни за пределами иерархии общественных и экономических ценностей… Согласно такой точке зрения, художником считался не тот человек, который путем усердных занятий и практики просто научился хорошо пользоваться резцом, кистью или каким-то музыкальным инструментом, а тот, кто одарен некой сверхъестественной силой; в нем есть гений, он сам есть "гений"… Его поведение не совпадает с общепринятыми нормами, но и его произведение отличается такими сверхчеловеческими качествами, что его нельзя сравнивать с производимым другими людьми… Стало быть, обычные категории добра и зла, пользы и бесполезности, к художнику неприменимы. Его труды и его страдания — это его судьба. О нем нельзя сказать, что он — гений, потому что он стал выдающимся художником; наоборот, он — выдающийся художник, потому что в него вселился гений".20
Старого Гете постоянно влекло к себе демоническое и он много рассуждал об этом. Он считал, что демоническое — это не только природа, но также и судьба; оно как причина обусловливает судьбоносные встречи — каковой стала его дружба с Шиллером — и создает великого человека. Чтобы найти в нашем опыте подтверждение истинности этого тезиса, достаточно вспомнить, что величие заключается в пребывании "в нужном месте в нужное время"; это совпадение специфических качеств данного человека со специфическими потребностями времени. Историческая ситуация подхватывает талантливых людей и уносит их к величию (вспомним тезис Толстого в "Войне и мире"). История их использует, выполняя, в этом смысле, ту же функцию, что и природа. Гете говорит, что открыл демоническое в самом начале своей деятельности, и оно определило его неповторимую судьбу. Демоническое было открыто им:
"… в Природе, оно было живым и неживым, одушевленным и неодушевленным, чем-то, что проявлялось только в противоречиях и поэтому не могло быть втиснуто в какую-то одну концепцию, и в еще меньшей степени оно могло быть втиснуто в какое-то одно слово… Казалось, что оно удовлетворяется лишь невозможным, а возможное с презрением отвергает.
Этот принцип, который, как мне кажется, опосредует остальные принципы, разделяя и объединяя их, я, по примеру древних и тех, кто осознал нечто подобное, назвал Демоническим".21
После того, как великий человек выполняет свою миссию, он низвергается с пьедестала и гибнет. Для Гете, "поэзия и музыка, религия и патриотические порывы освободительных войн, Наполеон и Байрон — все это демоническое". В конце своей автобиографии он пишет:
"Хотя демоническое может самым ярким образом проявляться даже в некоторых животных, главным образом оно связано с человеком. Оно представляет силу, которая если и не противостоит моральным устоям мира, то имеет противоположную направленность; здесь напрашивается сравнение с двумя сторонами одной медали… В своих самых ужасных формах демоническое проявляется в некоторых человеческих существах. В своей жизни мне довелось не раз вблизи или издалека наблюдать подобные случаи. Эти люди не всегда отличаются блестящим умом или талантами, и очень редко обладают добрым сердцем. Но они излучают сильнейшую энергию, они обладают невероятной силой воздействия на все остальные создания и даже на неживую материю; никто не может сказать, насколько далеко может простираться их влияние".22
При всем своем громадном интересе к демоническому, Гете, в отличие от романтиков, не приходит от него в слепой восторг, и, в отличие от рационалистов, не клеймит его позором. Он придумал что-то вроде демонического аристократизма: некоторые люди избраны для того, чтобы нести в себе большой заряд демонического, а некоторые — нет. Это нечто нерациональное, напоминающее о "дионисийстве" в духе Ницше и о elan vital* Бергсона. Великие люди, в которых демоническое проявляется особенно сильно, непобедимы, покуда, движимые своей гордыней, они (с неизбежностью) не посягают на саму природу. И здесь их ждет погибель. Наполеона разбили не русские сами по себе, а русские в союзе со своей зимой. Здесь мы имеем пример согласования своих желаний с демоническим: того, что русские не могли совершить своими собственными силами, они добились другим путем — согласовав свою волю с природой, просторами своих территорий и другими аспектами неподвластной ни одному человеку сферы воздействия между человеком и природой, между человеком и его судьбой. И это замечательное сочетание человеческих и природных сил приняло облик "генерала Зимы".
* Жизненный порыв (фр).
Пауль Тиллих — современный мыслитель, которому принадлежит основная заслуга в пробуждении нашего внимания к демоническому. Этим объясняется его громадная популярность среди психиатров и психологов, которые сотнями собирались на любую его лекцию. Они слушали не просто умного и образованного человека; они слушали человека, который "призвал" демоническое так, как это нужно делать им в их работе. Однажды я получил консультацию от женщины с диагнозом шизофрении, которая за год до этого была на грани психотического срыва. Тогда она отправилась к Паулю Тиллиху и рассказала ему о "демонах", как она их ощущала. Он невозмутимо ответил: "Каждое утро, между семью и десятью часами, в меня вселяются демоны". Это ей очень помогло и, с моей точки зрения, стало главной причиной ее спасения. Из заявления Тиллиха она поняла, что ее ощущения не делают ее "чуждой" всему роду человеческому. Ее проблема была человеческой проблемой и от проблем других людей отличалась только своей остротой; ее общность с миром и окружающими ее людьми, ее общение с ними были восстановлены.
Но Тиллих не всегда пользовался такой популярностью. Когда в 1933 г. он был выдворен из гитлеровской Германии и приехал в нашу страну, он часто говорил о захлестнувшей Германию волне псевдоромантизма и рассказывал, что его студенты находили его "слишком рационалистичным и логичным". Летом 1936 г. Тиллих съездил в Германию и, вернувшись в Нью-Йорк, рассказал о своих впечатлениях группе ученых. Зловещие перспективы будущего Германии так ужаснули его, что, блуждая бесцельно где-то в лесах вблизи Берлина, он ощутил вдруг грядущее пришествие демона. ("Я вижу руины, руины, руины. На Потцендаммер Платц будут пастись овцы".) Но середина тридцатых годов в Америке была временем либералов; почти никто из слушавших Тиллиха людей не принял сказанное всерьез. Один теолог из Чикаго, покидая аудиторию, заметил; "Мы наконец-то избавились от демонов, а Тиллих высматривает их за каждым деревом!" Что ж, цивилизованное варварство гитлеровской Германии оказалось куда страшнее самых страшных пророчеств Тиллиха. Эпоха, которая началась после Первой мировой войны и была провозглашена эпохой "технического разума", сейчас представляется поистине эпохой демонического.
Фрейд ввел нас в Дантово чистилище демонических сил и привел множество эмпирических подтверждений того, насколько серьезны демонические порывы и в какой мере извращения, невроз, психоз и безумие являются результатами неверной направлености этой силы. Фрейд писал: "Ни один человек, который, подобно мне, находит большую часть зла в тех полуприрученных демонах, что обитают в груди человека, и хочет бороться с ними, не может рассчитывать на то, что выйдет из этой борьбы целым и невредимым".23 Произнесенное вроде бы мимоходом слово "полуприрученные" является точным определением человеческой формы демонического; "полностью прирученные" — это относится к ангелам, "неприрученные" — к дьяволам, ну а мы есть и то, и другое. Психотерапевтам понятно, что поддаваться искушению убежать от демонического просто потому, что оно представляет опасность, неконструктивно; в этом случае, устранение психологических проблем ведет к рутине "приспособленчества". Стало быть, исцеление людей — это прямая дорога к скуке. Неудивительно, что пациенты предпочитают невроз и психоз "нормальности", ибо их отклоняющееся от нормы существование, по крайней мере, не лишено жизненной силы.
Ощущение Фрейдом безжалостности жизни, его смирение перед судьбой в сочетании с гордостью за свой разум, его отказ потворствовать потребности человека в успокоительных речах — эти качества порождены не пессимизмом, в котором его часто обвиняли, а проникновением в зловещий смысл человеческого существования и постижением неизбежности смерти. Этим и обусловлено подлинное ощущение демонического.
Демоническое скрывается в том особом ударении, какое в своих работах Фрейд делает на "судьбе" и "роке", а также во многих его концептах вроде либидо, танатоса и инстинкта. В каждом из них содержится намек на то, что в нас живет сила, которая может подчинить нас, может превратить нас в "орудие природы", может погрузить нас в водоворот функций, которые сильнее нас. Либидо, или влечение — это естественное стремление, которое действует в воображении человека, может расставлять на его пути всевозможные ловушки и может заставить человека — стоит только ему расслабиться от ощущения, что на этот раз он устоял перед искушением — поступить вопреки здравому смыслу и стать безликим орудием — средством достижения целей человеческой расы. Если человек не сумеет найти контакт с этими неизбежными психобиологическими феноменами, это приведет его к патологии. Фрейд делал особое ударение на этой мысли — реалистичной, четкой и конструктивной (особенно по сравнению с викторианским отделением себя от природы). Я говорю, что демоническое "имплицитно" содержится в этих концептах; либидо, например, заявив о себе, умирает. И тогда в игру вступает эрос — как сила, которая вместе с нами будет противостоять инстинкту смерти и бороться за жизнь. Чтобы мы одержали победу, эрос должен появиться в демонической форме. Фрейд явно взывал к эросу как демону.
Профессор Морган противопоставляет жесткий и суровый взгляд Фрейда на любовь взглядам тех позитивных мыслителей, которые дают современному человеку невыполнимые обещания.
"Никакое искусство любви Фромма, никакая утренняя гимнастика, никакой здоровый образ жизни, никакая либерально-утилитарная технология… не принесут мир на землю и добрую волю людям [по мнению Фрейда]. А причина фундаментально проста. Мы, люди, несем в себе, неустанно взращивая, семена нашего собственного уничтожения. Мы должны как любить, так и ненавидеть. Мы хотим как создавать и защищать себя и своих собратьев, так и уничтожать их".24
Любовь и демоническое
Каждый человек, ощущая свое одиночество, стремится к единению с другим человеком. Он жаждет отношений, выходящих за пределы его самого. Как правило, он стремится победить свое одиночество с помощью какой-нибудь формы любви.
Психотерапевт Отто Ранк однажды заметил, что все проблемы всех приходивших к нему женщин были вызваны недостаточной агрессивностью их супругов. Несмотря на то, что это кажется предельным упрощением, слова эти очень красноречивы: наше культивирование расслабленного секса может сделать нас настолько вялыми и отстраненными, что из полового акта испаряется сама его энергия и женщина утрачивает элементарное, жизненно важное удовольствие быть покоренной, похищенной, обольщенной. "Укус любви" — момент враждебности и агрессии, который, как правило, наступает во время оргазма, но может быть украшением и всего любовного процесса — имеет конструктивное психофизиологическое назначение, настолько же приятное (если не более) для женщины, насколько оно экспрессивно значимо для мужчины.
Человеку, чтобы вступить в отношение с другим, требуется своеволие, умение стоять на своих собственных ногах, утверждение своего Я. Человек должен иметь что-то, что он может дать, и быть способным это дать. Разумеется, здесь есть опасность того, что он переусердствует в своем самоутверждении — что является источником ощущения одержимости демоном. Ибо если человек неспособен самоутвердиться, он неспособен к подлинным отношениям с другим человеком. Динамичные диалектические отношения — у меня есть искушение назвать их равновесием, хотя они равновесием не являются — представляют собой непрерывный процесс, в ходе которого человек одновременно берет и дает и, тем самым, самоутверждается, находит ответ "да" в другом человеке, а переусердствовав в самоутверждении, может почувствовать "нет" в другом человеке, отступить, но не сдаться, придать своему участию в этих отношениях новую форму и найти путь, адекватный целостности другого человека. Здесь мы имеем дело с конструктивным использованием демонического. Это утверждение человеком своей индивидуальности относительно другого человека. Оно всегда граничит с эксплуатацией партнера; но без него не может быть никаких серьезных отношений.
Демоническое, в его здоровой форме, — это стремление соприкоснуться с другим человеком, обогатить свою жизнь посредством полового опыта, стремление создавать и культивировать; это восторг и экстаз или просто подтверждение того, что мы что-то значим, что мы можем воздействовать на других людей, можем формировать их, можем обладать над ними поистине большой властью. Это способ удостовериться в том, что нас ценят.
Когда демоническое полностью подчиняет нас себе, наше Я выпадает из отношений; именно это имеется в виду, когда человек говорит: "Я не владел собой, я действовал, как во сне, я не отдавал себе отчет". Демоническое — это принадлежащая к элементам бытия сила, с помощью которой человек избавляет себя, с одной стороны, от ужаса не быть самим собой, и с другой стороны, от ощущения отсутствия связи с другим человеком и витального влечения к другому человеку.
Женщина, о которой я рассказывал в предыдущей, главе, та самая, что влюбилась в автомеханика, поведала мне, что по вечерам ее муж всегда "бродил по дому, по собачьи преданно заглядывая мне в глаза, в ожидании того, когда я лягу в постель". Хотя мы можем понять, почему ее супруг вряд ли мог расхаживать с гордо поднятой головой, мы также можем понять ту величайшую радость и облегчение женщины, которые принесла ей не отягощенная амбивалентностью эротическая агрессивность механика. Потребность женщины в подчинении мужчине была удовлетворена.
В биологическом смысле, ярким выражением демонического в мужчине является эрекция — феномен, который сам по себе околдовывает, эротически соблазняет женщину, когда она его замечает, если она уже как-то увлечена. (В противном случае у нее возникает отвращение, что просто является обратным доказательством эмоционального воздействия эрекции.) Эрекция является настолько ярким демоническим символом, что древние греки не могли не украсить свои вазы изображениями танцующих на дионисийских празднествах сатиров с гордо торчащими фаллосами. Мужчинам достаточно вспомнить то восхищение, какое они испытали в детстве от магической способности их пениса без всякой видимой причины подниматься, становиться твердым и доставлять им чудесные ощущения. Подобное проявление демонического, хотя биологически менее явственно, чем у мужчины, наблюдается и у женщины; оно необходимо ей, чтобы испытывать откровенное влечение к мужчине, чтобы хотеть его и чтобы исподволь дать ему понять, что она его хочет. И мужчина, и женщина нуждаются в этом самоутверждении, чтобы перебросить мост через разделяющую их пропасть и прийти к единству.
Я ни в коей мере не выступаю здесь за возращение к примитивной сексуальности. Я также не хочу подбадривать к действию тех не вполне зрелых мужчин или женщин, которые толкуют агрессию как грубое навязывание требований партнера по сексу. Я говорю об агрессии в здоровом смысле этого слова, как о самоутверждении, основанном на силе, а не на слабости, и неотделимом от способности к чувствительности и нежности. Но я утверждаю также и то, что в нашем чрезмерном поощрении половой любви мы ампутировали нечто важное в нашем половом влечении, и потому мы рискуем потерять именно то, к чему стремимся.
Любопытная вещь, которая никогда не перестает удивлять людей в процессе терапии — признавшись в своем гневе, в своей враждебности или даже ненависти по отношению к супругу (или супруге) и побранив его (ее) в течение часа, они заканчивают ощущением любви по отношению к своему партнеру. Пациент может прийти буквально дымясь от негативных чувств, но полный решимости, отчасти бессознательной, оставить их при себе, как и подобает джентельмену; но он обнаруживает, что подавляя свою агрессию, он, тем самым, подавляет свою любовь к партнеру. Это настолько ясно, что стало практически законом исцеления. Доктор Людвиг Лефебр называет это "обращением к негативному", которое необходимо для того, чтобы позитивное тоже поднялось на поверхность.
Здесь имеет место нечто большее, чем полярность человеческого сознания: положительное не может подняться на поверхность, пока не поднялось отрицательное. Вот почему в психоанализе негативное анализируется в надежде, — которая оправдывается достаточно часто, чтобы можно было говорить о правиле — что позитивное, в результате, будет способно самостоятельно подняться на поверхность. Это и есть конструктивный аспект соприкосновения с демоническим. Ибо мы помним, что эрос является демоном; эрос связан не только с любовью, но и с ненавистью, он пропускает через наше нормальное существование сильный энергетический разряд — это овод, который не дает нам заснуть; эрос — это враг нирваны, абсолютного покоя. Ненависть и любовь не являются несовместимыми противоположностями; они идут рука об руку, особенно в такие переломные эпохи, как наша.
В самой нашумевшей за последние годы на Бродвее да и по всей стране пьесе под названием "Кто боится Вирджинии Вульф?" две пары в течении трех часов подвергают друг друга эмоциональным истязаниям. Сидевшим в зале зрителям было не по себе — это можно было понять по нервному смеху или колебаниям, когда они не знали нужно ли смеяться в том или ином месте; но еще очевиднее было то, что пьеса оказала на них сильное воздействие. (Следует сказать, что, как это часто бывает, киноверсия пьесы имела куда более мягкую тональность. Фильм придавал массовой аудитории больше уверенности перед лицом демонического, поскольку начинался с любовной сцены между Джорджем и Мартой, а уже потом авторы переходили к истязаниям.)
Откуда берется притягательная сила этой пьесы? Мне кажется, что сила пьесы заключается в том, что она обнажает демонические желания, помыслы и чувства, которые присутствуют в каждом браке, но наше буржуазное общество по большей части отрицает их существование. Всякий раз, когда актер принимает агрессивную позу, словно кобра перед броском, нас увлекают и очаровывают предстающие перед нами во всей своей наготе наши собственные демонические порывы. Главные герои, Джордж и Марта, несмотря на всю свою эмоциональную свирепость, действительно похоже, любят друг друга, но они боятся этого и боятся своей собственной нежности. В этом отношении, пьеса являет точный портрет современного западного человека. Ибо мы боимся и наших демонических порывов, и нашей нежности, которые, конечно же, представляют собой две грани одной и той же сущности. Чтобы ощутить нежность и жить в согласии с этим чувством, необходимо посмотреть в лицо демоническому. Нежность и демоны кажутся вещами несовместимыми, но если одно из них подавляется, то уходит и другое.
Разумеется, эта пьеса поднимается до трансцендирования, выхода за пределы демонического, придавая ему исполненную смысла форму, как и положено любому хорошему произведению искусства. Вот почему мы можем принять демоническое, отображаемое в искусстве. Пьеса также поднимается над изображенным в ней "ристалищем" в нескольких заключительных словах (хотя для трансцендирования в искусстве содержание всегда менее значимо, чем форма). В самом конце Джордж и Марта обретают способность воления в отношении друг друга — и поэтому режиссер спектакля назвал эту пьесу "экзистенциальной". В них действительно пробуждается воля, потому что в процессе борьбы они убили свою иллюзию фантасмагорического сына. Но мы не знаем, сделают ли они свой шаг в действительности; одно мы знаем определенно — обнаженные на сцене страсти задевают очень чувствительную струну в душах буржуазной, цивилизованной аудитории.
Достаточно вспомнить мрачные сюжеты древнегреческих трагедий — Медею, рубящую на куски своих детей, Эдипа, выкалывающего себе глаза, Клитемнестру, убившую своего мужа и убитую своим сыном — чтобы понять, что демоническое, в своих самых откровенных формах, лежало в основе великих классических произведений, которые, как сказал Аристотель, "очищали публику состраданием и ужасом". Однако само страшное событие у греков всегда происходило за сценой и передавалось криками и соответствующей музыкой. Такой ход имеет несколько преимуществ: он — точен, в том смысле, что демоническое действительно происходит в нашей жизни, как правило, как бы за сценой, то есть в подсознании и бессознательном. Мы не убиваем коллегу, с которым спорим на производственном совещании; мы просто воображаем, что он падает замертво с сердечным приступом. Кроме того, греков не интересовали жестокость и мелодрама сами по себе; они знали, что это уничтожает искусство. Драматург должен был сделать пьесу из смысла убийства, а не из эмоции как таковой.
Рискну высказать предположение, что одной из основных причин того, что греки смогли подняться до непревзойденных высот в своей культуре, явилась их смелость и открытость по отношению к демоническому. Они упивались страстью, чувственной любовью и демоническим, которое неизбежно связано с ними. Они плакали, любили и убивали с изрядным жаром. В современной терапии пациенты часто отмечают странное явление, характерное для Древней Греции, заключающееся в том, что сильный человек, подобный Одиссею или Прометею, может плакать. Но именно вследствие способности прямо смотреть в лицо демоническому и не прибегать к самовыхолащивающей защите посредством его отрицания и подавления греки смогли прийти к убеждению, что сущность добродетели (arete) человека заключается в том, что он ответственно выбирает свои страсти, а не они его.
Что означает смотреть в лицо демоническому? Как это ни странно, три четверти столетия тому назад интуитивное понимание демонического и того, как совладать с ним, показал Уильям Джемс.
Именно сама скверность поступка придает ему его головокружительное очарование. Уберите запрет, и привлекательность исчезает. Во времена моей учебы в университете из окна верхнего этажа одного из университетских зданий выбросился студент и чуть не погиб. Другому студенту, моему другу, приходилось каждый день проходить мимо этого окна. При этом он испытывал ужасное искушение повторить этот поступок. Будучи католиком, он сказал об этом своему наставнику, который ответил: "Хорошо! Если ты должен это сделать, значит должен, — и добавил, — иди и сделай это", чем немедленно погасил его желание. Этот наставник знал, как помочь больному разуму.25
Я приведу пример из психотерапии, касающийся одержимости состоянием, обычно рассматриваемым как отнюдь не демоническое, а именно — одиночеством. У этого пациента часто случались приступы острого одиночества, переходящего в панику. В состоянии паники он не мог сосредоточиться, терял чувство времени, покуда длился подобный приступ одиночества, становился глухим в своих реакциях на мир. Призрачный характер его одиночества обнаруживал себя в том факте, что со звонком телефона или при звуке чьих-то шагов в коридоре оно могло мгновенно исчезнуть. Он отчаянно пытался бороться с этими приступами — как и все мы, что не удивительно, так как острое одиночество, по-видимому, является самым болезненным типом страха из тех, которым подвержен человек. Пациенты часто говорят нам, что физически их беспокоит боль в груди или острое ощущение в сердце, будто от лезвия бритвы, тогда как в психологическом отношении они чувствуют себя, подобно младенцу, брошенному в мире, где больше никого не существует.
Когда подступало одиночество, этот пациент пытался отвлечь свои мысли чем-нибудь другим, заняться какой-нибудь работой или отправиться в кино — но, что бы он ни пробовал, всегда оставалось навязчивое, сатанинское чувство нависшей над ним угрозы, ощущение близости кого-то ненавистного, готового пронзить его легкие шпагой.26
Если он занимался работой, то буквально слышал позади себя мефистофельский смех, издевательски намекающий на то, что его уловка не удастся; рано или поздно он вынужден был останавливаться, чувствуя себя намного более уставшим, чем когда-либо — и тут же появлялось ощущение шпаги. Или же, если он отправлялся в кино, то каждый раз, когда на экране менялась сцена, не мог подавить в себе сознание того, что, как только он выйдет на улицу, гложущая его боль снова вернется.
Но однажды он пришел, утверждая, что сделал удивительное открытие. Когда у него начался приступ острого одиночества, ему пришла в голову идея попробовать не бороться с ним. Во всяком случае, бегство от него никогда не помогало. Почему бы не принять его — дышать им, повернуться к нему, а не уклоняться от него? И к его удивлению, одиночество не подавило его, когда он прямо повернулся к нему лицом. Затем оно даже несколько отступило. Осмелев, он начал провоцировать его, представляя ситуации из прошлого, когда он был чрезвычайно одинок, и поэтому воспоминания о них раньше всегда вызывали чувство паники. Но к его удивлению, одиночество потеряло свою силу. Он не чувствовал паники, даже когда пытался вызвать ее. Чем больше он думал о ней и пытался вызвать ее, тем более невозможным казалось даже представить себе, насколько невыносимо одиноким он ощущал себя прежде.
Пациент обнаружил — и дал мне понять в этот день — что ощущал острое одиночество, только когда бежал от него; когда же он повернулся к "дьяволу", тот исчез, если говорить метафорически. Но отнюдь не будет метафорой утверждать, что именно бегство является той реакцией, которая обеспечивает демоническому его навязчивую силу. Насколько бы мы соглашались или не соглашались с теорией эмоций Джемса — Ланге.27, несомненно верно то, что страх (или одиночество) всегда одерживает верх, пока мы бежим.
Беспокойство (одиночество или "страх быть покинутым" — как самая болезненная его форма) охватывает человека до такой степени, что он теряет ориентацию в объективном мире. Потерять мир значит потерять свое Я и наоборот; Я и мир соотносимы. Функция тревоги заключается в разрушении взаимосвязи Я с миром, то есть в дезориентации жертвы во времени и пространстве, и до тех пор, пока эта дезориентация длится, человек остается в состоянии тревоги. Беспокойство подавляет человека именно вследствие сохранения этой дезориентации. Если же человек в состоянии переориентировать себя — как, мы надеемся, это происходит в психотерапии — и снова обрести непосредственную ощутимую связь с миром в живом переживании себя в мире, то он преодолевает беспокойство. Моя несколько антропоморфная терминология объясняется моей работой в качестве терапевта и здесь вполне уместна. Хотя пациент и я полностью осознаем символический характер всего этого (беспокойство ничего не делает с нами, точно так же, как ничего не делают и либидо или половое влечение), часто оказывается полезно для пациента увидеть себя борющимся с "противником". Ибо в этом случае вместо долгого ожидания, когда наконец психотерапевтический анализ рассеет беспокойство, он сам может способствовать своему исцелению, предпринимая практические шаги, почувствовав приближение беспокойства. Он может просто остановиться и задать себе вопрос, что же случилось в действительности или в его фантазиях, что именно предшествовало дезориентации, вызвавшей беспокойство. Он не только открывает дверцы своего собственного подвала, где скрывается привидение, но зачастую может затем предпринять также шаги, направленные на собственную переориентацию в практической жизни через новые знакомства и новую интересную работу.
Продолжая обсуждать случай моего пациента, которого преследовало одиночество, давайте зададим вопрос: "Какова же конструктивная сторона того демонического, которое, похоже, сбилось с пути?" Будучи чувствительным, одаренным человеком, он достиг заметных успехов практически во всех сферах человеческой деятельности, за исключением личной близости. Его таланты включали способность к межличностной эмпатии и немалый запас нежности — что по большей части поглощалось его самоозабоченностью. Он не смог осуществить свои способности во взаимоотношениях; он не смог открыть себя перед другими, разделить с другими свои чувства и прочие личные переживания; не смог идентифицировать их и защитить их таким образом, как это необходимо для построения длительных взаимоотношений. Короче говоря, то, что он упустил и в чем нуждался теперь, — это опыт осуществления своих способностей любить в активной, откровенной заботе ради благополучия другого, ради разделения удовольствия и радости " я" и "ты", ради общности сознания со своим ближним. В этом случае, попросту говоря, демоном, в конструктивном смысле, является его потенциальная способность активной любви.
VI. ДЕМОНИЧЕСКОЕ В ДИАЛОГЕ
Если он [алкоголик] однажды оказывается способным изо всех возможных точек зрения, какие бы ни предлагались ему, выбрать и прочно усвоить одну, а именно — что он пьяница, и ничего более, то вряд ли он еще долго будет оставаться таковым. Усилие, посредством которого ему удается твердо удерживать это точное имя в своем уме, оказывается его спасительным моральным свершением.
Уильям Джемс, Принципы психологии
Мы больше не можем откладывать настоятельный вопрос: "Как человек может знать, что из всей неразберихи осаждающих каждого из нас голосов он действительно слышит своего демона?" Внутренние "голоса" — действительно слышимые или метафорические — как принято считать, не заслуживают доверия; они могут сказать человеку все, что угодно. Многие люди слышат голоса, но таких, как Жанна д'Арк, немного. Что говорить о наших пациентах-шизофрениках, которым их голоса отдают приказ бомбить Нью-Йорк?
Что позволяет теории демонического не перерастать в анархизм? Как человек спасается от самодовольного высокомерия? Что делает полный неистовства танец йоруба объединяющим племя переживанием, а не просто общей демонической одержимостью?
Сократ мог провозглашать, что его демон велит ему быть оводом по отношению к государству, и затем не повиноваться суду. Это действительно могло быть и честно и справедливо — для него. Но для множества других достойных граждан Афин это должно было выглядеть совершенно иначе: сущая наглость вмешиваться в дела других людей! "Добрые" граждане, воспринимая его как нарушителя их покоя, говорили, исходя из своих собственных демонических тенденций, точно так же, как он, бросая им вызов, говорил от имени своего демона. И это, похоже, вело к анархии, без всякой надежды на единение. Демоническое разрушает гомеостазис сознания, определяя позицию Сократа и требуя позиции от "добрых" граждан. Нарушенный гомеостазис навлекает гнев народа на того, кто его нарушил, будь то Сократ из Афин или современный психоаналитик. "Сократ, подобно всем героям, которые добиваются рождения новых миров и неизбежного краха старых, — пишет Гегель, — воспринимался как разрушитель; он выступал за новые формы, которые выходят за рамки существующего мира и подрывает его".1
Однако Гегель здесь видит также и положительный момент. Угроза, которую несет в себе Сократ, — это не только опасность; это "принцип, включающий как бедствие, так и средство от него", — добавляет Гегель.
Заметьте, Гегель говорит, что Сократ выступает за новые формы; нас не оставляют перед лицом чистого нигилизма. Относительно убийства Сократа жителями Афин Гегель добавляет: "Они наказывали силу, пребывающую внутри нас самих". Хотя в значительной мере такого антагонизма избежать нельзя, он повышает нашу ответственность за критерии, необходимые для оценки нашего собственного демонического.
Диалог и интеграция
Наиболее важным критерием, который спасает демоническое от анархии, является диалог. Метод межличностного диалога — достигший своего триумфа в Греции благодаря Сократу, передаваемый из поколения в поколение на протяжении двадцати четырех столетий и используемый в различной форме почти каждым современным психотерапевтом — сегодня растет в своей значимости и становится много большим, чем просто методика. Ибо диалог подразумевает то, что человек существует во взаимоотношении. Тот факт, что диалог вообще возможен — то, что при благоприятных обстоятельствах мы все-таки можем понять друг друга, понять позицию другого — сам по себе является замечательным моментом. Общение предполагает общество, которое, в свою очередь, означает общность сознания личностей в обществе. Это полный смысла обмен, который не зависит от простой прихоти индивида, а является неотъемлемым аспектом структуры человеческого общения.
Бубер утверждал, что человеческая жизнь — это жизнь в диалоге; и хотя на основании этого положения он строит слишком далеко идущую в своих выводах теорию — он говорит, что мы можем познать себя только в диалоге — он действительно предоставляет нам решающую половину истины. Ударение на межличностном консенсусе как условии валидности, обоснованности, характерное для Салливана, также демонстрирует центральное значение диалога, причем с точки зрения переживания, а не собственно дискурса. Слово logos (смысловая структура реальности) является основой термина диалог — dia-logos. Если мы можем говорить о демоническом осмысленно, то мы уже близки к тому, чтобы включить его в структуру нашей жизни.
Сократ был убежден, что благодаря диалогу мы выявляем структуру воспринимаемого, и каждый человек уже не волен плыть сам по себе. Он демонстрирует это перед толпой афинян, добиваясь доказательства теоремы Пифагора от совершенно необразованного мальчика-раба, просто задавая ему вопросы (Диалоги Платона). Сократ (или, пожалуй, если более точно, его толкователь Платон) верил, что истинность такой теоремы уже существовала в уме раба, в соответствии с доктриной "воспоминания идей", и ее необходимо было только "пробудить" и извлечь наружу. Но даже если мы будем возражать, утверждая, что Сократ внушил ему эту теорему, задавая наводящие вопросы, мы все равно придем к той же истине, только в иной форме. То есть — что раб может, выслушав вопросы, осмысленно их сопоставить. Понимание оказывается возможным, в частности, посредством структуры языка, а в более общем плане — посредством структуры человеческих взаимоотношений.
Истина существует как в индивидуальных, так и в универсальных структурах, ибо мы сами участники и составляющие этих структур. Логос выражает себя не только в объективных законах, но и субъективно, через отдельную личность. Следовательно, Сократ не был релятивистом. "Я действительно верю в богов, — провозглашает он в своей Апологии, — и в некотором смысле глубже, чем верят в них мои обвинители".
Вот что делает поддержку всей общины в танце такой важной для наших туземцев йоруба. Танец сплачивает индивида более глубокой связью с его соседями и друзьями, в то время как одержимость демоном, напротив, все больше и больше изолирует его от общины. Первое делает демоническое личным и осознанным, тогда как последнее не только оставляет демоническое бессознательным, но и приводит в действие целый ряд новых подавлений. Интегрированное демоническое толкает человека к некоей универсальной структуре смыслов, что демонстрирует диалог Одержимость демоном, в противоположность этому, требует, чтобы демоническое оставалось безличным. Первое является трансрациональным, последнее — одержимость демоном — является иррациональным и одерживает верх благодаря блокированию рациональных процессов. Первое делает возможным использование силы демонического в целях человеческого Я; последнее проецирует, отбрасывает демоническое за пределы себя на кого-то или что-то другое.
Другим важным моментом, благодаря которому демоническое может избежать анархизма, является его собственный метод самокритики. Способность руководствоваться велениями своего демона требует фундаментальной покорности. Ваши собственные убеждения всегда будут отмечены некоторой слепотой и саморазрушением; самая неистребимая наша иллюзия заключается в том, что мы действуем, воображая, что свободны от всяких иллюзий. Действительно, некоторые ученые считают, что изначально слова греков "познай себя" означали "знай, что ты являешься только человеком". Это подразумевает, что то, отчего мы должны отказаться или через что мы "должны пройти", как мы говорим в психоанализе, является склонностью считать себя богом, зарождающейся еще в младенческом возрасте, вездесущей потребностью, чтобы к нам относились, как к богу.2
Понятия сопротивления и подавления Фрейда являются описанием глубокой сложности "познания себя". Концепция "подлинности" и "неподлинности" Сартра также является иллюстрацией этого — дилемма честности с самим собой заключается в том, что в наших действиях и представлениях всегда наличествует определенный элемент самоискажения. Человек, который думает, что он "подлинный", тем самым уже "неподлинный", и единственный способ быть "подлинным" — это знать, что ты "неподлинный", то есть знать, что в твоем восприятии существует какой-то элемент искажения и иллюзии. Нравственная проблема заключается не просто в том, чтобы верить в свои убеждения и поступать соответственно им, ибо убеждения людей могут быть не менее, если не более, властными и разрушительным, чем сугубо прагматические позиции. Нравственная проблема состоит в упорном стремлении определить свои собственные убеждения и в то же время признать, что в них всегда будет присутствовать элемент самообольщения и искажения. Именно в этом Сократов принцип скромности имеет сущностное значение как для психотерапевта, так и для любого высоконравственного гражданина.
Последним критерием обоснованности направления, указываемого демоническим, является вопрос, подразумеваемый в нашем определении демонического, которое дано в самом начале: "Способствует ли предлагаемый способ действия интеграции индивида как целого? Способствует ли он — по меньшей мере, потенциально — расширению границ межличностного смысла в его жизни и в жизни тех людей, которые значимы для него? Родственным этому является критерий, необходимый для любого оценочного суждения, критерий универсальности: Если такой образ действия будет принят другими людьми (в принципе, всем человечеством), будет ли это способствовать обогащению межличностных смыслов?
Следует, пожалуй, рассмотреть, что происходит, когда демоническое переживается вне диалога. Примеры этому являет любая из воюющих наций. Не замечая демонического в себе самом и в своей группе, его проецируют на врага. Вражеская нация рассматривается уже не с точки зрения ее проблем выживания, безопасности и силы, а как Воплощенное Зло, олицетворение дьявола; на нее переносятся собственные демонические тенденции человека. (В Америке этому способствует наше убеждение в том, что мы некогда покинули Европу с господствовавшими в ней несправедливостью, нищетой, пороками и жестокостью, для того чтобы построить по эту сторону Атлантики общество справедливости, доброты, изобилия и братской любви.) Отсюда исходит и наша склонность видеть в каждом коммунисте дьявола, и отождествление себя с Богом, и вера, что мы не развязываем войны, а лишь выступаем в очередной крестовый поход. В этой стране мы сначала в русских, затем в японцах, а теперь во вьетконговцах привыкли видеть воплощение зла; за каждым камнем нам мерещится коммунист или японец. Враг становится носителем того, что мы подавляем в себе. Мы боремся с нашими противниками, не понимая, что боремся с самими собой, с тем, что мы отказываемся признать в себе. Эта проекция предполагает убеждение в своей собственной правоте "внутри" каждой группы, что делает почти невозможным для них договориться между собой: вступить в переговоры с дьяволом — значит признать его за равного, то есть, в принципе, уступить ему.
Следующий шаг в психологии войны состоит в том, что блокируются воображение и видение. В центрах консолидации воюющих наций множатся клише, одно другого сомнительнее, и если на одном уровне люди не верят в них, они объединяются в сговоре, чтобы верить на другом. Они становятся непреклонными в своей демонической одержимости. Они уже не в состоянии даже представить себе какое-либо разрешение конфликта. Намерения оказываются отделены от собственно интенциональности огромной пропастью.
Этот процесс снова делает демоническое безличным. Он выводит из-под нашего контроля целую область: демоническое регрессирует к тому, чем оно было первоначально — слепому, бессознательному влечению, неподвластному сознанию. Мы становимся не просто орудиями природы, а ее слепыми орудиями. Срабатывает механизм порочного крута, в той же мере присущий нациям, что и невротикам. Мы не учимся на опыте; мы принимаем решения, явно противоречащие нашим интересам, и когда наши решения нас подводят, мы самоубийственно принимаем их снова. Сужая свое поле зрения, притупляя чувствительность, мы движемся напролом неповоротливым монолитом, подобно древнему динозавру, неспособному чему-то научиться, слепые по отношению даже к своим собственным динозавровым шагам.
Стадии демонического
Изначально мы воспринимаем демоническое как слепое влечение, толкающее нас к самоутверждению, как, скажем, в ярости или сексе. Такое слепое влечение первично в двух отношениях: во-первых, это первоначальный способ восприятия демонического младенцем, но это также и тот путь, каким демоническое мгновенно поражает каждого из нас, независимо от возраста. Первый крик, издаваемый младенцем, поистине является богатым символом: это ответ на ту первую вещь, что дает ему мир — шлепок доброй правой руки врача, принимающего роды. Я не только начинаю жизнь с крика; в течение первых нескольких недель я неразборчив в своих реакциях на раздражители. Я могу ударить, ожесточенно размахивая руками, нуждаясь в том, чтобы меня покормили, и требуя этого — поступая, подобно "маленькому диктатору", как называет это Оден. Но вскоре я начинаю осознавать, что некоторые мои требования действенны, а некоторые нет. Мои слепые влечения теперь все больше и больше "просеиваются" через контекст, образующийся из того, что позволяет получить желаемое; начинается длительный процесс постижения науки окультуривания демонических влечений. Я рождаюсь в социальной группе, и без этой общины я не прожил бы и нескольких часов — не дольше, чем Эдип брошенный на склоне песчаного бархана, если бы его не нашел пастух — хотя я еще не в состоянии оценить этот факт должным образом на протяжении многих месяцев или даже лет. Вопреки тому, сколь громким был мой протест вначале, я нуждаюсь в этой матери и в других людях, окружающих меня. Демоническое возникает в этом контексте, в этой социальной группе. В какой мере оно будет обращено против них, для нападения или для принуждения их служить моим потребностям и желаниям; когда и в какой мере оно будет направлено уже на совместное утверждение?
Взрослые сохраняют склонность воспринимать демоническое в себе как слепое влечение, как чистое самоутверждение. Во время самосуда толпы и при разного рода массовых беспорядках, если не возбудить дух стадности, то ничего не произойдет. В толпе мы чувствуем себя в безопасности, переживаем комфортное ощущение полной защищенности. Наше индивидуальное сознание покоряется "групповому духу"; мы ощущаем себя как будто в экстатическом состоянии транса или под гипнозом. И не имеет значения, насколько культурным считает себя человек, как рьяно он порицает насилие со стороны других, он все же должен признать, что способен на это — иначе, если он на это не способен, значит в его характере было задушено нечто важное. Привлекательность растворения в толпе сводится к восторгу, возбуждаемому минуя индивидуальное сознание — никакого отчуждения, никакого чувства изоляции и тяжкого груза личной ответственности. Все это берет на себя "групповой дух", фигуральное выражение, обозначающее наш наибольший общий знаменатель. В этом состоит привлекательность — а временами даже вселяющая ужас упоение — войн и массовых бунтов. Они берут на себя нашу индивидуальную личную ответственность за демоническое; и тот факт, что мое предложение начинается со слова "они", указывает, что мы склонны приписывать это воздействие анонимным фигурам. В обществе, подобном нашему, которое подавляет демоническое, эти состояния всячески приветствуют из-за того чувства примитивной безопасности, которое они дают.
Демоническое и анонимность
Это подводит нас к отношению между демоном и особой проблемой современного западного человека, а именно, стремлением слиться с толпой, затеряться в das Mann.* "Демоническое есть анонимное", — утверждает Поль Рикер.3
* В данном контексте: человек вообще, или общечеловеческое (в нем. артикль "das" предполагает средний род).
Безличное демоническое делает нас всех анонимными — природа не делает различия между мной и безграмотным крестьянином, который является таким же инструментом в ее неустанном влечении к росту, который совокупляется и дает начало потомству, чтобы продолжить свой род, и который может испытывать гнев, необходимый, чтобы остаться в живых достаточно долго и послужить воспроизводству природы. Говоря языком психоанализа, это демоническое в форме Оно.
В нашем буржуазном, индустриальном обществе наиболее эффективный способ избежать демонического для человека состоит в том, чтобы затеряться в толпе. Это — специфическая реакция на демоническое, рассеивающая его. Одновременно с миллионами других американцев мы смотрим одни и те же программы телевидения, преисполненные убийствами и насилием; мы поступаем на военную службу и убиваем — не ради самих себя, а для блага своего народа и во имя "свободы". Этот конформизм и анонимность освобождают нас от груза ответственности за наши демонические влечения, обеспечивая вместе с тем их удовлетворение. Но это гарантирует также, что демоническое будет оставаться безличным, и делает демонические силы недоступными для включения в состав индивида; последний платит за это утратой шанса развивать свои способности по-своему, уникальным и неповторимым образом.
Рассеивание демонического в безликости имеет серьезные и пагубные последствия. В Нью-Йорке уже никого не удивить тем, что анонимные индивиды, изолированные в своих однокомнатных квартирах, так часто оказываются вовлечены в преступления с применением насилия или же склонны к употреблению наркотиков. Не то чтобы анонимный индивид в Нью-Йорке пребывает в уединении: он ежедневно видит тысячи других людей и знает всех знаменитостей, появляющихся в его единственной комнатке на экране телевизора. Ему известны их имена, их улыбки, подробности их жизни; они вещают для него с экрана в манере "все мы друзья", приглашая его присоединиться к ним и намекая, что он и вправду принадлежит к их компании. Он знает их всех. Но сам он всегда остается для всех неизвестным. Его улыбка никому не видна; его отличительные черты ни для кого не имеют значения; его имя неизвестно. Он остается чужаком, вталкиваемым в метро и выталкиваемым из него десятками тысяч других анонимных чужаков. В этом состоит вся глубина трагедии обезличивания. Самым страшным наказанием, которому Яхве мог подвергнуть своих людей, было уничтожение их имен. "Да изгладятся они из книги живых", — провозглашает Яхве.4
Уединенность этого анонимного человека, вечно остающегося неизвестным, трансформируется в одиночество, которое затем может стать демонической одержимостью. Ибо его сомнения в самом себе — "В действительности я не существую, если я никого не волную" — терзают его внутренности; он живет, дышит и ходит в одиночестве, едва различимом и коварном. Не удивительно, что он достает пистолет и направляет его на какого-нибудь прохожего — такого же анонимного для него. И уж подавно не удивительно, что молодые люди на улицах, являющиеся всего лишь анонимными единицами в своем обществе, собираются вместе, и их выступления сопровождаются насилием, что позволяет им самоутверждаться.
Одиночество и его пасынок, отчуждение, могут стать формами демонической одержимости. Отдаваясь безличному демоническому, мы обречены на анонимность, а значит — безликость; мы служим великим целям природы на уровне наибольшего общего знаменателя, что часто означает с применением насилия.
Существует и другая форма безличного демонического, которая является нормальным способом выражения — по крайней мере, частично — этой потребности общества. Это любопытное явление маскарадов и костюмированных балов. Здесь культивируется очарование демонического в его анонимности — мы не знаем, кому принадлежат глаза того человека, что приглашает нас на танец, или того, которого приглашаем мы. Мы временно освобождаемся от ответственности — зачастую поистине утомительной — заставляющей постоянно контролировать свое поведение. Маскарад, карнавал и масленица являются формами, в которых общество позволяет нам временно вернуться к свободе анонимного демонического. Из своего собственного опыта, когда я жил в странах Средиземноморья, я вспоминаю карнавалы перед Великим Постом — большое и восхитительное чувство облегчения, в это время человек мог дать выход своим чувствам, они вызывали такой же катарсис, как, должно быть, дионисийские феерии у афинян. Такая культурная форма демонического, по-видимому, заглушает побуждения к насилию. Однако сущность возбуждающего удовольствия этой разнузданности заключается в том, что она временна, одобрена обществом и в ней принимает участие каждый. Оазисы этой свободы предаваться демоническому, эти карнавалы могут существовать только в более широком контексте общественного катарсиса и социального одобрения.
Следующая стадия после безличной, как в развитии младенца, так и в каждом непосредственном переживании взрослого, состоит в том, чтобы сделать демоническое личным. Быть человеком означает существовать на границе между анонимным и личным. Если мы сможем направить в нужное русло демоническое, мы сможет стать более индивидуализированными; если мы позволим ему рассеяться, то станем анонимными. Задача человека, по мере углубления и расширения его сознания, состоит в том, чтобы включить демоническое в структуру своего Я. Для того чтобы сделать анонимное личным, необходимо не поддаться свойственному демоническому уклону в анонимность. Это означает расширение нашей способности разрывать автоматическую цепь раздражителя и реакции; тогда мы сможем, в какой-то мере выбирать, на что реагировать, а на что не реагировать. Если семейное воспитание было строгим или же с ним ассоциируются травматические переживания, демоническое влечение в целом может быть заблокировано. Нельзя проявлять никаких сексуальных чувств, или, как в некоторых семьях, нельзя никогда показывать свой гнев; таким образом закладывается основа для последующей демонической одержимости, и в конечном итоге — взрыва. Ибо эти влечения не спят, и если их нельзя выразить положительным образом, они взрываются или проецируются на любого, кого можно представить врагом данного человека или группы. Хитрость здесь заключается не в том, чтобы научиться по своей воле избегать неугодного хода мыслей и "забыть даже как это называется", но в том, скорее, чтобы включить в себя силу демонического, не утратив своей непосредственности. Это возможно в том новом измерении сознания, о котором я говорю.
Таким образом, демоническое становится личным демоном, особой формой бытия, которая образует центр моего Я, и в этом смысле, индивидуализирует его. Теперь мы можем понять, почему в такой высокоразвитой индивидуальности, как Сократ, демон может восприниматься как внутреннее руководство: это голос сродства бытия Сократа с Бытием в целом, частью которого он является.
Но признав, что существуют рациональные критерии оценки демонического, мы не должны забывать главного и наиболее сложного для понимания — что полная рационализация демонического невозможна. Демоническое всегда будет отмечено парадоксом, объясняющимся тем фактом, что оно потенциально и созидательно и разрушительно одновременно. Это самый важный вопрос, стоящий перед современной психотерапией, и вместе с тем судьбоносный — ибо от этого зависит успешное развитие и жизнеспособность самой терапии. Если мы попытаемся уйти от дилеммы демонического, как это намеренно или ненамеренно делают многие терапевты, помогая пациенту только приспособиться к обществу, предлагая ему определенные привычки", которые, по нашему мнению, подойдут ему лучше, или переделывая его таким образом, чтобы он соответствовал культуре, то в таком случае все наши усилия неизбежно сведутся к манипулированию им. И тогда следует согласиться с Рильке: если он откажется от своих демонов, то потеряет также и своих ангелов.
Демоническое, как часть эроса, как то, что лежит в основе и любви, и воли, подобно оводу не дает покоя нашему сознанию, ставя нас перед лицом нескончаемых дилемм. Углубление и расширение рамок сознания, к которому мы стремимся в психотерапии, состоит не в разрешении этих дилемм — что в любом случае невозможно — а в такой позиции по отношению к ним, чтобы суметь подняться до более высокого уровня личной и межличностной цельности.
Демоническое и знание
Знание является еще одним выражением демонического. Аура мистического излучения, которая, в представлениях большинства людей, окружает врача, психиатра или психолога, образуется из преклонения и, вместе с тем, сомнения в нем. Это современная форма старого как мир явления, питавшего веру не только примитивных, но высокоразвитых народов на протяжении всей истории человечества: знание дает человеку демоническое оружие над другими людьми. Если я обладаю некими особыми знаниями о тебе или твоем мире, знаниями, которых нет у тебя, — значит я обладаю властью над тобой. Может быть, просто в силу того факта, что я знаю, каким образом что-то действует, а ты — нет; но в основном все намного сложнее: это всегда граничит с примитивной верой в то, что знание дает мне особую магическую силу. Отчасти враждебность по отношению к психиатрам, психологам и особенно психоаналитикам (которым, как говорит Фрейд, приходится бросать вызов демонам, и было бы удивительно, если бы они при этом оставались невредимыми) объясняется глубоко укоренившимся страхом. Многие считают, что люди этих профессий обладают такими знаниями о жизни и смерти, которых другим не дано. Поэтому мы то уповаем на них как на бога, то спешим откреститься от них как от нечистой силы.
Знания — это и основа нашей свободы и уверенности в будущем. "Истина сделает вас свободными".5
Но наше рвение в приобретении знаний основано на допущении, что это улица с односторонним движением — чем больше знаний, тем лучше; мы забываем об амбивалентном, двойственном характере знания, о том, что оно бывает и опасно. Мы так много слышим сегодня о том, что знания дают власть, уверенность в будущем, финансовый успех и так далее, что упускаем из виду тот факт, что само слово, означающее приобретение знаний, "apprehend" ["постигать"], также служит и для обозначения страха, "apprehension" ["опасение", "страх"]. Заглянув в Словарь Вебстера, мы находим следующее определение слова "apprehend" — "постигать, узнавать значение, добиваться понимания"; а непосредственно за ним идет значение "предчувствовать с тревогой, опасаться или бояться". То же самое и с "apprehension": первое значение — "способность постигать умом", второе — "опасение или дурное предчувствие".6
Не может быть случайностью, что в самом строении нашего языка заложена эта связь между знанием и демоническим. "Как опасно знать, — можем мы сказать вслед за Эдипом. — Но тем не менее я должен знать". Знать опасно, но не знать — еще опаснее.
Менее всего может позволить себе забыть об этом психоаналитик. Пациенты обращаются за помощью, казалось бы, в готовности принять любые откровения о них самих. Но горе тому терапевту, который принимает это за чистую монету! Весь смысл сопротивления и подавления свидетельствует о том, что этим разоблачениям нашего Я сопутствуют боль и тревога. В этом одна из причин того, почему хорошо, когда пациент платит за сеансы лечения; если он так мало берет из того, за что платит, то из предлагаемого бесплатно он едва ли вообще что-либо возьмет. Это дает нам новый подход к концепциям сопротивления и подавления — в них проявляется неизбежная потребность человека прятаться от истины о самом себе. Это вечный спорный вопрос: Как много знаний о самом себе может выдержать человек?
Эдип — воплощение человека, познавшего себя и заплатившего за это максимальную цену. Ему прекрасно известен разрушительный аспект знания: "О, я боюсь услышать, — восклицает он, — но все же я должен услышать". Тиресий пытается уговорить его не искать истину: "Как ужасно знать, если знание не сулит ничего хорошего". Суть драмы заключается в том, должен ли Эдип знать, что он сделал? Должен ли Эдип знать, кто он такой и каково его происхождение? И здесь мы можем и без Фрейда сказать, что каждый из нас совершает такие поступки, если не в действительности, то в воображении, а в реальной жизни, участвуя в войнах и организованном насилии посредством замещения, которое предоставляет ему его нация. На самом деле единственное различие между Эдипом и остальным человечеством состоит в том, что Эдип смело взглянул в лицо тому, что он сделал, и признал содеянное им, несмотря на все предпринятые попытки убедить его отказаться от этого. Даже жена Эдипа, Иокаста, присоединяется к общему мнению, что лучше ему оставаться в неведении; чтобы показать, что она считает это общим принципом жизни, Иокаста выступает против всех предсказателей и тех, кто верит мифам или признает демоническое. "Не придавай значения их ремеслу", — увещевает она своего мужа; сновидения не следует воспринимать серьезно, и лучше "жить, не размышляя, насколько это возможно для человека". Когда наконец до нее доходит истина (причем, важно помнить, что она не знала истины, когда советовала Эдипу не выяснять его происхождения), Иокаста в отчаянии кричит своему мужу: "Боже упаси тебя от знания того, кто ты таков!"
Но Эдип потому и является героем, что не позволяет ни Тиресию, ни своей жене, ни богам, ни кому бы то ни было еще встать на его пути к знанию о самом себе. Он — герой, потому что он человек, смело взглянувший в лицо своей собственной реальности. И дело в не в том, чтобы не кричать от боли невыносимого для человека знания, — и он кричит, снова и снова. Но снова и снова он повторяет: "Я не остановлюсь, пока не узнаю всего". Он знает цену фальшивому героизму. "Проклятье тому человеку, который снял оковы с моих ног, когда я лежал на поле", — проклинает он детство, которое принесло ему такую судьбу, и тем не менее не отрекается от него и таким образом принимает саморазрушение: сравнительно благополучный и процветающий царь превращается в слепого, вспыльчивого старика, изгнанного в Колон. Но он знает. Следует отметить, что подобное мужество знать, со всеми его губительными последствиями, дано тому человеку, который знает ответ на загадку сфинкса, тому, кто знает, что такое человек.
На протяжении веков люди пытались посредством своих мифов рассказать друг другу об этой связи между знанием и демоническим. В Фаусте Гете герой охвачен столь непреодолимым стремлением обладать знанием, что продает свою душу Мефистофелю, сочтя эту цену не слишком высокой — таким образом и Гете и миф говорят нам, что уступить этой безграничной страсти к знанию уже означает вступить в мир дьявола. Адама и Еву изгоняют из Рая за то, что они, вкусив плод с древа добра и зла, обрели знание; и это делает их подобными богам, бессмертными. Миф изображает рождение человеческого сознания и утверждает, что сознание несет с собой демоническое. Миф о Прометее имеет аналогичный смысл: приобщение к богам, чтобы открыть людям культурные ценности, — центральной из которых является язык, — было равнозначно выступлению против других богов и повлекло за собой вечные муки.
Я хочу сказать, что чем больше мы будем сознавать демоническое, тем успешнее мы сможем использовать приобретенные знания для своей пользы и пользы всего человечества.
Имена демонов
Теперь мы подошли к положительному и целительному аспекту знания в его отношении к демоническому. "В начале было Слово", и Слово всегда было удивительным и сложным образом соотнесено с демоническим. Обратимся к склонности алкоголика всячески избегать своей проблемы, называя ее как угодно, но только не алкоголизмом; в выразительном изречении, процитированном в начале этой главы, Уильям Джемс, говорит о лечебном эффекте, наблюдающемся, когда алкоголик, и любой другой пациент, отваживается "назвать вещи своими именами". "Усилие, посредством которого ему удается удерживать надлежащее имя в своем уме, оказывается его спасительным моральным свершением".7
Обычно человек преодолевает демоническое, давая ему имя. Таким образом человек формирует личностный смысл из того, что ранее было просто угрожающим ему безличным хаосом. Достаточно обратиться к истории, чтобы убедиться в исключительном значении знания конкретного имени демона, без чего, считалось, невозможно изгнать его. В Новом Завете Иисус кричит "Вельзевул!" или какое-то другое предположительно точное имя, и дьявол или демоны тут же оставляют несчастного одержимого. В средние века успеха в изгнании дьявола добивались те священники, которые могли предугадать имя дьявола, произнесения которого было достаточно, чтобы заставить злой дух покинуть тело и убраться прочь.
Имена священны. Произнесение имени дает одному человеку власть над другим человеком или вещью. В Книге Бытия Бог возлагает на человека ответственность дать имена животным. В Древнем Израиле евреям не разрешалось произносить имя Бога: Яхве или Иегова означает "без имени" и служит способом обращения к Богу без произнесения его имени.
В своей клинической практике я пришел к убеждению, что эта особенная сила слов, иллюстрируемая запретом произнесения имени, имеет какую-то немаловажную связь с клинической проблемой блокирования у писателей. Всем культурам присуща фундаментальная амбивалентность, слова — это то, что отличает человека от остальной природы, и вместе с тем то, что таит опасность для всякого, кто осмеливается иметь с ними дело. Писатели, обращаясь к терапии, обычно уверяют аналитика: "Если я напишу это, меня убьют!" В еврейской традиции, как показывает анализ Талмуда, существует особое ударение на самом слове как носителе особого смысла. Вполне возможно, что блокирование среди писателей в большей степени грозит людям, которые были воспитаны в еврейской традиции.
Одним из самых ранних и наиболее поразительных повествований о значении имен в борьбе с демоническим является рассказ о противостоянии Иакова "ангелу" в 32 главе Книги Бытия. Поводом к этому послужила вражда между Иаковом и его братом Исавой: Иаков услышал, что его брат направляется к нему с четырьмя сотнями человек В рамках этого конфликта мы обнаруживаем проблему амбивалентности любви и ненависти между братьями. Здесь также представлена проблема воли — уверенный в том, что утром он потерпит поражение, Иаков был склонен сдаться. Проблему воли усугубляет и чувство вины — многими годами ранее он искусно лишил Исаву его права первородства. История демонстрирует, как вина и смятение — Иаков "испуган и смущен" — могут вызвать конфликт с демоническим. Этот конфликт можно также рассматривать как конфликт между светлым человеком и темным: Исава был "темным", косматым, охотником, пришлым, чужаком, в противоположность Иакову — оседлому землепашцу и сеятелю.
Итак, оставив этой ночью своих жен и детей по эту сторону реки, Иаков отправился на другой берег, чтобы поразмыслить и собраться с силами для решающего испытания, которое ожидало его утром. Здесь в Книге Бытия говорится: "И боролся Некто с ним, до появления зари" Личность противника что типично для подобных случаев остается неясной. Борется ли он с каким-то собственным субъективным предрассудком, фантазией или страхом? Или же это — чтобы подчеркнуть его объективность — некий аспект судьбы или предчувствие смерти, нечто не зависящее от самого Иакова, навязанное ему жизнью, то, с чем он должен смириться? Несомненно, это и то и другое.
Но в этом повествовании личность соперника удивительно неопределенна (хотя вначале он описывается как "человек", и некоторые толкователи утверждают, что это был архангел Михаил). В Книге Пророка Осии есть отрывок, описывающий этот же случай, и там по отношению к этому существу параллельно употребляются два слова Малак и Элоим..8
Первоначальное значение первого слова — посланник, а второго — Бог (или боги). У иудеев эти ранние "демоны" (если подставить мой собственный термин) обычно представляли собой существ неопределенного статуса, сущность которых определялась их связью с каким-нибудь определенным событием. Как и должно быть — если предположить, что демоническое заключается в определенной связи человека со значимым для него событием.
Но относительно одного момента в этой главе нет никаких сомнений: читая об этом событии, мы находим, что некто как "человеческая личность" все больше и больше приобретает черты божественности, и наконец, на последней стадии борьбы, противника уже называют Богом. Этот человеко-бог являет собой параллель "промежуточному" положению греческого демиурга Эроса, которому была свойственна как смертность, так и бессмертие.
Когда этот демон обнаружил, что не может одолеть Иакова в противоборстве с ним, он ударил его по бедру и ранил его. Но Иаков все же не ослабил хватки, и в конце концов демон взмолился: "Отпусти Меня; ибо взошла заря". На что Иаков ответил: "Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня". Иаков, отец своего народа, настойчив, он не спрашивает, соблаговолит пи Бог благословить его, не молит о благословении, он требует его. А далее мы наблюдаем, какую важную роль играют имена! Демон спрашивает: "Как имя твое?" — и, услышав в ответ "Иаков", провозглашает: "Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль; ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь". Иаков, которому не до вежливости и благопристойности в столь решающий момент, требует: "Скажи имя Твое". Демонический характер противника здесь проявляется в том, что он отвечает вопросом на вопрос, оставляя все-таки свою личность неназванной: "На что ты спрашиваешь о имени Моем?" Затем он благословляет Иакова. Новый характер Иакова, обретенный в борьбе с демоническим, закрепляется новым именем, Израиль, буквально означающим тот-кто-боролся-с-Богом.
Прежде чем оставить это место, Иаков дает нам еще один пример значения имен и демонического. Он меняет имя того места, где произошло столкновение: "И нарек Иаков имя место тому: Пенуэл; ибо, говорил он, я видел Бога лицем к лицу, и сохранилась душа моя".9
Это еще одно представление, навязанное нам демоническим, согласно древним иудейским верованиям для человека увидеть Бога означало умереть. Иаков же, благодаря своей настойчивости, опровергает этот предрассудок, он не только увидел Бога, но даже боролся с ним. И остался жить.
Если мы представим демоническое как борьбу человека с силами его собственного бессознательного, которые в то же время имеют корни в объективном мире, то сможем понять, каким образом этот конфликт можно вывести на поверхность, почему он стал для Иакова более реальным и актуализировался именно в тот момент, когда приближалось его столкновение с Исавой. Демоническое имеет склонность проявляться, когда мы вступает в борьбу с внутренней проблемой; именно конфликт выводит на поверхность содержание бессознательного, с тем чтобы его можно было применить на деле. Конфликт предполагает потребность в перемене, изменение гештальта внутри человека; то есть, человек борется за новую жизнь. Это открывает пути к творчеству.
Иаков — прототип религиозно творческого человека; но то же самое верно в отношении художников и писателей. "Необходимость выразить себя в писательстве, — говорит нам Андре Моруа, — возникает из-за неприспособленности к жизни или из-за внутреннего конфликта, который… человек не может разрешить действием".10
Ни один автор не пишет потому, что нашел решение проблемы-, он пишет, скорее, потому, что имеет проблему и нуждается в решении. Но решение не заключается в разрешении. Оно состоит в более глубоком и широком измерении сознания, на которое писателя выводит борьба с проблемой. Мы творим из-за наличия проблемы; писатель и художник не дают ответы, а творят, представляя что-то, переживаемое внутри них самих во время поиска ответа — "искать, найти и не сдаваться". Вкладом, который дает миру картина или книга, и есть процесс поиска.
Но заключительный момент нашей истории неоднозначен: Иаков оказывается изувеченным. В повествовании говорится, что он ушел с места столкновения хромая; теперь он калека. Параллель с половым сношением достаточно очевидна; Иакова ударили в бедро. При оргазме наблюдается сочетание боли и экстаза; самоотдача приносит ощущение, будто что-то извергается из самого лона. Это имеет более широкий смысл и относится к творчеству в целом. К тому волнующему и пугающему моменту творческого акта, — будь то в искусстве, мышлении, этике или же — как в случае Иакова — в религии; к тому аспекту творчества, который вбирает в себя всего человека, требует от него усилия и уровня сознания, казавшихся ему недоступными и оставляющими его изможденным. Завершение творческих трудов приносит человеку чувство облегчения и ощущение своего роста как личности, но в то же время оставляет увечья. После мучительной работы, на которую ушли годы, люди нередко заявляют: "Я уже никогда не буду таким, как прежде". Это боль после борьбы, нависшая угроза невроза или шизофренического раскола, хотя человек, прошедший через борьбу одновременно может быть более зрелой личностью, чем прежде. Ван Гог был искалечен; Ницше был искалечен; Кьеркегор был искалечен. Творческая личность существует на лезвии бритвы высшего уровня сознания. Ни один человек не может увидеть Бога — и остаться в живых; но Иаков увидел Бога — должен был — и, хотя остался в живых, не избежал увечья. В этом парадокс сознания. Сколько знания о самом себе может вынести человек? Разве творчество не приводит человека к границам сознания и не толкает его по ту сторону? Разве это не требует усилий и отваги, превосходящих человеческие возможности? Но разве это также не отодвигает границы сознания настолько, что те, кто идет следом, подобно первым поселенцам Америки, могут возводить города и жить в них? Это загадка. Самое простейшее объяснение, вероятно, заключается в том, что в творческом акте индивид делает еще один шаг от невинности ребенка или от девственного состояния Адама и Евы. Пропасть между "сущностью" и "существованием" углубляется. Мудрость слов, ставших заглавием книги Томаса Вульфа, Тебе нет возврата домой, исходит из глубин соизмеримого с вершинами мысли (творческого человека) бытия.
Высшие уровни сознания, необходимые для поистине творческого акта, — соизмеримого с вершинами мысли Блейка, Ницше, Кьеркегора, Ибсена, Тиллиха и немногих других, кто бросал вызов самому Богу, — граничат с шизофренией. И человек может переступить эту грань между творчеством и шизофренией, переходя от одного к другому. Все это можно прочесть в глазах человека, который "боролся с Богом, и человеков одолевать будет". Настойчивость и полная самоотдача необходимы уже для того, чтобы подойти к этой границе, и хотя такой ценой достигается истинное самоосознание, человек не может пройти через это и остаться невредимым.
Именование демонического в терапии
В именовании демонического наблюдается очевидная и интересная параллель эффекта именования в современной медицинской и психологической терапии. Каждый, должно быть, помнит то облегчение, которое он испытал, когда, обратившись однажды с каким-то тревожащим заболеванием к врачу, услышал от него название своей болезни. Название вируса или микроба, название болезненного процесса, на основании этих названий доктор может сделать какие-то заключения относительно заболевания.
Это нечто более глубокое, чем просто наше облегчение от того, что доктор может предсказать скорое исцеление или, в сущности, вообще какой-либо исход. Несколько лет тому назад, после недель неопределенного недомогания, я услышал от специалиста, что моя болезнь — туберкулез. Я помню, что испытал явное облегчение при этом, несмотря на то. что я прекрасно сознавал, что это означало в то время, когда медицина была не в силах излечить эту болезнь. На ум читателю придет целый ряд объяснений. Он может обвинить меня в том, что я был рад освободиться от ответственности; что каждый пациент чувствует себя увереннее, когда может отдать себя в руки опытного врача, что будучи названа, болезнь лишается покрова тайны. Но эти объяснения, конечно же, слишком просты. Даже последнее — что называние рассеивает таинственность — по зрелом размышлении оказывается иллюзией для меня бацилла, вирус, микроб все равно всегда остаются загадкой. а туберкулезная палочка в то время еще была тайной даже для врача. Облегчение наступает, скорее, от акта противостояния демоническому миру заболевания посредством имени Врач и я действуем совместно, но поскольку он знает больше имен в этом чистилище, чем я, он владеет техникой и является моим проводником в ад. Диагноз (от dia-gignoskein, буквально "знание насквозь"), с одной стороны, можно представить как нашу современную форму произнесения имени демона, нарушившего нашу жизнь. Это не означает что рациональная информация о заболевании является несущественной; просто рациональные сведения, предоставленные мне, складываются во что-то более значимое, чем сама информация. Она становится для меня символом перехода к новому образу жизни. Имена являются символами определенной позиции, которую я должен занять по отношению к этой демонической ситуации — болезни, в заболевании представлен миф (целая схема жизни), который указывает мне путь, согласно которому я должен теперь переориентировать и перестраивать свою жизнь Это верно, независимо от того, идет ли речь о двух неделях жизни с простудой или двенадцати годах с туберкулезом; количество времени не имеет значения. Это качество жизни. Одним словом, образ, с которым я отождествляю себя, изменяется при, контакте с мифом, изображающим демоническое, которое присутствует в естественном процессе заболевания. Если я одолею болезнь, то стану отчасти новым существом, по праву могу вступить в новую общину и получить новое имя.11
Параллель с психотерапией здесь даже ближе, чем с медициной. Многие терапевты, подобно Аллену Уилису, говорят о своей задаче как об "именовании бессознательного". Каждый терапевт, должно быть, не перестает поражаться той удивительной силе, какой обладают названия психологических "комплексов" или характеристик для пациента. Когда терапевт сообщает пациенту, что он боится своих воспоминаний о "первичной сцене", или же что он "инвертированный Эдип", что он "интроверт" или "экстраверт", что у него "комплекс неполноценности" или же что он сердит на своего руководителя из-за "переноса", что причиной того, что он не может беседовать этим утром, является "сопротивление" — когда терапевт произносит любое из этих броских выражений, то просто удивительно, как сами слова, очевидным образом, помогают пациенту. Он расслабляется и ведет себя так, как будто уже получил нечто весьма ценное. Действительно, и психоанализ и любую терапию можно осмеивать, утверждая, что пациент платит деньги за то, чтобы услышать определенные, кажущиеся магическими слова; что услышав несколько слов, известных лишь посвященным, он считает, что не даром потратил деньги. Такое облегчение выглядит как вызванное "магией" слов. Но это столь удобное пугало, создаваемое самими противниками психоанализа, — лишь пародия на терапию, а вовсе не то, что на самом деле представляет собой настоящая терапия.
Выдвигалось предположение, что ощущаемое пациентом облегчение обусловлено тем фактом, что "именование" снимает с него некий балласт; оно освобождает его от ответственности, перекладывая вину на технически отработанный процесс; и делает это не сам он, а его "бессознательное". В этом есть некоторая объективная истина. Большинство пациентов возлагают на себя слишком большую ответственность вовсе не там, где следовало бы, и безответственны в тех вещах, которые им подвластны. Кроме того, положительным моментом является то, что именование помогает пациенту ощутить себя причастным к широкому движению, каковым является "наука"; к тому же он перестает быть изолированным, так как множество людей, оказывается, сталкивается с тем же, что и он. Именование есть подтверждением того, что терапевт проникся его проблемами и готов выступить его проводником через чистилище. Назвать проблему равнозначно утверждению терапевта: "С вашей проблемой можно разобраться, у нее есть свои причины; вы можете взглянуть на нее со стороны".
Но именно здесь и лежит самая большая опасность в терапевтическом процессе: она заключается в том, что именование может стать для пациента не средством исцеления, а его замещением. Он может отрешиться, ощутив временную безопасность от постановки диагноза, разговоров о симптомах, и раскладывания их по полочкам, а затем и вовсе избавить себя от необходимости волевого действия вообще и в любви в частности. Это отвечает основному защитному механизму современного человека — интеллектуализации, то есть использованию слов как заменителей чувств и переживаний. Слово всегда балансирует на грани между опасностями сокрытия демонического и его разоблачения.
Другие формы терапии, включая лоботомию. также могут "устранять" демоническое. Доктор Ян Франк в своем исследовании 300 пациентов, подвергшихся лоботомии, приводит выразительный пример. "Один из моих пациентов, — пишет он, — больной шизофренией врач, жаловался перед операцией на периодически повторяющийся кошмар, в котором он оказывается на арене, окруженный дикими зверями. После лоботомии снившиеся ему львы уже не рычали и не были такими грозными, а молча уходили прочь".12
Когда я прочел это, то почувствовал смутное неудовлетворение, которое вскоре переросло в ощущение, что то, что молча ушло прочь, было чем-то потенциально ценным для жизни этого человека, и вследствие этого он стал беднее. Когда терапия исцеляет от демонического, успокаивает его или другими путями уводит от прямой встречи с ним, то это скорее ее неудача, чем успех. Фурии или демоны в Орестее Эсхила называются "нарушителями сна". В драме они приводят Ореста к временному помешательству, после того как он убивает свою мать. Но если мы задумаемся над этим., то поймем, что если бы в эти дни после убийства Орест спал спокойно, было бы упущено что-то имеющее громадное значение. Сон возможен только после того, как достигается новая интеграция в цепочке судьба — вина — личная ответственность, как в последней драме трилогии, в Эвменидах.
Когда Ореста оправдывает суд, Аполлон требует изгнания Фурий — демонов, которые являются символическими духами гнева, мести и возмездия. Аполлон говорит как представитель высоко уважаемой рациональности; он живет в согласии с логикой, с общепринятым и с требованиями культуры. Он требует, чтобы примитивные архаичные Фурии — представители иррационального Оно, если таковые вообще существуют — терзающие людей по ночам, не давая им ни сна ни покоя, были навсегда изгнаны из страны.
Но вот что Аполлон упускает из виду, так что Афине приходится втолковывать ему это, — он сам может быть таким же жестоким и неумолимым в своей интеллектуальной беспристрастности, как и Фурии в своем примитивном гневе. Афина, объединяющая в себе противоположные полюса (что символически выражено в ее словах: "Ведь родила не мать меня").13, возражая Аполлону, выступает за большую мудрость:
"У них [Фурий] ведь тоже есть своя работа. Не можем мы с легкостью от них отмахнуться, ибо, если обернется так, что дело их останется незавершенным, то яд их разложения вернется, дабы заразить землю и до погибели доведет всю мою страну. Вот в чем дилемма. Позволю ли я остаться им иль прогоню, любой путь непрост и опасен".14
Она проявляет психотерапевтическую проницательность, продемонстрированную Фрейдом в викторианскую эпоху. Однако преподнесенный нам в наше время урок все еще не усвоен: если мы будем подавлять демоническое, то его силы вернутся к нам с болезнью; если же мы позволим им остаться, то должны бороться, чтобы перейти на новый уровень сознания и включить их в себя, а не отдаться во власть безличной силы. И оба пути болезненны (обнадеживающе правдивый девиз, достойный украшать стены кабинета психотерапевта).
Но в этой драме действие, направленное на приятие демонического, открывает также путь для развития человеческой способности понимания и сострадания и даже способно поднять планку нравственного чувства Афина увещевает Фурий остаться в Афинах и назначает им роль уважаемых стражей города. Приемля демонических Фурий, приветствуя их в Афинах, жители общины тем самым обогащают себя.
Затем мы снова, как при рождении каждой новой формы бытия, встречаемся с нашим освященным веками символом — Фурии меняют свои имена. С этого времени они будут называться Эвменидами, что буквально означает служители милосердия. Какой глубокий и красноречивый способ провозглашения того, что ненавистное демоническое может быть стражем и источником милосердия!
Теперь мы подходим к основному смыслу демонического в диалоге. Что древние подразумевали под "Словом", которое имеет власть над демоническим? Они имели в виду логос, разумную структуру реальности, которая определяет способность человека создавать форму и лежит в основе его способности как к языку, так и к диалогу. "В начале было Слово" — это столь же верно эмпирически, как и теологически. Ибо началом человека как человека, в противоположность обезьяне или еще не сознающему себя младенцу, является потенциальная возможность речи Мы обнаруживаем что некоторые важные функции терапии и основаны на фундаментальных аспектах структуры языка, Слово разоблачает демоническое, заставляет его выйти наружу, где мы можем встретиться с ним лицом к лицу Слово дает человеку власть над демоническим,
В своих первоначальных могущественных формах Слово передается нам символами и мифами. Важно помнить, что любая лечебная процедура — даже когда речь идет лишь о том, что нам следует делать с вирусами при обычной простуде — сродни мифу, будучи способом нашей оценки себя и своего тела в отношении к миру. Если моя болезнь не изменила мой образ себя, мой миф обо мне самом, значит я не воспользовался травматическим эффектом своего заболевания, чтобы прийти к новому пониманию самого себя и своих возможностей самоосуществления в жизни. Я не достиг того, что по праву может называться "исцелением".
Мы видели, что демоническое начинается как безличное. Меня подталкивают гонады и темперамент. Вторая стадия состоит из углубления и расширения сознания, посредством чего я делаю свои демонические влечения личностными. Я трансформирую половую страсть в мотивацию заниматься любовью и быть любимым женщиной, которую я желаю и выбираю. Но мы не останавливаемся на этом. Третья стадия заключается в более тонком понимании тел как единого тела (если обратиться к физическим ассоциациям) и смысла любви в жизни человека (если обратиться к психологии и этике). Таким образом, демоническое толкает нас к логосу. Чем большего согласия я достигну со своими демоническими наклонностями, тем больше я буду понимать универсальную структуру реальности и жить в согласии с ней. Такое движение к логосу является над-личностным. Таким образом, мы переходим от безличного через личное к надличностному измерению сознания.
Часть Вторая:
ВОЛЯ
VII. ВОЛЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
В этом [наша] истинная проблема: вместе со страхом перед человеком мы потеряли любовь к человеку, утверждение человека, волю к человеку.
Ницше
Мой друг, с которым я встретился за ленчем, показался мне подавленным. Едва мы разговорились, он сообщил мне, что его волнуют некоторые события выходных дней. Трое его детей, в возрасте от двенадцати до двадцати трех лет, несколько часов всецело посвятили тому, чтобы указать отцу, в какой мере он был если не виновником, то основным "пособником" их проблем. Суть их претензий заключалась в том, что в его отношении к ним у отца недостает четких решений, что он не занимает достаточно твердую позицию или не имеет достаточно ясных ориентиров. Мой друг, чувствительный, одаренный богатым воображением человек, добившийся значительных успехов в своей жизни и в работе, был воспитан строгими, "действующими по внутреннему убеждению" родителями. Однако он знал, что никогда не сможет сам воспитывать своих детей по такому викторианскому "волевому" образцу. В то же время ни он ни его жена никогда не были и поклонниками популярной ныне вседозволенности, которая заполнила вакуум, образовавшийся после краха викторианских взглядов. Слушая его рассказ, я вдруг остро осознал, что почти каждый пациент в наши дни так или иначе выражает ту же боль и замешательство, что звучали сейчас в его вопросе: "Как родителю принимать решения относительно своих детей? Как отец должен утверждать свою волю?"
Этому кризису воли подвержены как "невротики", так и "нормальные" люди — как пациент на кушетке, так и психиатр или психолог в кресле, выслушивающий его. Человек, о котором я говорил, не лечился от невроза; и тем не менее он переживал то же противоречие между волей и решением, которое является неизбежным выражением психологического переворота переходного века, в который мы живем. Традиционные основы нашей способности проявления воли и принятия решений были безвозвратно разрушены. Ирония, если не трагедия, заключается в том, что именно в этот удивительный век, когда так чрезвычайно выросла наша сила, и выбор решения неотвратим и становится судьбоносным, мы не находим новых оснований для нашей воли.
Крах личной ответственности
Одним из весомых вкладов Зигмунда Фрейда — если не величайшим — является его прорыв через поверхностность и самообман викторианской "силы воли". Эта "сила воли" понималась нашими предшественниками в XIX веке как способность принимать решения, а затем целенаправленно устремлять свои жизни по тому рациональному и моральному пути, который указывала им культура. Я говорю, что это, пожалуй, явилось величайшим открытием Фрейда, поскольку именно изучение пагубных последствий викторианской силы воли привело его к тому, что он назвал "бессознательным". Он обнаружил обширные области, в которых мотивация и поведение — будь то воспитание детей, ухаживание за кем-то, занятие коммерцией или ведение войны — определяются бессознательными стремлениями, тревогами, страхами и бесчисленным множеством телесных влечений и инстинктивных сил. Описывая, как нами движет скорее "желание" и "влечение", чем "воля", Фрейд сформулировал новый образ человека, который до самого основания подорвал эмоциональное, нравственное и рациональное представление западного человека о самом себе. В результате проницательного фрейдовского анализа викторианская "воля" предстала как паутина рационализации и самообмана. И он был совершенно прав в своем диагнозе нездоровой стороны хваленой викторианской "силы воли".
Но вместе с этим неминуемо и неизбежно шло расшатывание основ воли и решимости, снижение чувства личной ответственности. Возникший образ был образом человека уже не управляющего, а управляемого. Человек "живет бессознательным", как, соглашаясь со словами Гроддека, выразил это Фрейд. "Глубоко укоренившаяся вера в психическую свободу и выбор, — пишет Фрейд, — …совершенно не научна и должна уступить место утверждениям детерминизма, который управляет психической жизнью".1
Какова бы ни была теоретическая ценность или ошибочность такой позиции, она имела очень большое практическое значение. Она отражала, объясняла и играла на руку наиболее распространенной склонности современного человека — которая превратилась чуть ли не в повальное заболевание в середине XX столетия — считать себя пассивным, безвольным продуктом могучей, неутолимой силы психических влечений. (И экономических сил, можем мы добавить, как продемонстрировал это на социально-экономическом уровне Маркс своим не менее блестящим, чем у Фрейда, анализом.)
Я вовсе не утверждаю, что Фрейд и Маркс "послужили причиной" упадка индивидуальной воли и ответственности. Великие люди, скорее, размышляют над тем, что возникает в глубинах их культуры; обдумав это, они интерпретируют и формулируют то, что обнаружили. Мы можем не соглашаться с их интерпретацией этих открытий; но мы не можем не признавать того факта, что они нашли это. Мы не можем проигнорировать или отбросить открытия Фрейда, не отрезая себя от нашей собственной истории, не уродуя нашего собственного сознания и не лишаясь при этом шанса прорваться через кризис к новому уровню сознания и цельности. Представление человека о самом себе никогда уже не будет прежним; наш единственным выбор состоит в том, чтобы либо отступить перед этим крахом нашей, хваленой "силы воли", либо прорываться к обретению цельности сознания на новых уровнях. Я не желаю или не "выбираю" первого; но и последнего мы пока еще не достигли; и наш кризис воли состоит в том, что мы сейчас парализованы между первым и вторым.
Дилемма, явившаяся результатом подрыва воли, стала опасной проблемой и в области деятельности самого Фрейда, в психоанализе. Особенно хорошо эту проблему выразил психоаналитик Аллан Уилис. Он пишет:
"Среди искушенных употребление выражения "сила воли" стало, наверное, самым недвусмысленным ярлыком наивности. Стало немодным пытаться, посредством своих собственных усилий, без посторонней помощи, вырваться из состояния невротического страдания; ибо чем сильнее воля, тем больше ей грозит ярлык "противофобийного приема". Бессознательное стало наследником престижа воли. Как прежде судьба человека определялась его волей, так теперь она определяется подавляемой психической жизнью. Современные умники подпирают своими спинами кушетки, и вследствие этого, вряд ли способны, засучив рукава, взяться за работу. Как обесценилась воля, так обесценилось и мужество; ибо мужество может существовать, только служа воле, и едва ли может цениться выше, чем то, чему оно служит. В нашем понимании человеческой сущности мы обрели детерминизм и потеряли решительность".2
Тенденция рассматривать себя как следствие детерминизма в последние десятилетия дошла до крайности в убеждении современного человека, что он является беспомощным объектом научных сил, нашедших воплощение в атомной энергии. Беспомощность, конечно же, ярко символизируется ядерной бомбой, против которой простой обыватель чувствует себя бессильным. Многие интеллектуалы осознают такое положение вещей и, в свою очередь, задают вопрос: не является ли "современный человек устаревшим".3 Но главным в развитии событий нынешнего десятилетия является то, что подобное ощущение становится общим достоянием всех тех, кто смотрит телевидение или посещает кинотеатры: об этом однозначно сказано в одном из недавних фильмов: "Ядерный век убил веру человека в его способность влиять на то, что с ним будет".4 Действительно, можно сказать, что центральное ядро "невроза" современного человека заключено в подрыве его восприятия себя как ответственного человека, в ослаблении его воли и способности принимать решения. Отсутствие воли — это нечто много большее, чем просто этическая проблема: современный человек слишком часто убежден, что даже если он действительно станет напрягать свою волю — или то, что он подразумевает под этим — его действия все равно ни к чему хорошему не приведут. Именно внутреннее ощущение бессилия, разлад в самой воле и составляет нашу опасную проблему.
Разлад воли
Кто-то из читателей может возразить, дескать, человек никогда еще не был настолько могущественным как в осуществлении своих индивидуальных возможностей, так и в коллективном завоевании природы. Несомненно, такая убежденность в огромной власти человека как раз и является другой стороной того, что я назвал разладом воли. Насколько индивид беспомощен и снедаем сомнениями относительно своих собственных решений, настолько он в то же самое время уверен, что он, современный человек, может все. Бог умер, но разве мы сами не боги — ибо разве мы не воспроизвели акт творения, расщепив атом в наших лабораториях и над Хиросимой? Конечно же, мы сделали это в обратном порядке: Бог сотворил форму из хаоса, мы же превратили форму в хаос, и редкий человек в тайном уголке своей души не боится до смерти, что мы не сможем снова обратить хаос в форму, прежде чем будет слишком поздно.
Но нашу тревогу достаточно легко заглушить возбуждением и зачарованностью от пребывания на пороге новой эры — Рая, в котором уже не будет Змея. Нас донимают рекламой, гласящей, что новый мир лежит за каждым билетом на самолет, за каждым страховым полисом. Час за часом нам обещают (в рекламных роликах) каждодневное счастье, рассказывают об огромной силе, которую дадут нам компьютеры, массовые средства связи, новый век электроники, который преобразующей волны нашего мозга так, что мы будем видеть и слышать по-новому, кибернетика, гарантированный доход, искусство для каждого, новые и все более удивительные формы автоматизированного образования, ЛСД, который "раздвигает границы разума" и высвобождает громадный потенциал (чего когда-то ждали от психоанализа, а теперь — благодаря случайному открытию — можно добиться быстрее и с намного меньшими усилиями с помощью наркотиков), химические технологии, заменяющие личность, создание искусственных органов, заменяющих износившиеся сердца и почки, открытие способов предотвращения нервной усталости, с тем чтобы жить чуть ли не вечно, и так до бесконечности. И неудивительно, что слушатель временами приходит в замешательство: является ли он тем избранным, кому предназначены эти дары джинов — или же просто бестолковой жертвой обмана? И он, конечно же, является и тем и другим.
Почти все эти обещания огромной власти и свободы предполагают пассивную роль обывателя, который должен быть получателем благ. И дело не только в рекламе; в области образования, здравоохранения, фармакологии новые изобретения все делают для нас и за нас; наша роль, как бы тонко это ни выражалось, сводится к тому, чтобы смириться, принять благословение и быть благодарным. Это особенно очевидно в области атомной энергии и исследований безбрежного космоса, которые могут приблизить другие планеты к нашей, но ни вы ни я как отдельные личности не имеем никакого отношения к этим достижениям, за исключением того, что платим налоги через анонимные каналы и наблюдаем за космическими полетами по телевизору.
Так, например, для обозначения постижения новых миров посредством наркотиков или "хэппенингов" употребляется выражение "включиться". Положительная сторона этого выражения лежит в его подрыве викторианского заблуждения относительно того, что "я являюсь капитаном своей души", что ничего не может произойдет, если я не заставлю это произойти своим кальвинистским упорством и мышцами, в ниспровержении этой волюнтаристской надменности, которая поистине ограничивает наше восприятие и чуть ли не подавляет наши чувства. Выражение "включиться" указывает на спонтанность по отношению к стимулу, откровенность, открытость. Но не случайно это же выражение мы употребляем, когда "включаем" электричество, зажигание в автомобилях, телевизор. Противоречие очевидно: мы идем от викторианской "силы воли" и жесткого самоконтроля, создавших безликую индустриальную цивилизацию, против которой справедливо восстают хиппи, к "свободе", которая может вовсе не стать новым расширением сознания, а обернуться для нас превращением в подобие машины более мощного и утонченного вида. Об ЛСД говорят как о лекарстве для удушающе безликой цивилизации механиков. Но сущность машины состоит в том, что она делает что-то для нас, вставая между нами и природой. И разве сущность действия наркотика не сводится к тому же, что и использование машины, а именно — точно так же делать нас пассивными? Наша проблема состоит в том, что один и тот же процесс, который делает современного человека таким могущественным (вспомним чудеса освоения атомной и других видов технической энергии), делает нас бессильными. То, что наша воля должна быть подорвана, — было неизбежно. И то, что многие люди говорят нам, что "воля все равно является иллюзией", кажется не более чем повторением очевидного. Мы завязли в "аду безумной пассивности", — как выразился Лэинг.
Кроме того, дилемма обостряется тем, что именно в тот момент, когда мы ощущаем себя наиболее беспомощными перед лицом неумолимой безличной силы, которая окружает и формирует нас, мы вынуждены брать на себя ответственность за много более широкий и важный выбор. Возьмем проблему свободного времени. Здесь выбор будет необходим растущей массе людей, которые будут работать только четыре или шесть часов в день. Уже есть свидетельства того, что, если человек не может заполнить пустоту целенаправленной деятельностью, то он оказывается перед лицом апатии, порождающей бессилие, пагубные привычки и самоуничтожающую враждебность. Или возьмем противозачаточные таблетки, в особенности ретроактивные, те, что сейчас разрабатываются. Новая свобода — в принципе полная свобода выбора в отношении половых связей — вызывает в представлении именно слово "выбор". И теперь, чтобы не допустить анархии, каждому отдельному человеку предстоит выбор ценностей половой жизни или, по крайней мере, причин вступления в половую связь. Но эта новая свобода приходит как раз тогда, когда ценности, которые обычно служат основой для выбора (или бунта, что тоже подразумевает какие-то основания), в большинстве своем приходят в полный беспорядок, когда во внешних установках со стороны общества, семьи и церкви по отношению к сексу наблюдается замешательство, приближающееся к полному краху. Да, это дар свободы; но ноша, возлагаемая при этом на индивида, действительно огромна.
Или возьмем противоречия, затронувшие наше физическое здоровье. Огромное количество медицинских методик вместе с ростом специализации неизбежно способствуют превращению пациента в объект лечения, заставляют пациента спешить к телефону, чтобы спросить у своего доктора не рекомендаций по поводу своей болезни, а скорее, к какому специалисту следует обратиться этим утром, какой рентгенкабинет или какую клинику посетить. По мере того, как процесс становится все более безличным и кафкианским, ответственность самого пациента сходит на нет. Но все это происходит именно в тот момент, когда болезни пациента становятся все в большей степени личными. Как при сердечной недостаточности и старческой немощи, болезни затрагивают скорее всю личность в целом, а не отдельные механизмы тела, как в случае старости, которая требует от человека в целом смирения с ограничениями тела, конечностью собственного "я" и наконец со смертью! "Исцеление" или управление этими недугами может прийти только с расширением и углублением собственного сознания пациента по отношению к своему телу и с его активным участием в собственном лечении. Тот тип сознания, который позволяет человеку принять ограничения тела, характерные для состояния сердечной недостаточности и старческой немощи, признать приближающуюся смерть, а не во вред себе бороться с ними, обычно назывался "силой духа". В своих лучших проявлениях это было приятие и смирение. Это давало определенные перспективы и ценности человеку, переступившему порог вопрошания, будет ли он жить или умрет, это делало для него возможным принятие необходимых решений. Но духовные основания такого сознания в своей прежней форме недоступны для многих в нашем современном атеистическом обществе. И мы пока еще не нашли новые основания для подобного выбора и подобных ценностей.
С возможностью замены органов тела искусственными и с преодолением необратимости нервного истощения весьма реальным объектом выбора может стать вопрос, как долго следует жить. Окончательное решение, основывающееся на вопросе "Хотите ли вы жить и, если да, то как долго?" — который обычно задавался как метафизический, исходя из теоретической предпосылки возможности самоубийства — теперь может стать практическим выбором для каждого из нас. Как медикам решить, насколько долго сохранять жизнь людям? На это часто отвечают, что данный вопрос следует оставить философам и теологам. Но где же эти философы, которые собираются помочь нам? Считается, что философия, в ее академическом понимании, тоже "умерла", как "умер" Бог,5 и в любом случае философия в наше время — за явным исключением экзистенциалистов — занимается скорее формальными проблемами, чем этими смысложизненными вопросами, Теперь, когда распрощавшись с умершим Богом, мы распрощались с теологами, мы возвращаемся, чтобы открыть последний завет и оценить наследство, и обнаруживаем, что многого лишились, Мы унаследовали немалое количество материального богатства — но почти ничего из тех ценностей, а также давших им начало мифов и символов, — из того, что является основой ответственного выбора.
Фридрих Ницше, который в викторианскую эпоху с удивительной проницательностью предвидел грядущее, был одним из первых, кто провозгласил, что "Бог умер". Но, в отличие от тех, кто говорит о кончине господа в наше время, ой отважился смело взглянуть в лицо последствиям. "Что нам делать после того, как мы разорвали цепи, связывающие эту землю с ее солнцем?… Куда нам теперь идти? Прочь ото всех светил? Разве это не означает непрестанного падения? Назад, в сторону, вперед, во всех направлениях? Разве не перестали существовать и низ, и верх? Разве не блуждаем мы как в бесконечной ночи? Разве не чувствуем дыхания пустого пространства? Разве не становится все холоднее? Разве не ночь и снова ночь наступает все время?… Бог мертв!".6
С глубочайшей иронией Ницше вкладывает это описание безумной дезориентации человеческого "я" и проистекающего из нее паралича воли в уста сумасшедшего. "Главное потрясение — впереди", — говорит сумасшедший в конце этой параболы. Сейчас это время пришло — человек стоит у той точки, где он может либо стать свидетелем рождения нового мира, либо председательствовать при саморазрушении человечества.
Таким образом кризис воли зарождается не от наличия или отсутствия силы в мире индивида. Он возникает из противоречия между ними — результатом чего является паралич воли.
Клинический случай Джона
Наша клиническая работа предоставляет некоторые аналогии этому кризису воли и проливает свет на нашу общую проблему. Мой коллега доктор Сильвано Ариети в своей серьезной статье, в которой он указывает, что кататония является расстройством воли, а не моторного аппарата, говорит о том, что кататоник в своем патологическом мире попал в такой же внутренний тупик, что и мы в нашем реальном мире. Проблема кататоника зависит от ценностей и воли, а его неподвижность является одним из выражений переживаемого им противоречия.
Доктор Ариети описывает пациента Джона, католика, интеллигентного человека, специалиста в своей области, тридцати лет, которого направили к нему по причине его постоянно растущего беспокойства. Это беспокойство напоминало Джону события десятилетней давности, когда у него развился настоящий приступ кататонии. Желая предотвратить повторение этого, он обратился за помощью. Я приведу выдержки из истории болезни этого пациента доктора Ариети.7
Джон, один из четверых детей в семье, помнит свои приступы беспокойства, начиная с раннего детства. Он помнит, как сильно нуждался в том, чтобы рядом находилась его тетя, которая его воспитала. Тетя имела обыкновение раздеваться в его присутствии, что вызывало у него смешанные чувства возбуждения и вины. Между девятью и десятью годами произошла попытка гомосексуальной связи с его другом, мимолетные гомосексуальные желания впоследствии, а также обычная мастурбация… Он особенно восхищался лошадьми, потому что: "Они испражняли такие красивые фекалии, выходящие из так превосходно сложенных тел".8
Он хорошо учился в школе и после наступления зрелости сильно заинтересовался религией, думал о том, чтобы стать монахом, в особенности затем, чтобы контролировать свои половые влечения. Такой контроль представлялся ему как противоположность того беспорядочного образа жизни, который вела одна из его сестер… После колледжа он решил попытаться полностью исключить секс из своей жизни. Он также решил отправиться отдохнуть на ферму для юношей, где собирался рубить деревья. Однако на этой ферме его стали одолевать беспокойство и угнетенность. Он все больше и больше ненавидел других ребят, считая их грубыми и богохульствующими. Он чувствовал, что находится на грани нервного срыва. Он помнит, как однажды ночью сказал себе: "Я больше не могу это выдержать. Почему я постоянно обеспокоен безо всякой на то причины? Я не сделал ничего плохого за всю свою жизнь". Но он успокаивал себя мыслью, что, возможно, происходящее с ним выпало ему по воле Бога.
Навязчивые состояния становились все более и более выразительными. Он обнаружил, что "сомневается, сомневается в своих сомнениях и сомневается в сомнении в своих сомнениях", и его охватил сильный страх. Однажды он в ужасе заметил расхождение между тем, что он хотел сделать, и действием, совершенным в действительности. Например, когда он раздевался и хотел снять ботинок, вместо этого он ухватился за бревно… Он был в здравом уме и понимал, что происходит, но осознавал, что не управляет своими действиями. Он думал, что может совершить преступление, даже убить кого-нибудь. Он сказал самому себе: "Я не хочу быть проклятым в этом мире, так же, как и в ином. Я пытаюсь быть хорошим и не могу. Это несправедливо. Я могу убить кого-нибудь, из-за куска хлеба".
Затем он стал ощущать, что любое его движение или действие могут принести несчастье не только ему самому, но и всему лагерю. Не двигаясь и ничего не предпринимая, он защищал от себя всю группу. Он почувствовал, что стал хранителем своих братьев. Страх стал настолько сильным, что практически подавлял всякое движение. Оцепенев от ужаса, он, по его собственным словам, "сидел окаменевшим, в полной неподвижности". Его преследовала одна цель — покончить с собой — лучше умереть, чем совершить преступление. Он взобрался на высокое дерево и прыгнул вниз, но попал в больницу с незначительными ушибами. В больнице он вообще отказался от всякого движения. Он был подобен каменному изваянию.9 За время своего пребывания в больнице Джон совершил 71 попытку самоубийства. Хотя он обычно находился в состоянии кататонии, иногда он совершал импульсивные действия, например, разрывал на куски смирительную рубашку и делал веревку, чтобы повеситься.
Когда доктор Ариети спросил его, почему он так настойчиво повторял попытки самоубийства, Джон привел две причины. Первая — чтобы освободиться от чувства вины и удержать себя от совершения преступления. Но вторая причина была еще удивительнее — покончить с собой — это единственное действие, которое позволяло ему выйти за барьер неподвижности. Таким образом, совершить самоубийство означало жить; это был единственный поступок, оставшийся для него в жизни.
Однажды доктор сказал ему: "Ты хочешь убить себя. Но разве в жизни нет больше ничего, чего бы ты еще хотел?" С огромным усилием Джон пробормотал: "Я хочу есть". Доктор отвел его в кафетерий для пациентов и сказал: "Ты можешь есть все, что захочешь". Джон тут же набрал себе огромное количество еды и начал жадно есть.
Не вдаваясь в остальные детали кататонии Джона и того, как он одолел ее, давайте отметим несколько моментов. Первое, лагерная среда, провоцирующая гомосексуальные влечения. Второе, утешение, которого он искал в религиозных чувствах. Третье, одержимо-навязчивый механизм и тот факт, что беспокойство, которое вначале было связано с любым действием, имеющим сексуальную подоплеку, перешло практически на все действия. Любой поступок обременялся чувством ответственности, моральными последствиями. Каждое движение рассматривалось не как факт, а как ценность. Ариети отмечает, что чувства Джона "напоминали ощущение в себе космической силы или негативного всемогущества, переживаемое другими кататониками, которые верили, что их действия могут привести к уничтожению вселенной".10
Мы видим у Джона глубочайший конфликт воли, связанный с теми ценностями, которых он придерживался. Для меня вопрос доктора — "разве ты больше ничего не хочешь?" — имеет огромное значение, так как он показывает, насколько важно ухватиться за простое желание, ту точку, с которой начинается каждое волевое действие. Ариети отмечает, что, когда человек несет на себе такую огромную ответственность, как Джон, то его пассивность совершенно понятна. Это не перенос и не конформизм в гипнотическом смысле. "Пациент следует приказаниям других, потому что эти приказания отдаются другими, и он поэтому не несет за них ответственности". Это параллель, в ее крайнем выражении, тому факту, что в наш, смятенный век люди становятся апатичными, их состояние можно сравнить со ступором Джона, они бессознательно жаждут кого-то, кто бы взял на себя ответственность за них.
Такой пациент находится в "состояние когда волевой акт связан с патологически преувеличенным ценностным чувством, так что мучительная ответственность достигает пика своей интенсивности, когда малейшее движение пациента рассматривается как способное разрушить мир". "Увы! — продолжает Ариети, — эта концепция психотического состояния напоминает о ее реальном воплощении, возможном сегодня, когда нажатие кнопки способно вызвать космические последствия! Только безграничная ответственность кататоника может вместить в себя эту, прежде немыслимую, возможность".11
У сравнительно нормальных людей, в противоположность Джону, подавляемая воля находит разрядку в полумерах, которые на время обещают ей некоторую жизнеспособность. Так, в процессе кризиса воли мы наблюдаем дилемму протеста. Когда я спрашивал у некоторых преподавателей, каково отношение студентов в их учебных заведениях к войне во Вьетнаме, они отвечали, что разделение, скорее, было не на тех, кто "за" и кто "против" в отношении войны, а на протестующих, с одной стороны, и протестующих против тех, кто протестует — с другой. Протест является отчасти конструктивным, так как сохраняет некое подобие воли, утверждая ее через отрицание, — я знаю против чего я, даже если я и не могу конкретно сказать за что я. Действительно способность ребенка двух-трех лет занимать отрицательную позицию относительно своих родителей очень важна как начало человеческой воли. Но если воля остается сугубо протестующей, она сохраняет свою зависимость от того, против чего она протестует. Протест — это наполовину развившаяся воля. Зависимый, как ребенок от родителей, он черпает свою силу у своего врага. Это постепенно лишает волю ее сути; вы всегда остаетесь тенью вашего противника, ожидая, когда он сделает ход, чтобы сделать ход самому. Рано или поздно ваша воля опустошится, и тогда, возможно, вы будете вынуждены отступить к другой линии защиты.
Эта следующая защита является проекцией вины. Примеры такого невольного признания своей неудачи в попытке интегрировать демоническое мы находим в каждой войне. Во Вьетнамской войне, например, госсекретарь Раск и администрация обвиняли в эскалации отношений Вьет-Конг, а Вьет-Конг — и те, кто в этой стране выступали против войны, — обвиняли Раска и нашу администрацию. Лицемерная уверенность в своей правоте, обретаемая посредством такого обвинения другого, дает временное удовлетворение. Но, помимо очевидного грубого упрощения нашей исторической ситуации, мы платим и намного более серьезную цену за такое самоуспокоение. Мы молчаливо отдаем право принимать решение нашему противнику. Обвинение врага подразумевает, что он, а не мы, имеет свободу выбора и действия, а мы можем только отвечать ему. Это допущение, в свою очередь, разрушает наш собственный покой. Ибо в конечном счете мы, вопреки своим намерениям, отдаем ему все карты. Таким образом, основания воли разрушаются еще больше. Здесь мы видим пример внутреннего противоречия ярой психологической защиты: она автоматически передает силу врагу.
Таким образом активность воли все больше сводится к тавтологичным повторам и в конце концов переходит в апатию. И если апатия не может быть преобразована в импульс для продвижения на более высокий уровень сознания, необходимый для того чтобы решить стоящую на повестке для проблему, то человек — или группа — склонны отказываться от самой способности проявления воли. Чтобы избежать апатии при таком параличе воли, человек рано или поздно должен задать себе вопрос: "А не скрыто ли во мне самом то, что и есть причиной этого паралича или же способствует ему?"
Воля в психоанализе
Каким же образом психология и психоанализ противостоят кризису воли? Ранее мы отмечали, как в разрушении Фрейдом викторианской "силы воли" нашел выражение подрыв воли и решимости всего нашего столетия. Мы также наблюдали, что сами психоаналитики обеспокоены коллизией, к которой привело нас это смятение воли. Указывая на то, что мы "обрели детерминизм, но потеряли решительность", Уилис продолжает в своей цитировавшейся выше статье, напоминая нам: "Решающее значение воли заключается в том, что… [она] все равно может быть определяющим фактором смещения равновесия в сторону перемен".12
Вдумчивые представители всех направлений психологии, так же как и других направлений мысли, в частности философии и религии, поднимают кардинальный вопрос о том, как сам процесс психоанализа влияет на волю пациента. Заключения некоторых отрицательны. "Психоанализ является систематической тренировкой нерешительности", — выдвигает обвинение Сильван Томкинс, профессор Принстонского и Нью-Йоркского университетов, который сам несколько лет посвятил психоанализу. "Психоанализ, терапия которого претендует на то, чтобы служить исцелению, в действительности сам является заболеванием". Это колкое замечание, предположительно принадлежащее Карлу Краусу, в равной мере относится и к тому факту, что психоанализ способствует склонности современного человека отказываться от своей самостоятельности.
Уже в течение нескольких лет наблюдаются признаки того, что психоанализ как наука и как профессия движется к кризису. Одно из выражений этого кризиса — в котором мы сейчас пребываем и которого нельзя было избежать — выступления против психоанализа со стороны выдающихся членов ортодоксальных фрейдистских групп.13
Их речи во многом напоминают сетования на то, что "Бог умер", некоторых современных теологов. И действительно, бог психоанализа, возможно, на самом деле мертв в том смысле, что, как и бог теологов, он до сих пор неверно понимался,
Корень этого кризиса в провале попытки психоанализа решить проблему воли и решимости. Ибо если бы абсолютный детерминизм в теории, за которую выступал Фрейд, был верен на практике, то в процессе психоанализа никого нельзя было бы излечить. Так же верно и противоположное, если мы примем полный индетерминизм, то есть возможность легко и свободно переделывать себя в духе новогодних пожеланий или по любому своему решению, ни у кого не было бы нужды обращаться за помощью к психотерапии. В действительности же мы видим, что проблемы людей неподатливы, непокорны и хлопотны — но вместе с тем мы находим, что ситуацию можно изменять. И поэтому мы должны смотреть глубже, чтобы найти то, что изменяет положение дел.
Академические психологи, независимо от того, что каждый из них в отдельности думает о своих собственных нравственных поступках, придерживаются той позиции, что как психологов нас должно интересовать лишь то, что поддается определению и пониманию в детерминистских рамках. Такие ограничения неизбежно зашоривают наше восприятие; мы втискиваем человека в тот образ, который мы позволяем себе видеть. Психологи склонны подавлять проблему силы, в особенности иррациональной силы. Мы принимаем буквально изречение Аристотеля, согласно которому человек есть разумное животное, полагая, что он есть только это и что иррациональность есть всего лишь временное отклонение, с которым следует бороться посредством правильного образования индивида или, если патология немного более серьезна, перевоспитания его разрегулированных эмоций. В психологии Альфреда Адлера, конечно же, уделялось внимание силе, но обычно это воспринималось просто как подоплека его представлений о социальной неполноценности и борьбе за чувство безопасности. Положения Фрейда о примитивном каннибализме и инстинкте агрессивности предполагают элемент силы. Но и их мы склонны отбрасывать на том основании, что они касаются только серьезной патологии. Подавление силы позволило психологии с чрезвычайно легкостью отбросить волю и придерживаться теоретического детерминизма, так как критические демонические последствия, демонические проявления детерминизма в этом случае не дают о себе знать.14
Но в психоанализе и психотерапии, где терапевты имеют дело с живыми, страдающими людьми, проблема подрыва воли и решимости становится все более и более критической. Ибо теория и методика психоанализа и большинства других форм психотерапии неминуемо способствуют развитию пассивных тенденций у пациента. Как еще в 1920 г. отмечали Отто Ранк и Вильгельм Райх, самому психоанализу были внутренне присущи тенденции, которые истощали его жизнеспособность, выхолащивая реальность, с которой имеет дело психоанализ, и истощая силы и готовность пациента измениться.
На ранних этапах развития психоанализа, когда откровения о бессознательном приобрели явно ''шокирующий смысл", эта проблема была не так заметна. Во всяком случае у пациентов-истериков, что составляли основную массу тех, с кем работал Фрейд в первые годы, определившие дальнейшее развитие его метода, действительно наблюдалась особая динамика в том, что Фрейд многозначительно назвал бы "подавляемым либидо". Но теперь, когда большинство наших пациентов — "компульсивные"* личности в той или иной форме, когда каждый знает об эдиповом комплексе и наши пациенты говорят о сексе с такой очевидной свободой, которая заставила бы викторианских пациентов Фрейда вскочить в возмущении с кушетки (и в самом деле, разговор о сексе — это самый легкий путь реально избежать принятия любых решений относительно любви и половых отношений), проблем, вытекающих из подрыва оснований воли и решимости, уже нельзя избежать. Компульсивный синдром, который всегда оставался неподатливой и неразрешимой проблемой в контексте классического психоанализа, по моему мнению, в корне своем связан с этим кризисом воли.
* Речь идет об обсессивно-компульсивном неврозе, или неврозе принуждения
Другим формам терапии также не удается избежать дилеммы, с которой столкнулся психоанализ, а именно: сам процесс психотерапии имеет тенденцию побуждать пациента отказаться от установки личности, принимающей решения. Само слово "пациент" предполагает это. Эта тенденция связана не только с автоматическими, поддерживающими элементами терапии, но также и с искушением, которому легко поддаются и пациент и терапевт, искать где угодно, но только не в себе самом причины собственных проблем. Конечно же, психотерапевты всех направлений и школ понимают, что рано или поздно пациенту придется принимать какие-то решения, научиться брать на себя некоторую ответственность; но теория и методика психотерапии преимущественно построена на совершенно противоположных посылках.
Иллюзия и воля
Отрицание воли и способности принимать решения в той ли иной интерпретации продолжают звучать в заявлениях психологов и психоаналитиков. Известный некогда последователь Фрейда, Роберт Найт, к примеру, утверждает, что свобода выбора, ощущаемая человеком, "…не имеет никакого отношения к свободе воли как принципу, управляющему человеческим поведением, а является субъективным переживанием, которое само каузально детерминировано".15
В этой статье Найт постоянно ставит слово "свобода" в кавычки, вероятно, для того чтобы показать, что это иллюзия. Выбор и ответственность являются иллюзиями, обусловленными прежними состояниями, но по отношению к будущим действия они, в свою очередь, каузальны.
Но как терапевты — и здесь мы подходим к радикальному внутреннему разногласию — психоаналитики не могут не сознавать, что акт выбора пациента имеет центральное значение. Фрейд как психотерапевт придерживается точки зрения радикально и удивительно отличной от его собственной теории. В работе Я и Оно он пишет, что"…психоанализ направлен не на то, чтобы сделать патологические реакции невозможными, а на то, чтобы предоставить Я пациента свободу выбора того или иного пути" (курсив Фрейда).16
Уилис показывает нам практическую дилемму, перед которой оказывается терапевт в процессе лечения.
"К концу психоанализа терапевт может обнаружить, что сам он хочет, чтобы пациенту была присуща большая "напористость", большая "решимость", большая готовность "максимально использовать достигнутое". Часто это желание выливается в следующие замечания пациенту: "Люди должны помогать сами себе"; "Ничего стоящего не достигается без усилия"; "Вы должны постараться" Такие советы редко включаются в истории болезней, так как считается, что они лишены достоинств и эффективности, присущих психоаналитической интерпретации. Часто психоаналитик ощущает неловкость по поводу таких призывов к проявлению силы воли, как будто Он прибегнул к чему-то, во что сам не верит, и в этом не было бы необходимости, если бы он провел психоанализ более умело".17
Поэтому психоаналитики оказались в любопытном, противоестественном положении, считая, что пациенту, для того чтобы измениться, необходима иллюзия свободы, и поэтому они должны развивать эту иллюзию или, по крайней мере, выражать уважение к ней. Парадокс, заключающийся, например, в формулировке проблемы Найтом, хорошо описан двумя критиками. "С продвижением психотерапии растет ощущение свободы, так что люди, психоанализ в отношении которых был проведен успешно, рассказывают, что ощущают большую свободу в своей жизни, чем до психотерапии. И если эта свобода иллюзорна, то цель терапии или, по крайней мере, успех терапии зависит от этой иллюзии, вопреки тому, что большинство терапевтов полагают, что успешная терапия должна делать более адекватными представления пациента о себе и своем мире".18
Некоторые психоаналитики действительно открыто признают, что способствуют развитию иллюзии, и делают попытки логически обосновать это в своей теории.19
Мне нет необходимости подробно останавливаться на том, что такое разрешение дилеммы несостоятельно. Даже мы, психоаналитики, не смогли смириться с такой иллюзией — ибо как можно (кроме ситуаций явной патологии) делать ставку на иллюзию, заранее зная, что это иллюзия? Кроме того, если пациенты должны верить в иллюзию, — а иллюзии, в отличие от истины, безграничны, — то кто будет решать на какой иллюзии строить жизнь данного пациента? Может быть следует выбирать "действенную" иллюзию? Если да, то наша концепция истины неверна; ибо если иллюзия по-настоящему действенна, это уже не совсем иллюзия. Утверждение, что иллюзия в высшей степени необходима для достижения изменений, по своему существу иррационально (а следовательно, ненаучно), ибо оно подразумевает, что на уровне поведения истинность или ложность концепции не существенны. С этим нельзя согласиться; если это похоже на истину, значит в том, что мы называем "иллюзией", должна быть какая-то доля истины и какая-то доля иллюзии — в том, что мы называем истиной.
Другое решение было предложено с совсем иной точки зрения. Понимая, что свободе и воле необходимо определить какое-то место в психоаналитической структуре личности, недавние аналитики "Я", такие как Гартман, Раппапорт и другие, разработали концепцию "самостоятельности Я". Эго здесь понимается как функция свободы и выбора. Но если Я, по определению, является частью личности; то как часть может быть свободной? Раппапорт написал статью "Самостоятельность Я", Юнг — главу под названием "Самостоятельность бессознательного", и мы, вслед за Уолтером Б. Кенноном могли бы написать статью "Самостоятельность тела". Каждая из этих работ содержала бы часть истины. Но разве не была бы каждая из них вместе с тем существенно неверной?
Ни Я, ни тело, ни бессознательное не могут быть "самостоятельными", а могут существовать только как части целого. И именно в этом целом должны иметь свои основания свобода и воля. Я убежден, что разделение личности на Я, Сверх-Я и Оно стало немаловажным фактором неразрешимости проблемы воли в рамках ортодоксальной психоаналитической традиции.
Из нашей практики психоанализа мы знаем, что недостаток свободы проявляется во всех аспектах жизнедеятельности пациента. Он проявляется и в его теле (мышечное торможение), и в том, что называется бессознательным переживанием (подавление), и в его социальных взаимоотношениях (он не понимает других настолько же, насколько не понимает себя). Нам также известно эмпирически, что по мере того как этот человек обретает свободу в ходе психотерапии, он становится менее заторможенным в движениях своего тела, раскованным в своих мечтах и более непринужденным в своих непосредственных, спонтанных отношениях с другими. Это означает, что самостоятельность и свобода не могут быть сферой особой части организма, а должны быть свойством целостной личности как думающего-чувствующего-выбирающего-действующего организма.
Ниже, при обсуждении интенциональности, я покажу, что воля и решимость неотделимо связаны с Оно, так же как с Я и Сверх-Я, если использовать терминологию Фрейда. Нечто чрезвычайно важное проявляется — через спонтанность, ощущения, символические смыслы — в каждом решении, которое человек принимает, прежде чем совершить то, что можно определить как "функцию Я". По моему мнению, Беттельгейм абсолютно прав, когда подчеркивает, что сильное Я — не причина решений, а их результат.
Разве концепция "самостоятельности Я", локализуя выбор в определенной части или органе личности, не имеет тех же недостатков, что и старая концепция "свободы воли"? Если мы лишим эту концепцию ее изощренных облачений, она окажется чем-то сродни теории Декарта о том, что шишковидная железа, орган, расположенный у основания мозга между телом и головой, является местом пребывания души. Конечно же, в психоанализе Я есть и своя положительная сторона, заключающаяся в отражении неотложных забот современного человека, с его проблемами самостоятельности, самоуправления и выбора. Но такой подход вязнет в противоречиях, с которыми эти проблемы неизбежно сталкивают нас.
Психоанализ и психология в лице своих представителей демонстрируют нам, в самой их непоследовательности и противоречиях, дилемму воли и решимости, переживаемую сегодня западным человеком. Во всяком случае, Фрейд со свойственной ему честностью, искренне заявляет, что пытается дать пациенту "свободу выбора", даже несмотря на то, что это прямо противоречит его теории. Он не пасовал перед противоречиями и не хватался за слишком легкое решение. Но после Фрейда, по мере культурного прогресса, которому он дал толчок, мириться с таким противоречием становилось все сложнее.
В этой книге я предлагаю решение данной проблемы. Я делаю это на основе своего убеждения в том, что мы упустили одно измерение человеческих переживаний, которое имеет важное, даже решающее значение для человеческой воли. Иллюстрация дилеммы представлена в отрывке из статьи Хадсона Хогленда:
"Давайте представим себе, что я являюсь всемогущим психологом, обладающим совершенным знанием физиологии, химии и молекулярной активности вашего мозга в любой данный момент. С таким знанием я могу точно предсказать, что вы будете делать в результате действия механизмов вашего мозга, так как ваше поведение, включая ваше сознательное и вербальное поведение, полностью коррелирует с функционированием вашей нервной системы.
Но это верно лишь в том случае, если я не сообщу вам о своем предсказании. Предположим, что я, исходя из своего абсолютного знания вашего мозга, расскажу вам, что вы будете делать. В этом случае я изменю физиологию вашего мозга, предоставив ему эту информацию. И это позволит вам вести себя таким образом, который будет совершенно отличен от моего предсказания. И если я попытаюсь заранее учесть влияние на вас сообщения о моем предсказании, то буду обречен на бесконечное возвращение к отправной точке… — на логическую погоню за собственным хвостом в попытке учесть влияние учтенного влияния на учтенное влияние, и так до бесконечности".20
Человеческое самосознание и сознание — то есть, знание — привносят непредсказуемые элементы в нашу модель человека. Человек — существо, которое упорно настаивает на знании. Изменение сознания, к которому приводит знание, является как "внешним", так и "внутренним", обусловленным силами, действующими на индивида со стороны мира, и установками, отношением самого человека, на которого воздействуют эти силы. Мы можем отметить, что в примере Хогленда самосознание человека должно включать такие вещи, как осознание забытых и похороненных в памяти событий детства и другие аспекты "глубинных" переживаний, которые проявляются в ходе терапии
Речь идет — предваряя наше последующее обсуждение — о проблеме интенциональности, в противоположность непосредственному намерению. Интенциональность в жизни человека — это то, что лежит в основе воли и решения. Она не только предшествует воле и решению, но делает их возможными. Почему ею пренебрегали в истории западной мысли, вполне понятно.
Начиная с тех пор, как Декарт отделил понимание от воли, наука развивалась на основе этой дихотомии, и мы пытались исходить из предположения, что "факты", касающиеся человеческих существ, могут быть отделены от их "свободы", познание может быть отделено от способности к волевому действию.
Такое положение вещей, в особенности после Фрейда, стало невозможным — даже несмотря на то. что Фрейд, не отдавая должного своим собственным открытиям, придерживался старой дихотомии в своей теории.
Интенциональность не исключает детерминации, но переносит всю проблему детерминизма и свободы на более глубокий уровень.
VIII. ЖЕЛАНИЕ И ВОЛЯ
Между замыслом
И творением,
Между эмоцией
И ответом
Падает тень.
Жизнь очень долга.
Т.С.Элиот
Мы не можем мириться с противоречиями, которые явили нам психология и психотерапия. Не можем мы также и оставлять волевое действие и принятие решения на милость случая. Мы не можем работать, основываясь на допущении, что в конечном итоге пациент "каким-то образом" делает выбор или останавливается на каком-то решении вследствие апатии, прекращения борьбы или обоюдной с терапевтом усталости либо поступает, основываясь на ощущении, что терапевт (сейчас благожелательный родитель) одобрит его, если он предпримет такие-то и такие-то шаги. Я предлагаю поместить решение и волю обратно в центр картины — "Тот самый камень, который отбросили строители, и есть краеугольным". Не в смысле свободы воли против детерминизма и не в смысле отрицания того, что Фрейд описывает как бессознательный опыт.
Эти "бессознательные" факторы детерминации несомненно действуют, и те из нас, кто занимается терапией, ежечасно неизбежно убеждаются в этом.1
Дело не в отрицании бесконечного ряда детерминирующих сил, действующих в каждом человеке. Мы сохраним нашу перспективу открытой, если с самого начала согласимся, что в детерминизме есть определенный ценностный смысл. Прежде всего, вера в детерминизм, как и в кальвинизм, или в марксизм, или бихевиоризм, приобщает человека к мощному движению. Тот факт, что человек получает свободу действовать наиболее энергично и с полной отдачей — как, к слову сказать, марксист — именно в силу того, что придерживается принципов детерминизма, является одним из парадоксов нашей проблемы. Другая ценность состоит в том, что детерминизм освобождает вас от большинства бесчисленных мелочных, а порой и не очень мелочных, вопросов, которые приходится решать каждый день; все они давно уже решены. Третья ценность заключается в том, что вера в детерминизм овладевает вашим самосознанием: будучи уверены в себе, вы бросаетесь вперед. Ибо в этом смысле детерминизм, перенося вопросы на более глубокий уровень, способствует расширению человеческого опыта. Но если мы верны нашему опыту, то должны найти и нашу свободу на том же, более глубоком уровне.
Этот парадокс не позволяет нам говорить о "полном детерминизме", что было бы логическим противоречием. Ибо если бы такой полный детерминизм был возможен, то не было бы необходимости демонстрировать это. Если бы кто-то действительно захотел продемонстрировать, как часто случалось в дни моей учебы в колледже, что он полностью детерминирован, я согласился бы с его доводами, а затем добавил к его списку ряд путей, посредством которых он детерминирован бессознательной динамикой, о которой ему, очевидно, неизвестно, причем детерминирован (возможно, по причине его собственной эмоциональной неуверенности) привести этот самый аргумент в пользу абсолютного детерминизма. Я мог бы продолжить логическое опровержение, сказав, что если его нынешний аргумент просто является результатом его полной детерминированности, то он приводит этот аргумент, не учитывая того, истинный он или ложный, и поэтому ни он, ни мы не имеем никаких критериев, по которым можно было бы решить, что аргумент истинный. Это внутреннее логическое противоречие полного детерминизма является, я считаю, вполне убедительным. Но я бы, наверное, предпочел — придерживаясь экзистенциального измерения — указать дискутирующему, что уже в том, что он поднимает эти вопросы и прилагает усилия на их разрешение, он использует некоторый и значительный элемент свободы.
В качестве лучшего примера можно сказать, что в терапии, независимо оттого, в какой мере пациент оказывается жертвой неизвестных ему сил, он некоторым конкретным образом ориентирует себя на факты в самом обнаружении и изучении этих детерминирующих сил в своей жизни и, таким образом, делает некий выбор, сколь бы незначительным он ни казался-, он пользуется некоторой свободой, какой бы трудно различимой она ни была. Это ни в коей мере не означает, что мы "подталкиваем" пациента к решениям. На самом деле я убежден, что только благодаря выяснению собственной силы воли пациента и его решения терапевт может избежать неумышленного и незаметного подталкивания пациента в том или ином направлении. Мой довод состоит в том, что само самосознание — возможность осознания индивидом того, что огромный, сложный, изменчивый поток переживаемого является его переживаниями, факт, который часто удивляет его — неизбежно привносит элемент принятия решения во всякий момент.
Уже не первый год как у меня сложилось убеждение, которое только окрепло в результате моего опыта работы в качестве психоаналитика, — убеждение в том, что нечто более сложное происходит в человеческих переживаниях в сфере воли и принятия решения, более важное, чем мы до сих пор предполагали в наших исследованиях. И я убежден, что мы упустили из внимания эту сферу, и это привело к обеднению как психологической науки, так и нашего понимания своих отношений с самими собой и другими людьми.
Наша задача в этих главах состоит в том, чтобы исследовать эти проблемы. Вначале мы обсудим взаимосвязь между волей и желанием, а затем более глубокий смысл желания Мы приступим к анализу интенциональности. И наконец, обсудим применение того, что мы узнали, в практике терапии. Всякий раз мы будем задавать себе вопрос: "Можем ли мы при помощи таких исследований прийти к новому пониманию значения человеческого волевого акта и найти новую основу для разрешения проблем волевого действия и принятия решения?"
Сила воли как слабость
Для начала следует отметить, что сами термины "сила воли" и "свобода воли" являются, по меньшей мере, сомнительными, и вряд ли был бы толк, если бы мы их использовали. "Сила воли" выражала высокомерные попытки человека викторианской эпохи манипулировать своим окружением и управлять природой железной рукой, а также управлять собой и своей жизнью как каким-нибудь объектом. Такого рода "воля" противопоставлялась "желанию" и использовалась как способность отказаться от "желания". Человек викторианской эпохи пытался, как сформулировал это Эрнест Шахтель, отрицать, что он когда-либо был ребенком, подавить свои иррациональные влечения и так называемые инфантильные желания как неприемлемые для его образа себя как зрелого и ответственного человека. Таким образом, сила воли была средством избежать осознания телесных и половых влечений и враждебных импульсов, которые не соответствовали образу контролируемого и управляемого "я".
Я нередко наблюдал у пациентов, что акцентуация "силы воли" является противодействующей реакцией на свои собственные подавляемые пассивные желания, способом борьбы с удовлетворением своих желаний; и вполне вероятно, что этот механизм во многом определил форму, которую воля приняла в викторианскую эпоху. Воля использовалась, чтобы отказаться от желания В клинических проявлениях, результатом этого процесса становится все большая и большая эмоциональная пустота, постепенное опустошение внутреннего содержания. Это обедняет как воображение, так и интеллектуальную жизнь; сводит на нет страсти, стремления, и желания. Нет нужды напоминать о том, какой разрушительной силы чувство обиды, негодование, подавленность, враждебность, самонеприятие и другие родственные клинические симптомы могут развиться как результат этого репрессивного типа силы воли.
Женщина в возрасте ближе к тридцати — так как мы и в дальнейшем будем упоминать о ней, назовем ее Элен — в начале терапевтического курса сообщила мне, что ее девизом всегда было: "Там, где есть воля, всегда есть путь". Этот девиз казался подходящим для ее ответственной работы, которая предполагала множество рутины и требовала серьезных решений, и отвечал ее респектабельному происхождению из типичной преуспевающей семьи среднего класса из Новой Англии. Вначале она производила впечатление человека с "сильной волей". Единственное затруднение заключалось в том, что одной из ее наиболее выраженных особенностей была навязчивая, беспорядочная половая активность; казалось, она не в силах сказать нет. В чем бы ни была ее причина, эта особенность — развитию которой, несомненно, способствовал тот факт, что она была привлекательной девушкой — прямо противоречила ее "силе воли", как она легко могла видеть это. Временами ее одолевал "волчий" аппетит, она могла съесть все, что оставляли на тарелках после завтрака другие, расплачиваясь за это болью в желудке, а позднее старалась соблюдать диету, чтобы сохранить фигуру. В ее работе просматривались такие же примеры одержимости — она могла работать по четырнадцать часов подряд, но оказывалось, что топчется на одном месте. Вскоре, разразившись рыданиями, она призналась, что, несмотря на свои очевидные успехи, она остается глубоко одинокой и изолированной личностью. Она рассказывала о тоске по своей матери, выражавшейся в полуфантазии, полувоспоминании о том, как она, будучи маленькой девочкой, "сидит с ней на солнышке", и в повторяющемся сновидении, в котором она снова и снова погружается в волны океана. Ей снилось, что она приходит домой и стучит в дверь, но ее мать, открыв дверь, не узнает ее и закрывает перед ней двери. Действительные же факты состояли в том, что ее мать страдала от сильной депрессии и значительную часть времени после рождения дочери находилась в психиатрических лечебницах.
Таким образом, мы видим в нашей пациентке одинокого, несчастного ребенка, охваченного сильным стремлением к тому, чего она никогда не имела. Кажется очевидным, что сильная акцентуация на "силе воли" была отчаянной "противодействующей реакцией", неистовой попыткой уравновесить проявления ее неосуществленных детских запросов, стратегией выживания, невзирая на болезненные детские желания. И не удивительно — такова ирония и "баланс " сложных процессов человеческого характера — что ее симптомы (навязчиво повторяемые действия, одержимость) были компульсивно-обсессивного типа. Именно это и есть воля, сбившаяся с правильного пути; воля, ставшая саморазрушающей, направленной против самого человека. Сама жизнь говорит ей — если обратиться к образному языку ее девиза — там, где есть такие стремления и неосуществленные ожидания, воля не есть путь.
Кроме того, мы видим, что ее проблема была не просто вызовом своим родителям, как это обычно бывает в юношеском поведении. В этом случае "воля" присутствовала бы и была бы активной, хотя и отрицающей, а сама ситуация была бы не слишком сложной для лечения. Проблема нашей пациентки более серьезна — пустота, стремление заполнить нечто, с детства остававшееся пустым. Такого рода стереотип поведения может привести к серьезным проблемам апатии, если "воля" сломается еще до того, как подвластные ей устремления будут доведены до сознания и до некоторой степени включены в состав целого. Ранняя травма еще в детстве научила Элен, что она должна отказаться от своих желаний, ибо они несут с собой отчаяние, которое, вероятно, могло стать причиной ее психоза. "Сила воли" была тем средством, с помощью которого она справлялась с этим. Но затем, в той же самой области, где зародилась эта проблема, невроз взял реванш.
Антиволевая система Фрейда
Психоанализ появился в силу крушения воли. Неудивительно, что Фрейд, наблюдая в своей викторианской культуре, как настойчиво воля используется в целях подавления, разработал психоанализ в качестве антиволевой системы. У Фрейда, как выразился профессор Поль Рикер, феномен воли подавляется в диалектике инстинкта, с одной стороны, и власти, в форме Сверх-Я. — с другой. Согласно представлениям Фрейда о том, что над волей стоят три господина — Оно, Сверх-Я и внешний Мир — воля атрофируется или же, если не совсем отмирает, то остается бессильной, во власти своих хозяев. Очень сильно стремясь преуспеть в мире, Элен обладала активным сознанием; но Мир, Оно и Сверх-Я — если принять эту формулировку — неотвратимо сводили ее девиз: "Там, где воля, всегда есть путь" — к смехотворной патетике и требовали непомерную цену, выражавшуюся в ее мазохистском чувстве вине.
Фрейд понимал волю как инструмент подавления, а не как положительную силу. Вместо этого в поисках движущих сил и побуждений человеческой активности он обратился к "перипетиям инстинктов", "судьбе подавляемого либидо" и т. д. Объект-выбор в системе Фрейда не является выбором в реальном смысле, а функцией транспозиции исторически сложившихся обстоятельств. Действительно, Фрейд видит "волю" в качестве дьявола всей системы, потому что воля выполняет негативную функцию, приводя в действие сопротивление и подавление. Или, если слово "дьявол" кажется неуместным, мы можем заменить его мудреным выражением, которое предлагает нам Уилис, а именно: "противофобический" прием.2
Это отмечает момент, когда "бессознательное стало преемником силы воли".
Каковы источники этого низвержения воли в теории Фрейда? Один источник очевиден: точные клинические наблюдения Фрейда. Второй источник общекультурный; теория Фрейда отвечала описываемому в ней отчуждению и служила его выражением. Не следует забывать, что Фрейд высказывал точку зрения, отражавшую принципы объективистской, отчужденной, рыночной культуры. Как я указывал в другом месте, сам избыточный акцент на силе воли викторианской эпохи был неотъемлемой частью разобщения, ставшего предзнаменованием краха культуры, который действительно произошел в 1914 г. Акцентуация на силе воли являлась параллелью все более и более жесткой схемы "воли" компульсивного невротика, предваряющей полное расстройство всей его системы психофизических функций.
Отчуждение человека викторианской эпохи от самого себя, считавшееся волей, в системе Фрейда описано под рубрикой противоположного полюса, а именно — желания.
Третья причина состоит в том, что Фрейду необходим заменитель воли в связи с требованиями его научной модели, так как его цель и желание состояли в создании детерминистской науки, основывавшейся на образе естественной науки XIX столетия. Поэтому он нуждался в количественной, причинно-следственной системе: он говорит о своих механизмах как о "гидравлике", и в его последней книге либидо сравнивается с "электромагнитным" зарядом.
Четвертой причиной того, что Фрейд стремился уничтожить волю, является именно то, что стало причиной нашего сегодняшнего интереса и попытки вновь открыть ее на более глубокой основе; и Фрейд, и мы сегодня стремимся к углублению человеческого опыта, к смещению феномена воли на тот уровень, который будет более адекватен человеческому достоинству и уважению к человеческой жизни. Ибо, вопреки своему назначению, викторианская "сила воли", подразумевая, что каждый человек — "хозяин своей судьбы" и может определить весь ход своей жизни единым решением в канун Нового года или по мановению руки во время воскресной заутрени, в действительности умаляла смысл жизни, лишала ее достоинства, а человеческий опыт — его ценности.
То, что некоторые из аспектов системы Фрейда, вроде последних двух, противоречат друг другу, не должно нас смущать; одно из свидетельств его величия и состояло в том, что он мог жить с такими противоречиями. Он вполне мог бы возразить нам на эти обвинения словами из Уолта Уитмена: "Я противоречу самому себе? Очень хорошо, я сам себе противоречу".
Желание
В противовес нездоровым психологическим процессам действия "силы воли" Фрейд развил свою далеко идущую систему, делая ударение на "желании". Не "воля", но "желание" движет нами. "Ничто, кроме желания, не может привести психический аппарат в действие", — повторяет он снова и снова. Так как мы собираемся выяснить роль желания, то отметим, что желание считается "силой" и в другой, более или менее детерминистской психологической системе. В бихевиоризме "желание" представлено как стремление и необходимость уменьшить напряжение, что удивительно сходно с Фрейдовым определением удовольствия как снижения напряжения. В общем все наши науки о человеке признают обычные адаптационные и эволюционные желания — желание "выжить" и "жить долго".
Ввиду того, что в наше поствикторианское время мы все еще склонны обеднять этот термин, делая желание уступкой нашей незрелости или "инфантильным потребностям", отметим, что слово "желание" применимо к процессам намного более широкого смысла, чем наследие детства.
Соотносимые с "желанием" понятия применимы ко всем явлениям природы вплоть до атомной реакции; например, к тому, что Альфред Норт Уайтхед и Пауль Тиллих называют положительно-отрицательными движениями всех природных частиц. Одной из форм является тропизм, в его этимологическом смысле, как врожденная склонность биологических организмов "поворачиваться по направлению к". Однако, если мы остановимся на "желании" как на этом, более или менее слепом и непроизвольном движении одной частицы по направлению к другой или одного организма к другому, то неизбежно придем к пессимистическому заключению Фрейда об "инстинкте смерти", понимаемому буквально, а именно — как неизбежная тенденция организмов возвращаться к неорганическому состоянию. Если желание является только силой, то все мы участвуем в бесплодном странствии, которое сводится к простому движению назад, к состоянию неорганического камня.
Но желание имеет также элемент значимости. Действительно, человеческое желание состоит в специфическом слиянии силы и значимости. Этот элемент значимости несомненно присутствует во Фрейдовой концепции желания и это является одним из его центральных моментов его научного вклада, невзирая на то, что он противоречиво говорит, будто желание является всего лишь слепой силой.
Он мог так плодотворно использовать желание — особенно через фантазии, свободные ассоциации и сновидения — потому что видел в нем не просто слепое влечение, а склонность, которая несет в себе смысл. Хотя когда он, говоря об осуществлении желания и удовлетворении запросов либидо, представляет желание как исключительно прикладную величину, силу, существующую сама по себе, он подразумевает при этом контекст, заданный слиянием смысла и силы.
В первые недели жизни, например, можно сказать, что ребенок беспорядочно и слепо тянется к соску; любому соску, то ли человеческому, то ли резиновому.3
Но с появлением и развитием сознания и способности воспринимать себя как субъект в мире объектов возникают новые способности. Главной из них является использование символов и установление связи с миром посредством символических смыслов. С этого времени желание уже является чем-то большим, чем слепой толчок; оно несет в себе еще и смысл.
Сосок становится грудью — и насколько отличается смысл этих слов! Первое подразумевает анатомическое описание части тела, которая дает нам пищу для выживания. Последнее — символ, передающий целостное восприятие — тепло, близость, даже красоту и возможную любовь, которая сопровождает женскую заботу.
Я понимаю сложности, которые это измерение символического смысла привносит в естественную науку о человеке. Тем не менее, мы должны принимать человека, предмет нашего изучения, таким, как он есть — существом, которое соотносит себя с жизнью посредством символических смыслов, которые являются его языком. Поэтому методологически неверно и эмпирически неточно сводить желание к простой силе. После появления у человека сознания желания никогда не являются ни просто потребностями, ни чисто практическими. Меня в сексуальном плане привлекает одна женщина, а не другая; это никогда не является чисто количественным вопросом накопившегося либидо, но скорее, вопросом моей эротической "силы", направляемой и сформированной различными смыслами, которые имеет для меня первая женщина. Мы должны смягчить наше "никогда" двумя исключениями. Первое — это противоестественные ситуации, вроде той, когда солдаты в течение двенадцати месяцев находятся за полярным кругом, и некоторые аспекты их жизни просто сознательно отсекаются. Другое исключение связано с патологией, когда беспорядочные половые влечения толкают человека к любому мужчине или женщине, как нашу пациентку Элен. Но здесь мы имеем состояние точно определенное как патологическое, что является важным свидетельством в пользу моего мнения о том, что неразборчивая сексуальность идет вразрез с существенным элементом в человеческом желании. Я не знаю, что оставлял за скобками Людовик XVI, когда говорил: "Любая женщина сгодится, просто вымойте ее и пошлите к зубному врачу". Но мне действительно известно, что когда люди, не будучи королями и не страдая серьезными расстройствами, довольно легкомысленно вступают с кем-то в половую связь, скажем, во время случайной встречи или на карнавале, то впоследствии, возможно только в фантазиях, они приписывают этому другому человеку нежность или те добродетели и особые качества, которые имеют для них свой смысл.
Отвращение тоже является выражением по-человечески исполненного смысла желания или, если говорить более определенно, его фрустрации. В случаях почти анонимной половой связи, как, например, происходит при некоторых гомосексуальных взаимоотношениях, последующая реакция, при которой человек чувствует отвращение, также подтверждает доказываемое нами положение. Мой опыт терапевта говорит о том, что индивид должен представлять человека, с которым у него была половая связь, каким-то образом затрагивающим его личность, хотя бы только в воображении, в противном случае он сам лишается известной доли индивидуальности.
Отсюда следует, что все обсуждения и подходы в терапии, основанные на таких концепциях, как "контроль влечений Оно" и "интеграция первичных процессов", упускают самое главное. Существуют ли вообще первичные процессы как таковые? Только при очень серьезной патологии или в нашей абстрактной теории. В первом случае нарушаются несущие в себе смысл символические процессы, как у наших пациентов; в последнем — наш символизм играет терапевтическую роль. Мы имеем дело не с организмом, который составляют первичные процессы и контроль над ними, а с человеческим существом с его желаниями, влечениями и потребностями, известными ему и переживаемыми им, — и нами, если мы можем понять его, — в символических смыслах. При неврозе искажаются именно символические смыслы, а не влечения Оно.
Мы говорим, что человеческое желание — это не просто толчок из прошлого, не просто вопль примитивных потребностей, требующих удовлетворения. Оно предполагает некоторую избирательность. Это построение будущего, формирование его посредством символических процессов (включающих как память, так и фантазию) таким, каким мы надеемся его видеть.
Желание — это начало нашей самоориентации на будущее, признание того, что мы хотим, чтобы будущее было вполне определенным; это способность заглядывать вглубь себя и сосредоточивать внимание на стремлении изменить будущее. Заметьте, что я говорю начало, а не конец; я прекрасно сознаю, что такое "осуществление желания", желание как заменитель воли и прочее. В этом же роде я говорю, что нет воли без предшествующего желания. Желание, подобно всем символическим процессам, имеет как прогрессивный полюс, стремление вперед, так и регрессивный, подталкивание сзади. Таким образом, желание несет в себе как свой смысл, так и свою силу. Его движущая сила заключается в слиянии этого смысла и силы. Теперь мы можем понять, почему Уильям Линч утверждал, что "желание является самым человеческим актом".4
Неспособность желать как болезнь
Дальнейшие данные, приводимые нами в подтверждение нашего положения о важности смысла в желании, взяты из другой сферы. Это факт болезни, опустошенности, отчаяния, вызываемых неспособностью человека желать. Т.С.Элиот в широком культурном контексте демонстрирует это в Бесплодной земле. Незабываемо яркие эпизоды этой эпохальной поэмы звучат снова и снова с кумулятивной силой симфонии. Главный персонаж, дама, ведущая праздную жизнь, пресытившаяся сексом и роскошью, говорит своему любовнику:
"Так что же мне делать? Что делать?
Вот выскочу сейчас на улицу в чем есть,
Простоволосая… что нам делать завтра,
И что вообще?"
Душ ровно в десять.
И если дождь, то лимузин в четыре.
И нам, зевая, в шахматы играть
И дожидаться стука в наши двери". (II: 131–138)
Мы можем найти в поэме некоторые из характеристик современной эмоциональной и духовной бесплодной земли. Одной из них является отчаянная нехватка общения: когда дама спрашивает своего любовника, почему он не разговаривает с ней, и просит его рассказать, о чем он думает, тот только отвечает:
"Я думаю, что мы в норе крысиной,
Где мертвецы порастеряли кости". (II: 115–116)
Прекратить желать — означает умереть или, по крайней мере, жить в стране мертвых. Другой характеристикой является пресыщение: если рассматривать желание только как влечение к удовольствию, завершающееся с удовлетворением потребности, то, как показано в поэме, пустота, вакуум и бессмысленность наиболее велики там, где исполняются все желания. Ибо это означает, что человек перестал желать.
Но Элиот, поэтически описывая в высшей степени непоэтичные темы, куда более глубок — и наша психология вполне может быть столь же глубокой. Он описывает причины сложившейся ситуации одним словом, как бесплодность. Это буквальное половое бесплодие в том мифе, который он взял за основу своей поэмы, в легенде о человеке, которого звали Король-Рыбак — властитель Бесплодной земли. Это очень древняя легенда о плодородии земли, о весне, следующей за "зимним бесплодием земли"; позднее этот миф был включен в цикл о Короле Артуре, где Святой Грааль становится средством исцеления Короля-Рыбака. "Земля была голой и сухой и должна была оставаться такой до тех пор, пока не явится непорочный рыцарь, дабы исцелить Короля-Рыбака, который ранен в детородный орган".5
Сущностью бесплодия является пустота, бесцельность, бессмысленность, отсутствие интереса к жизни; все это связано с полным блокированием сознания. "Непонимание женщины — вот что так ужасно…".6
Это, в свою очередь, объясняется у Элиота отсутствием веры, которое частично обусловлено тем, что человек отделяет себя от великого символического опыта исторической традиции нашей культуры. Он располагает свой современный будуар в обстановке, напоминающей о Шекспире, Мильтоне и Овидии, но женщина не видит окружающей ее красоты. Он помещает любовную связь в контекст намеков на великих страстных любовников прошлого, таких как Дидона и Эней, Антоний и Клеопатра — но секс этой дамы и ее любовника, далек от страсти и больше уже не является даже "учащенным дыханьем с рукой в руке".
По существу Элиот говорит, что без веры мы больше не можем хотеть, мы не можем желать. Включая и половые потребности: без веры мы становимся бессильны в сексе, точно так же как и в ином отношении. Религиозный контекст поэмы можно интерпретировать на том языке, который я использую в этой главе — существует смысловое измерение, выражаемое в символизме желания, это то, что придает желанию его специфическое человеческое качество, без этого смысла даже эмоциональные и сексуальные аспекты желания истощаются. Поэма была написана в 1922 г., в начале века оптимизма, когда мы верили, что мир и благополучие ждут нас за каждым углом, и что до тех счастливых дней, когда исполнятся все наши желания, остается всего лишь несколько лет прогресса; в "век джаза", воспетый Френсисом Скоттом Фицджеральдом, когда весь пессимизм сводился к романтической, ностальгической, жалостливой по отношению к самому себе меланхолии. Хотя эта поэма является наиболее широко обсуждаемой сегодня поэмой, не многие люди тех дней, как бы ни захватывала их эта поэма, понимали, насколько пророческой она является; я сомневаюсь, что даже сам Элиот представлял, как позднее клиническая психотерапия придаст конкретную форму его предсказаниям апатии и бессилия.
Элиот, подобно другим экзистенциалистам, не верил в возможность существования ответа в той культуре, в которой он писал поэму. "Время еще не созрело"; по выражению Хайдеггера — еще не пришло, как сказано в Kairos Тиллиха.
У Элиота Рыцарь доходит только до пустой часовни:
"Пустая часовня, жилище ветра,
Окна зияют, дверь скрипит на ветру
Мертвые кости чар не таят". (V: 388–390)
В то время он не видел никакой реальной надежды на возрождение, и в конце его поэмы Король-Рыбак все еще может сказать лишь:
"На берегу я сидел
И удил, пустыня за моею спиною
Наведу ли порядок я в землях моих?
Лондонский мост падает падает, падает". (V. 424–426)
Я нахожу, что такое обращение Короля-Рыбака к техническим занятиям способно заполнить пустоту, "привести в порядок свои земли" — это то, что обычно делает человек, когда беспокойство блокирует его более глубокую интенциональность. Это обращение к техническим задачам особенно впечатляет, когда мы читаем "Лондонский Мост падает…" И если время для ответа в 1922 г. явно не созрело, в наши дни, пожалуй, вопрос приближается к разрешению.
Кроме того, в этой поэме речь идет о такого рода желании, которое значительно глубже облегчения гениталий или наполнения желудка. Это образ желания, символическая страсть, выраженная в глазах, не знающих сна, в ожидании стука в дверь. На самом простейшем, биологическом и физиологическом уровне желания, мы видим здесь отражение мифа о Спящей Красавице, ожидающей поцелуя принца. За исключением того, что принцесса в своей наивности спит, тогда как у нашей дамы глаза, не знающие сна, не могут сомкнуться в покое.
На более глубоком уровне, мне кажется, что в этом "ожидании стука в дверь", в глубине скрыто желание, которое сохраняется даже в отчаянии, желание, которое может быть представлено как ожидание прихода состояния вне отчаяния, как это подразумевается в Ожидании Годо. Но оно несет в себе также, пусть скрытую, надежду на выход, динамический толчок к желанию обрести конструктивные возможности, дабы преодолеть пустоту, тщетность и апатию.
Отсутствие способности желать
В последние несколько лет целый ряд специалистов в психиатрии и смежных областях обратились к изучению и осмыслению проблем желания и воли. Можно предположить, что такое совпадение интересов является ответом на настоятельную необходимость в наше время пролить новый свет на эти проблемы.
В своих проницательных интерпретациях литературы в ее отношении к глубинной психологии отец Уильям Линч разрабатывает тезис о том, что не желание вызывает заболевание, а отсутствие желания. Он утверждает, что проблема состоит в том, чтобы углубить способность людей желать и что одной из сторон нашей задачи в терапии является развитие способности желать. Он определяет желание как "положительное представление в воображении".7 Это напоминает мне учение Спинозы о том, что мы должны "держать на переднем плане в наших умах ту добродетель, которую хотим обрести", при этом мы сможем видеть, как ее можно применить в каждой возникающей ситуации, и тогда она постепенно закрепится в нас. Насколько буквально можно или нужно следовать этому совету я не знаю: но главное, что мы хотим подчеркнуть в словах Спинозы и отца Линча, — это транзитивный, активный аспект сознания.
Переходный глагол желать подразумевает действие. В желании, которое Линч связывает с действием воображения, присутствует самостоятельный элемент; "каждое настоящее желание является творческим актом".8
Я нахожу подтверждение этому в терапии: действительно, положительным шагом является то, что пациент может ощущать и твердо утверждать: "Я желаю то-то и то-то". Фактически, при этом конфликт глубинного, неосознаваемого уровня, на котором пациент не принимает на себя никакой ответственности, а лишь надеется, что то ли Бог, то ли родители с помощью телепатии прочитают его желания, переводится в открытый, здоровый конфликт по поводу того, что он желает. Основываясь на теологическом мифе о творении, Линч говорит: "Бог ликует, когда у человека появляется его собственное желание".9
Затем Линч обращает внимание на то, что обычно упускается из виду, а именно: желание в межличностных взаимоотношениях требует взаимности. Это истина, противостояние которой, как показано во многих мифах, приводит человека к гибели. Пер Гюнт в пьесе Ибсена странствует по всему миру, изъявляя желания и поступая соответственно своим желаниям; проблема состоит в том, что его желания никак не соотнесены с другим человеком, с которым он встречается, и совершенно эгоцентричны, заключены в бочку "я", замкнутую затычкой "я". Подобным же образом в Спящей Красавице все молодые принцы, которые атаковали заросли вереска, чтобы освободить и пробудить спящую девушку "прежде, чем созрело время", выражаясь словами сказки, также являют собой примеры поведения, когда один человек пытается склонить другого к любви и сексу до того, как другой окажется готов к этому; они демонстрируют желание без взаимности. Молодые принцы целиком отдаются желаниям и нуждам своего "я" безотносительно к "ты".
Если волю и желание можно увидеть и испытать в этом свете самостоятельных и воображаемых символических актов межличностной взаимности, то в изречении св. Августина "Люби и делай то, что желаешь" заложена глубокая истина.
Но Отец Линч и, конечно же, св. Августин не обольщались при этом относительно человеческой сущности (так же, как и Фрейд). Они прекрасно знали, что речь идет об идеальном желании. Они знали, что проблема заключается именно в том, что человек действительно желает и изъявляет свою волю наперекор своему ближнему, что воображение не только является источником нашей способности творчески развивать взаимное желание, но и ограничено собственными рамками индивида, его убеждениями и опытом, и поэтому в нашем желании всегда присутствует элемент насилия как над другим, так и над самим собой, независимо от успехов психоанализа, от благодати или сатори. Линч называет это элементом своеволия; своеволие здесь означает упорство собственного желания человека вопреки реальности ситуации. Своеволие, утверждает он, является типом воли, мотивируемой вызовом, когда желание в большей мере направлено против чего-то, чем на что-то. Вызывающий, своевольный акт, говорит Линч, связан скорее с фантазией, чем с воображением и является духом, который скорее отрицает реальность, будь то реальный человек или реальный аспект безличной природы, чем видит ее и, формируя ее, уважает ее и находит в ней радость.
Самостоятельный, спонтанный элемент желания и волеизъявления затрагивается также в содержательных новых исследованиях психиатра Лесли Фарбера.10
Доктор Фарбер разделяет две сферы "воли". Первая из них выражает целостное переживание себя, будучи сравнительно спонтанным движением в определенном направлении. В такого типа волеизъявлении тело движется как целое, а переживания характеризуются как релаксация и отличаются образностью, открытостью.
Это ощущение свободы, первичное основание всех представлений о политической и психологической свободе; это свобода как таковая. Я бы добавил, предполагаемое детерминизмом и первичное по отношению ко всем детерминистским представлениям. В противоположность этому, вторая сфера воли, как видит ее доктор Фарбер, включает элемент принуждения, необходимость решения типа либо/либо, решение, предполагающее выбор, — либо против, либо за. Если использовать терминологию Фрейда, то к этой сфере принадлежит "воля Сверх-Я". Фарбер, делая такое разделение, употребляет понятие воли в этом втором значении: мы можем обладать волей к чтению, но не к пониманию, волей к знанию, но не к мудрости, волей к честности, но не к нравственности. Это хорошо иллюстрирует творческая деятельность. Вторая сфера воли, по Фарберу, — это сознательное, активное, критическое приложение воли в творческом усилии, например, в подготовке речи для выступления или исправлении своей рукописи. Но когда мы действительно произносим речь или когда, оправдав наши надежды, творческое "вдохновение" начинает управлять нашими писательскими трудами, то в какой-то степени мы забываем о своем "я". В этом случае желание и воля сливаются воедино. Одна из особенностей творческой деятельности состоит в том, что она, преодолевая конфликт, способствует такому временному единению.
Фарбер подчеркивает, что всегда существует искушение переложить все функции с первой волевой сферы на вторую; так мы теряем свою спонтанность, свободный поток активности и становимся контролируемыми, преисполненными усилий — то есть викторианской силы воли. В этом случае наша ошибка, по словам Йитса, заключается в том, что "воля пытается взять на себя работу воображения". Как я понимаю, то, что Фарбер описывает как волю первой категории, очень близко к тому, что Линч называет "желанием". И оба они, Линч в определении "желания", а Фарбер в своем представлении сферы "спонтанной воли", дают очень хорошие описания того, чему мы посвятим нашу следующую главу, — интенциональности.
Я предложу здесь несколько предварительных определений. Воля — это способность организовывать свою личность так, что может осуществляться движение в определенном направлении или к определенной цели. Желание — это образная игра с возможностью осуществления какого-то действия или состояния.
Но прежде чем перейти к более сложным вопросам, мы должны сделать две вещи. Первое — набросать примерную схему диалектики взаимоотношения воли и желания, что должно показать ряд феноменологических аспектов, которые следует принять во внимание. "Волю" и "желание" можно рассматривать как действующие в полярности. "Воля" требует самосознания; "желание" — нет. "Воля" подразумевает некоторую возможность выбора либо/либо; "желание" — нет. "Желание" привносит в "волю" тепло, удовлетворение, фантазию, детскую игру, свежесть и богатство содержания. "Воля" придает "желанию" направленность и зрелость. "Воля" защищает "желание", поддерживает его без особого риска завести нас в тупик. Но без "желания" "воля" теряет свою энергию, свою жизненную силу, истощается во внутренних противоречиях. Если мы. имеем только "волю" без "желания", то перед нами сухой, викторианский человек — новый пуританин. Если мы имеем только "желание" и никакой "воли", то перед нами управляемый, несвободный, инфантильный человек, который как взрослый-остающийся-ребенком может стать человеком роботом.
Уильям Джемс и воля
Другая наша задача, прежде чем приступить к изучению интенциональности, — это отдать должное Уильяму Джемсу, этому психологу-философу, гениальному американцу, который всю свою жизнь боролся с проблемой воли. Его опыт должен наставить нас на путь.
Один мой уважаемый коллега, упоминая о "сильной депрессии Джемса" и о том факте, что "в течение ряда лет он был на грани самоубийства", просит нас "не судить его строго" за эти проявления неумения приспособиться к окружающей действительности.11 Я же придерживаюсь другого мнения. Я считаю, что понимание депрессий, которыми страдал Джемс, и того, каким образом он справлялся с ними, должно лишь укрепить нас в нашей высокой оценке и восхищении им. Действительно, всю жизнь его мучили колебания и неспособность принять решение. В свои последние годы, когда он не мог решиться бросить чтение лекций в Гарварде, в один день он писал в своем дневнике: "Отказываюсь", — на другой день: "Не отказываюсь", — на третий снова: "Отказываюсь". Трудности с принятием решений у Джемса были связаны с его внутренним богатством и мириадами возможностей, заключавшихся для него в каждом решении.
Но именно депрессии Джемса — во время которых он часто пишет о своем стремлении найти "причину для того, чтобы желать прожить на четыре часа больше" — заставили его в такой степени заинтересоваться волей, и именно в борьбе с этими депрессиями он так много узнал о человеческой воле. Он верил — и, как терапевт, я считаю, что это его суждение является клинически правильным — что именно его собственное открытие способности к волеизъявлению позволило ему прожить неимоверно плодотворную жизнь вплоть до смерти на шестьдесят девятом году, несмотря на его депрессии, расстройство сна, болезни глаз, боли в позвоночнике и так далее. В наш "век разлада воли", как он был назван, мы обращаемся к Уильяму Джемсу со стремлением найти у него хоть какую-то помощь в решении нашей проблемы воли.
Он начинает свою знаменитую главу о воле, увидевшую свет в 1890 году.12, обобщая желание как то, что мы делаем, когда хотим нечто, чего невозможно достичь, и противопоставляет желание воле, которая присутствует, когда достижение цели в наших силах. Когда наше желание сопровождает чувство невозможности его осуществления, мы просто желаем. Я считаю, что это определение — одно из тех мест, где дает о себе знать викторианский дух Джемса; желания рассматриваются здесь как нереальные и детские. Очевидно, что ни одно желание еще не является возможным, когда мы впервые желаем этого. Оно становится возможным только тогда, когда мы желаем этого многообразно, и благодаря этому, перебирая, иной раз, довольно долго, разные возможности, мы генерируем силу и берем на себя риск сделать так, чтобы оно осуществилось.
Но затем Джемс приступил к труду, который оказался одной из самых захватывающих научных работ о воле и которого я могу здесь коснуться лишь поверхностно. Во-первых, есть "первичный" тип воли, которая отличается тем, что при этом опускается необходимость принятия целого ряда решений. Мы решаем поменять рубашку или начать писать, и как только мы приступаем, целый ряд движений запускается сам по себе; это идиомоторика. Такая "первичная воля" требует отсутствия конфликта. Джемс пытается здесь сохранить спонтанность. Он занимает свою позицию против викторианской силы воли, проявления особой способности, называющейся "силой воли", которой ему, должно быть, не хватало в его собственной жизни и которая привела его к параличу, выразившемуся в его депрессиях. Сейчас, в наше время, главным образом благодаря психоанализу, мы знаем намного больше об этом так называемом "отсутствии конфликта" и о том, что бесконечно большее происходит в состояниях, которые кажутся лишенными конфликта.
Затем он касается "здоровой воли", которую определяет как действие, следующее за предвидением. Предвидение требует ясного представления и состоит из мотиваций в их надлежащем отношении друг к другу — что представляет собой довольно рациональную картину.13
Обсуждая нездоровую волю, он справедливо фокусирует внимание на блокировании воли. Одной из приводимых им иллюстраций подобного случая является состояние, которое наблюдается, когда наши глаза теряют фокус, и мы не в состоянии "сконцентрировать внимание". "Мы сидим, тупо уставившись в пространство, и ничего не делаем". Объекты, на которые направлено сознание не "задевают за живое" или ускользают от нас. Это состояние отличается сильной усталостью или опустошенностью; "возникающая в этом случае апатия напоминает то, что в психиатрических клиниках называется абулией и считается симптомом психического заболевания".14,
Интересно, что он относит эту апатию только к психическим заболеваниям. Что же касается меня, то я считаю это состояние хроническим эндемическим психическим недугом современного общества. Таков "невротический герой нашего времени".
И тогда вопрос сводится к следующему: "Почему ничто не интересует меня, не затрагивает меня, не захватывает меня?" И тут Джемс подходит к центральной проблеме воли, а именно: к проблеме внимания. Я не знаю, осознавал ли он сам, насколько это гениально. Когда мы анализируем волю с помощью всех тех инструментов, которые дает нам современный психоанализ, мы вынуждены вернуться к уровню внимания, или интенции как уровню локализации воли. Усилие, которое затрачивается на проявление воли, в действительности является усилием внимания; напряжение воли является усилием, направленным на сохранение ясности сознания, то есть напряжением, удерживающим сосредоточенность внимания. "Прирожденный" тип человека с хорошей приспособляемостью не нуждается в больших усилиях, комментирует Джемс, однако героям и невротикам их требуется немало. Это приводит его к неожиданному, однако очень проницательному заявлению о тождественности между верой, вниманием и волей:
"Если говорить кратко, Воля и Вера, означающие определенное отношение между объектом и Я — есть два названия одного и того же психологического явления".15
"Наверное, самой краткой из возможных формулировок будет следующая: наша вера и внимание — один и тот же факт".16
Затем он приводит один из своих по-человечески подкупающих и земных примеров. Я воспроизвожу его подробно, потому что хочу вернуться к нему при обсуждении незавершенных аспектов концепции воли Джемса:
"Мы знаем, что такое подняться с постели морозным утром в неотапливаемой комнате и как само наше внутреннее жизненное начало протестует против этой пытки. [Место действия — Новая Англия до появления центрального отопления.] Наверное, большинство людей однажды утром оставались в постели, в течение часа не в состоянии собраться с духом на это решение. Мы думаем о том, как мы опоздаем, как это скажется на наших дневных обязанностях; мы говорим: "Я должен встать, это стыдно", — и так далее. Но теплая постель все еще представляется слишком восхитительной, а холод снаружи слишком сильным, и решимость угасает, и решение откладывается снова и снова, как раз в тот момент, когда уже казалось, что мы на грани решающего действия. Как же мы вообще встаем с постели в таких обстоятельствах? Если я могу обобщать, исходя из моего собственного опыта, то чаще всего мы встаем вовсе без какой-либо борьбы или решения. Мы внезапно находим, что должны встать. Происходит удачное отвлечение сознания; мы забываем и тепло и холод; мы впадаем в некие фантазии, связанные с жизнью дня, в ходе которых у нас мелькает мысль: "Эге! Я уже не должен здесь лежать", — мысль, которая в этот счастливый миг не пробуждает никаких противоречащих ей или парализующих опасений и, в результате, немедленно вызывает соответствующие моторные действия. Именно наше острое осознание тепла и холода во время борьбы парализовало нашу активность…"17
В заключение он говорит, что в тот момент, когда сдерживающее начало отступает, первоначальная мысль получает свое продолжение, и мы встаем. С типичной для Джемса убежденностью он добавляет: "Мне кажется, что этот случай содержит в миниатюре данные для всей психологии волевого акта".
А теперь в нашем особом контексте рассмотрим пример Джемса. Мы видим, что как только он добирается до сердцевины проблемы воли, следует примечательное утверждение. Он пишет: "Мы внезапно находим, что должны встать". То есть, он перепрыгивает через всю проблему. "Происходит вовсе не принятие решения", а только "удачное отвлечение сознания".
Но я задаюсь вопросом, что же происходит при этом "удачном отвлечении сознания"? Действительно, парализующая хватка его амбивалентности была ослаблена. Но это негативное определение, и оно не говорит нам, почему же происходит все остальное. Конечно же, мы не можем называть это "удачным моментом", как Джемс, или "счастливым случаем!" Если наша воля основывается на "везении" или "счастливом случае", то наш дом действительно построен на песке и у нас вообще нет никакой основы для воли. Я вовсе не хочу этим сказать, что Джемс своим примером ничего не сообщил нам. Он сказал нечто очень важное: весь этот случай демонстрирует несостоятельность викторианской силы воли, воли, заключающейся в "способности", основанной на нашем умении заставлять наши тела действовать вопреки их желанию. Викторианская сила воли превратила все в рационализирующий, морализаторский вопрос: поддаваться привлекательности теплой постели постыдно, и этому противопоставляется требование так называемого "Сверх-Я" соблюдать "моральные приличия", то есть встать и работать. Фрейд подробно описал самообман и рационализацию, которые включает в себя викторианская сила воли, и, я полагаю, развенчал ее раз и навсегда. Представленный пример показывает борьбу самого Джемса с парализующим действием викторианского духа, который цель превращает в эгоцентричную демонстрацию своего характера, а реальная нравственная сущность, при такой подтасовке, оказывается полностью утерянной.
Итак, мы возвращаемся к нашему решающему вопросу. Что же происходит при этом "удачном отвлечении сознания"? Джемс говорит нам только, что "мы впадаем в какие-то фантазии, связанные с жизнью дня". Так, вот в чем секрет! Психотерапия дала нам немало данных относительно этих "фантазий", инструментарий, которого не было в распоряжении Джемса, — и я сегодня могу сказать, что мы вовсе в них не "впадаем".
Ради ясности я здесь приведу свой собственный аргумент относительно "незавершенности" в концепции воли Джемса. Я предполагаю, что Джемс пропустил целое измерение человеческого опыта, так же как упускаем его мы в современной психологии. Ответ лежит не в Джемсовом анализе сознания и не в Фрейдовом анализе бессознательного, а в измерении, которое пересекает и включает в себя как сознательное, так и бессознательное, как знание, так и способность к волевому движению.
К этому измерению, которое исторически известно как интенциональность, мы сейчас и обратимся.
IX. ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ
"Учение — это не накопление обрывков знаний. Это рост, в котором каждый акт познания развивает ученика и таким образом делает его способным сопоставлять все более и более сложные объективности — и параллельно с субъективным ростом этой способности растет сложность самого объекта"
Гуссерль,
в интерпретации Квентина Лауэра
Исследуя более глубокий смысл желания, мы замечаем постоянное появление любопытной темы. Нечто большее заключено в желании, чем то, что бросается в глаза. Эта тема подразумевается, когда Линч говорит об "самостоятельном" элементе в желании или когда он и Фарбер, оба, говорят об отношении желания к воображению и спонтанности. И эта тема особенно заметна, когда мы рассматриваем смысл желания, тот аспект желания человеческих существ, который выходит за рамки простой силы и выражается в языке, искусстве и других символах. Эта тема присутствовала также в "уравнении" Джемса в качестве неизвестного, которое он упустил в своем примере относительно того, как встать с постели холодным утром.
Этой темой, проходящей через все наше обсуждение, подобно облигато, является интенциональность. Под интенциональностью я имею в виду структуру, которая придает смысл переживанию. Ее не следует отождествлять с намерениями, это измерение, лежащее в их основе; это сама способность человека иметь намерения. Это наше воображаемое участие в возможных поворотах событий наступающего дня в примере Джемса, дающее нам осознание нашей способности структурировать, формировать и изменять себя и этот день в соотнесении друг с другом. Фантазии Джемса, пока он лежит в постели, являются прекрасным, хотя и не получившим должного подтверждения ее выражением. Интенциональность лежит в основе сознания. Я считаю, что она является также и ключом к проблеме желания и воли.
Прежде всего, что означает этот термин? Мы определим его в два приема. Прежде всего отметим, что наши намерения имеют решающее значение для того, как мы понимаем мир. Сегодня в послеобеденное время, например, я отправляюсь посмотреть домик в горах. Предположим сначала, что я ищу место, которое одни мои друзья могут сдать внаем на лето. В моем подходе к дому я буду интересоваться, прочен ли он, добротно ли построен, достаточно ли хорошо освещается солнцем, то есть всем, что определяет для меня смысл "пристанища". Или предположим, что я торговец недвижимостью: тогда меня будет волновать, легко ли можно отремонтировать дом, удастся ли мне получить за него достаточно большую сумму, чем та, что мне придется заплатить за него, то есть то, что означает для меня "прибыль". Или, скажем, это дом друзей, которых я навещаю: в этом случае я буду смотреть на него глазами, которые будут видеть в нем "гостеприимство" — открытый дворик и мягкие кресла, которые сделают нашу полуденную беседу более приятной. Или же, если это коктейль у друзей, которые чем-то обидели меня на вечеринке в моем доме, то я буду охотно замечать в нем вещи, указывающие на то, что любой предпочел бы их коттеджу мой, и другие аспекты возмутительной зависти и "престижных соображений", неравнодушием к которым, как известно, отличаются люди. Или, наконец, если в этот полдень я экипирован акварельными красками и собираюсь набросать эскиз, то буду смотреть, как дом размещен на склоне горы, на форму линий крыши, уводящих взгляд ввысь к вершинам или вниз в долину, и действительно, теперь для меня даже предпочтительнее, чтобы дом оказался ветхой развалиной, так как это предоставило бы мне, как художнику, большие возможности.
В каждом из этих примеров раздражителем является один и тот же дом, и я остаюсь одним и тем же человеком, отвечающим на раздражитель. Но в каждом случае и дом и мое восприятие имеют совершенно различный смысл.
Но это лишь одна сторона интенциональности. Другая сторона состоит в том, что интенциональность действительно исходит и от объекта, Интенциональность является мостиком между нами и объектами. Это структура смысла, которая делает возможным для нас, субъектов, каковыми мы являемся, видеть и понимать внешний мир как объективный, каковым он является. В интенциональности частично преодолевается дихотомия между субъектом и объектом.
Корни интенциональности
Эта концепция представляется мне настолько важной и настолько игнорируемой в современной психологии, что я предлагаю читателю вместе со мной углубиться в исследование ее значения. Ее корни следует искать в философии древних. Аристотель сказал: "То, что дано глазам [на нашем языке то, что дано в восприятии], являет нацеленность (intentio) души". Цицерон говорит о "душе как о нацеленности (tension) тела".1
Но собственно говоря, с концепцией интенциональности западную мысль в раннем Средневековье познакомили арабские философы, после чего она стала центральной в мышлении Средних веков. Тогда ее смысл сводился к тому, как мы познаем реальность, то есть к эпистемологии. Различалось два типа интенциональности: intensio primo, соответствующая познанию конкретных вещей — объектов, которые реально существуют, и схватывающая intensio secundo, отношение этих объектов к общим понятиям — то есть, отвечающая познанию посредством концептуализации.
Все это предполагает, что мы не можем познать вещь без какого бы то ни было вмешательства в нее. Для Фомы Аквинского интенциональностью является то, что разум постигает о понимаемой вещи. Он утверждает, на языке, который, к сожалению, не стал для нас проще после всех переводов: "Разум, получая своего рода сообщение в процессе познания, формирует для себя какую-то интенцию относительно понимаемой вещи".2
Мы видим, что за словами "получив сообщение", что предполагает пассивность, далее следует "формирует", предполагающее активность. Я понимаю это, как означающее, что в процессе познания мы "получаем сообщение", бываем ин-формируемы познаваемой вещью, и в этом же действии наш разум одновременно привносит форму в вещь, которую мы познаем. Здесь важно слово "ин-формировать". Сообщить что-то кому-то, информировать его, значит формировать его — процесс, который иногда может становиться весьма действенным в психотерапии благодаря единственному предложению или слову, сказанному терапевтом в подходящий момент. Насколько это отлично от той идеи, которую многим из нас внушают в высших учебных заведениях: что информация есть просто внешние для нас данные, которыми мы манипулируем!
Таким образом, интенциональность начинается как эпистемология, способ познания реальности. Она несет в себе смысл реальности, как мы ее понимаем.
В современной мысли нашу тему на гигантский шаг вперед продвинула "вторая коперниканская революция" Иммануила Канта. Кант утверждал, что разум — это не просто инертная глина, на которой оставляют свой отпечаток ощущения, и не что-то, просто впитывающее и классифицирующее факты. В действительности происходит так, что сами объекты конформны нашему способу понимания.3
Хорошим примером этому является математика. Это конструкции в нашем уме; но природа конформна, то есть "отвечает" им. Как сказал о физике Бертран Рассел спустя полтора столетия после Канта: "Физика — математическая наука не потому, что мы так много знаем о физическом мире, а потому, что знаем так мало; мы можем открывать лишь его математические свойства".4
Революция Канта заключалась в том, что она сделала человеческий разум активным, формирующим участником в том, что он познает. Таким образом, само понимание является конституентом человеческого мира.
Во второй половине XIX столетия концепцию интенциональности вновь представил на рассмотрение Франц Брентано, чьи удивительно глубокие лекции в Венском Университете посещали и Фрейд, и Гуссерль. Брентано полагал, что сознание определяется тем фактом, что оно интенционально — устремлено на что-то, указывает на что-то, находящееся вне его самого — то есть, предполагает объект. Таким образом, интенциональность придает значимое содержание сознанию, привносит смыслы.
Хотя Фрейд, насколько мне известно, никогда не упоминает Брентано в своих работах, понятно, что он был более чем просто анонимным слушателем лекций Брентано. Мне говорили, что есть свидетельства активного участия Фрейда в занятиях, а также что однажды Брентано дал о нем положительный отзыв. Мне кажется, что интенциональность, подразумеваемая во взглядах Фрейда, — это один из тех нередких случаев, когда влияние чьих-то идей таково, что они становятся неотъемлемой частью ваших представлений, и может казаться, что эти идеи всегда принадлежали вам. Интенциональность является неотъемлемой частью самих оснований Фрейдова подхода к свободным ассоциациям, сновидениям и фантазиям. Возможно, Фрейд не упоминает об этой концепции явно по той же причине, почему она упускается и в других направлениях нашей академической психологии; Фрейд хотел создать естественно-научную форму психологии для своего психоанализа, а откровенно выраженная интенциональность — "недостающее звено" между разумом и телом — делает такую задачу бесконечно более сложной, если не невозможной. Возьмем, например, попытку Фрейда создать теорию "экономии" либидо, где значимой переменной были количественные затраты возбуждения. Вполне можно представить себе определенную силу, скажем, чистого полового желания, с эндокринными и нервно-мышечными коррелятами по всему телу, а также со специфическим возбуждением половых органов. Но оказывается, что либидо индивида совсем не является постоянной величиной, а увеличивается или уменьшается в соответствии с ассоциациями, которые у него, или у нее, связаны с любимым человеком, отцом, матерью, прошлыми возлюбленными и т. д., и эти символические смыслы — сугубо качественные — имеют большую значимость и силу, чем количество либидо как переменная. Фрейд на самом деле и был тем, кто дал нам представление об этих самых значениях, которые разрушают его собственную и любую другую чисто количественную интерпретацию.
Эдмунд Гуссерль, ученик Брентано, ставший впоследствии отцом современной феноменологии, распространил эту концепцию на все наши знания. Сознание, говорил он, никогда не существует в субъективном вакууме, а всегда является осознанием чего-то. Сознание не только не может быть отделено от мира своих объектов, более того, на самом деле оно конституирует этот мир. В результате, говоря словами Гуссерля, "смысл есть интенцией разума".5
Действие и опыт сознания представляют собой постоянное формирование и переформировывание нашего мира, субъект, Я связан с объектами, а объекты — с Я неразрывным образом; субъект принимает участие в мире, равно как и созерцает его, ни один полюс — будь то субъект или мир — невозможно представить без другого. Это, конечно же, не означает, что мы не можем временно абстрагировать субъективную или объективную сторону нашего опыта. Когда я измеряю свой дом, чтобы узнать сколько краски понадобится на то, чтобы перекрасить его, или когда я получаю результат какого-то эндокринологического анализа своего ребенка, я временно отсекаю то, что чувствую в этом отношении: я хочу только как можно яснее разобраться в полученных величинах. Но после этого я должен поместить эти объективные факты обратно в тот контекст, в котором они имеют смысл для меня — в контекст моего замысла покрасить дом или моей озабоченности здоровьем своего ребенка. Я считаю, что одной из серьезных ошибок психологии является то, что мы изолируем часть нашего опыта и никогда не возвращаемся к его целостности.
Хайдеггер сделал следующий шаг, убрав концепцию Гуссерля "из разреженной атмосферы" платоновского идеализма и распространив ее на все чувствующее, оценивающее, действующее человеческое существо. Он сделал это посредством своего понятия "заботы" (Sorge). Забота является началом, конституирующим наш мир — в смысле, близком к кантовскому пониманию. Хайдеггер снова и снова говорит, что человек в своем бытии — это существо, которое заботит бытие. И когда человек в своем бытии терпит неудачу, — можем мы добавить, исходя из наших терапевтических наблюдений за состояниями конформизма и деперсонализации, — он теряет свое существо, то есть, теряет свои потенциальные возможности. Между заботой и интенциональностью существует близкая внутренняя связь, предполагаемая уже тем фактом, что корневое слово "tend" [ухаживать] — заботиться — является центром термина "in-tentionality" [интенциональность].
Само слово воплощает совокупную мудрость человеческого творчества, будучи результатом столетий созидания, формирования и переформирования, — процесса, в котором участвует бесконечное количество людей, пытающихся сохранить и передать что-то важное для себя и своих собратьев по культуре. Давайте посмотрим, какую помощь мы можем получить из понимания "интенциональности" и родственных ей терминов "намереваться" и "намерение", проследив их этимологическое происхождение.
Все эти слова берут свое начало от латинского intendere, которое состоит из in плюс tendere, tensum; последнее, что достаточно любопытно, означает "натяжение" и отсюда — "напряжение". Это сразу же говорит нам, что намерение — "натяжение" в направлении чего-то.
Многих читателей, как это было и со мной, возможно, удивит тот факт, что первое значение, приведенное для "intend", в словаре Вебстера.6, — означать, подразумевать — не связано с "целью" или "замыслом", как в случае, когда мы говорим: "Я намереваюсь сделать что-то", и только вторым Вебстер дает определение "иметь в уме цель или замысел". Большинство людей по нашему волюнтаристскому викторианскому обычаю склонны перепрыгивать через первичный смысл и использовать это понятие только в его производном значении сознательного замысла и цели. И так как наша психология вскоре сумела доказать, что такие сознательные замыслы и цели представляют собой, главным образом, иллюзии и что мы вовсе не являемся воплощениями этих прекрасных, свободно избранных, добровольных планов, то мы были вынуждены выбросить весь этот набор "целей" вместе ее всей массой "намерений". Мы давно уже знаем, что дорога в ад вымощена добрыми намерениями, а теперь мы увидели, что эти намерения, добрые или злые, так или иначе являются вымыслом нашего собственного самомнения. Но если вы поменяете "самомнение" на "самоозабоченность", то есть заботу о себе, и осознаете, что вообще не бывает ни смысла, ни действия без этой заботы о себе — что все имеет в себе свою заботу или намерение, интенцию,* и что мы узнаем наш мир благодаря этим интенциям — если вы сделаете этот переход от уничижительной к положительной форме этих же самых слов, то насколько отличным окажется скрытый смысл!
* В русскоязычной литературе в данном контексте общепринятым стал термин "интенция", который, в отличие от русского слова "намерение", удерживает оба отмеченных у Вебстера значения. — Прим. ред.
Более важным аспектом интенции является ее отношение к значению, смыслу.
Мы используем эту форму в юридическом обороте, спрашивая: "Какова интенция закона?" — когда обращаемся к его значению. "Интенция" — это "направленность ума на объект", говорит нам Вебстер в первом определении, "отсюда замысел, цель".7
Замысел и цель следуют "отсюда". То есть, волюнтаристский аспект нашего опыта и переживаний заключается в том, что разум уже обращен к объекту, который имеет определенный смысл и значение для нас.
Через всю эту этимологию, конечно же, проходит небольшое слово "tend" [клониться, направляться]. Оно говорит о движении по направлению к чему-то — склонности к, тенденции. Для меня это представляется сердцевиной всего нашего поиска; присутствие этого значения, центрального в нашем понятии, является постоянным напоминанием, что наши смыслы никогда не являются чисто "интеллектуальными" или что наши действия не являются исключительно результатом влечений, идущих из прошлого; это значит что мы и в том и в другом движемся по направлению к чему-то. И, mirabile dictu, это слово также означает, как мы могли заметить, "заботиться о" — мы заботимся о наших овцах и о скоте и направляем заботу на самих себя, и то и другое есть проявление нашей склонности, тенденции.
Таким образом, когда Гуссерль говорит: "Смысл — это интенция разума", — он включает сюда и смысл и действие, движение по направлению к чему-то. Он указывает на это двойное значение в немецком языке: слово meinung, которое обозначает мнение, или смысл, имеет ту же основу, что и немецкий глагол meinen, "намереваться". Проанализировав в этом отношении английский язык, и будучи воспитан в том духе, что объективный факт есть средоточие всего и, тем самым, занимает место рядом с Богом, если не сам Его Престол, я был удивлен, обнаружив, что у нас тоже существует это двойное значение. Когда я говорю: "Я предполагаю [mean], что бумага белая" — вы понимаете мое высказывание как простую констатацию факта; это утверждение односторонней эквивалентности, "А" есть "Б". Но когда я говорю: "Я предполагаю [mean] повернуть, но машину заносит", — вы понимаете мое "предполагаю" уже как мое намерение, утверждение относительно того, что я должен или в чем убежден. Лишь позднее мы увидим, смог ли я сделать так, чтобы оно претворилось в жизнь.
Следовательно, как свидетельствует наша аргументация, каждый смысл несет в себе долженствование. И это не означает использования моих мускулов после того, как у меня возникла идея, для осуществления этой идеи. И прежде всего это не подразумевает того, что мог бы сказать бихевиорист, прочитав эти абзацы: "Именно так, как мы говорили всегда — сознание существует, так или иначе, только в действии, и мы вполне можем исходить из изучения того, что нам доступно — мышечного действия, поведения". Нет, наш анализ ведет к прямо противоположному заключению о том, что чистое движение мышц, как например гортани при разговоре — это как раз то, что вам не доступно. Перед нами человек, что-то намеревающийся. И мы не можем понять его открытое поведение, кроме как в видимом отношении этого поведения к его намерению и как выражение этого намерения. Каждое действие сознания ведет к чему-то, является обращением человека к чему-то и несет в себе некое, более или мене латентное, влечение в направлении, необходимом для действия.
Таким образом, познание, или знание, и способность к волевому движению, или воление, взаимосвязаны. Мы не можем иметь одно без другого. Вот почему таким важным является долженствование. Если я не проявляю воли к чему-то, я никогда не буду знать этого; и если я не знаю чего-то, я никогда не буду иметь никакого основания для своего волеизъявления. В этом смысле можно сказать прямо, что человек создает свои смыслы. Заметьте, я не сказал, что он только создает свои смыслы, или что они диалектически не связаны в каждое мгновение с реальностью, я говорю, что если он не вовлечен в создание своих смыслов, он никогда не будет знать реальности.
До сих пор моя задача состояла в том, чтобы определить концепт интенциональности, Я подчеркивал, что она включает как познание, так и формирование нами реальности и что они неотделимы друг от друга. С точки зрения интенциональности, фантазии Джемса, пока он лежит в постели, совершенно разумны, и его внезапное действие, когда он встает с кровати, вовсе не является неуловимым "счастливым случаем" или "удачным моментом", а вполне доступным пониманию и адекватным выражением его "связи с событиями дня". Именно его "образное участие" в событиях дня, которые захватывают его, пробуждая его интенцию, приводит к тому, что он может, наконец, встать.
Примеры из психоанализа
Теперь я хочу привести несколько примеров из психоанализа этой проблемы. Возьмем удивительные случаи с пациентами, которые не могут увидеть какую-то очевидную вещь не потому, что что-то не в порядке с их глазами или функционированием нервной системы, а потому, что интенциональность, на которой они зацикливаются, делает невозможным для них видеть эту вещь.
Один мой пациент на самом первом сеансе сообщил, что его мать пыталась сделать аборт, когда была беременна им, первые два года жизни его воспитывала тетя, старая дева, после чего мать отдала его в приют для сирот, обещая навещать каждое воскресенье, но приходила очень редко. И если бы я сказал ему — будучи достаточно наивным, чтобы полагать, будто это принесет какую-то пользу — "Твоя мать ненавидела тебя", — то он бы выслушал эти слова, но они могли не иметь для него вообще никакого смысла. Иногда случается яркая и впечатляющая вещь — подобный пациент просто не слышит слово "ненависть", даже если терапевт настойчиво повторяет его.
Предположим, мой пациент является психологом или психиатром. Тогда он может заметить: "Я понимаю, что все это, по-видимому, говорит о том, что моя мать не хотела меня, не любила меня, но для меня это все просто пустые слова". Он не уклоняется от прямого ответа и не играет со мной в прятки. Факт состоит в том, что пациент не может позволить себе осознать травму до тех пор, пока он не будет готов занять позицию по отношению к ней.
Такие переживания несомненно знакомы каждому: мы чувствуем, что нас уволят с работы, что кто-то из тех, кого мы любим, скоро умрет. И в это время происходит любопытный внутренний разговор с самим собой: "Я знаю, что буду в состоянии видеть это позднее, но я не могу видеть это сейчас". Это просто способ выражения того, что "я знаю, что это правда, но я пока еще не могу позволить себе видеть ее". Мир может стать слишком невыносимым, если мы не в состоянии занять позицию относительно травмирующего события, но вместе с тем не в состоянии избежать того, чтобы видеть его. Одной из реакций на такую дилемму является шизофрения. Иногда терапевт допускает ошибку, пытаясь вбить в голову пациента очевидную истину, которую пациент не в состоянии признать — например, сообщая женщине, что она не любит своего ребенка. В этом случае часто происходит так, что у пациента, если он не прекращает терапии, развивается какой-то иной, возможно, более серьезный блок между ним и реальностью.
Интенциональность предполагает такую близкую взаимосвязь с миром, что мы бы просто не выдержали напряжения, если бы не могли время от времени отгораживаться от мира. Не следует просто вменять в вину человеку "сопротивление". Я не сомневаюсь в реальности сопротивления, как Фрейд и другие разъясняют его, но я выделяю здесь более широкий, структурный феномен. То есть, "каждая интенция есть внимание, а внимание — это я-могу", — как сформулировал это Мерло-Понти.8 Следовательно, мы не в состоянии обратить внимание на что-то, прежде чем сможем каким-то образом ощутить "я-могу" по отношению к этому.
Тот же принцип обнаруживается, опять же исключительно интересным образом, и в памяти. Пациентам часто требуется один или два года психоанализа, прежде чем они оказываются в состоянии вспомнить какое-то очевидное событие своего детства. Но когда внезапно они действительно вспоминают это событие, разве это означает, что их память улучшилась? Конечно же, нет. Произошло изменение отношения пациента к своему миру, когда благодаря его возросшей способности доверять терапевту и, соответственно, самому себе либо по другим причинам произошло снижение его невротического беспокойства. Его интенциональность — в отличие от его простого сознательного намерения вспомнить, которое, несомненно, присутствовало с самого начала — изменилась.
Память является функцией интенциональности. В этом отношении память подобна восприятию; пациент не может вспомнить что-то до тех пор, пока он не готов занять некую позицию по отношению к этому. "Возвращение детских воспоминаний, — говорит Франц Александер, — является не основанием, а результатом психоанализа".9
Все это основывается на неразделимости знания и волеизъявления, познания и способности к волевому акту, что нигде не видно так ясно, как в психотерапии. Пациенты обращаются к терапии, так как понимают, что в жизни своей не способны действовать из-за того, что не знают — не сознают влечений своего "бессознательного", не знают своих собственных механизмов, никогда не осознавали детского генезиса этих механизмов и так далее. Но если бы это был единственный подход, то пациент лежал бы здесь на кушетке в течение восьми или девяти лет, не переходя к действию потому, что еще недостаточно знает; и психоанализ, словами Сильвана Томкинса, превратился бы в "систематическую тренировку нерешительности".
Но для терапии ошибочно двигаться и в противоположном направлении, как недавно сделали некоторые школы, и настаивать на том, что функция терапевта заключается в разъяснении "реальности" пациенту и в убеждении его поступать соответственно. Это делает терапевта духовным полицейским общества, работа которого заключается в том, чтобы помочь пациенту приспособиться к нравам нашего конкретного исторического периода — о которых можно лишь сказать, что если они вообще еще существуют, то достоинство их весьма сомнительно. Наш единственный способ избежать обеих ошибок состоит в том, чтобы перенести проблему на более глубокий уровень интенциональности.
Мой тезис здесь заключается в том, что функцией психоанализа должно быть подталкивание "намерения" к более глубокому, широкому, органичному измерению интенциональности. Разве не состояла всегда функция психоанализа в демонстрации того, что чисто сознательного намерения никогда не бывает, что нас — являемся ли мы буквально убийцами или нет — постоянно подталкивают "неразумные", демонические, динамические силы "темной" стороны жизни, о которых говорили как Шопенгауэр и Ницше, так и Фрейд? Фрейд развенчал обдумывание как мотив действия. Что бы мы ни делали, вовлеченным оказывается нечто бесконечно большее, чем все наши "разумные" основания и оправдания. Психоанализ дает данные для проведения необходимого разграничения, а также для установления необходимой связи — между намерением и интенциональностью.
Теперь мы должны остановиться, чтобы отделить интенциональность от "цели" или "волюнтаризма". Интенциональность является формой эпистемологии, а цель и волюнтаризм — нет. Интенциональность предполагает ответ, а цель и волюнтаризм — нет. Будучи свободна от солипсизма, интенциональность является утвердительным ответом человека на структуру его мира. Интенциональность дает основу, которая делает возможными цель и волюнтаризм.
Добровольная интенция, намерение пациента, настолько, насколько он сознает его, может заключаться в том, чтобы вовремя прийти на встречу со мной, рассказать мне о той или иной вещи, что случилась с ним, расслабиться и быть абсолютно честным. Но его бессознательные интенции, в противоположность этому, могут заключаться в том, чтобы угодить мне, играя роль "хорошего пациента", поразить меня демонстрацией того, насколько блестящи его свободные ассоциации, или добиться моего абсолютного внимания, описывая те катастрофические вещи, которые он может совершить в отношении себя и других. Намерение является психическим состоянием; я могу добровольно настроить себя сделать то или это. Интенциональность — это то, что лежит в основе как сознательных, так и бессознательных интенций. Это бытийное состояние и, в большей или меньшей мере, оно включает всю ориентацию человека по отношению к миру в данное время. И что наиболее интересно, это те случаи в психотерапии, когда сильное добровольное желание — коррелирующее с "силой воли" — блокирует путь к интенциональности человека и является именно тем, что удерживает пациента от соприкосновения с более глубокими измерениями его опыта. Наш Уильям Джемс, борющийся в кровати со своей викторианской силой воли и остающийся парализованным, пока длится эта борьба, являет собой выразительный пример. И будьте уверены, он оставался бы парализованным так долго, сколько продолжал бы бороться таким образом.
Интенциональность, в том значении, в каком я использую этот термин, опускается ниже уровня непосредственной осознанности и включает спонтанные, соматические элементы и другие измерения, которые обычно называются "бессознательными". Это имеет как положительные, так и отрицательные аспекты. Например, мое намерение в этот момент состоит в том, чтобы изложить эти идеи, которые кажутся мне важными, в удобочитаемой форме и вскорости закончить эту главу. Но если я не вовлечен интенционально, что значит гораздо больше, чем это мое намерение — то есть, если я в своей интенции не должен написать самую лучшую книгу, какую только могу — то я выполню всего лишь прозаическую работу. Я не создам ничего гениального или оригинального. Ибо стремясь безотлагательно завершить главу, я буду блокировать новые идеи, которые могут возникнуть у меня, новое понимание и новые формы, появляющиеся из предсознательного и бессознательного измерений сознания. Намерению присуща сознательная цель. Но психоанализ дарит нам глубинное измерение, вклад, который значительно расширяет намерение и действительно продвигает нас от сознательной цели к более целостному, органичному, чувствующему и желающему человеку, человеку, являющемуся продуктом своего прошлого и движущемуся к будущему. Психоанализ не позволяет интенции оставаться простым намерением, он продвигает ее на более глубокий, широкий, органический уровень интенциональности.
Мы говорим, что интенциональность задает лежащую в основе желания и воли структуру. Говоря психоаналитически, интенциональность предоставляет структуру, в рамках которой происходит подавление и блокирование сознательных намерений. Фрейд, используя метод "свободных ассоциаций", неоспоримо ясно показал, что ассоциации, которые кажутся чисто случайными, таковыми вовсе не являются. В свободной ассоциации мысли, воспоминания и фантазии черпают свои формы, характер и смысловые темы (которых и пациент, и любой из нас, вовлеченный в свободную ассоциацию не на кушетке, а в нормальном мышлении и творчестве, может вообще не уловить в момент их возникновения) из факта, что они являются его фантазиями, его ассоциациями, идущими от его образа мира и его долженствования и его проблем. И лишь впоследствии человек сам может увидеть и осознать тот смысл, которым были проникнуты эти с виду случайные и разобщенные слова. Свободная ассоциация — это метод, позволяющий выйти за рамки чисто сознательного намерения и перевести Я человека в сферу интенциональности. Именно в основополагающей и более объемлющей сфере интенциональности лежат глубинные смыслы; но также именно здесь мы находим первичные причины, обусловливающие подавление пациента. Я считаю, что с течением времени вклад Фрейда и психоанализа можно будет расценивать как углубление и расширение нашего понимания интенциональности.
Восприятие и интенциональность
На столе, за которым я сижу, лежит лист бумаги. Если я собираюсь изложить на бумаге некоторые заметки для своей рукописи, то я вижу лист с точки зрения его чистоты; не исписан ли он уже? Если же мое намерение состоит в том, чтобы сложить из листа игрушечный самолетик для моего внука, то я вижу бумагу с точки зрения ее плотности. Или же, если я собираюсь рисовать на ней, то вижу шероховатую текстуру бумаги, приглашающую мой карандаш и обещающую сделать мои линии более интересными. В каждом случае это один и тот же лист бумаги, и я всегда тот же человек, реагирующий на него. Но я вижу три совершенно различных листа бумаги. Конечно же, нет никакого смысла называть это "искажением": это просто пример бесконечного разнообразия смыслов, которые может иметь для нас данный случай, данное сочетание раздражителя и ответа.
Намерение — это обращение внимания человека к чему-то. В этом смысле восприятие направляется интенциональностью. Сказанное можно проиллюстрировать тем фактом, что сознание состоит из констелляции фигура — фон. Если я смотрю на дерево, фоном является гора; если я смотрю на гору, то получается обратное: в этом случае фигурой становится гора, а все остальное — фоном. Избирательный, или/или, характер восприятия является одним из аспектов интенциональности: я не могу в данный момент смотреть на одну вещь, не отказавшись смотреть на другую. Сказать "да" означает, что в данный момент я должен сказать "нет" чему-то другому. Это один из примеров того, как конфликт определяет сущность сознания. Конфликт, который является неотъемлемой частью интенциональности, является началом волевого акта, а начало волевого акта входит в структуру самого сознания.
Но нам теперь следует сразу сказать, что этот избирательный процесс — я смотрю сюда, а не туда — вовсе не сводится к использованию мышц шеи и глаз для поворота головы и определения направления взгляда с целью рассмотреть объект, который меня интересует. Происходит более сложный и намного более интересный процесс. Чтобы я осознал объект, происходит внутренний процесс его представления. Такова удивительно тесная взаимосвязь моего субъективного впечатления с тем, что происходит в мире: я не могу постичь что-то до тех пор, пока я не пойму его. Профессор Дональд Снигг напомнил нам о том достопамятном случае, когда люди примитивного общества не смогли увидеть корабль капитана Кука, вошедший в их гавань, потому что у них не было ни слова, ни символа для обозначения такого корабля.10 Что они представили себе при этом, я не знаю — возможно, тучу или животное; но во всяком случае это было что-то такое, для обозначения чего у них был символ. Язык, или процесс символизации, является нашим способом представления того, что мы можем понять.
Слово "conceive", означающее постижение, употребляется в нашем обществе также для обозначения физиологического зачатия, и эта аналогия не является неадекватной. Ибо действие постижения тоже требует способности породить что-то в самом себе; если человек не может или по какой-то причине еще не готов создать в себе определенную позицию, установку по отношению к тому, что он видит, то он не может постичь то, что видит. Из наших примеров из психоанализа ясно, что пациент не может проникнуть в сущность, постичь истину о себе и своей жизни до тех пор, пока не будет готов занять нужную позицию по отношению к этой истине, пока не будет готов представить ее.
Основой английских слов "conceive" (постигать) и "perceive" (воспринимать) является латинское capere, которое означает взять, схватить. Даже слово "apprehend" (постигать, понимать) подразумевает то же самое активное, а не пассивное свойство, происходя от prehendere, хватать рукой. (Насколько это далеко — в чем состоит мудрость, словообразования — от пассивного образа акта восприятия, сложившегося у большинства из нас, а именно: воздействие раздражителя, оставляющего отпечаток на сетчатке!) Сексуальные аналогии и аналогия с беременностью вполне уместны: восприятие, как и зачатие, является активным процессом образования в мире, происходящим в ходе соотношения (читай сношения, совокупления) между живым существом, человеком, и миром, которому он принадлежит.
Рождается новая идея, создается новый пейзаж Сезанна, делается новое техническое открытие. Сознание порождает в том смысле, что оно зачинает свои знания; этот процесс представляет собой постоянное, обоюдное, притягательно-отталкивающее, реагирующее на изменения отношение между субъектом и объектом, в чем-то сходное с половым сношением. Это не простое отношение между хозяином и рабом. Если мы возьмем хорошо известную метафору о скульпторе и глине, то должны видеть, что глина также формирует скульптора; глина обусловливает то, что он делает, ограничивает и даже изменяет его намерения и вследствие этого также формирует его — его потенциальные возможности и сознание.
Если интенциональность является важным моментом в восприятии, как я считаю, то тем более плохо, что это измерение было упущено из внимания в психологических исследованиях. Вместо того чтобы настойчиво изымать его из общей картины — что, я полагаю, само по себе оказало пагубное влияние на нашу работу — мы должны ввести интенциональность непосредственно в наши пресуппозиции, то есть принять во внимание предубежденность экспериментатора. Роберт Розенталь продемонстрировал, как ожидания, "намерения" экспериментатора — его интенции — действительно влияют на результаты.11
Мы должны учитывать интенциональность каждого человеческого субъекта в каждом эксперименте. Что лежит в основе намерений ваших коллег участвовать в вашем эксперименте? Какова интенциональность субъектов в аудитории, с которыми вы проводите Тест тематической апперцепции? Действительно, просто удивительно, что мы могли полагать, будто эти вещи не имеют никакого значения.
Во всяком случае, я хочу подчеркнуть, что читая о психологических исследованиях, я каждый раз убеждался, что психолог изучает нечто отличное от того, что, по его мнению, он изучает. Фактически, он не может знать, что означают полученные данные, если не внесет ясность в отношении участвующих в исследовании людей на уровне интенциональности.
Это приводит нас к порогу отношения между телесностью и интенциональностью. Однако прежде чем пересечь этот порог, мы должны выяснить одно общее недоразумение. Интенциональность не следует путать с интроспекцией, вглядыванием. Это не заглядывание в себя и не подглядывание за собой с целью найти то-то и то-то. Не разглядывание трансформирует меня в объект. Не обязательно вообще что бы то ни было, вроде "spection", как говорит Поль Рикер, или же разделения меня на "зрителя" и "актера". Распространенная тенденция связывать интенциональность с интроспекцией — еще один комментарий по поводу того, как сложно в наше время, после Декартовой дихотомии, отказаться от привычки превращать все в субъект или объект. Интенциональность состоит в самом действии. Я раскрываю себя, скорее, своим действием, а не взглядом на себя. Вменяемость, связанная с интенциональностью, является не спекулятивным вопросом, а действием, которое, вследствие того, что оно всегда предполагает ответ, несет в себе ответственность.
Тело и интенциональность
Человек викторианской эпохи употреблял свою волю на то, чтобы загонять поглубже и подавлять то, что он называл "низменными" телесными желаниями. Но человек, несомненно, не может быть решительным человеком, не принимая во внимание желания своего тела. Наше обсуждение желания в предшествующей главе подводит к тому, что телесные желания должны быть сведены в единое целое с волей, иначе одно будет блокировать другое. Тело — это мышечные, нервные и эндокринные корреляты интенциональности, такие как: повышение секреции адреналина, когда мы разгневаны и хотим по чему-то ударить; учащенное сердцебиение, когда мы взволнованы и хотим бежать; прилив крови к половым органам, когда мы сексуально возбуждены и хотим вступить в половое сношение. Когда пациент в данный момент блокирован от своих желаний и интенциональности в целом, для терапевта хорошим началом терапии является просто помочь пациенту осознать его телесные ощущения и состояние его организма на этот момент.
Уильям Джемс уделял много внимания телесному началу. Мы можем видеть это в его настойчивости относительно значения ощущений и в его точке зрения на эмоции как восприятие внутренних телесных изменений. Здесь наблюдается параллель с поглощенностью другого человека викторианской эпохи, Фрейда, сексом и инстинктом. В каждом из них мы видим викторианское стремление прийти к соглашению с телом, от которого их культура оттолкнула их. Каждый относился к телу как к инструменту, орудию, не понимая, что этим они выражают то самое отчуждение, которое пытались преодолеть.
Когда два с половиной десятилетия назад я был болен туберкулезом, то обнаружил, что унаследованная мною "сила воли" оказалась удивительно неэффективной. В те дни единственным средством лечения был отдых в постели и тщательно размеренные упражнения. Мы не можем волевым актом выздороветь, и человеку доминирующего типа, с "сильной волей", заболевшему туберкулезом, обычно становилось хуже. Но я обнаружил, что прислушивание к своему телу имеет решающее значение в моем лечении. Когда я мог чувствовать свое тело, "слышать", что я устал и нуждаюсь в отдыхе, или же что мое тело достаточно крепкое, чтобы увеличить упражнения, мне становилось лучше. А когда я находил, что сознавание тела блокировано (состояние, сходное с возникающим у пациентов при психоанализе, когда они говорят про свое тело, что существуют отдельно "от него") мне становилось хуже.
Некоторым серьезно больным людям сказанное может показаться поэтической или "мистической" точкой зрения ради самоуспокоения, но на самом деле в этом для меня заключался сугубо эмпирический вопрос, буду ли я жить или умру. Насколько я могу судить, это было верно и в отношении других пациентов. Такое сознавание своего тела иногда приходит спонтанно, но вовсе не обязательно именно так. "Воля — это слушание", — утверждает Пфандерс.12, это утверждение вызывает в памяти "прислушивание" к телу. В нашем обществе, для того чтобы прислушаться к своему телу, часто требуется значительное усилие — усилие постоянной "открытости" по отношению к любым сигналам своего тела. В последние годы трудами людей, стремящихся восстановить связь с телом, учителей физического тренинга и йоги, была выявлена важная взаимосвязь между способностью слышать свое тело и психическим здоровьем. Присутствие воления обнаруживается и в употреблении таких выражений, как: я "признаю" усталость, я "соглашаюсь" отдохнуть, я "согласен" следовать рекомендациям своего врача (или учителя), я "принимаю" режим. Следовательно, существует волеизъявление, которое не только не направлено против телесных желаний, а выступает заодно с телом, волеизъявление изнутри; это волеизъявление совместного участия, а не противодействия.
"Воля действует через желание", — сказал Аристотель. Тот факт, что мои желания ощущаются и переживаются в моем теле, со всеми сопутствующими этому эндокринными изменениями — тот факт, что они являются воплощенными в тело желаниями — означает, что я не могу не занять какой-то позиции по отношению к ним. То есть, если у меня есть желание, то я не могу не изъявлять волю в связи с ним, пусть только для того, чтобы отрицать, что у меня есть желание. Чистая независимость невозможна, как невозможно освободиться от своего тела. Поэтому полное отрицание осознания желаний обычно включает насилие по отношению к своему телу.
Мое тело, прежде всего, выражает тот факт, что я — индивид. Так как я — это тело, обособленное от других как индивидуальный организм, то я не могу не замечать себя, тем или иным образом, — или отказываться замечать себя, что одно и то же. Человек может пытаться приспособиться к кому-то другому психологически, быть отпечатком другого в мыслях; но телесные сиамские близнецы очень редки. Пациент, который не может воспринимать себя телесно обособленным от другого, скажем, от своей матери, как правило, страдает серьезной патологией, зачастую шизофренического характера. Тот факт, что мое тело является реально существующим в пространстве, движется и это конкретным образом соотнесено с пространством через мое движение, делает тело живым символом того, что я так или иначе должен "занять позицию". Воля, как подчеркивает Поль Рикер, является воплощенной в тело волей. Поэтому так много слов, связанных с волей, указывают на наше физическое местоположение — "занять позицию", принять "точку зрения", избрать "ориентацию". Или же мы можем сказать, что кто-то "держится прямо", или наоборот "унижается", "низкопоклонствует", "уклоняется", — все это говорит о воле и решении через указание положения тела. Пер Гюнт из пьесы Ибсена никогда не смог бы стать индивидуальностью, следуя за духом, пока он от всего "уклоняется"; он достиг индивидуальности только тогда, когда сумел "выпрямиться во весь рост", как изображает Ибсен человека с целеустремленной волей.
Еще более интересным является тело как язык интенциональности. Оно не просто выражает интенциональность; оно высказывает ее. Когда пациент входит в дверь моего кабинета, интенциональность выражается в его походке, его жестах, в наклоне корпуса — по направлению ко мне или от меня. Говорит ли он со мной "сквозь зубы"; что звучит в его голосе, когда я перестаю слушать слова и слышу только интонации, — все это сообщения на языке тела. Не только во время терапии, но и в реальной жизни наше общение, в намного большей мере, чем мы это сознаем, имеет едва уловимый характер танца, его смысл передается посредством форм, которые мы постоянно создаем движениями нашего тела.
В исследованиях по шизофрении Карл Роджерс со своими коллегами представил яркие картины связи интенциональности с телом на примере пациентов, которые не могли или не хотели общаться, по меньшей мере в течение нескольких месяцев, иначе, чем языком тела. Юджин Дженлин рассказывает, например, о том, как он приходил в палату проводить лечение враждебно настроенного пациента, совершенно отказывавшегося разговаривать.13
Вначале, как только приходил доктор Дженлин, пациент тут же убегал. Затем он начал задерживаться немного дольше, прежде чем убежать, и наконец оставался стоять в течение часа, пока Дженлин стоял рядом с ним. В его непрерывно бегающих испуганных глазах, в дрожании рта, колеблющегося на грани улыбки или плача — во всех этих проявлениях выражался язык, который может быть более значимым и является несомненно более выразительным, чем большинство произносимых слов. Этот язык, несомненно, передает намного больше, чем живой интеллектуализированный разговор искушенного пациента, который месяцами болтает, для того чтобы уйти от осознания своих собственных, лежащих в основе чувств.
Воля и интенциональность
В одном из своих сонетов Шекспир пишет о том, как ночью, завершив дневной свой путь, он мыслью "устремляется в паломничестве рьяном" к своей цели ("Intend a zealous pilgrimage…").14:
"Трудами изнурен, хочу уснуть,
Блаженный отдых обрести в постели.
Но только лягу, вновь пускаюсь в путь
В своих мечтах — к одной и той же цели.
Мои мечты и чувства в сотый раз
Идут к тебе дорогой пилигрима…"*
* Вильям Шекспир, "Сонеты", перевод С.Маршака. Избранное (Киев, Феникс, 1993), с.165.
Говоря об устремлении мыслью, Шекспир употребляет слово "intend", в котором действие уже присутствует в намерении. Мы бы могли сказать "намеривались совершить рьяное паломничество к тебе"; мы видим действие как обособленное, как нечто, что следует указать определенно, нечто добавляемое после того, как вы приняли решение. Шекспир писал, когда английский, как это всегда бывает с языками в их классический период, имел особую жизненность и силу, которые характеризовались неотделимостью намерения и действия. Наш современный язык отражает дихотомию между разумом и телом: мы принимаем как должное, что намерение и действие обособленны; мы должны указать "совершение" само по себе. В этой главе я хочу подчеркнуть, что шекспировское словоупотребление представляет не только более поэтичный, но и психологически более точный вариант. Это то, что мы имеем до искусственной абстракции. Разделение намерения и действия является искусственным и неточно описывает то, что испытывает человек. Действие присутствует в намерении, а намерение — в действии.
Профессор Поль Рикер предлагает следующий пример.15
Я отправляюсь в путешествие. Это путешествие не просто объективный факт — например, возможность оказаться где-то. Оно должно быть проделано, замысел его должен быть осуществлен мною. Это возможность осуществления его мною — насколько это в моих силах. Рикер указывает, что в этом планировании путешествия мы имеем дело с будущими структурами, но сказать, что речь идет "просто" о субъективном, будет неточно. Это не менее объективно, несмотря на то, что связано с будущим, с еще не определившимися структурами. Построение мира только из объективных фактов, как это делает Витгенштейн и прочие позитивисты, равно как и бихевиористы, представляет собой неоправданное его сужение. "Я могу" есть часть мира. Этот момент особенно важен в терапии, ибо пациенты приходят к нам, потому что не могут сказать "я могу", а только — "я не могу". Для того чтобы понять "я не могу", мы должны также видеть за ним "я могу", отрицанием которого оно является.
Читатель должен был обратить внимание, как это заметил и я, что слово "will" [воля], употребляемое в этой главе в связи с интенциональностью, является тем же словом, что мы используем для обозначения будущего времени в английском языке. Воля и интенциональность тесно связаны с будущим. Оба значения — просто будущее (что-то произойдет); и личная решимость (я сделаю так, чтобы это произошло) — в различной степени присутствуют в каждом выражении интенциональности. "Я прибуду в Нью-Йорк в сентябре" может нести в себе очень мало решимости и быть почти полностью простой констатацией будущего. Но "я женюсь" или "я напишу поэму" в намного меньшей степени являются комментариями по поводу будущего, а главным образом выступают как выражение решимости. Будущее — это не просто момент времени, который должен наступить, оно содержит в себе элемент "я сделаю его таким". Сила — это потенциальность, а потенциальность указывает на будущее: это что-то, что должно быть осуществлено. Будущее — это временная форма, в которой мы обещаем себе, даем долговое обязательство, ставим себя в наиболее выигрышное положение. Высказывание Ницше, что "человек является единственным животным, способным давать обещания", связано с нашей способностью помещать себя в будущее. Нам также вспоминается здесь наказ Уильяма Джемса: "Пусть будет так". Безысходность многих пациентов, которая может выражаться в депрессии, отчаянии и ощущении "я не могу", и близкую ей беспомощность можно успешно рассматривать, с определенной точки зрения, как неспособность видеть или строить будущее.16
Именно в интенциональности и воле человек ощущает свою индивидуальность, "я — это "я" в утверждении "я могу". Декарт был неправ в своей известной сентенции: "Я мыслю, значит я существую", ибо идентичность "я" возникает не из мышления как такового и, конечно же, не из интеллектуализации. Формулировка Декарта упускает, как мы указывали раньше, именно ту переменную, которая является самой важной; она перепрыгивает от мысли к личности, когда в действительности имеет место промежуточная переменная "я могу". Кьеркегор пародировал столь же упрощенное и интеллектуалистическое объяснение Гегеля, что "потенциальное переходит в реальное", когда утверждал, что потенциальное действительно переходит в реальное, но промежуточной переменной является беспокойство. Мы можем перефразировать это следующим образом: "потенциальное воспринимается как принадлежащее мне — моя сила, мое сомнение — и поэтому, перейдет ли оно в реальность, в некоторой мере зависит от меня — где я пущу в ход все свое влияние, насколько сильно я сомневаюсь" и так далее. В человеческом опыте происходит следующее: "Я постигаю — я могу — я изъявляю волю (я буду) — я есть". "Я могу" и "я изъявляю волю (я буду)" представляют собой существенный опыт личности. Это спасает нас в терапии от несостоятельного убеждения в том, что пациент развивает в себе чувство своей идентичности, а затем действует. Напротив, он ощущает себя в действии или, по крайней мере, в возможности его.
В другом месте я указывал, что и сомнение, или беспокойство, и потенция являются двумя сторонами одного и того же опыта и переживания его.17
Когда в юности возникает потенциальная возможность полового сношения, юная личность ощущает по этому поводу не только энтузиазм и чувство собственного достоинства, но также и нормальное беспокойство, так как эти возможности теперь должны вовлечь его в сложную схему взаимоотношений, и некоторые из них, предполагающие его действие, потенциально очень важны. Нормальное, конструктивное беспокойство сопутствует осознанию и признанию собственных потенциальных возможностей. Интенциональность определяет конструктивное использование нормального беспокойства. Если у меня есть какие-то ожидания и возможность действовать в моих силах, то я начинаю действовать. Но если обеспокоенность становится подавляющей, тогда возможность действовать заслоняется. Так, Поль Тиллих в своей книге Мужество быть указывает, что выраженная невротическая обеспокоенность разрушает интенциональность, "разрушает нашу связь со значимым содержанием знания или воли". Это страх перед "несуществованием". Без интенциональности мы действительно "ничто".
Тиллих продолжает, довольно интересно связывая интенциональность с витальностью как жизненным измерением бытия, а затем с мужеством:
"Витальность человека настолько велика, насколько велика его интенциональность: они взаимозависимы. Это делает человека самым жизнеспособным из всех существ. Он может выйти из любой данной ситуации в любом направлении, и эта возможность побуждает его творить вне себя. Витальность — это способность творить вне себя, не теряя при этом самое себя. Чем большей способностью творить вне себя обладает существо, тем в большей степени оно витально. Мир технических творений является самым заметным выражением витальности человека и его бесконечного превосходства над витальностью животного. Лишь человек обладает наиболее полной витальностью, потому что только он обладает завершенной интенциональностью… Если правильно понимать связь между витальностью и интенциональностью, то можно принять биологическую интерпретацию мужества в рамках заданных ограничений".18
Подавляющее беспокойство способно разрушить нашу способность постигать и представлять свой мир, устанавливать с ним связь, строить и перестраивать его. В этом смысле оно разрушает интенциональность. Мы не можем надеяться, планировать, обещать или творить в состоянии сильного беспокойства; мы уходим обратно за частокол ограниченного сознания, надеясь лишь уцелеть, пока не минует опасность. Интенциональность и витальность связаны с тем фактом, что жизненность человека проявляется не просто как жизнеспособность, как биологическая сила, а как установление связи с миром, формирование и перестраивание мира посредством различных видов созидательной деятельности. Таким образом, степень интенциональности человека можно рассматривать как степень его мужества ("мужества быть"). Тиллих рассматривает греческое понятие arete, означающее сочетание силы и достоинства, и латинского virtus, имеющее сходный смысл — мужской силы и морального благородства. "Витальность и интенциональность объединены в том идеале человеческого совершенства, который в равной мере далек и от варварства и от морализма".19
И наконец, руководствуясь этимологией слова, мы можем пойти дальше и связать интенциональность с "интенсивностью" переживания или степенью "напряженности" жизни. Предпринимался ряд попыток определить то, что мы подразумеваем под витальностью в психологической сфере: употреблялись такие слова, как "энергия" и т. п., но без особого убеждения в том, что это что-то значит. Но разве интенциональность не предоставляет нам критерий для определения витальности как психологической жизнеспособности? Степень интенциональности может определять энергетику человека, потенциальную силу его обязательств и его способность, если мы говорим о пациенте, продолжать лечение.
X. ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ В ТЕРАПИИ
"Ни в теоретической ни в практической области нам не интересны и не сулят нам помощи те, кто не отваживается на риск и не имеет вкуса к жизни на грани опасного".
Уильям Джемс
Обращаясь теперь к терапии, мы преследуем двойную цель. Во-первых, выдвинуть какие-то предложения относительно того, каким образом интенциональность и воля могут быть использованы в клинической работе с людьми, оказавшимися в психологическом затруднении. Во-вторых, посмотреть, какой свет практические примеры могут пролить на тот вопрос, который все еще остается самым важным, а именно: что же такое интенциональность и воля?
Психотерапия должна послужить нам уникальным по своей глубине и богатству источником данных, относительно того, каким образом желание, воля и интенциональность переживаются живыми, чувствующими, страдающими людьми.
В нашем обсуждении интенциональности — вопреки моему намерению! — могло создаться впечатление, что существует идеальный способ воления, воление через участие, которое приводит человека в гармонию со своим телом и миром. Это одна из сфер желания и воли. Но что же с конфликтом воли? Несомненно, этот конфликт остается и требует, чтобы мы перешли к другой сфере. Как проникновенно выразил это Уильям Джемс, имея на то свои основания, для простого от рождения человека он может быть несущественным, а для героя и невротика — неизбежен. Невроз можно грубо определить как конфликт между двумя способами "неосуществления" себя.
Если воспользоваться примером Джемса, то ни дальнейшее пребывание в кровати, где так тепло, ни демонстрация своего характера, когда мы наконец встаем, отнюдь не прибавляют нам достоинства. Если бы Джемс был моим пациентом и начал сеанс с рассказа о таком "конфликте в кровати", я бы тут же — молча или открыто — согласился с его желанием: лежать в теплой постели холодным утром действительно прекрасно. Кроме того (и, пожалуй, ближе к сути), демонстрация своей самостоятельности, выражающаяся в протесте против этого строгого общества, которое заставляет вас подниматься и приступать к работе, может приносить дополнительное удовлетворение. Возможно также, что пребывание в кровати выражает двойственное отношение Джемса к своему отцу — этому удивительному человеку, который сильно любил, но и многого требовал. Лишь признавая и подтверждая непосредственное желание, мы можем добраться до более глубокого уровня, того, что он искренне желает — то есть до событий дня.
Терапия, внося ясность в интенциональность пациента, переносит борьбу на реальное поле сражения. Она помогает пациенту и нам самим бороться с конфликтом там, где возможно подлинное его разрешение; она превращает конфликт в борьбу между подлинным разрешением и незавершенным. Фантазии относительно новых возможностей, которые несет ему день, когда Уильям Джемс погружается в них, — что, как я настаивал, не было случайным ходом мыслей, — показывают, что на уровне интенциональности он действительно был человеком, имеющим глубокий интерес к жизни и полностью отдающим себя тому, что он способен делать.
Моя задача как терапевта состоит в том, чтобы, насколько возможно, осознать в чем состоит интенциональность пациента на каждом конкретном сеансе. И если этот сеанс не просто один из довольно однообразного ряда, а представляет некий кризис, что часто бывает, то моя задача состоит в выявлении этой интенциональности таким образом, чтобы пациент не смог не осознать ее. А это очень часто оказывается нелегкой задачей. Сеанс, из которого я сейчас дословно приведу некоторые выдержки, был проведен на седьмом месяце психоанализа.* Пациент, писатель. одним из симптомов которого являлся довольно устойчивый, а временами чрезвычайно сильный "писательский блок", — утонченный и одаренный человек сорока лет. Прежде чем обратиться ко мне, он уже в течение пяти лет прибегал к психоанализу.
* Представлено на основе магнитной записи сеанса.
Предшествующий психоанализ в какой-то мере помог ему; теперь он мог заниматься своей работой, тогда как прежде жил на доходы с наследства своей жены. Но им все еще владела сильная тревога, депрессия и половые проблемы. (По причинам, в которые я не буду вдаваться, предыдущий психоаналитик считал, что это неизлечимо.) Во всяком случае, когда он написал мне, месяц спустя после того, как расстался с предыдущим терапевтом, в состоянии болезненного, почти невыносимого напряжения и отчаяния, я согласился встретиться с ним. Причины моего решения работать с ним отчасти заключались в вызове, который представлял собой человек с такого рода внутренними качествами и достоинствами, не получивший помощи, во всяком случае существенной, от предшествующего психоанализа. Терапия должна быть способна помочь людям такого рода, и если она не помогает, то мы обязаны знать почему. Тот факт, что он был весьма эрудированным человеком, знавшим почти все в данной области, отчасти являлся причиной того, почему с ним я был более активным и требовательным, чем с некоторыми другими пациентами.
Мне хотелось бы в самом начале изложить свое заключение, касающееся нашего обсуждения: сейчас я считаю, что одной из причин, почему в некотором ряде случаев психоанализ не "действует", не доходит до сути проблем таких людей, как Престон, является то, что не затрагивается уровень интенциональности пациента. Поэтому он никогда полностью не отдается психоанализу, никогда полностью не погружается в него, никогда его соприкосновение с проблемой не бывает полным.
За пять месяцев до того сеанса, о котором я сейчас буду рассказывать, он пришел на встречу со мной в сильном волнении по поводу длящейся уже несколько недель внутренней борьбы, направленной на завершение написания важной работы. Я почувствовал, что он отчаянно нуждается в помощи, и — меняя свою методику, как я нередко делаю — я специально и непосредственно погрузился в практическую проблему его блока, интересуясь тем, что происходит, когда он, например, садится за пишущую машинку. После этого сеанса он вернулся к себе и написал работу, которую оценил как лучшую изо всех им написанных, и это заключение позднее было подтверждено объективно, Я упоминаю об этом случае потому, что он, вероятно, как-то был связан с сознательными намерениями пациента в противоположность его интенциональности во время того сеанса, о котором я сейчас буду говорить. Придя на этот сеанс, он упал на кушетку и громко вздохнул.
ПРЕСТОН. Я застрял в своей работе еще хуже прежнего. Глупейшая вещь — то, что я пытаюсь написать, простейшая задача. Скромная, непритязательная пьеса. Я ничего не могу сделать… самый сильный блок не знаю даже за какое время, за все то время, что я пишу… У меня вот такая стопка бумаги. [Жестикулирует.] Это явно испытание моего психического состояния… никакой работы… я не жду чуда… По-моему, это яркая демонстрация какого-то извращения… Должно быть что-то случилось… то есть, после обеда я должен был вернуться в свой кабинет — и не захотел. У меня масса дел — и все нужно сделать до завтрашнего вечера… крайний срок. Тяжело — не понимаю, почему это должно было стать настолько трудным. [Пауза.] Я не знаю, продолжать ли говорить об этом или оставить и перейти к другим вещам.
ТЕРАПЕВТ. Я предпочитаю, чтобы вы решили сами, поступайте по своему усмотрению.
ПРЕСТОН. [Глубоко вздыхает.] Я настолько привык быть здесь режиссером… Я имею в виду, что, может быть, делаю все это, чтобы избежать разговора о чем-то другом. Я не могу контролировать свое поведение во всем этом. Я начал это утро в хорошей форме, в прекрасном настроении для написания этой пьесы… и бац! Сейчас, конечно же, напряжение безумно растет… Я не знаю, что делать… ну… Я не знаю, стоит ли говорить об этом… Это мелочь… вы знаете… просто второстепенная пьеса.
Это все говорилось апатичным, якобы безучастным тоном, почти "сквозь зубы". Тяжело вздохнув он продолжил:
Прошлой ночью мне приснилось несколько снов, я не запомнил их, но помню, что они были… в общем если бы я вспомнил, то что-то прорвалось бы наружу… я бы соприкоснулся с самим собой… тонкая стена… почему я не могу прорваться сквозь нее… Я размышлял до того, как прийти сюда… вы знаете, за мной, за моей болезнью такой груз привычки, что каждый раз, когда кажется, что я чего-то добиваюсь, что-то вижу, или что-то меняется — то это как укол булавки для этих, знаете, самозаклеивающихся шин… Что-то нужно делать… Мое беспокойство растет… Я весь день был в напряжении… Я пытаюсь нейтрализовать это… У меня возникают мазохистсткие фантазии… когда я пытаюсь писать, то каждый пять минут встаю, иду в туалет, попить воды… У меня вот такой высоты стопка страниц… [Жестикулирует.]… как-то напишется само по себе… Я никогда не мог хорошо начать… иногда что-то меняется… У меня нет интереса к работе… Я не думаю о ней… Так плохо мне ещё никогда не было. Это привычка… Все это меня совершенно не интересует.
В течение первых пятнадцати минут этого сеанса я почти не говорил, просто слушал, пытаясь понять, что означает эта его речь. Что он хочет? Чего он добивается этим утром? Просит ли он о помощи, как это было на подобном сеансе пять месяцев тому назад? Но когда я услышал его апатичный тон, то решил, что это не так. Не похоже, что он желает помощи в решении проблемы написания пьесы, учитывая такие его высказывания, как: "У меня нет интереса к работе" и "Как-то напишется само по себе". Тем не менее, он очень расстроен; это очевидно и неподдельно. Он хочет, чтобы благодаря какому-то волшебному вмешательству его работа была выполнена за него? Такой элемент несомненно присутствует в образе жизни Престона: первое сновидение, о котором он рассказал, что произошло на вторую неделю психоанализа, было о том, как он находился в больнице и ему дали сыворотку искренности. Сначала она не действовала; затем Престон почувствовал головокружение, и он и врачи решили, что сыворотка действует; но затем в конце сновидения он испугался, что "то, что он скажет окажется не тем, что они хотели услышать от него". Я пришел к выводу, что какой-то элемент этого присутствует и сегодня, и что ему необходимо мазохистски вызвать у себя "головокружение", чтобы "подвергнуться волшебному действию". Но я думал, что это не главное. Кроме того, в том его рассказе о сновидении были заслуживающие внимания слова — он испугался, что "то, что он скажет, будет, не тем, что они хотели услышать от него". Это замечательный способ сказать, что основное — не волшебство, а "то, что он скажет"-его скрытая установка и чувства по отношению к этим "они" (включая меня как центральный персонаж, дающий сыворотку в сновидении). Это его интенциональность, в том смысле, как мы употребляем этот термин здесь.
И тот факт, что это проявилось в сновидении, в условиях наименьшего сознательного искажения, заставило меня обратить на это особое внимание. Пытаясь понять, что происходит сегодня, я вспомнил, как он вошел и упал на кушетку в самом начале сеанса. У меня возникло чувство, хотя я не сознавал его в тот момент, что он раздражен. Теперь оно подтверждалось тем, как он говорил, почти не раскрывая рта, и произнося слова, сквозь стиснутые зубы. Соответственно, у меня возникло предположение, что его одолевает гнев, а если более конкретно, он зол на меня.
Должен ли я был объяснить ему, что чувствую? Если бы я это сделал, то он, наверное, кивнул бы головой, соглашаясь, и ничего бы больше не произошло, за исключением того, что он бы еще глубже спрятался за свой частокол, возможно, демонстрируя мне плохо скрываемое раздражение. Или он мог сказать, что я просто неправ, и мы снова оказались бы на прежнем месте. Если его интенция сводится к гневу или же отрицательна каким-то иным образом, то разумное обсуждение исключается, по определению. Мы не можем выявить интенциональность как таковую словесными объяснениями. Престон делает это для нас более чем понятным своим чудесным символом: "Я самозаклеивающаяся шина". Любой полученный им укол окажет на него не большее воздействие, чем на такую шину, и он тут же закроется снова.
Я должен, скорее, заставить его прочувствовать этот гнев со мной, пережить со мной свое отношение ко мне. Для меня как терапевта слишком самонадеянно полагать, что пациент испытывает все эти терзания и страдания собственно из-за меня: но так получилось, что в данный момент я был единственным другим человеком в комнате, персональным воплощением его межличностного мира. Таким образом, я стал тем, на кого была направлена и относительно кого разворачивалась его интенциональность, несмотря на все ее генерирующие перенос элементы. Я нахожусь здесь, рядом с ним как реальный человек сам по себе и как представитель мира людей, по отношению к которому он может испытывать и переживать свои конфликты в его внутри- и межличностном мире.
В течение первой четверти часа между нами произошел следующий разговор:
ТЕРАПЕВТ. С самого начала этого сеанса вы говорите мне. что все напишется само собой… что вы не имеете никакого отношения к этому… вы перекладывается все в мои руки… вы даже спрашиваете меня, стоит ли говорить об этом… вы вне этого… вы ничего не можете сделать с этим.
ПРЕСТОН. [Пауза.] Это нечто такое, чего я не могу контролировать… Большая часть моей жизни лишена центра… мой собственный центр не функционирует. Конечно, я оставил работу в стороне, я ничего не могу сказать… [Становится более возбужденным, когда я не реагирую на это.] Я не могу изменить это.
Я почувствовал, что эта фраза "моя жизнь лишена центра", которая вполне могла быть взята из какой-то моей работы, прочитанной им, была направлена на то, чтобы втянуть меня в дискуссию. И я ответил только: "Угу".
ПРЕСТОН. Я не могу!.. это не сознательно и не умышленно. Как, как?!…Я сидел за пишущей машинкой и работал… Я старался и старался… Проклятье. Что же, черт возьми, мне делать?.. Пьеса не представляет из себя ничего сложного… Я работал — материал не пугал меня… он не скучен — ничего особенного… Я знал, что должен сказать… знал свой язык… Я знал свое мнение… Я сидел за пишущей машинкой и ничего не получалось, ничего, ничего, ничего! У меня стопка бумаги вот такой высоты — все варианты, снова и снова, одних и тех же слов… А теперь, [кричит] что, черт возьми, мне делать?
ТЕРАПЕВТ. Вы спрашиваете меня, не так ли?
ПРЕСТОН. Конечно.
ТЕРАПЕВТ. Вы спрашиваете меня, что само по себе уже оставляет вас в стороне от этого. [Пауза.]
ПРЕСТОН. Ну ладно, ладно… Я чувствую себя очень, очень раздраженным… Боже мой!.. Мне не хочется ничего говорить… Сейчас я просто чувствую себя как в ловушке… Мне хочется убить кого-нибудь…
ТЕРАПЕВТ. Вы в ярости.
ПРЕСТОН. Я знаю.
ТЕРАПЕВТ. Вы злитесь на меня.
ПРЕСТОН. Да, это правда.
ТЕРАПЕВТ. Несколько минут назад вы сказали, что причина того, что вы не можете выполнить работу, в отсутствии у вас воли. Но причина того, что у вас нет воли, в том, что вы всегда остаетесь в стороне от работы. Вы не имеете к этому никакого отношения Все напишется само собой. Если за пишущей машинкой никто не сидит, то кто же напишет пьесу?
ПРЕСТОН. У меня нет воли проникнуться работой. Сознательно я хочу, но воля все равно вся бессознательна. Позапрошлой ночью я сознательно хотел переспать с той девушкой. [Он говорит здесь о случае, имевшем место позапрошлой ночью, когда он оказался импотентом.]
ТЕРАПЕВТ. На вчерашнем сеансе вы сказали мне, что как раз не хотели переспать с ней.
ПРЕСТОН. Ну, я имею в виду, что я думал, что я хотел… Или я должен был хотеть. — О, Господи, я не знаю. [Исходя из того, что самой лучшей защитой является нападение, он меняет тактику.] С прошлой осени я ничуть не изменился. Я в таком же плохом состоянии, как и всегда — в таком же плохом, как и тогда, когда я пришел к вам.
То, чего я добиваюсь, заявляя, что он "перекладывает все в мои руки", должно быть очевидным для читателя: я заставляю его посмотреть в лицо его выдумке, что "все напишется само собой", а он "не имеет никакого отношения к этому". Я ставлю в центр внимания его намерения, для того чтобы заставить его прочувствовать конфликт между ними и его интенциональностью. Этим утром он пришел как бы с намерением получить помощь в отношении своей проблемы писательского блока. Но с самого начала сеанса мы видим явное противоречие между его апатичной позицией, его тоном и тем фактом, что он действительно страдает и имеет дело с серьезной проблемой. Эти два момента противоречат друг другу на уровне намерения; но они должны иметь какое-то единство в интенциональности пациента, какой бы она ни была. Всю эту часть сеанса можно рассматривать как вышедший наружу конфликт между намерением и интенциональностью, неизбежно переживаемый со всеми аффектами, что обычно сопутствуют ему (в данном случае гнев).
Когда я говорю: "Если за пишущей машинкой никто не сидит, то кто же напишет пьесу?", — то самым очевидным образом напрашивается один ответ: "Вы, доктор Мэй, вы напишите ее за меня" (волшебным образом сделать так, чтобы она была написана). Но когда это выходит наружу, то оказывается настолько явно абсурдным, что он, конечно же не говорит этих слов. Когда конфликт становится явственным, Престон делает удивительное заявление относительно воли. Если бы я обсудил все это с ним, то мы бы пришли к бесполезной интеллектуализации, и упустили бы суть: но если взять это в контексте, то мы получаем его прекрасную констатацию противоречия между тем, что он, по его мнению, хотел (намерением), и его "лежащей в основе волей" (интенциональностью). Интеллигентные люди, подобные Престону, в пылу аффекта во время психоанализа часто произносят удивительно проницательные вещи, не осознавая важности того, что они говорят. Я думаю, что одним из таких утверждений является: "Вся воля все равно бессознательна".
Если читатель обвинит меня в том, что я загнал этого человека в ловушку, то я отвечу: да, это именно то, к чему я стремился — или, если быть более точным, я стремился загнать в ловушку конфликт и таким образом заставить его выйти наружу. Если бы мое предположение было неверным — то есть, если бы я неправильно понял то, что происходит и гнев был бы направлен не на меня — то мои слова просто упали бы как семена на камень: Престон не отреагировал бы. Или же он просто сказал бы мне, что я неправ, а затем, возможно, рассказал мне, что происходит; или он мог бы отреагировать большим отчаянием и безысходностью. Если терапевт ошибается в отношении интенциональности, то вследствие этого терапевтическая беседа оказывается просто безрезультатной.
Когда весь удар конфликта обрушивается на сознание пациента, свой обвинительный гнев он обращает на меня — я совсем не помог ему; он так же плох, как и тогда, когда пришел ко мне. Этого гнева, конечно же, следовало ожидать: мы видим его прототип в гневе Эдипа по отношению к Тиресию, предсказание которого привело к полному осознанию Эдипом своего конфликта.
После этого последнего обмена репликами магнитная запись звучит дальше:
ТЕРАПЕВТ. Хорошо, одно сегодня ясно, вы злы на меня. Выговоритесь.
ПРЕСТОН. Это не то. Ну, может быть… Будь оно все проклято. Что за черт! Все, я конченый человек. У меня нет больше сил. Я не могу это сделать. Я держусь на этой работе на волоске. Я ее потеряю. Мне нечем будет заплатить вам. Я скажу им: "Я не могу написать эту пьесу, я невротик". Они будут просто счастливы. Так что я возвращаюсь назад на солевые копи для интеллектуалов.
ТЕРАПЕВТ. Вы неплохо отомстите мне этим, не так ли? Все к черту… вы становитесь бездельником… не можете ничего делать… не можете заплатить мне.
ПРЕСТОН. Ну, я не это имел в виду. Это неправда, все, что я говорю, неправда, вот почему это так чертовски расстраивает.
ТЕРАПЕВТ. Единственное, что правда сегодня, — это то, что вы сердитесь на меня. Вы злы с самого начала сеанса. Это ваш гнев не дает вам писать, создает напряженность.
ПРЕСТОН. Почему я сердит? На что я сержусь? Что это означает — "Я разгневан"? Какой смысл в этом гневе?.. Все, я не буду говорить.
ТЕРАПЕВТ. Дело совсем не в этих "что" и "почему". Черт с ними. Вы не станете говорить, ну что ж, это прекрасный способ связать мне руки. Связать мне руки — это выражение вашего гнева по отношению ко мне.
ПРЕСТОН. Ну, что ж, я буду говорить. Большое дело. И что тогда?
ТЕРАПЕВТ. Что вы хотите, чтобы я сделал?
ПРЕСТОН. Я не знаю. Когда я думаю о своем гневе, он исчезает.
После этого гнева, прочувствованного в конфронтации со мной, мое заявление: "Что вы хотите, чтобы я сделал?" — по-моему, является очень важным. Это один из тех вопросов — вроде "Что вы хотите от меня сегодня?" или немного более шокирующий "Зачем вы пришли сегодня?" — которые я задаю часто, и нередко как раз тогда, когда пациент сам задает мне неприязненный вопрос. Это прямой путь выявления его интенциональности. Если бы я попытался сделать это до того, как он полностью прочувствует свой гнев, он бы отделался от этого вопроса банальностью: разве не очевидно, что он хочет, чтобы я помог ему с его писательским блоком? Но теперь, когда этого вопроса уже нельзя избежать, проявляется первое реальное отчаяние в этом сеансе.
ПРЕСТОН. Я ничего не могу с этим поделать, потому что я начинаю думать… Я не могу…
И в этот момент отчаяния я даю обобщающее объяснение.
ТЕРАПЕВТ. Вы говорите мне, что ничего не можете поделать со своей писательской работой. Вы говорите мне, что разгневаны, но ничего не можете сказать мне об этом, потому что думаете. Хорошо, но одно вы все же можете сделать: рассказать о своих чувствах. Вчера большую часть сеанса вы говорили мне о том, что должны оставаться больным. Рассказывая о том, что происходит, когда вы садитесь писать, вы рассказываете именно о том, что вы не стараетесь писать — каждые пять минут вы встаете выпить воды или еще Бог знает зачем. То, что я слышу сегодня, это не "Я не могу", а снова и снова повторяющийся крик: "Я не буду". Я не говорю, что вы можете изменить это волевым актом — Боже упаси; если бы это было так легко, то что нам здесь делать? Но за вашим "Я не могу" стоит яростная, упорная борьба. Борьба, развернувшаяся сегодня со мной. А также борьба с вашим отцом. То, что вы сказали мне несколько минут тому назад, является именно тем, что больше всего разъярило бы вашего отца. Вы потеряете работу, у вас не будет денег, вы разоритесь, станете бездельником
Тон его голоса, который, конечно же, не передается на бумаге, в следующем ответе совершенно отличается от заунывного, выслушайте-же-меня-черт-бы-вас-побрал тона первой части сеанса. Теперь он уже не цедит сквозь зубы и говорит искренне, стремясь к общению.
ПРЕСТОН. Я говорил вам, что нисколько не изменился с тех пор, как пришел сюда. Нет, я сильно изменился. Просто кажется, что я остался таким же. Почему? Потому что конфликт намного более опасен. Грань острее… Тогда я ее не видел, а теперь вижу. Из этого следует, что я должен заставить вас увидеть во мне больного человека. И я рассердился именно тогда, когда вы отказались верить, что я не могу измениться… Ох… ох… я так болен, так болен [посмеиваясь над собой]. Вы не сказали ни слова… Вы должны были воспринимать меня как больного человека. Все выглядело так, будто вы говорили: "Это все ерунда"… Вы считали, что я смогу сделать это. Я хотел, чтобы вы поняли, что я не могу сделать этого. Я не хочу делать этого. Никакого удовлетворения в том, чтобы поправиться. Удовлетворение приходит от того, что я болен. Я мученик!
ТЕРАПЕВТ. Именно.
ПРЕСТОН. Я благородный, чувствительный мученик, я не могу сделать этого. Вот в чем трагедия. То, что я говорил вчера, означает, что я должен быть импотентом — то есть мучеником по отношению к девушкам — импотентом… Теперь я оказался в ситуации, где это не работает. Вот почему я должен быть больным. Вот почему я должен демонстрировать, что не могу жить. Я умру, если добьюсь успеха. Я умру, если буду здоров. Они не могут выгнать меня, не могут бросить меня. "Как вы можете поступать так с больным человеком?" Если я буду самостоятельным, вы выгоните меня. "Уходите из моей комнаты, уходите из этого дома!" Я буду покинут… Мне нет места в этом мире.
ТЕРАПЕВТ. По крайней мере ясно, что вы сами себя бросили — вы относитесь к себе так, будто бы вам нет места в этом мире. Это именно то. что вы сделали сегодня со своей работой. Если бы вы пришли сюда и сказали: "Я тяжело работал, я написал пьесу", — то что особенного было бы в этом? Но если вы говорите: "Я ничего не могу сделать", — это уже настоящая трагедия.
ПРЕСТОН. Именно поэтому меня так бесит, когда вы не принимаете мое "я не могу". Я был зол. Сейчас я уже не злюсь. Был. Я был так зол, что не мог говорить. Я не мог открыть рта. Что может быть яснее?
ТЕРАПЕВТ. Да, вы пришли в ярость именно в тот момент, когда я отказался согласиться с вашим "я не могу".
Это иллюстрирует сказанное в предшествующей главе о том, что терапевт принимает пациента с точки зрения его "я могу", стоящего за его "я не могу". Я, конечно же, не подразумеваю, что наше словесное разъяснение пациенту того, что скрыто здесь, должно помочь, что мы должны обязательно выражать это словами; до того, как "я могу" станет практической возможностью и будет осознано пациентом, может потребоваться много времени. Я хочу сказать, что пациент может обсуждать и говорить о своем "я не могу" до самого светопреставления, и при этом разговор будет оставаться совершенно бесполезным, неспособным изменить его или даже принести эмоциональное облегчение, если частью полярности не станет "я могу". Именно "я могу" делает разговор о "я не могу" динамичным, причиняет боль, но влечет за собой какую-то мотивацию измениться. Иначе "я не могу" превращается в смирение и может поначалу приносить что-то вроде сладостно-горького, ностальгического и романтически циничного удовлетворения, но вскоре становится пустым и бесплодным.
Когда пациент действительно беспомощен и в отчаянии, я не бросаю ему вызов таким образом, по очевидным причинам — основной из которых является то, что ему этого не нужно. Что важно здесь — это то, что "я не могу писать" используется Престоном в качестве стратегии, чтобы щелкнуть кнутом над моей головой. Это прикрытие для реального "я не могу", которое состоит не в "я не могу писать", а в "я не могу позволить себе не быть больным, потому что тогда меня выгонят, бросят, не будут любить", — как говорит позднее об этом Престон. Для пациентов представляет угрозу, серьезную опасность, когда вы верите в их "я могу", даже если это делается без излишних нравоучений и морализаторства, а просто как выражение реалистичного убеждения, основанного на знании и некоторой здоровой вере), что люди действительно способны меняться и расти. Причина, почему это опасно для пациента, не просто в том, что это делает его ответственным, это более тонкая и глубокая опасность, — он лишается своего мира, на который он мог бы ориентировать себя. То, что я не вписываюсь в тот мир, который он непрерывно строил для себя всю свою жизнь, сильно подрывает его связь с миром.
Последующую часть сеанса он, главным образом, жалуется:
ПРЕСТОН. Я отчаянно пытаюсь сказать: "Я болен". Но почему? Что я забыл сказать раньше… Я впервые подумал об этом, когда вы упомянули моего отца. Почему я упустил это! Я сказал, что то, что я пишу, не имеет никакого отношения к сегодняшнему блоку. Конечно же, имеет. Эта пьеса об отце, матери и сыне, сыне, только что вернувшемся с войны. После двух дней пребывания дома у сына начались проблемы, точно такие же, как и у меня, когда я вернулся с войны. В отце чувствуется натянутость. Сын говорит матери: "Я ухожу; отец никогда не говорил, что любит меня"… Затем сын думает, что, может быть, он сам не говорил ему этого. Тогда он говорит: "Пап, я правда люблю тебя". Отец какое-то время сохраняет напряженность, затем он не выдерживает, и они обнимаются. Я делаю вид, что вовсе не хочу этого… Я хочу, — хочу, чтобы мой отец сказал: "Я люблю тебя, ты сможешь сделать это". [Пауза.] Я хочу, чтобы отец положил руку мне на плечо и сказал: "Я люблю тебя. С тобой все в порядке. Ты можешь работать, ты действительно можешь… Ты имеешь право на жизнь". Я не получил поддержки от своего отца. Более того. Мать уступала мне… или переделывала меня… возникала напряженность. Но отец, нет… Отец только сказал: "Держись подальше от девушек". Отец никуда не пускал меня. Я хотел, чтобы мой отец сказал: "Ты можешь. Ты можешь!" Он сказал: "Ты не можешь… ты не будешь жить".
В течение оставшейся части сеанса он говорит о своих чувствах к людям, которые любят его только из-за его славы, и о своем парадоксальном опасении, что если он станет еще более знаменит, то его перестанут любить. Его собственный внутренний конфликт — внутрипсихический аспект, который проявляется в межличностном столкновении — прекрасно выражен в его словах, сказанных в последней части сеанса: "Я функционирую подобно зеркалу — две личности, одна в одном направлении, другая — в другом".
Каким образом обобщить происходящее здесь? Во-первых, имеется сознательное намерение пациента. Насколько он сознавал его, оно заключалось в следующем: "У меня блок в отношении моей писательской работы; я себя ужасно чувствую в связи с этим блоком". Он не сознавал, что это его ужасное чувство является гневом и негодованием по поводу того факта, что ему вообще пришлось столкнуться с такой проблемой, а воспринимал его как обобщенное расстройство с вытекающим отсюда намерением: "Я срочно обращусь к доктору Мэю, чтобы он что-то сделал по этому поводу".
Затем, как я это вижу, мы пришли к его интенциональности, его отношению ко мне в целом, которое, хотя и на уровне неосознанности, присутствовало у него, когда он пришел. Оно состояло из гнева и негодования по отношению ко мне, из агрессивного щелканья кнутом, которое он невольно демонстрирует нам в прекрасном символе: "Я здесь режиссер". Заставить меня взять на себя, переложить на мои плечи свою писательскую работу и т. д. приняло у Престона форму борьбы. Я сравниваю это с требованиями младенца в коляске; с возмущением маленького наследного принца, который приказывает взрослым служить ему и гневается от того, что данное ему обещание (которое он вроде бы получил от своей матери) не исполняется. Этот гнев является, с одной стороны, гневом по поводу того, что он столкнулся с таким блоком, с такой оскорбительной обидой вдобавок к его поражению, ведь Принцу должно быть достаточно взмахнуть своим жезлом, пером, и появится шедевр. Он не смог бы выразить словами то, что я сейчас описал, если бы я попросил его об этом в начале сеанса; однако я бы не назвал это "бессознательным". Это выражалось во всем его поведении, присутствовало в языке движений его тела, символически передавалось в его отношении ко мне. Это мостик, соединяющий разные уровни осознанности и сознания.
Но затем проявляется то, что по праву может быть названо бессознательным — подавляемый элемент в его высказывании о том, что пьеса, которую он видел накануне вечером, не имеет никакого отношения к его расстройству. Когда я отказываюсь согласиться с его "я не могу", подавляемые воспоминания выходят на поверхность. По моему мнению, прорваться через такое подавление можно было только после конфронтации со мной. После этого он смог вспомнить, что пьеса в его видении, действительно имела много общего с его конфликтом и, несомненно, во многом определяла то, почему именно этим утром у него был такой сильный блок. ("Если я напишу хорошо и добьюсь успеха, отец не будет любить меня").
В последней трети сеанса проявились проблемы внутрипсихических конфликтов. За его гневом лежало желание быть любимым, страх быть отвергнутым и покинутым, для него единственный способ быть любимым, особенно женщинами, заключался в том, чтобы оставаться больным, нуждаться в помощи, быть неудачником. Это во многом связано с такими генерирующими факторами, как его детские переживания и т. п., которые, собственно, относятся к сфере психоанализа и которыми я не пренебрегаю, просто они не входят в область настоящего нашего исследования. В эти сферы нельзя проникнуть без изучения воли и желания — то есть, без первоначального выявления интенциональности.
Некоторые читатели в ходе нашего обсуждения интенциональности могли бы задать себе вопрос: "В чем разница между этим и "ролевой игрой" в терапии?" И настаивая на своем вопросе, они могли бы спросить: "Разве ударение на действии как на неотделимой части намерения не то же самое, что рекомендация проиграть роль?"
"Проигрывание" — это преобразование влечения (или намерения) в открытое поведение как раз с целью избежать инсайта. Видение полного смысла желания или намерения, полное понимание его значения, как правило, еще больше нарушает взаимосвязь "я" человека с миром и поэтому вызывает большее беспокойство и боль, чем проигрывание желания, даже если человек при этом получает отказ и страдает. По крайней мере, если человек может сохранять всю эту проблему на уровне мышечного поведения, ему не приходится стоять перед лицом более серьезной угрозы его самолюбию. Вот почему проигрывание справедливо ассоциируется с инфантильными, психопатическими и социопатическими типами характера. Проигрывание происходит не только на уровне сознания, но также и на уровне сознавания, что, как я покажу в следующем разделе, является способностью, общей для человека и для животных, более примитивным эволюционным уровнем, предшествующим сознанию. У взрослых пациентов проигрывание обычно является попыткой разрядить желание или намерение без необходимости преобразовывать его в сознательное. Нелегко жить с интенциональностью, не проигрывая ее; жить в полярности намерения и действия означает жить с собственной обеспокоенностью. Поэтому, если пациенты не могут уйти в действие, они пытаются избежать напряжения, делая противоположное, отрицая само намерением в целом.
Интеллигентный пациент использует метод (и это, мне кажется, является сегодня обычным приемом) интеллектуализации намерения и этим препятствует его аффектации, выхолащивает и опустошает переживание. Сегодня, когда пациент испытывает ненависть к своему отцу и желание убить его, он обычно знает, что ему не следует искать пистолет и делать это. Но если он затем отстраняется от всей этой проблемы, напоминая себе: "У каждого возникают такие мысли в ходе психоанализа; это просто часть эдипова комплекса", — тогда постоянный разговор об этом ни к чему хорошему не приводит и только укрепляет его защиту против того, чтобы действительно решить какую бы то ни было реальную проблему, существующую у него по отношению к отцу. Такой пациент как раз выводит интенциональность из сферы переживания. Он выхолащивает ее таким образом, что в действительности уже не имеет никакого намерения, не стремится ни к чему и обсуждает только абстрактную идею. Оторванность и психопатическое проигрывание являются двумя противоположными путями избежать конфронтации со своей интенциональностью. Первый метод характерен для интеллектуализирующего, компульсивно-обсессивного типа, а последний — для инфантильного, психопатического типа.
Мы же хотим, чтобы пациент искренне пережил смысл и значение своего намерения; само "переживание" включает действие, но действие, определяемое структурой сознания, а не физически. Когда мы подчеркиваем, что намерение имеет свое действие в рамках структуры сознания, то подразумеваем две вещи: первое, что действие должно быть прочувствовано, пережито и принято как часть меня вместе с его социальными следствиями; и второе, что посредством этого я избавляюсь от необходимости осуществлять его физически. Проигрываю ли я все это поведенчески в мире или нет, является проблемой другого уровня. Если я лицом к лицу встретился со своей интенциональностью, я могу надеяться принять решение и во внешнем мире.
Психоанализ главным образом должен быть направлен на переживание намерений, подразумеваемых ими действий и их смысла — служить "игровой площадкой для интенциональности", если заимствовать фразу Фрейда о переносе — без необходимости для пациента превращать все это в открытое поведение. Конечно же, терапевты сталкиваются с риском, что проигрывание может приобрести опасный характер, потому что всегда, когда пациент искренне что-то переживает, существует риск. Но фрустрация, эмоциональное состояние пациента от осознания своего желания убить отца — это аффект, который может и должен быть использован, для того чтобы изменить его отношение к отцу. Такая ненависть и желание убить, когда они имеют место в зрелой жизни, по моему опыту, обычно оказываются выражением зависимости от отца. Нормальный, конструктивный исход состоит в том, что посредством понимания смысла этого переживания, а также разрядки аффекта "разрушается" чрезмерная привязанность к отцу и этим обретается большая эмоциональная независимость. Эта иллюстрация, несомненно, звучит слишком упрощенно, но я надеюсь, что она все же демонстрирует различие между переживанием намерения и его следствий в сознании и "психопатическим проигрыванием. Как при психопатическом, так и при тревожно-уклоняющемся типе расстройства пациенты стремятся избежать конфронтации с реальным смыслом своей интенциональности. Вся суть того, что мы пытаемся сделать в этих главах по интенциональности, состоит в том, чтобы восстановить и сделать центральным этот смысл действия. Таким образом, обращение к интенциональности может по-настоящему подорвать метод проигрывания в психоанализе.
Здесь следует отметить еще один момент. Интенциональность базируется на смысловой матрице, во многом общей для пациента и терапевта. Каждый человек, нормальный или душевнобольной, живет в "координатах" смысловой матрицы, которую он в некоторой мере создает сам — то есть, эта матрица индивидуальна — но создается она в рамках общей ситуации человеческой истории и языка. Вот почему так важен язык: это среда, в которой мы находим и формируем нашу матрицу смыслов, среда, которую мы разделяем с другими людьми. "Язык — это духовный корень каждого человека", — говорит Бинсвангер. Мы также утверждаем, что история является культурным остовом каждого человека. Смысловая матрица важнее любого обсуждения — как научного, так и любого другого, так как она делает сам разговор — как и в психотерапии — возможным. И мы никогда не сможем понять матричные смыслы пациента, или фактически любого другого человека, беспристрастно оставаясь вне него. Я должен быть способен проникнуться смыслами моего пациента, но в то же самое время сохранять свою собственную смысловую матрицу, и таким образом неоспоримо и справедливо объяснить ему, что он на самом деле делает — и зачастую по отношению ко мне. Все это остается верно и для всех иных человеческих взаимоотношений: любовь и дружба требуют, чтобы мы разделяли матричные смыслы другого, но не отказывались от своих собственных. Именно таким образом человеческое сознание понимает, развивается, изменяется, становится ясным и полным смысла.
Стадии терапии
Процесс терапии конкретных пациентов включает сведение вместе трех измерений: желания, воли и решения. С тем как пациент на своем пути к цельности переходит от одного измерения к следующему, каждое последующее снимает в себе предыдущее. Интенциональность присутствует во всех трех измерениях.
Желание, волю и решение мы обсуждали в этой книге раньше. Теперь важно вернуться к ним — уже после обсуждения интенциональности. Ибо интенциональность обязательно необходима для полного понимания желания, воли и решения. Теперь мы более полно покажем значение нашей проблемы, описав практическую терапию на всех трех уровнях
Первое измерение, желание, наблюдается на уровне сознавания, это измерение, общее и для человеческого организма, и для животного. Переживание инфантильных желаний, телесных потребностей и влечений, полового влечения и голода и всего диапазона бесконечных и неистощимых желаний, которые характерны для каждого индивида, является центральной частью практически всей психотерапии, начиная от подхода Роджерса, с одной стороны, до классической Фрейдовой методики — с другой. Переживание желаний может вызвать у человека драматическое, а иногда и травматическое беспокойство или сдвиг при разоблачении того подавления, которое с самого начала вызывало блокирование его сознавания. Относительно значения и необходимости выявления подавления — динамических аспектов, которые выходят за рамки нашего настоящего обсуждения — различные виды терапии радикально отличаются; но я не могу представить ни одного вида психотерапии, в котором процессу сознавания не уделялось бы центральное место. Например, подходы Вольпе и Скиннера, направленные скорее не на то, чтобы выявить эти аспекты сознавания, а на внешние условия. Однако я скорее назвал бы их не психотерапией, а бихевиористской терапией — переориентацией, перевоспитанием, реорганизацией сложившихся привычек.
Переживание желаний может проявляться в простейших формах — желание ласкать или быть ласкаемым, детское желание, первоначально связанное с кормлением и близостью матери и других членов семьи. В зрелой жизни желания могут варьировать от половой близости до прикосновения руки друга или простого удовольствия от ощущения на коже дуновения ветерка и прикосновения воды; вплоть до утонченных, но вместе с тем наивных переживаний, которые могут нахлынуть на вас в изумительный миг, когда вы, стоя перед кустом цветущего жасмина, внезапно поражаетесь яркой голубизне неба рядом с белизной цветов. Это прямое сознавание мира присуще нам, хочется надеяться, во все более развитой форме, в течение всей жизни и является бесконечно более разнообразным и богатым, чем можно себе представить на основе большинства психологических разговоров.
Это растущее сознавание своего тела, желаний и стремлений — процесс, очевидно, связанный с ощущением собственной личности — обычно влечет за собой повышенную самооценку себя как живого существа и все большую значимость бытия самим собой. Именно здесь нас многому могут научить восточные философии, такие как дзен-буддизм.
Давайте снова обратимся к случаю Элен, пациентки, описанной нами в главе о воле и желании, которая использовала девиз: "Там, где есть воля, есть путь", — в борьбе со своим сильным желанием броситься в объятия своей матери. Мы отметили, что это стремление, по-видимому, зародилось в первые два года ее раннего детства, когда ее мать в состоянии депрессии была помещена в психиатрическую лечебницу. В начале терапии Элен не сознавала этой потребности в материнской любви и нежности и в ласковых руках (хотя она беспорядочно удовлетворяла эту потребность с помощью различных мужчин, с которыми спала). Она сознавала только общую депрессию, печаль и недовольство собой под поверхностной неудержимостью, целеустремленностью своей жизни. Появляющееся сознавание и признание этих детских желаний, переживание их во время терапевтических сеансов вызывало у нее открытый гнев и негодование, равно как и беспомощность и чувство стыда от своей "слабости", временами подчеркнутую пассивность, чередующуюся с агрессией и так далее в том же духе. Я говорю об этих вещах, чтобы показать, что осознание этих важных, давно отвергнутых желаний является делом совсем нелегким, совсем не детской игрой в желания. Обычно оно оказывается травматичным и может в значительной степени вывести из душевного равновесия. Отсюда мы получаем возврат к прежнему состоянию, что часто наблюдается в психоанализе. Мы добиваемся осознания этих желаний отнюдь не ради того, чтобы "выпустить пары" или "дать выход аффекту" — хотя я считаю, что настоящее переживание аффекта с неизбежно сопутствующими этому печалью, огорчением и скорбью за ушедшим прошлым, тоже необходимо. Более важно для нас, чем простая разрядка аффекта, то, что желания указывают на смысл. Элен начала обнаруживать связь между ее несостоявшейся любовью к матери и тем, что она хочет получить от бесконечной череды своих любовников, используя секс и близость для чисто словесного удовлетворения и демонстративно упражняясь в соперничестве. ("Если мать и отец не дают мне любви, я покажу им, как я могу получить ее!") И это, наряду с обычным нарастанием гнева и негодования при неврозе, кроме всего прочего будет еще и тем путем, который должен сильно рассердить родителей.
Однако существует и дальнейшая стадия, нередкая в нашей культуре: это более структурированная форма, при которой у пациента развивается как цель "нежелание", что-то вроде цинизма или безысходности, заключающейся в нежелании чего бы то ни было вообще. Исходя из моего опыта, это характерно для компульсивного типа личности. Человек живет по принципу "лучше не хотеть", ибо "желание раскрывает меня", "желание делает меня уязвимым", "если я никогда не буду желать, я никогда не буду знать слабости". Наша культура играет этому на руку любопытным, косвенным образом. С одной стороны, общество вроде бы обещает, что все наши желания будут исполнены — лавина рекламных объявлений гарантирует, что за ночь превратит человека в блондина или рыжеволосого, перенесет его на выходные из кресла стенографиста на реактивный лайнер, направляющийся в Нассау. Миф Горацио Альгера уже давно как развеян, но только не миф, что все будет предоставлено нам. Однако в нашей культуре, кажется, присутствует и любопытная предосторожность: "Вы получите все это обилие удовольствий лишь в том случае, если не будете искать слишком многого, не будете показывать, что хотите слишком многого". Результатом этого является то, что вместо завоевания мира, подобно Альгеру, мы должны пассивно ждать, пока джинн технологии — которого мы не подталкиваем и на которого никак не влияем, а только ждем — принесет причитающееся нам удовлетворение желаний. Все это часть цены нашей веры в грандиозный миф XX века — миф о машине.
Однако этому можно дать культурное истолкование, результат не меняется: люди несут в себе большое количество желаний, на которые они реагируют пассивно и которые скрывают. Стоицизм нашего времени — это не сила в преодолении своих желаний, а способность их сокрытия. Пациент, который, скажем, постоянно логически обосновывает и оправдывает то и это, уравновешивает одну вещь относительно другой, как будто жизнь является огромным рынком, где все дела вершатся на бумаге и телеграфной ленте и без всяких товаров — иногда это в процессе психотерапии вызывает у меня стремление закричать: "Вы когда-нибудь желаете чего-нибудь?" Но я не кричу, ибо нетрудно видеть, что на некотором уровне этот пациент действительно многого хочет; беда в том, что он формулирует и переформулировывает это до тех пор, пока все не превращается в "грохот сухих костей", как выразился Элиот. Для нашей культуры стала эндемичной тенденция отказа от желаний посредством рационализации и готовности признать их существование и вера в то, что этот отказ от желания будет означать его удовлетворение. И независимо от того, согласен ли читатель со мной в отношении той или иной детали, наша психологическая проблема остается все той же: нам необходимо помочь пациенту достичь какой-то эмоциональной жизненности и честности, раскрыв его желания и способность к желанию. Это не завершение терапии, а необходимый отправной пункт.
Мы замечаем, что тело является особенно важным в желании. Это не раз всплывало в ходе нашего обсуждения данного измерения — желание ласки как телесное желание, осознанность, главным образом, как функция тела и т. п. Тело так же важно на этой стадии терапии, как и язык. Желания и интенциональность, лежащая в их основе, выражаются в едва уловимом жесте, в характере речи и походке, наклоне к терапевту или от него — все это составляет язык, который, применительно к бессознательному, оказывается более точным и правдивым, чем то, что пациент произносит сознательно. Это общая причина, почему к телу необходимо относиться благосклонно, более того — восхищаться им, испытывать вожделение к нему, любить его и уважать. Конфликты обнаружат себя, как только "телесная броня" будет подорвана, как выразился Вильгельм Райх; они всегда обнаруживаются под ней как часть телесных средств выражения. С конфликтами уже можно иметь дело вполне конструктивно, но, если тело всегда прикрыто "броней", ничего положительного не получится.
От желания к воле
Второе измерение представляет собой преобразование осознания в самосознание. Оно соответствует отличительной форме осознанности, присущей людям. — сознанию. Термин consciousness [сознание] этимологически происходит от con и scire, означающих "знание с", "со-знание". Строго говоря, самосознание, в обычном смысле, в котором мы используем этот термин здесь, является тавтологией; сознание само включает в себя мою осознанность моей роли в нем. На этом уровне пациент ощущает "я-тот-у-кого-есть-эти-желания". Это измерение принятия своего "я" как имеющего свой мир. Если я сознаю тот факт, что мои желания не просто слепые влечения по отношению к кому-то или чему-то, что я — это тот, кто существует в этом мире, где возможно прикосновение, кормление, половое удовлетворение и отношения между мною и другими людьми, я начинаю видеть, каким образом могу что-то сделать относительно этих своих желаний. Это дает мне возможность проникновения в сущность или "внутреннего видения", способность видеть мир и других людей по отношению к себе. Таким образом, прежняя необходимость подавления желаний в связи с тем, что я не могу вынести их неудовлетворенности, с одной стороны, и навязчивое влечение к их слепому удовлетворению — с другой, снимаются тем фактом, что я сам оказываюсь вовлечен в эти взаимоотношения удовольствия, любви, красоты и доверия. У меня уже возникает возможность изменить свое поведение, с тем чтобы сделать желания более возможными. Общим термином для обозначения сознательных намерений в нашем контексте является воля. Этот термин отражает активный оттенок и самоутверждение в таких намеренных действиях.
В этом измерении воля выходит на сцену не как отрицание желания, а как составляющая желания на более высоком уровне сознания. Восприятие голубизны неба в просвете между цветами жасмина на простом уровне осознания и желания может вызвать восторг и стремление продлить или возобновить это переживание; но понимание того, что я — человек, живущий в мире, где цветы восхитительно желтые, а небо — прекрасно, и что я могу даже усилить свое удовольствие, разделив это мое переживание с другом, имеет глубокий смысл применительно к жизни, любви, смерти и другим фундаментальным проблемам человеческого существования. Как говорит Теннисон, глядя на цветок, пробивающийся сквозь камень в потрескавшейся стене: "… Я смог понять, что есть Бог и человек". Это измерение, в котором появляется человеческое творчество. Человек не останавливается на наивном восторге, он рисует картину или пишет поэму, которые, он надеется, передадут какую-то часть пережитого им другим людям.
Желание и воля к решению
Третьим измерением в процессе терапии является измерение решения и ответственности. Я употребляю эти два термина вместе не без тавтологии, для того чтобы отделить их от воли. Ответственность означает ответ, ответствование. Точно так же, как сознание является определенно человеческой формой сознавания, так решение и ответственность являются отличительными формами сознания человека, движущегося к самоосуществлению, цельности, зрелости. И опять же, это измерение не достигается отрицанием желаний и самоутверждением воли, а присоединяет к себе и снимает в себе предшествующие два измерения. Решение, в нашем смысле, создает из двух предшествующих измерений образ действия и жизни, который обусловлен и обогащен желаниями, поддерживается волей, отвечает на то и отвечает за то, что касается других значимых людей, которые важны для самого человека в осуществлении его долгосрочных целей. Если бы суть не была очевидной, то ее можно было бы продемонстрировать в ключе межличностной теории психиатрии Салливана, философии Бубера и ряда других точек зрения. Все они указывают, что желание, воля и решение включены в цепь взаимоотношений, от которых зависит не только осуществление намерения индивида, но и само его существование. Это звучит как положение этики и таковым и является. Ибо нравственность имеет свою психологическую основу в способности человека выходить за рамки конкретной ситуации непосредственного, нацеленного на себя желания и жить в измерениях прошлого и будущего и в координатах блага другого человека и общности людей, от которых тесно зависит его собственное удовлетворение.
Профессор Эрнест Кин формулирует это мое третье измерение — решения — следующим образом:
"Из сознания моего Я появляется мое ощущение самого себя как "оценивающего себя" и "становящегося собой". Термины здесь должны быть не слишком точными, наверное, потому, что это ощущение является более высоко индивидуализированным. Это "появление" включает интеграцию или синтез моего сознавания телесности и моего самосознания или, можно сказать, моего желания и моей воли. Необходимость дополнительного уровня для целостного функционирования всего Существа человека во взаимосвязи с миром отражает не только диалектический характер "решения", но также и важность понимания того, что намереваться всем своим существом означает нечто большее, чем сумма частей желания и волеизъявления. "Решение" — это ни желание, ни волевой акт, ни сочетание в результате сложения первого и второго. Желание чего-то против моей воли подобно искушению украсть конфету; воля к чему-то против моего желания подобна отрицанию того, что я люблю конфеты; принятие решения относительно чего-то подобно внесению себя в протокол (для себя самого) относительно того, что я должен (или не должен) попытаться получить это. Поэтому принятие решения является обязательством. Оно всегда включает в себя риск неудачи и является действием, в котором участвует все мое существо".1
Человеческая свобода
Наш последний вопрос — это отношение воли человека к его свободе. Уильям Джемс был совершенно прав, указывая на то, что это этический, а не психологический вопрос. Но этого вопроса, как видел и Джемс, избежать нельзя. Какой-то ответ на него всегда предполагается в жизни и работе каждого, и раскрыть это будет лишь делом искренности.
Влияние Фрейда и новой психологии заключается в чрезмерном расширении сферы детерминизма или неизбежности. Мы, как никогда раньше, видим, насколько мы существа обусловленные и как сильно нас формируют и направляют наши бессознательные процессы. Если наша свобода состоит только в свободе выбора в тех областях, что остались ничейной зоной, после того, как остальное взял на себя детерминизм, то мы пропали. Свобода и выбор сужаются, превращаясь всего лишь в крошки со стола детерминизма, бросаемые нам, покуда не будут открыты новые детерминизмы. В этом случае воля и свобода человека становятся детской нелепостью.
Но это наивный и примитивный взгляд на волю и свободу, и от него следует отказаться. После Фрейда стала ясной одна вещь — то, что "первая свобода", наивная свобода Рая перед "грехопадением" в сознание, или свобода младенца, предшествующая его борьбе за расширение сознания, является фальшивой свободой. Нынешняя борьба с машиной — это все тот же вопрос. Если наша свобода — это все то, что осталось — то, что машина не может сделать — значит наше дело проиграно с самого начала: мы обречены перед лицом будущего, когда будет изобретена машина, способная сделать это. Свобода никогда не может быть зависимой от временной отсрочки неизбежного — будь то от воли Бога, науки, или чего-то другого. Свобода никогда не может быть отрицанием закона, как будто наша "воля" действовала только в зоне временной свободы, свободны от детерминизма. Нет, определяющими характеристиками человеческой свободы являются планирование, формирование, воображение, выбор ценностей и интенциональность.
Свобода и воля заключаются не в отрицании детерминизма, а в нашем отношении к нему. "Свобода, — писал Спиноза, — является осознанием необходимости".2
Человек отличается своей способностью понимать, что он детерминирован, и выбирать свое отношение к тому, что его детерминирует. Если он не отрекается от своего сознания, то может и должен выбирать, как относиться к неизбежности, такой как: смерть, старость, ограниченность разума и неизбежная обусловленность средой. Примет ли он эту необходимость, будет ли отрицать ее, бороться с ней, подтвердит ее, согласится с ней? Все эти слова выражают элемент воли. И теперь уже нам должно быть ясно, что человек не просто "стоит в стороне" в своей субъективности, подобно критику в театре, созерцая неизбежность и решая, что он думает о ней. Его интенциональность уже является одним из элементов необходимости, в которой он находит себя. Свобода заключается не в нашем триумфе над объективной природой и не в том небольшом пространстве, что оставлено нам нашей субъективной природой, а в том факте, что наш человеческий опыт включает и то и другое. И то и другое в нашей интенциональности сводится воедино, и в своем переживании того и другого мы уже изменяем их. Интенциональность не только делает возможным для нас занять позицию перед лицом необходимости, но также и требует, чтобы мы заняли эту позицию. Бесконечно много примеров тому дает психотерапия — обычно пациент убежден в строгом детерминизме именно тогда, когда он сломлен или желает уклониться от смысла своих намерений. И чем больше он "детерминирован быть детерминистом" — чем сильнее он доказывает (что уже составляет его интенциональность), что никак не может повлиять на судьбу, обрушивающуюся на него — тем в большей степени он делает себя фактически детерминированным.
Ницше часто говорил о способности "любить судьбу". Он имел в виду, что человек может прямо смотреть судьбе в лицо, познать ее, бросить ей вызов, лелеять ее, не поддаваться ей, противоречить ей, сомневаться в ней, ссориться с ней — и любить ее. И хотя будет самонадеянным сказать, что мы "хозяева своей судьбы", мы вовсе не обязательно должны быть ее жертвами. Мы действительно являемся со-творцами своей судьбы.
Психоанализ требует, чтобы мы не останавливались на намерениях или сознательных логических обоснованиях, а продвигались к интенциональности. Наше сознание никогда уже не сможет вернуться к первоначальной простоте, основанной на вере в то, что если мы думаем что-то сознательно, то в этом и состоит правда. Сознание — это непосредственное переживание, но его смысл должен выражаться языком, наукой, поэзией, религией и всеми другими элементами, образующими мосты человеческого символизма.
Мы вместе с Уильямом Джемсом разделяем смятение и смуту жизни в переходный век, он — в самом его начале, а мы, будем надеяться, — ближе к его завершению. Одно не вызывало у него сомнений: даже если человек никогда не сможет знать всего наверняка и даже если абсолютных ответов нет и никогда не будет, человек все равно должен действовать. После пяти лет, между концом третьего и началом четвертого десятка его жизни, когда он был парализован своей депрессией и едва ли был способен изъявить волю к самым простым вещам, он однажды решил, что может совершить волевой акт к вере в свободу. Он изъявил волю к свободе, сделал это своим наказом. "Первый акт свободы, — пишет он, — заключается в том, чтобы выбрать ее". Впоследствии он был убежден, что именно этот волевой акт позволил ему справиться со своей депрессией и выйти из нее. По крайней мере ясно, что в этот момент его биографии для него начался высоко конструктивный период, который продолжался вплоть до его смерти на шестьдесят восьмом году жизни.
Этот наказ стал интегральной частью взгляда Джемса на волю. Среди множества ощущений, выпадающих нам, множества раздражителей, воздействующих на нас, мы обладаем способностью пускать в ход свое влияние в пользу скорее этой возможности, чем другой. Мы фактически говорим: "Да будет это реальностью для меня". Наказ: "Да будет так!" — это шаг, совершенный Джемсом; это его заявление обязательства.
Он знал, что в волевом акте человек свершает нечто большее, чем то, что бросается в глаза; он создает, формирует нечто, чего никогда не существовало прежде. В таком решении, таком наказе присутствует риск, но оно остается нашим вкладом в мир, — подлинным и самостоятельным. Я критиковал теорию воли Джемса в том, что он упускает интенциональность, сердцевину проблемы. Но в человеческом акте воления, с которого все начинается для человека — способного сказать вслед за Сократом, принявшим решение выпить яд: "Я не знаю, но я верю" — и совершить этот шаг, Джеймс поистине велик. И так как его слова звучат со всей подлинностью и силой человека, который выковал их на наковальне своего страдания и экстаза, нет ничего лучшего, чем процитировать его:
"Огромный окружающий нас мир ставит перед нами разного рода вопросы и всевозможными путями испытывает нас. Некоторые испытания мы встречаем простыми действиями, а на некоторые вопросы отвечаем отчетливо сформулированными словами. Но глубочайший из когда-либо поставленных нам вопросов не допускает никакого ответа, а лишь бессловесный поворот нашей воли и сдержанность наших глубочайших чувств, когда мы говорим: "Да, я приму это даже таким!"…
Таким образом, мир находит себе ровню и достойного партнера в героическом человеке; и то усилие, которое человек способен приложить для того, чтобы держаться прямо и сохранять свое сердце недрогнувшим, является непосредственным мерилом его значимости и его роли в игре человеческой жизни. Он может выдержать это — принять эту Вселенную… Он все-таки может найти в ней вкус к жизни, и не "пряча по-страусиному голову в песок", а с чистой внутренней готовностью смотреть в лицо миру [вопреки всем] устрашающим его объектам…
"Примите ли вы это таким или не примете?"… этот вопрос ставится перед нами ежечасно; это касается как самых незначительных, так и самых важных, как в высшей степени теоретических, так и наиболее прагматических вещей. Мы отвечает согласием или несогласием, а не словами. Просто удивительно, что эти немые ответы и следует считать нашими глубочайшими органами общения с природой вещей!.. И не стоит удивляться, что количество данных нами ответов и составляет наш вклад в этот мир!"3
Часть Третья:
ЛЮБОВЬ И ВОЛЯ
XI. ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛЮБВИ И ВОЛИ
"Половая страсть — причина войн и конца света, основание для серьезности и мишень для шуток, неистощимый источник мудрости, ключ ко всем иллюзиям и смысл всех таинственных намеков… только потому, что в ее основе лежит фундаментальная серьезность… Но все это согласуется с тем фактом, что половая страсть является ядром воли к жизни и вследствие этого средоточием желания в целом; поэтому в тексте я назвал половые органы фокусом воли".
Шопенгауэр
Любопытно, что Шопенгауэр, старый мизантроп, как его часто называют "тонкокожие", в этом представленном выше отрывке называет половую страсть "ядром воли к жизни", а "половые органы фокусом воли". Здесь он выражает истину отношения любви и воли, более того их взаимозависимости, таким образом, который идет вразрез с привычным пониманием современного человека. Сила — которую мы можем в данном случае отождествить с волей — и любовь, даже половая любовь, воспринимаются как тезис и антитезис. Я же считаю, что Шопенгауэр был прав в том, что они не являются противоположностями, а близко связаны.
Наше обсуждение демонического показало, что самоутверждение и самоуверенность, очевидные аспекты воли, сущностно важны для любви. Мы обсуждаем их в этой книге вместе потому, что они взаимосвязаны решающим для личной жизни каждого из нас, и конкретно для психотерапии, образом.
Как любовь, так и воля являются конъюнктивными, связующими формами переживания. То есть и то и другое определяет человека как влекомого, движущегося к другому, пытающегося воздействовать на него или на нее, или вообще на что-то — и открывающего таким образом, что на него может воздействовать другой. Как любовь, так и воля являются путями организации, формирования, ориентации по отношению к миру и попыткой добиться ответа от него через людей, интереса или любви которых мы добиваемся. Любовь и воля являются межличностными переживаниями, рождающими силу, оказывающую существенное влияние на других, и открытость для воздействия с их стороны.
Взаимоблокирование любви и воли
Кроме того, взаимосвязь любви и воли демонстрируется тем фактом, что и та и другая теряет свою силу, если они не удерживаются в правильном соотношении друг с другом; каждая может блокировать другую. Воля может блокировать любовь. Это в особенности можно видеть в "силе воли" человека независимо мыслящего типа, как он предстает перед нами в исследованиях Ризмана.1 Это человек, который в первые десятилетия нашего столетия зачастую был могущественным промышленным магнатом и финансовым воротилой и являлся связующим звеном между нами и тем гипертрофированным почтением к индивидуальной силе воли, которое характеризовало конец викторианской эпохи.2
Это был период, когда человек мог говорить о своей "несокрушимой душе" и провозглашать: "Я капитан своей судьбы". Но если моя душа действительно несокрушима, я никогда не познаю всей полноты любви; ибо сущностью любви является сокрушение всех крепостей. И если я буду держаться за то, чтобы быть хозяином своей судьбы, я никогда не смогу отдаться страсти; ибо страстная любовь всегда чревата трагедией. Как мы видели раньше, Эрос "ломает силу членов" и "берет верх над разумом во всех его трезвых планах".
Пример воли, блокирующей любовь, можно видеть в отце одного моего пациента, молодого студента. Его отец работал заведующим финансовым отделом большой корпорации. Он позвонил мне, чтобы поговорить об "максимальной эффективности лечения его сына", в точности так, будто он находился на заседании правления своей компании. Когда сын, будучи в колледже, несерьезно заболел, отец тут же отправился на место событий, чтобы все взять в свои руки; и тот же отец пришел в ярость, когда его сын взял за руки и поцеловал свою девушку на лужайке перед их летним домом. За ужином отец рассказал, как вступил в переговоры по поводу покупки компании друга его сына, но раздраженный медлительностью переговоров связался со своими предполагаемыми партнерами и велел им "забыть обо всем". Его совсем не волновало, что щелчком своих пальцев он обрекает другую компанию на банкротство. Этот отец был патриотически настроенным гражданином, председателем нескольких комитетов по социальному развитию, и он не мог понять, почему его, начальника финансового отдела международной корпорации, подчиненные за глаза называют "самым жестоким сукиным сыном в Европе". Твердая "сила воли", которая, по мнению этого отца, решала все его проблемы, в действительности в то же самое время служила для блокирования его чувств, для отсечения его способности слышать других людей, даже, — или, пожалуй, особенно, — его собственного сына. Не удивительно, что его исключительно одаренный сын в течение нескольких лет не справлялся с учебой в колледже, прошел через период битничества и в конце концов был обречен на мучительные годы попыток достичь успеха в своей профессии.
Что типично для интровертов, отец моего пациента всегда мог побеспокоиться за других, не беспокоясь о них, мог отдать им свои деньги, но не свое сердце, мог направлять их, но не услышать их. Этот вид "силы воли" являлся переносом в межличностные отношения силы того же рода, что стала настолько эффективной в манипулировании железнодорожными вагонами, биржевыми сделками, угольными шахтами и другими аспектами индустриального мира. Волевой человек, манипулирующий собой, не позволяет себе увидеть, почему он не может таким же образом манипулировать другими. Это отождествление воли с личностным манипулированием является ошибкой, которая ставит волю в противостояние к любви.
Логично предположить, основываясь на весомых свидетельствах из психотерапевтической практики, что бессознательная вина, которую ощущают родители, подобные этому отцу, в связи с тем, что они манипулируют своими детьми, заставляет их быть чрезмерно оберегающими и излишне снисходительными по отношению к ним же. Это дети, которые получают автомобили, но не моральные ценности; приобретают чувственность, но не обучены чувствам в жизни. Родители, по-видимому, смутно сознают, что ценности, на которых основана их сила воли, больше уже не действенны. Но они не могут ни найти новых ценностей, ни отказаться от манипулятивной воли. И поэтому отцы часто действуют, как будто исходя из предположения, что их волей должна руководствоваться вся семья.
Этот чрезмерный акцент на воле, которая блокирует любовь, рано или поздно приводит к обратному действию, к противоположной ошибке, к любви, которая блокирует волю. Это типично для поколения, состоящего из детей родителей, подобных описанному выше отцу. Любовь, провозглашаемая сегодня движением хиппи, представляется прекраснейшей иллюстрацией этой ошибки. "Любовь хиппи неразборчива", — вот общий принцип этого движения. Любовь хиппи акцентирует непосредственность, спонтанность и эмоциональную подлинность момента. Эти аспекты любви хиппи оказываются не только совершенно понятной реакцией, направленной против манипулятивной воли предшествующего поколения, но и являются ценностями по своему собственному праву. Непосредственность, спонтанность и искренность взаимоотношений, переживаемые в насущном сейчас, являются здоровой и наглядной критикой современной буржуазной любви и секса. Протест хиппи помогает разрушить манипулятивную силу воли, которая подрывает человеческую личность.
Но любовь требует также и "выдержки". Любовь разрастается в глубину по мере того, как любящие во встречах друг с другом непрерывно переживают конфликт и, тем самым, растут. Это невозможно исключить из сколь бы то ни было длительного и устойчивого переживания любви. Это включает в себя выбор и волю, как бы вы их ни называли. Обобщенная любовь, конечно, адекватна для обобщенных, групповых ситуаций; но если я удостоился чести быть любимым, то не просто потому, что отношусь к человеческому роду. Вообще, любовь, обособленная от воли, или любовь, уклоняющаяся от воли, характеризуется пассивностью, которая вовсе не объединяет и лишь растет с ростом страсти; поэтому такая любовь ведет к разобщению. Она заканчивается чем-то, что не может быть вполне личным, потому что в нем отсутствует или почти отсутствует различение. Такое различение предполагает волеизъявление и выбор, а выбрать кого-то означает не выбрать кого-то другого. Этого хиппи не учитывают; непосредственность любви в версии хиппи, похоже, сводится к любви эфемерной и преходящей.
Спонтанность несет огромное облегчение после конвейерной линии, искусственности буржуазной любви типа "секс по субботам", против которой восстают хиппи. Но что же относительно верности и прочности любви? Эротическая страсть требует не только способности отдавать себя, открытости себя воздействию извне, силы непосредственного переживания. Она также требует, чтобы человек поместил это событие в свой центр, формировал и строил самое себя и данное взаимоотношение в новой плоскости сознания, которая возникает с этим переживанием. Это требует элемента воли. Викторианской силе воли не хватало чувствительности и гибкости, которые сопутствуют любви; в противоположность этому, в движении хиппи мы имеем любовь без выдержки, связанной, как известно, с волей. Здесь мы видим еще одну важную иллюстрацию того факта, что любовь и воля неотделимы друг от друга.
Последним признаком того, что проблемы любви и воли составляют одно целое, является сходство их "решений". Ни ту, ни другую в наше время невозможно адекватно решить просто с помощью новых методик, возрождения старых ценностей, утверждения старых привычек в более приемлемой форме или любым другим подобным способом. Мы не можем удовлетвориться покраской старого здания в новый цвет; ибо разрушены фундаменты и требуются новые "решения", как бы мы это ни называли.
Для "решения" необходимо новое сознание, в котором центральное место будет занимать глубина и смысл личностных взаимоотношений. Такое всеохватывающее сознание всегда требуется в век радикальных перемен. Не имея внешних проводников, мы перемещаем нашу мораль внутрь; появилась новая потребность в индивиде с личной ответственностью. От нас требуется открыть на более глубоком уровне то, что означает быть человеком.
Клинический случай импотенции
Проблема половой потенции особенно интересна, так как она представляет слияние воли и любви. Импотенция является выражением того факта, что человек пытается заставить свое тело сделать что-то — совершить половой акт — чего "оно" не хочет делать. Или, выражаясь несколько иначе, пациент пытается своей волей заставить тело любить, когда сам он не любит. Мы не можем усилием воли вызвать потенцию; мы не можем волей заставить любить. Но мы можем волей открыть себя, участвовать в переживании, позволить возможности стать действительностью. Импотенция-это провал не намерения, а интенциональности. Ибо точно так же, как языком секса является набухание и эрекция пениса у мужчины и возбуждение и готовность к половому акту у женщины, так языком эроса является фантазия, воображение и повышенная чувствительность всего организма. И если более глубокий и тонкий язык второго не доходит до ушей, то более прямой и очевидный язык тела берет на себя передачу сообщения об этом посредством половой импотенции.
Случай импотенции у Престона, упоминавшийся в предшествующей главе, можно привести здесь более детально, для того чтобы представить картину динамики импотенции, а также контраст между эросом и сексом. Во время сеанса я спросил Престона, какие фантазии возникали у него в тот вечер, когда он раздевался непосредственно перед тем, как лечь в постель с девушкой. Вполне понятно, что ему было трудно вспомнить об этом, так как эти образы и ощущения, связанные с ними, должны были быть подавлены в ходе его попытки заставить себя начать акт. Но когда он все-таки вспомнил, то рассказал следующее: влагалище женщины представилось ему медвежьим капканом; который цепко сжимает его пенис, заставляет его оплодотворить женщину, та беременеет и таким образом он основательно увязнет. По мере того, как он продолжал рассказывать о своей фантазии, стало очевидно, что он относился к ситуации не только как к в ловушке со стороны женщины — как бы противоречиво это ни звучало — ощущая себя, скорее, совращенным, чем совращающим, но также как к выражению своего собственного контрсадизма по отношению к ней, заключавшегося в том, что он продолжал в своих действиях идти дальше и все больше возбуждал девушку только лишь для того, чтобы разочаровать ее. Таким образом, импотенция оказалась точным выражением отвергаемых символических смыслов, имевших место в подсознательных фантазиях Престона. Такие фантазии вовсе не результат случайной причуды, но представляют собой точное и неизбежное выражение его беспокойства, его необходимости подчиниться женщине и его мести ей.
Фантазия — это одно из выражений воображения. Фантазия и воображение являются способностями, посредством которых личностный смысл обретает действенность. Воображение является обителью интенциональности, а фантазия — одним из ее языков. Я говорю здесь о фантазии не как о чем-то нереальном, во что мы уходим, а в ее первичном значении phantastikous, "способность представлять", "делать видимым". Фантазия — это язык целостной личности, общающейся, предлагающей себя, примеряющейся. Это язык "я желаю/я волею" — проекция себя на воображаемую ситуацию. И если человек не может сделать этого, он не присутствует в ситуации, сексуальной или иной, независимо от того будет там его тело или нет. Фантазия ассимилирует реальность, а затем продвигает ее на новую глубину.
Воображение и время
Положительную сторону обращения к фантазии можно видеть и из других сеансов с Престоном. Возьмем один пример, когда он рассказал следующее:
ПРЕСТОН. Я думал по поводу того, о чем мы говорили, о том, как я отгораживаюсь от всех переживаний, живу за защитной стеной. Затем я совершил волевой акт, говоря себе: "Пока ты оберегаешь себя, ты будешь несчастлив. Почему ты не можешь это бросить?" И я бросил. После чего я начал находить Беверли привлекательной, и половые отношения представлялись мне очень приятными. Но эрекции у меня все же не было. Я обеспокоился. Затем я подумал: "А должен ли я каждый раз вступать в половую связь? Нет". И тогда появилась эрекция.
Нормальные половые отношения, возникшие у этой пары после этого, конечно же, не были абсолютным решением его проблемы. Более глубокие корни его конфликта стали видны из того, что произошло во второй половине терапевтического сеанса, когда он сказал: "Я не могу себе позволить быть достойным любви Беверли". Затем, говоря о своей матери и сестре, он закричал: "Я не могу уступить им. Я должен свести счеты с ними. Они не отстанут от меня до самой смерти. Я не уступлю им". Несомненно это раскрывает невротическую проблему, требующую разрешения. Но первая часть, конструктивный "волевой акт", должна составлять одно целое со второй. И если вторая, бессознательные аспекты, не может быть проигнорирована, точно так же нельзя оставить без внимания и первую, то, что он называет волевым актом. Два полюса проблемы движутся диалектически, каждый поддерживая другой.
Мы не можем любить по велению воли, но мы можем отдаться шансу, мы можем зачать возможность — что, как свидетельствуют пациенты, дает делу ход. Это устраняет источник бессознательных и подавляемых препятствий, после чего мы можем позволить своему воображению поиграть с этим, остановиться на этом, мысленно обдумать это, сфокусироваться на этом, "допустить" вероятность любви в свои фантазии.
Сказанное подводит нас к проблеме времени. В случаях импотенции мы распознаем слишком знакомую нам схему: впечатление навязчивой спешки. "Мы немедленно разделись", — говорит пациент; или: "Мы немедленно легли в постель, и я оказался импотентом". Для того чтобы заставить себя сделать что-то, относительно чего у нас существует значительный конфликт, мы действуем принудительно, пытаемся прыгнуть в него, чтобы перехитрить или, по крайней мере, оказаться впереди преследующих нас и подавляемых "гончих" сознания. Как классически заявляет Макбет в критический для него момент: "О, будь конец всему концом, все кончить могли бы мы разом" (I, 7). Мы должны спешить, чтобы не дать себе осознать, что на другом уровне знаем, что мы знаем. Тот факт, что многие люди склонны не давать себе времени узнать друг друга в любовных связях, является общим симптомом болезни нашего времени. Наш век — это век "секса на скорую руку", — говорит Джон Гэлбрайт, имея в виду мотели вдоль автострад.
Когда я говорил выше, что мы "бежим к сексу, для того чтобы избежать эроса", то наш бег можно рассматривать в нескольких значениях. Это означает спешить: мы подвергаемся принуждению, слабо сознавая, что нас подталкивает наше собственное беспокойство. Это можно также рассматривать как "бегство от" — лучше, если это будет сделано быстро, прежде чем наши фантазии настигнут нас, прежде чем голос конфликта станет настолько резким, что пропадет наша эрекция и всякое желание переспать с женщиной. Спешка в занятиях сексом часто служит для того, чтобы обойти эрос.
Теперь мы подошли к фундаментальной взаимосвязи между эросом, временем и воображением. Эрос требует времени: времени для того, чтобы проникнуться значимостью события, времени для того, чтобы заработало воображение, и если не "времени, чтобы подумать", то, по крайней мере, времени для предвкушения и переживания. Вот почему влюбленный человек хочет побыть один, побродить в одиночестве, не сосредоточиваясь ни на чем и уклоняясь от дел; он дает эросу время сделать свою работу. Эта важность времени является одной из характеристик, отличающих эрос от секса. Может показаться, что эрос начинает действовать одновременно с первым мимолетным взглядом на другого человека (любовь с первого взгляда никоим образом не является обязательно невротической или уделом юных). Однако внезапно полюбившийся человек выявляет образ, сложившийся из наших прошлых переживаний или из наших мечтаний о будущем; мы спонтанно воспринимаем его или в контексте нашего "жизненного образа", который мы формируем и носим в себе всю свою жизнь и который становится все более отчетливым по мере того, как мы полнее узнаем себя. Но для того чтобы произошел интеграционный процесс, требуется время, время для того, чтобы эрос вплетался в бесконечное множество воспоминаний, надежд, страхов, целей, которые формируют структуру, в которой мы узнаем себя.
Союз любви и воли
Задача человека состоит в том, чтобы объединить любовь и волю. Они не объединяются в ходе самопроизвольного биологического взросления, их соединение должно быть частью нашего сознательного развития.
В обществе воля имеет тенденцию выступать против любви. Это существенным образом обусловлено историей их генезиса. У нас сохранилась память, "воспоминания" по Платону, о времени нашего единения со своими матерями в период кормления грудью. Тогда же мы находились в единстве со всей вселенной, были неразрывно связаны с ней и ощущали "единство бытия". Этот союз приносил удовлетворение, спокойное счастье, самодовольство и восторг. Именно это вновь переживается в медитации дзен или ее индуистском варианте и при употреблении некоторых наркотиков; это слияние со вселенной, демонстрируемое в мистицизме, которое вызывает умиротворяющий экстаз, блаженное ощущение, что я полностью принят вселенной. Это задний план человеческого существования, подразумеваемый в каждом мифе о Рае, в каждой легенде о "Золотом Веке" — совершенство, глубоко запечатленное в коллективной памяти человечества. Наши нужды удовлетворяются без всякого сознательного усилия с нашей стороны. Так бывает биологически в ранний период кормления материнской грудью. Это "первая свобода", первое "да".3
Но эта первая свобода всегда теряется. И происходит это в силу развития человеческого сознания. Мы переживаем наше отличие от окружающего, конфликт с ним и тот факт, что мы являемся субъектами в мире объектов — и даже мать может стать объектом. Это разделение между "я" и миром, между существованием и сущностью. Мифологически это то время, когда каждый ребенок повторяет "грехопадение" Адама. Эта первая свобода неадекватна, потому что ее нельзя сохранить, если мы должны развиваться как человеческие существа. И хотя мы переживаем наше расставание с ней как вину (по Анаксимандру, за отделение от безграничного), тем не менее мы должны пройти через это.4 Но она остается источником всякого совершенства, задним планом всех утопий, вечным ощущением, что где-то должен быть рай, источником тех усилий — всегда творческих, но навеки обреченных на разочарование — которые заставляют нас воссоздавать совершенное состояние, подобное раннему пребыванию в материнских руках. Мы не можем — не потому, что так было угодно Богу или же таков был случайный ход событий или стечение обстоятельств, которое могло оказаться иным. Мы не можем просто в силу развития человеческого сознания. Но, тем не менее, мы всегда ищем свой рай, когда пишем хорошую работу или создаем прекрасное произведение искусства. Мы "падаем" вновь и вновь, но готовы подняться и заново сразиться со своей судьбой.
Вот почему человеческая воля, в ее характерной форме, всегда начинается с "нет". Мы должны противостоять окружающему, быть способны дать отрицательный ответ; это присуще сознанию. Ариети говорит, что источник всей воли в способности сказать "нет" — но не в отношении родителей (хотя это и проявляется в противостоянии им как представителям не терпящей возражения вселенной, каковыми они являются для нас). Наше "нет" — это протест против мира, в создании которого мы никогда не принимали участия, это также утверждение себя в стремлении перестроить и реорганизовать мир. Волеизъявление, в этом смысле, всегда начинается против чего-то — что в общем можно рассматривать, по существу, как выступление против первого единения с матерью. Неудивительно, что это сопровождается чувством вины и сомнениями, как в Раю, или конфликтом, как в нормальном развитии. Но ребенок должен пройти через это, ибо к этому его подталкивает развертывание его собственного сознания. И неудивительно, что, хотя на одном уровне он согласен с этим, на другом он сожалеет об этом. Это один из аспектов принятия демонического. Во время повторного переживания этого периода одному пациенту снился тиф, которого он имел обыкновение интерпретировать как свою мать. Но терапевт с мудростью, обусловленной видением целого, постоянно повторял: "Тигр в вас". Благодаря этому пациент смог прекратить борьбу с ним и ассимилировать его, принять его как часть своей собственной силы и в результате утвердиться как личность.
Воля начинается с противостояния, начинается с "нет", так как "да" уже дано. Опасность состоит в том, что эта стадия развития может быть истолкована родителями отрицательно, что демонстрирует их чрезмерный гнев или интерпретация первого детского "нет" как направленного лично против них; таким образом, ребенок может видеть их противостоящими его развитию и самостоятельности. И встречая возражения против своего выбора, он может испытывать искушение (и в некоторой мере даже уступить этому искушению) бросить все и вернуться к "блаженству" (которое теперь остается блаженством только в кавычках). Возврат к первому единению является, как мы видим у взрослых невротиков, страстно желаемым, ностальгическим и саморазрушительным. Но прошлое невозможно возродить или снова сделать реальным.
Вот почему воссоединение воли и любви является для человека такой важной задачей и достижением. Воля должна прийти, чтобы разрушить блаженство, сделать возможным новый уровень существования с другими людьми и миром, сделать возможными самостоятельность, свободу в зрелом смысле и следующую за этим ответственность. Воля приходит для того, чтобы заложить основу, делающую возможной сравнительно зрелую любовь. Не стремясь больше к восстановлению состояния младенчества, человек, подобно Оресту, теперь свободно берет на себя ответственность за свой выбор. Воля разрушает первую свободу, первичное единение не для того, чтобы вечно бороться со вселенной — хотя некоторые из нас действительно останавливаются на этой стадии. С разрушением первого блаженства физического единения перед человеком встает новая, психологическая, задача достижения новых взаимоотношений, которые будут характеризоваться выбором того, какую женщину любить, к какой группе примкнуть, и сознательным построением всех этих привязанностей.
Поэтому я говорю о соединении любви и воли не как о состоянии, достающемся нам автоматически, а как о нашей задаче; и в той мере, в какой это соединение осуществлено, оно является нашим достижением. Оно указывает на зрелость, интеграцию, целостность. Ни к чему из этого невозможно прийти минуя его противоположное; человеческий прогресс никогда не бывает одномерным. Но все это и становится пробным камнем и критерием нашего ответа на вызов, брошенный нам самой жизнью, жизненными возможностями.
XII. СМЫСЛ ЗАБОТЫ*
"Только истинно добрый человек знает, как любить и как ненавидеть".
Конфуций
"В отношении войны во Вьетнаме наблюдается странный феномен. Он заключается в том факте, что репортажи с этой войны — фильмы для телевидения, снимки для газет и журналов — отличаются от таковых с любой другой войны. Нет больше картин побед, нет больше водружения флага на вершине холма, как когда-то, нет больше триумфальных маршей по улицам. В ежедневных сообщениях о погибших и раненых в этой войне, подсчете тел, так как больше нечего считать, проступает что-то еще, и отнюдь не следствие сознательного умысла. Это исходит от фотографов — военных корреспондентов, представляющих наше коллективное бессознательное, чья позиция по отношению к войне игнорируется — фотографов, которые снимают одну сцену, а не другую, обращая внимание лишь на положение тела или игру мышц, для которых важен лишь чисто человеческий интерес. От этих фотографов мы получили снимки раненых, поддерживающих друг друга, солдат, ухаживающих за искалеченными, моряка, обнявшего своего раненого товарища, раненого, плачущего от боли и растерянности. На фотографиях, на этом элементарном уровне, бросается в глаза забота.
* Concern (нем. Sorge) — "это когда не все равно"; озабоченность в смысле обеспокоенности, озадаченности, неравнодушия, небезразличия, затронутости, вовлеченности, участия, заинтересованного отношения, внимания. Этот важнейший (и, к сожалению, непереводимый) термин экзистенциальной философии уже встречался нам в девятой главе. — Прим. ред. HTML-версии.
Как недавно показывали в телевизионной программе, в одной вьетнамской деревне, для того чтобы выгнать из укрытия оставшихся вьетконговцев, убежища забросали газовыми бомбами. Но из укрытий появились только женщины и дети. Один ребенок, примерно двух лет, появившийся из убежища со своей матерью, сидел у нее на руках, глядя на огромного негра — морского пехотинца. Лицо ребенка было грязным от дыма и копоти дымовой шашки; было видно, что он недавно плакал. Он смотрел с выражением растерянности, уже не плача, а просто не в силах понять, что же это за мир. Но камера тут же переместилась на чернокожего американца, смотрящего вниз на ребенка, внушительного и страшноватого в своей боевой форме. У него было то же самое выражение растерянности — глаза, смотрящие вниз на ребенка, широко открыты, рот слегка приоткрыт; но его взгляд оставался неподвижным, сосредоточенным на ребенке. Что должен он думать о мире, в котором он делает все это? Пока ведущий программы без умолку говорил о том, что газ болезнен только в течение десяти минут, а потом не оставляет никаких вредных последствий, оператор продолжал держать камеру сфокусированной на лице морского пехотинца. Может быть моряк-пехотинец вспоминал, что он тоже когда-то был ребенком в каком-нибудь южном штате, изгоняемым из пещер и хижин, где он играл, и сознавал при этом, что он тоже относится к расе, считающейся "низшей"? Что он тоже когда-то был ребенком в мире, на который мог смотреть только снизу вверх, в мире, причиняющем боль по причинам, не доступным пониманию ни одного ребенка? Может, он видел себя в этом ребенке, видел его безрадостное удивление глазами чернокожего ребенка?
Я не думаю, что он размышляет об этих вещах сознательно: я думаю, что он просто видит перед собой еще одно человеческое существо с общим для них обоих фундаментальным пластом человечности, на который они на мгновение наткнулись здесь, в болотах Вьетнама. Его взгляд — это забота. И оператору удалось увидеть его таким — теперь почти всегда удается видеть их такими — и он держит свою камеру наведенной на его лицо; подсознательное обращение только к человеческому, передающее нам бессознательное выражение вины каждого из нас. И когда диктор зачитывает нам бесконечные списки раненых — погибших — погибших — раненых, оператор, который так и останется для нас анонимным как продолжение наших собственных слепых и бессознательных мышц, наших собственных тел, держит свою камеру направленной на лицо большого чернокожего человека, который смотрит сверху вниз на плачущего ребенка, безымянного в зыбучих песках современной войны.
Это простейший пример заботы. Это состояние, заключающееся в признании того, что другое человеческое существо является таким же, как и я сам; в отождествлении себя с другим, с его болью или радостью; в чувстве вины, сострадания и осознании, что мы все стоим на одном общем основании человечности, откуда все мы берем свое начало.
Любовь и воля как забота
Забота — это состояние, когда что-то действительно имеет смысл. Забота — противоположность апатии. Забота — это неотъемлемый источник эроса, источник человеческой нежности. Поистине замечательно, что забота рождается в том же самом акте, что и младенец. Биологически, если бы мать не заботилась о ребенке, то он едва ли пережил бы свой первый день. Психологически, как мы знаем из исследований Шпитца, если младенец не получает материнской заботы, он отодвигается в угол кровати, замыкается, не развивается и остается в оцепенении.
У греков Эрос не мог жить без страсти. Согласившись с этим, мы теперь можем сказать, что Эрос не может жить без заботы. Эрос, демон, начинается чисто физиологически, захватывая нас и бросая в водоворот своих страстей, и требует как непременного дополнения заботы, которая становится психологической стороной Эроса. Естественное чувство боли придает силу заботе; если мы не заботимся о себе, мы причиняем себе боль, обжигаемся, калечимся. Это источник идентификации: мы можем чувствовать в нашем собственном теле детские боли и взрослые раны. Но наш долг заключается в том, чтобы не позволять заботе быть делом лишь нервных окончаний. Я не отрицаю значения биологических явлений, но забота должна стать сознательным психологическим фактом. Жизнь требует физического выживания; но хорошая жизнь приходит с тем, о чем мы заботимся.
Для Хайдеггера забота (Sorge) является источником воли. Вот почему он практически никогда не говорит о воле или волеизъявлении, за исключением случаев, когда опровергает позиции других философов. Ибо воля не является независимой "способностью" или сферой Я, и мы всегда попадаем в затруднительное положение, когда пытаемся сделать ее особой способностью.1 Это функция Я как целого. "Если представить себе ее полно, то структура заботы включает феномен Я", — пишет Хайдеггер.2 Когда нас ничто не заботит, мы теряем свою сущность; забота является путем возвращения к нашей сущности. Если я забочусь о своей сущности, я буду уделять определенное внимание ее благополучию, если же я не забочусь о ней, моя сущность распадается. Хайдеггер "думает о заботе как об основном определяющем феномене человеческого существования".3 Таким образом, она онтологична в том смысле, что конституирует человека как человека. Воля и желание не могут быть основой заботы, скорее наоборот: они основываются на заботе.4 Начнем с того, что мы не можем желать или изъявлять волю, если нас ничего не заботит; а если нас что-то действительно искренне заботит, то мы не можем не желать или не изъявлять волю. Волеизъявление — это "выпущенная на волю забота", говорит Хайдеггер.5 — и, я бы добавил, ставшая активной. Гарантией постоянства Я служит забота.
Бренность — вот, что делает заботу возможной. Богов на Олимпе не заботит ничто — здесь мы имеем наше объяснение того факта, который каждый из нас явно наблюдал и которому удивлялся. Именно тот факт, что мы тленны, делает заботу возможной. В концепции Хайдеггера забота является также источником сознания. "Сознание — это зов Заботы" и "проявляется оно как Забота".6
Хайдеггер цитирует древнюю притчу о заботе, которую в конце Фауста использовал и Гете:
Однажды, когда Забота пересекала реку, она увидела немного глины, она задумчиво подняла кусок и стала придавать ему форму. Когда она раздумывала над тем, что у нее получилось, мимо проходил Юпитер. Забота попросила его даровать тому, что она слепила, душу что он охотно выполнил. Но когда она захотела дать этому свое имя, он запретил ей и потребовал, чтобы это было названо его именем. В то время как Забота и Юпитер спорили, поднялась Земля и пожелала, чтобы этому творению было даровано ее имя, так как она предоставила для него часть своего тела. Они попросили Сатурна рассудить их, и тот принял следующее решение которое казалось справедливым. "Так как ты, Юпитер, дал этому душу, ты получишь его душу по его кончине, так как ты. Земля, дала ему часть своего тела, ты получишь его тело. Но так как Забота первая вылепила это существо, она будет владеть им до тех пор, пока оно будет жить. А в связи с тем, что у вас возник спор по поводу его имени, пусть оно зовется "homo", ибо сделано из humus (земли)".7
Эта очаровательная притча иллюстрирует один важный момент, отмеченный судьей Сатурном, Временем, о том, что, хотя Человек и назван Homo в честь земли, в своих человеческих отношениях он все же определяется Заботой В притче ей дана власть над ним в рамках его временного пребывания на этой земле. Это также демонстрирует понимание трех аспектов времени: прошлого, будущего и настоящего. Земле принадлежит человек в прошлом, Юпитеру-в будущем; но так как "Забота первая вылепила это существо, она будет владеть им до тех пор, пока оно будет жить", то есть, в настоящем.
Этот экскурс в онтологию проясняет, почему забота и воля так близко связаны, по сути даже являются двумя аспектами одного и того же переживания. Он также дает нам различие между желанием и волением: желание подобно "простому стремлению, как если бы воля ворочалась во сне, — как пишет Макверри, — но дальше мечтания о действии оно не идет".8 Воля — это полностью развивавшаяся, созревшая форма желания и в силу онтологической необходимости она коренится в заботе. В сознательном действии индивида воля и забота выступают вместе, являются в этом смысле тождественными.
Сказанное дает нам возможность, даже требует от нас. четкого разделения между заботой и сентиментальностью Сентиментальность — это рассуждения о чувстве, а не подлинный опыт соприкосновения с его объектом Толстой рассказывает о русских дамах, которые плачут в театре, но не замечают своего собственного кучера, сидящего на леденящем холоде. Сентиментальность упивается самим фактом, что у меня есть это чувство; она субъективно начинается и заканчивается в одной точке. Но забота — это всегда проявление заботы по отношению к чему-то. Нас захватывает наше переживание объективной вещи или события, которые нас заботят. В заботе в силу своей вовлеченности в объективный факт человек должен что-то предпринимать относительно создавшейся ситуации; человек должен принимать какие-то решения. Именно здесь забота сводит любовь и волю вместе.
Термин Пауля Тиллиха озабоченность — обычно употребляемый с прилагательным "крайняя" — я также считаю синонимом того, что мы сейчас обсуждаем. Но для наших целей в данной работе я предпочитаю более простой и прямой термин "забота". Я мог бы также использовать термин сострадание, который для многих читателей может означать более утонченную форму заботы. Но сострадание, "сопереживание" с кем-то, является уже эмоцией, страстью, которая может приходить и уходить. Я выбрал термин забота как онтологический, который говорит о бытийности.
Забота важна как то, чего нам не хватает сегодня. То, с чем молодежь борется своими бунтами в университетах и демонстрациями протеста по всей стране, — это исподволь распространяющееся убеждение в том, что ничто не имеет смысла; преобладание чувства, что человек ничего не может сделать. Опасность заключается в апатии, отрешенности, обращении к внешним стимуляторам. Забота является необходимым противоядием против этого.
Как бы методы студенческих протестов ни были открыты для критики, они все же сводятся к борьбе за сохранение "правды за фасадом правил". Это борьба за существование человеческого существа в мире, в котором все подвергается механизации, компьютеризации и находит свое завершение во Вьетнаме. Предостережение "Не скреплять скобками, не мять и не складывать" является, хотя это не так очевидно, действенным выводом из заявления Хайдеггера, что человек онтологически обусловлен заботой. Это отказ принять пустоту, хотя она и окружает нас со всех сторон; настойчивое утверждение человеческого достоинства, хотя оно и попирается на каждом шагу; и упорная решимость придать смысл своей деятельности, какой бы рутинной она ни была.
Любовь и воля, в старом романтическом и этическом смысле, являются понятиями сомнительными и в действительности невнятными или непригодными для использования в этих рамках. Мы не можем поддерживать их, взывая к романтике (которая сегодня находится на пути к исчезновению) или же к "долгу". Ни то, ни другое больше не несет в себе силы убеждения. Но остается старый, коренной вопрос: Имеет ли смысл для меня кто-то или что-то? И если нет, то могу ли я найти что-то или кого-то, действительно имеющего смысл для меня?
Забота — это особый тип интенциональности, в частности, в психотерапии. Это интенция желать кому-то выздороветь; и, если терапевт не ощущает этого в себе или не считает, что происходящее с пациентом имеет какой-то смысл, то горе терапии. Обычный, первоначальный смысл "интенциональности" и "заботы" заключается в небольшом слове "tend" [ухаживать], которое представляет собой корень интенциональности и смысл заботы. "Tend" означает также тенденцию, склонность, концентрацию всего своего влияния на данном аспекте, движение; это означает также "беспокоиться, уделять внимание, ожидать, проявлять заботливость". В этом смысле, это источник как любви, так и воли.
Мифос о заботе
Теперь я обращусь к периоду в истории, во многом сходному с нашим, что может помочь нам понять миф о заботе. После Золотого Века классической Греции, когда мифы и символы вооружали гражданина против внутреннего конфликта и неверия в собственные силы, мы подходим к III–II столетиям до н. э. Мы оказываемся в мире, радикально отличающемся своей психологической атмосферой от времен Эсхила и Сократа. Повсюду в литературе мы находим беспокойство, внутренние сомнения и серьезный психологический конфликт Этот мир похож на наш. Как выразился один ученый, изучающий эллинистическую эпоху-
"Если вы, проснувшись однажды утром, обнаружите, что каким-то чудом перенеслись в Афины начала III столетия до н. э., вы увидите, что оказались в социальной и духовной атмосфере не совсем для вас незнакомой. Политические идеалы города-государства — свобода, демократия, национальная независимость — потеряли свою притягательность в мире, где господствует безграничный деспотизм, в мире, сотрясаемом экономическими кризисами и социальными волнениями. Старым богам остались их храмы и жертвоприношения, но они перестали вдохновлять живую веру. Выдающиеся умы минувшего столетия, Платон и Аристотель, кажется, не оставили никакого послания подрастающему поколению — никакого средства от всепроникающих настроений разочарования, скептицизма и фатализма".9
В это время и в период, непосредственно следующий за ним, писатели действительно сознают чувство тревоги. Плутарх рисует выразительную картину обеспокоенного человека с симптомами, свидетельствующими о страхе, такими как потение ладоней и бессонница.10 Эпиктет называет одну свою главу "О тревоге " и представляет в ней свой диагноз состояния беспокойства и указания, как побороть его. "Этот человек расстроен в своей воле получить и в своей воле избежать, он нездоров, он лихорадочен, ибо ничто другое не изменяет цвет лица человека и не заставляет его дрожать, а зубы его стучать".11 Лукреций сокрушается по поводу того, что обеспокоенность чувствуется повсюду — страх смерти, страх чумы, страх кары, которая последует после смерти, страх сверхчеловеческих духов. В середине своей поэмы О природе вещей он сопоставляет небо, "усыпанное мерцающими звездами", и сердца людей, "уже терзаемые старыми бедами, где начинает пробуждаться и поднимать голову новое беспокойство. Мы начинаем думать: не подвластны ли мы некой непостижимой божественной силе, которая направляет сияющие звезды по их многообразным траекториям".12
Этот источник беспокойства, о котором упоминает Лукреций, опять же напоминает нам нынешнее беспокойство по поводу летающих тарелок, ночных огней, в отношении которых люди опасаются, что они могут быть пришельцами с других планет, гремлинами и т. п. Некоторые проницательные психотерапевты, вроде К.Г.Юнга, убеждены, что изменение отношения современного человека к космосу вызывает намного больше скрытого беспокойства в середине двадцатого века, чем это принято считать.13
Между нашим веком и этим охваченным беспокойством эллинистическим периодом имеется большее сходство, чем только эти проекции и галлюцинации. Лукреций, оглядываясь назад на III столетие, представил описание, которое, если бы не его поэтический стиль, могло бы быть взято из современной газеты в качестве картины Великого Общества:
"Эпикур видел, что, по сути, все, что необходимо для удовлетворения жизненных потребностей людей, уже в их распоряжении, и…их средства к существованию обеспечены. Он видел некоторых людей, всецело наслаждающихся богатством и славой, величием и властью, счастливых хорошей репутацией своих детей. Но, несмотря на все это, он в каждом доме находил страдающие сердца, непрестанно терзаемые болью, которую разум был не в силах успокоить, и вынужденные давать себе выход в непокорном роптании".14
Лукреций продолжает, делая интересную попытку поставить диагноз. Он приходит к выводу, "что источником этого заболевания явилось само вместилище". То есть, виноват сам человек или человеческий разум. Эпикур полагал, и Лукреций придерживался его взглядов с приверженностью истинного сторонника, что, если людям совершенно рациональным образом объяснить естественный мир, то они освободятся от своего беспокойства.
Я же предполагаю, что источник этого заболевания, скорее, заключался в том, что человек утратил свой мир. Произошедшая перемена заключалась в потере связи с этим миром, другими людьми и самим собой. То есть, мифы и символы потеряли свою силу. И человек, как позднее сформулировал это Эпиктет, "не знает, где его место в этом мире".15 В эллинистический период процветало множество разных школ, включая не только стоиков и эпикурейцев, но и циников, гедонистов, киренаиков, наряду с традиционными последователями Платона и Аристотеля. Что знаменательно, все они уже больше не пытаются открыть моральную истину, как школа Сократа, или создать систему истины, как школы Платона и Аристотеля. Они, скорее, представляют собой методы обучения людей тому, как жить в мире, полном психологических и духовных конфликтов. Учения этих школ принимают явно психотерапевтический характер, сколь бы удачной или неудачной эта психотерапия ни была.
Некоторые видели основную проблему людей в том, как контролировать свои страсти, как оставаться выше конфликтов жизни. Стоики и эпикурейцы разработали доктрину атараксии, позиции "невозмутимости" по отношению к жизни, бесстрастного спокойствия, достигаемого, особенно в случае стоиков, усилием воли и отказом от обычных эмоций, которые могли бы затронуть человека. Вы должны утвердиться в своем господстве над внешними событиями или, если вы не можете сделать этого, то, по крайней мере, вы не должны реагировать на них. Укреплению силы индивида — vide Римского легионера и правителя — как правило, способствовали убеждения и практика стоицизма.
Но это была сила, обретенная ценой подавления всех эмоций, как положительных, так и отрицательных. Если представить их как попытки психотерапии, школы эпикурейцев и стоиков были во многом сходны. "Обе школы стремились изгнать страсти из человеческой жизни", — пишет Доддс; "идеалом обеих была… свобода от волнующих эмоций, ее можно было достичь, в одном случае, придерживаясь правильных убеждений о человеке и Боге, а в другом — не придерживаясь вообще никаких убеждений".16
Эпикурейцы пытались достичь спокойствия ума и тела, разумно уравновешивая свои удовольствия, особую ценность придавая интеллектуальным радостям. Это, казалось, открывало дверь в жизнь полного удовлетворения и приглашало к чувственными радостям. Эпикур "установил границы желанию и страху, — говорит нам Лукреций, — ибо он четко показал, что чаще всего человечество совершенно излишне вздымает штормовые волны беспокойства в своей груди".17 Но каковы бы ни были их намерения, такой контроль через полагание границ страху (что, заметим, означало также полагание границ желанию) как метод на практике вел к выхолащиванию динамических влечений человека. Один автор того периода даже говорит об эпикурейцах как о евнухах.
Гедонистическая традиция утверждала радость чувственных удовольствий. Но уже тогда гедонисты были близки к пониманию, к чему должны были прийти и гедонисты других эпох, включая нашу, что чувственное удовлетворение, которого ищут ради него самого, оказывается удивительно неудовлетворяющим. Один из учителей этой школы, Гегесий, отчаявшись когда-либо найти счастье, стал философом пессимизма, и Птолемею пришлось запретить его лекции в Александрии, потому что их результатом стало большое количество самоубийств. Это явилось началом того времени, когда учитель или философ "представляет свою аудиторию как бесплатную лечебницу больных душ".18
Самой впечатляющей изо всех этих попыток помочь человеку справиться со своим беспокойством является попытка Лукреция. Будучи поэтом и человеком чувствительным к человеческим страданиям, он не мог просто закалить свои чувства до полной невосприимчивости к психологическому и духовному опустошению вокруг себя. Как бы сильно он ни стремился к атараксии, его поэтическая натура не допускала отрешенности и способности к подавлению, необходимых для ее достижения. "Страхи и тревоги, что терзают человеческую грудь, — писал он, — не исчезают от бряцания оружия или неистового дождя метательных снарядов. Они безо всякого смущения пробираются в окружение властителей. Они не преисполнены благоговения ни перед сверканьем золота, ни перед лоском пурпурных мантий".19
Он знает, что отчасти это беспокойство обусловлено бесцельностью человеческих жизней.
"Люди достаточно ясно ощущают в своих умах тяжелую ношу, груз которой угнетает их. Если бы они с той же ясностью представляли себе причины этой депрессии, источник этого скопища зла в груди, они не вели бы такую жизнь, которую все мы теперь слишком часто видим — никто не знает, чего он в действительности хочет, и каждый постоянно пытается покинуть то место, где находится, как будто одно лишь перемещение может избавить от этого груза".20
Будучи проницательным психологом, а также поэтом, Лукреций добавляет относительно их навязчивых метаний: "Поступая таким образом, человек просто бежит от самого себя". Он продолжает:
"Часто владелец какого-нибудь богатого особняка, умирая от скуки, одолевающей его дома, спешно уезжает лишь для того, чтобы так же быстро вернуться, лишь только он почувствует, что вне дома нисколько не лучше. Он отправляется в свое имение, правя колесницей и погоняя пару горячих коней, как будто спешит спасать охваченный пожаром дом. Но только переступив его порог, он начинает зевать и уныло отправляется спать, ища забвения, или же спешит обратно с визитом в город".21
Лукреций с религиозным рвением бросается в разъяснение веры, унаследованной им от своего учителя Эпикура. Он верит, что детерминистское понимание природной вселенной излечит нас от наших страхов и тревог.
"Как дети в сплошной темноте дрожат и всего пугаются, так и нас при ярком свете дня временами угнетают страхи, такие же необоснованные, как и те ужасы, что в представлении детей надвигаются на них из темноты. Этот ужас и мрак в умах нельзя рассеять солнечными лучами, световыми потоками дня, а лишь пониманием внешней формы и внутреннего течения природы".22
Лукреций верил, что если он сможет разделаться с богами и мифами и помочь людям прозреть посредством эмпиризма и рационализма, то он совершит необходимый шаг к освобождению людей от их тревоги. Эпикур, наблюдая повсюду вокруг себя образы богов на монетах и в статуях, совершал ошибку многих эмпириков, какой бы наивной эта ошибка ни казалась, считая, что боги действительно являются объектами. Он разрубил гордиев узел, изгнав богов далеко в пространства между мирами, пытаясь избавить этим род человеческий от соприкосновения с ними (не подозревая, что уже к настоящему времени мы будем готовы к путешествию в эти самые пространства!):
"Ибо для самой природы божества необходимо, чтобы оно наслаждалось бессмертным бытием в полной безмятежности, в отдалении и в стороне от наших дел. Оно свободно ото всякой боли и опасности, могущественно в своих возможностях, совершенно свободно от нас, безразлично к нашим достоинствам и равнодушно к нашему гневу".23
Лукреций идет дальше своего учителя и пытается всецело развенчать мифы, надеясь таким образом освободить людей от "необоснованного страха перед богами".24
"Нет несчастного Тантала, — провозглашает он, — как гласит миф… Нет Тития, распростертого навеки в Аду, раздираемого хищными птицами… Но Титий здесь, среди нас — этот несчастный, повергнутый любовью, действительно раздираемый хищными птицами, пожираемый терзающей ревностью или разрываемый клыками какой-либо иной страсти. Сизиф также [не божественная фигура, но] живет на виду у всех, сгибается под тяжестью усилий отличиться на своем посту… Что ж до Кербера и Фурий, беспросветной тьмы и пасти Ада, изрыгающей отвратительные миазмы, то их нет и вообще нигде не может быть…"25
Нет больше Прометея. Ибо "той силой, что впервые спустила огонь на землю и сделала его доступным для смертного человека, была молния".26
Таким образом, он же первый относится к этим мифологическим персонажам так, будто его читатели считали их реальными объектами, находящимися в неком месте (но вряд ли можно представить себе Эсхила верящим в это). Затем он психологизирует их — мифы являются просто образными выражениями субъективных процессов внутри каждого человека. Он отстаивает здесь то, что понятно каждому разумному человеку — один полюс мифов действительно лежит в субъективной динамике переживаний человека. Но это только полуправда. Она упускает все многочисленные значения мифа как способа, посредством которого человек пытается понять смысл и прийти к соглашению с вызывающим беспокойство фактом, что он действительно живет в имеющей предел вселенной, в которой феномен Сизифа объективно существует как для здорового, так и для болезненно обеспокоенного человека. Это означает не просто то, что каждый труженик снова и снова корпит над одной и той же работой ("и его судьба не менее абсурдна, чем Сизифова", — как отметил Камю). Это означает, что все мы вовлечены в вечный уход и возвращение, труд и отдохновение — и снова труд, рост и разложение — и снова рост. Миф о Сизифе присутствует в самом моем сердцебиении, в каждом изменении моего метаболизма. Признание мифа как судьбы есть начало обретения смысла в том, что иначе остается бессмысленным фатализмом.27
Но в своем страстном стремлении отделаться от мифов поверхностными объяснениями Лукреций сам вынужден приняться за создание нового мифа. Сколь бы ни было в этом иронии, но это судьба всякого, кто занят "мифоклазмом", если говорить словами Джерома Брунера; все они снова оказываются исподволь создающими новые мифы.28
Снова и снова Лукреций провозглашает, что, если читатель позволит убедить себя в естественных "причинах" в жизни, то он освободится от своего беспокойства. И если адекватные причины найти нельзя, то лучше приписать вымышленные! Ибо мы не можем отказаться от нашей веры; мы верим: "все, что в любой момент доступно чувственному восприятию, одинаково верно".29
А когда восприятие кажется обманчивым, "будет лучше, ввиду отсутствия основания, определить вымышленные причины… чем позволить ясно понимаемым вещам ускользнуть от нас. Это значит атаковать веру у самых ее корней — разрушить само основание, на котором зиждется жизнь".30 Это миф технологического человека. Это ряд допущений, постулирующих, что человек управляется тем, что он может понять разумом, что его эмоции будут следовать этому пониманию и что таким образом будут излечены его беспокойство и страх. Это миф, с которым мы очень хорошо знакомы в наше время.
И так как миф всегда должен иметь свою "эстетическую" форму, то мы можем рассматривать всю поэму Лукреция как воплощение этого мифа. Лукреций сам является фигурой, подобной Прометею, в своем смелом вызове тому, что он считал суеверием и невежеством, а также религиям, которые играли на страхах и беспокойстве. Тот факт, что его собственный миф имел внутренние противоречия и что само существование его мифа опровергает его тезис, а именно, что можно создать "миф о жизни без мифов", делает его особенно значимым для нашего исследования.
Он предан отрицанию демонического и иррационального. И истинная ирония состоит в том, что его собственная смерть, как говорят, пришла, когда он участвовал в магическом акте: "традиционное предание (увековеченное Теннисоном) гласит, что он умер от своей руки, обезумев от приворотного зелья".31
Независимо от того, подлинный это факт или легенда, все сводится к одному — к интерпретации через историю смерти, которая "подвела итог его жизни" самым иррациональным и демоническим символом изо всех возможных — приворотным зельем.
Попытка Лукреция действительно отважна; вознесенный на крыльях своего непревзойденного поэтического искусства, он, словно бы, благородно вступает на царственный путь к прозрению. Но если мы рассмотрим этот путь более внимательно, то обнаружим, что он ведет в пучину, в неожиданную пустоту. Это всего лишь простой факт смерти. Лукреций снова и снова поднимает проблему смерти в своей поэме и пытается объяснить своим читателям, что, если они примут его доказательство того, что после смерти нет ада и демонов, которые будут жечь их огнем или каким-то иным образом подвергать вечной каре, то им не нужно будет бояться смерти. Но эти "объяснения" предполагаемых причин беспокойства людей не успокаивали даже самого Лукреция. Ибо он постоянно оказывается озабочен смертью из-за своих глубоко человеческих чувств и своей активной симпатии к роду человеческому, включая себя самого. Оказалось так, что этот конфликт по поводу смерти, который не давал ему покоя, как и для большинства людей, вовсе не сводился к вопросу о местоположении будущего ада, а имел свои корни в человеческой любви, одиночестве и печали. Самые последние страницы его поэмы представляют собой незабываемо яркие картины чумы в Афинах, куда возвращается Лукреций. Здесь смерть представлена такой же близкой и ужасающей, как и в самом начале его поэмы:
"Унылые похоронные процессии без единого скорбящего, спешащие к могиле…Вот что было особенно тревожно: как только человек видел, что сам поражен этим недугом, он падал духом и лежал в отчаянии, как приговоренный к смерти. В ожидании смерти он тут же на месте испускал дух… Весь народ был вне себя от ужаса. И каждый, в свою очередь, когда его постигала тяжелая утрата, выносил своих умерших, как мог… Люди под неистовые крики возмущения бросали своих родных на погребальные костры, возведенные для других, и разжигали огонь. И зачастую они готовы были пролить немало крови в этих стычках, прежде чем покинуть своих умерших".32
Эти самые последние строки поэмы, эта картина человеческих существ в неистовстве их горя, предпочитающих скорее "пролить немало [своей собственной] крови… чем покинуть своих умерших", тщетно пытающихся удержать своих любимых, является самым мощным символом того, что человеческая жизнь стоит выше всех естественных объяснений. Это яркое свидетельство того, что смысл жизни заключен в человеческих эмоциях сострадания, одиночества и любви. Мы заканчиваем читать поэму с убеждением, что речь идет об истинном зле, ужасе и неизбежном источнике беспокойства, который нельзя отрицать, отвергать или умалять ни Лукрецию, ни кому-либо иному.
Но следует отдать должное отваге и искренности Лукреция, ибо он никогда не уклоняется от проблемы смерти, даже несмотря на то, что не может решить ее. Согласно всем рациональным "правилам", конец поэмы — это совершенно неподходящее место для таких описаний — заканчивать следует утверждающе! Мы видим, что Лукрецием управляет не просто "разум", а глубокие человеческие чувства; в итоге его поэзия одерживает верх над его догмой. Именно красота его искусства позволяет ему не предложить "разрешение" проблемы смерти или попытку избежать ее, а до последней минуты смотреть ей в лицо. Страх смерти — изначально основной источник всякого беспокойства — все равно остается. В своей жизни Лукреций испытал свою долю (может быть, даже больше, чем свою долю) страхов и беспокойства — факт, несомненно связанный с чувствительностью и милосердием, которые делали его таким превосходным поэтом.
Но мы не можем остановиться на этом. В некотором смысле Лукреций действительно переступил через проблему смерти. Он превозмог ее, включая в картину и любовь и смерть, примиряя непримиримое, объединяя противоречия, как превосходно сделал это Эсхил в своей Орестее. Лукреций делает это посредством нового мифоса.33, который с особенной ясностью появляется на последних страницах его поэмы. Это отнюдь не та догма его натуралистических объяснений, которую мы рассматривали выше и которую он сознательно намеревался изложить. Мой опыт психоаналитика заставляет меня сомневаться — снимают ли вообще рациональные объяснения беспокойство; на самом деле происходит нечто иное: объяснение становится средством выражения более основательного мифоса, который действительно затрагивает человека на уровнях, более глубоких, чем рационализм. Объяснение, например, становится частью мифоса о том, что я, дающий объяснение, забочусь о вас, что вы и я можем доверять друг другу и общаться друг с другом. Это значение может быть — а в психоанализе, несомненно, и есть — намного более важным, чем то, является ли само мое "объяснение" (или интерпретация) совершенно верным, блестящим или каким бы то ни было еще. Предоставляя пациенту объяснение во время психоаналитического сеанса, я часто замечал, что в этот момент самое большое впечатление на него производит вовсе не теоретическая истинность или ложность того, что я говорю; сам факт, что я говорю, демонстрирует мою веру в то, что он может измениться и что его поведение имеет смысл. Таковы аспекты положительного мифа. Более глубокая мифологема таких объяснений может заключаться в том, что мы можем доверять смыслам нашей межличностной вселенной и что, в принципе, эти смыслы могут быть доступны человеческому сознанию.
Прочитав Лукреция, мы поднимаемся со своих кресел лучше подготовленными к встрече со смертью и любовью. Мы заканчиваем чтение поэмы с убеждением: в том факте, который мы можем признать сообща, — что мы не можем примириться с разрывом нашей любви, невзирая на смерть, — есть и смысл и благородство. Ибо наша человеческая любовь является даже еще более ценной, если вспомнить тех афинян, что остаются верны телам своих любимых. Эта поэма — наше общее утверждение любви друг к другу и наше общее противление смерти. Поэма вовсе не разрешила проблему смерти, но мы находим себя более подготовленными к встрече с ней и менее одинокими, потому что мы встречаем ее сообща.
Это — иллюстрация того, как миф несет в себе интенциональность. Миф — это язык, посредством которого интенциональность делается сообщаемой. Читатель помнит наше первоначальное определение интенциональности: структура, благодаря которой переживание становится значимым. В конце поэмы Лукреция происходит именно осознание полной смысла структуры соотношения наших жизней друг с другом и со вселенной, в которой смерть является объективным фактом. Мы видим здесь иллюстрацию того, что интенциональность необходимо четко отличать от сознательного намерения, которое в случае Лукреция заключалось в том, чтобы убедительно изложить некоторые объяснения, многие из которых оказались ложными и большинство из которых оказались неуместными. Но в его абсолютной преданности своей задаче проступает более глубокое измерение, которое сам он ни в коей мере полностью не сознавал, — более важное, чем то, чему он научился у своего учителя Эпикура, более важное, чем его хорошо продуманная философия, даже более важное, чем его сознательные намерения. Оно заключается не в том, что он говорит, а в самой поэме все целостности как одаренный человек — чувствующий, постигающий, любящий и волеизъявляющий, а также думающий и пишущий он раскрывает здесь весь широкий диапазон человеческих переживаний.
Это мифос о заботе. Это утверждение, которое гласит: что бы ни происходило во внешнем мире, реальный смысл имеют лишь человеческие любовь и горе, жалость и сострадание. Эти эмоции стоят даже выше смерти.
Забота в наше время
"В любви каждый человек начинает с самого начала", — писал Серен Кьеркегор. Это начало является взаимоотношением между людьми, которое мы называем заботой. Хотя она и идет дальше чувства, начинается она с него. Это чувство, означающее отношение участия, когда существование другого имеет смысл для вас; отношение посвящения, принимающее конечную форму в волении получить наслаждение в другом или, в крайнем случае, пострадать за другого.
Новая основа заботы просматривается в попытке психологов и философов выделять чувство как основу человеческого существования. Теперь мы должны утвердить чувство как законный момент нашего способа устанавливать связь с действительностью. Когда Уильям Джемс говорит: "Чувство — это все", — он не имеет в виду, что нет ничего большего, чем чувство, но — все с него начинается. Чувство привязывает, связывает человека с объектом и обусловливает действие. Но десятилетия, прошедшие после того как Джемс, высказал это "экзистенциалистское" утверждение, оттеснили чувство в сторону и с пренебрежением определили как чисто субъективное. Причиной этого или, если более точно, "технической причиной" явилось то, что потребовался руководящий принцип в отношении побочных вопросов. Мы говорим "Я чувствую" как синоним "Я не вполне уверен", когда мы хотим сказать, что не знаем, не отдавая себе отчета, что мы можем знать, не иначе как чувствуя.
Развитие психоанализа привело к восстановлению первородства чувства. Недавно в академической психологии вышел ряд статей, которые демонстрируют тенденцию психологов и философов к переоценке чувства. Одной из них является статья Хадли Кантрила Sentio, ergo sum [Чувствую, значит существую], другой — статья Сильвана Томкинса Homo patiens, [Человек претерпевающий]. Сьюзен Лангер озаглавила свою новую книгу Mind, An Essay on Feeling [Разум, очерк о чувстве]. А учитель миссис Лангер, Альфред Норт Уайтхед, указывая на то, что Декарт был не прав в своем принципе "Cogito, ergo sum", продолжает:
"Мы никогда не сознаем только голую мысль или голое существование. Скорее, я нахожу себя по существу как единство эмоций, наслаждения, надежд, страхов, сожалений, оценок альтернатив, решений, — все это мои субъективные реакции на мое окружение постольку, поскольку я активен по своей природе. Мое единство, которое является Декартовым "Я есть", представляет собой мой процесс формирования из этого нагромождения материала устойчивой закономерности чувств".34
Я говорил, что романтические и этические основания любви уже не могут устраивать нас. Мы должны попытаться начать с начала, психологически говоря, с чувств.
Для того чтобы продемонстрировать, как просто и непосредственно чувство — забота, указывающая на любовь — возникает в терапевтической беседе, я предлагаю следующий отрывок их психоаналитического сеанса. По чистой случайности это сеанс с Престоном, о котором я подробно говорил в предыдущей главе.
ПРЕСТОН. Я Иуда. По отношению к своим родителям, своей сестре. К искусству — я использую его только в своих собственных целях… Мне плохо, я сломлен… Мне тошно от отсутствия любви.
ТЕРАПЕВТ. [Я предложил ему расслабиться и позволить проявиться его ассоциациям.]
ПРЕСТОН. Я ненастоящий. Я самозванец. Я — это не я. Без преувеличения. Я не могу поверить в себя… [Молчание.] Я завяз… Завяз во внешней жизни, завяз с Беверли, завяз как Джигс, я скован. Две недели тому назад мы с Беверли прекрасно провели время в постели. Но, предположим, она забеременеет — я застрял с поисками новой квартиры… [Молчание.]… Я не должен говорить, ни к чему хорошему это не приведет.
ТЕРАПЕВТ. Вы застряли в состоянии застревания — это по крайней мере, реально.
ПРЕСТОН. [Он соглашается. В течение нескольких минут молчит. Затем, слегка повернувшись, смотрит на меня с кушетки.] Я беспокоюсь о вас. Должно быть, тяжело не знать, что делать, сказать что-то или нет. Это было бы тяжело даже для самого Фрейда.
ТЕРАПЕВТ. [Меня поразил тон его голоса, совершенно отличный от его обычно развязной, торжествующей интонации. Спустя минуту: ] Мне кажется, что я слышу новый оттенок в том, что вы сказали — чувство искренней симпатии ко мне, а не триумф?
ПРЕСТОН. Да, это симпатия. Просто вы были здесь, со мной. Мы оба застряли… Это воспринимается как-то иначе, чем во время предыдущих сеансов.
ТЕРАПЕВТ. Чуть ли не впервые я наблюдаю в вас подлинное человеческое чувство… В Ожидании Годо [о котором мы упоминали ранее] они чувствуют что-то по отношению друг к другу.
ПРЕСТОН. Да, очень важно, что они ждут вместе.
Подобное возрождение подлинного человеческого чувства симпатии, каким бы простым оно ни было, является решающим моментом в психотерапии. Чтобы должным образом оценить, что это за шаг, мы должны взглянуть на него на фоне современной драмы. Драма ищет этого фундаментального состояния чувства. Наша ситуация такова, что на гребне волны рационализма и техникализма мы потеряли из виду человека и интерес к нему; и теперь мы должны смиренно вернуться назад к простому факту заботы. Критической проблемой, выступившей на передний план в современной драме, является, например, крах общения. Это тема наших самых серьезных пьес, таких как работы О'Нила, Беккета, Ионеско и Пинтера. Маска снимается, и мы видим явную пустоту, как в пьесе О'Нила Разносчик льда грядет. Благородство человека, как необходимая предпосылка и трагедии и любого подлинного гуманизма, переживается на сцене в том факте, что величие оставило человека — оно присутствует там, но как вакуум; оно присутствует как отсутствие. Это парадоксальное состояние смысла бессмысленности. Очевидный вакуум, пустота и апатия — трагедийные факты.
В Ожидании Годо существенно важным является то, что Годо не приходит. Мы в бесконечном ожидании, проблема остается. Было ли здесь вчера дерево? Будет ли оно здесь завтра? Беккет — не говоря уже о других драматургах и мастерах образного жанра — через потрясение заставляет нас осознать нашу человеческую значимость, глубже заглянуть в наши человеческие обстоятельства. Мы находим себя заботящимися, несмотря на видимую бессмысленность ситуации. Годо не приходит, но в ожидании есть забота и надежда. Смысл в том, что мы ждем и что мы, подобно персонажам драмы, ждем в человеческом взаимоотношении — мы разделяем друг с другом потрепанное пальто, туфли, кусок репы. Ожидать — значит заботиться, а заботиться — значит надеяться.
Это парадоксальная ситуация, которую ясно уловил Т.С.Элиот:
"Душе я сказал — смирись! И жди без надежды,
Ибо ждала ты не то; жди без любви,
Ибо любила б не то; есть еще вера —
Но вера, любовь и надежда — все в ожиданье.
Жди без раздумий, ибо ты не готова к раздумьям —
Тьма станет светом, незыблемость ритмом".35
Многие из современных драм, конечно, сводятся к отрицанию, а некоторые из них стоят на краю, в опасной близости к нигилизму. Но именно нигилизм, потрясая нас, заставляет взглянуть в лицо пустоте. И для имеющего уши, чтобы слышать, из этой пустоты (этот термин теперь обозначает запредельное качество) теперь вещает более глубокое и непосредственное понимание бытия. Именно мифос о заботе — и я часто полагаю, что лишь он один — дает нам возможность противостоять цинизму и апатии, которые являются психологической болезнью нашего времени.
Это указывает на новую мораль — не видимости и формы, а подлинности во взаимоотношениях. То, что смутные очертания такой морали уже просматриваются в нас, видно по той части младшего поколения, которая проявляет по отношению к этой проблеме искреннюю озабоченность. Этих людей не интересуют деньги и успех; сейчас эти вещи "аморальны". Они ищут честности, открытости, искренности личностного отношения; они ищут подлинного чувства, прикосновения, взгляда в глаза, разделения фантазии. Критерием становится истинный смысл, и его следует определять своей собственной подлинностью, делая свое собственно дело и отдаваясь, то есть открывая себя другому. Неудивительно, что в наше время слова вызывают подозрение; ибо эти состояния детерминированы только непосредственными чувствами.
Ошибкой в этой новой морали является недостаток содержания для подобных ценностей. Содержание кажется присутствующим; но оно оказывается основанным, до некоторой степени, на прихоти и преходящей эмоции. Где же постоянство? Где надежность и продолжительность? К этим вопросам мы сейчас и обратимся.
XIII. ОБЩНОСТЬ СОЗНАНИЯ
"Пусть они милосердием воздадут за милосердие. Пусть любовь будет их общей волей".
Афина, резюмируя долг афинян,
в "Орестее" Эсхила
Когда мы ищем ответы на обсуждавшиеся нами вопросы, то находим, что каждый ответ примечательным образом так или иначе обедняет проблему. Каждый ответ чего-то недоговаривает; не отдает должного глубине вопроса, а трансформирует его из динамичной человеческой обеспокоенности в упрощенный, безжизненный, инертный ряд слов. Вот почему Дени де Ружман в конце своей книги Любовь в западном мире говорит, что "никаких ответов наверно нет".
Единственный способ разрешения — в противоположность решению — этих вопросов состоит в том, чтобы трансформировать их посредством более глубоких и широких измерений сознания. Проблема должна быть схвачена во всей полноте ее смысла, антиномия со всеми ее противоречиями должна быть снята. Все это должно служить нам основанием, на котором строится новый уровень сознания. Так мы можем, насколько это возможно, приблизиться к разрешению; это и все, что нам нужно. В психотерапии, например, мы не ищем ответ как таковой и однозначное решение вопроса — что привело бы пациента в еще худшее состояние, чем в самом начале его борьбы. Мы стремимся помочь пациенту понять проблему, охватить ее, включить в себя, объединив в одно целое. Карл Юнг однажды проницательно отметил, что серьезные жизненные проблемы никогда не решаются, и если кажется, что они решены, то что-то серьезное было упущено. Это "откровение" обо всех трех центральных моментах данной книги: эросе, демоническом и интенциональности. Так как функция эроса, как в нас, так и в самой вселенной, состоит в подталкивании нас к идеальным формам, то он выявляет в нас свойство стремиться к соприкосновению с другими, — открытость им навстречу, способность предопределять и формировать будущее. Это сознательная способность отвечать (ответствовать и соответствовать) тому, что может быть. Демоническое, эта темная сторона, которая в современном обществе вытеснена в скрытые нижние сферы, так же, как и запредельные сферы эроса, требует, чтобы мы включили ее в личностное измерение сознания. Интенциональность — это воображение как форма внимания, лежащая в основе наших намерений как содержание наших действий. Это способность приобщения через узнавание и проигрывание предвидимого — то есть, примеривание к нему, исполнение в воображении. Каждый из этих моментов указывает на более глубокое измерение в людях. Каждый требует от нас участия и причастности, открытости и способности давать от себя и принимать в себя. И каждый является неотъемлемой частью самих оснований любви и воли. Новый век, который только еще стучится в дверь, пока неведом, лишь брезжит в просветах между закрытыми ставнями. Мы получаем только предвестия о новом континенте, к которому нас неотвратимо несет: безрассудны те, кто пытается очертить его, глупы те, кто пытается предсказать его, и нелепы те, кто пытается безответственно уклониться от него, говоря, что "новый человек будет любить свой новый мир точно так же, как мы любим свой". Существует сколько угодно доказательств, что многие люди вовсе не любят наш мир и что заставить тех, в чьей это власти, изменить его невозможно без мятежей, насилия и войн. Но каким бы ни был новый мир, мы не желаем вспохватиться, когда уже будет поздно. Человеческая ответственность состоит в том, чтобы найти уровень сознания, который будет адекватен ему и сможет заполнить растущую безликую пустоту нашей технологичности человеческим смыслом.
Настоятельную необходимость в таком новом сознании люди, еще способные чувствовать, обнаруживают во всех областях; особенно насущна необходимость нового сознания в расовых отношениях, ибо мы выживем, если переступим через расовые различия, и умрем, если не сделаем этого. Я цитирую Джеймса Болдуина: "Если мы — и я имею в виду сравнительно сознательных белых и сравнительно сознательных черных, которые должны, подобно влюбленным, настойчиво поддерживать, или формировать сознание друг друга — не погрешим против своего долга, то сможем, хотя нас и немного, покончить с расовым кошмаром, обрести свою страну обетованную и изменить историю мира. Если мы не отважимся сейчас на это, то исполнится библейское пророчество, о котором пел раб: Бог дал Ною радугу в знак того, что не будет больше воды, в следующий раз будет огонь".1
Как любовь, так и воля являются формами единства сознания. И то и другое являются также аффектами — способами affecting [воздействия] на других и на наш мир. Эта игра слов не случайна: ибо слово "аффект", означающее эмоцию, обозначает также воздействие [affecting], вызывающее перемены. Аффект, или чувство является также способом создания, делания, формирования чего-то. Как любовь, так и воля являются средствами формирования сознания других. Конечно же, и тем и другим можно злоупотребить: любовь иногда становится средством закабаления, а воля средством манипулирования другими с целью подчинения их. Наверное, некоторые следы закабаляющей любви и манипулятивной воли всегда можно обнаружить в поведении каждого из нас. Но злоупотребление аффектом не может служить основой для его определения. Отсутствие как любви, так и воли заканчивается разобщением, отдалением нас от другого человека и в конечном итоге ведет к апатии.
Любовь как личностное
В проявлениях и трансформациях противоречий любви и воли мы обнаружили, что половая любовь движется через влечение к потребности и к желанию. Фрейд начинал с представления о сексе как о влечении, подталкивании из прошлого, накопленной совокупности энергий. Эта концепция явилась во многом результатом того факта, что его пациенты были жертвами викторианского подавления. Но теперь мы знаем, что половая любовь может развиваться от влечения, через первичную потребность, к желанию. Как влечение сексуальность по существу является биологической, имеет характер силы и психологически является императивом. Потребность является менее императивной формой влечения. Будучи подавляема, потребность имеет тенденцию становиться влечением. Мы сведем их воедино в потребности, противопоставляя их, опять же как нечто единое, желанию.
Потребность по своему происхождению является физиологической, но приобретает императивную власть над нами из-за постоянного, отовсюду идущего к нам возбуждения сексуальности. В противоположность этому желание является психологическим и возникает из человеческих чувств (в целостном организменном смысле), а не физиологических ощущений. Первая "имеет дело" с недостатком, второе — с обилием; первая скупа, второе щедро. Потребность подталкивает нас с тыла — мы пытаемся вернуться к чему-то, защитить что-то, и тогда нас побуждает к этому потребность. Желание, наоборот, влечет нас вперед, к новым возможностям. Потребность негативна, желание позитивно. Конечно, если половая любовь или собственно секс не получают удовлетворения, если человек находится в состоянии постоянного возбуждения, любовь возвращается к состоянию настоятельной потребности и может стать влечением. В самых неожиданных для нас источниках мы можем почерпнуть впечатляющие свидетельства того, что даже на уровне животных секс не является первичной потребностью, как мы полагали. В обстоятельной работе Гарри Харлоу о резус-макаках демонстрируется, что потребность обезьян к контакту, прикосновению и взаимоотношению имеет приоритет над "влечением" к сексу. То же относится и к экспериментам Массермана с обезьянами, где показано, что секс не является первостепенным всеохватывающим влечением. Конечно, секс является первостепенной потребностью для рода, его биологическое выживание зависит от секса. Но так как наш мир все больше смещает акцент с необходимости биологического выживания — нам вполне реально грозит перенаселение — на развитие человеческих ценностей и выбора, мы находим, что акцентуация секса не является конструктивной и что индивид не зависит от сексуальности как от первичной потребности.
Человеческую эволюцию мы усматриваем в переходе от влечения к желанию. Мы признаем любовь как нечто личностное. Если бы любовь была просто потребностью, она бы не стала личностным, и сюда не была бы вовлечена воля: выбор и другие аспекты сознательной свободы никогда не выступили бы на сцену. Человек просто удовлетворял бы потребности. Но когда половая любовь становится желанием, вовлекается воля; мужчина выбирает женщину, сознает акт любви; и все больший смысл приобретает то, каким образом этот акт осуществляется. Любовь и воля едины и как задача и как достижение результата. Для людей более сильной потребностью является не секс сам по себе, а взаимоотношение, близость, приятие со стороны другого и утверждение.
Вот где факт существования мужчин и женщин — полярность любви — находит онтологическое обоснование. Расширение сферы личных переживаний идет вместе с расширением сферы сознания; сознание есть полярность, вопрос в форме или/или, "да" одному и "нет" другому. Вот почему раньше мы говорили об отрицательно-положительной полярности, в теориях Уайтхеда и Тиллиха. Парадокс любви состоит в том, что она является высочайшей степенью осознания себя как личности и высочайшей степенью погруженности в другого. Пьер Тейяр де Шарден в работе Феномен человека спрашивает: "В какой еще момент любящие друг друга настолько полно овладевают собой, если не тогда, когда они потерялись друг в друге?".2 Онтологическая полярность, которая проявляется в природных процессах, присуща и человеку. День сменяется ночью, а из тьмы снова рождается день; инь и ян неразделимы и всегда предстают во взаимопереходе; я выдыхаю, чтобы затем снова вдохнуть. Систола и диастола биения моего сердца эхом повторяет эту полярность вселенной; это более чем поэзия, когда я говорю, что пульсация вселенной, составляющая сущность ее жизни, отражается в биении человеческого сердца. Непрерывный ритм каждого момента бытия природной вселенной присутствует в пульсирующем токе крови каждого человеческого существа.
Тот факт, что любовь есть нечто личностное, демонстрируется самим актом любви. Человек — это единственное существо, которое занимается любовью лицом к лицу, совокупляется, глядя на своего партнера. Да, мы можем повернуть свои головы в сторону или ради разнообразия принять другую позу, но это лишь вариации на тему — любить глаза в глаза друг с другом. При этом вся передняя часть тела человека — грудь и грудная клетка, живот и все самые нежные и уязвимые части — все открывается доброжелательности или жестокости партнера. Таким образом, мужчина может видеть в глазах женщины оттенки наслаждения или страха, робости или беспокойства; это поза максимального обнажения себя.
Этим отмечено появление человека как существа психологического: это переход от животного к человеку. Даже обезьяны совокупляются в позиции сзади. Последствия этой перемены поистине велики. Это не только характеризует акт любви как предельно личный, со всем вытекающим из этого, как, например, то, что любящие могут, если пожелают, разговаривать друг с другом. Другим следствием этого является акцентуация ощущения близости при отдаче партнеру в физической близости самых сокровенных "наших" частей. Два аккорда физической близости — восприятие себя и восприятие партнера — временно оказываются слиты воедино. Мы чувствуем наши восторг и страсть, мы смотрим в глаза партнеру и читаем там смысл этого акта — и я не могу отличить ее страсть от моей. Но этот взгляд преисполнен силы; он влечет за собой высшую осознанность взаимоотношения. Мы переживаем то, что делаем — это может быть и игра, и использование другого в своих интересах, и разделение друг с другом сладострастия, и грубое сношение, и занятие любовью и любая другая форма взаимосвязи. Но, по крайней мере, норма, представленная в этой позиции, является личностной. Мы вынуждены что-то блокировать, приложить какое-то усилие, чтобы сделать это безличным. Это онтология в психологической сфере: способность ко взаимоотношению двух Я определяет вид Homo sapiens. Тривиальное слово "связь" поднимается на онтологический уровень в этом акте, по определению каком угодно, только не тривиальном, в акте, которым мужчина и женщина воспроизводят извечный космический процесс, каждый раз девственно и с удивлением, как будто это происходит в первый раз. Когда Пифагор говорит о музыке небесных сфер, он подразумевает музыку, в которой в качестве главной темы звучит облигато основного акта половой любви.
Одним из результатов влияния этого личностного аспекта половой любви является то разнообразие, которое мы находим в ней. Возьмем для аналогии музыку Моцарта. Иногда в своей музыке Моцарт предается утонченной игре. Иногда его музыка несет нам чистое чувственное наслаждение, вызывая полный восторг. Но иной раз, в таких фрагментах, как тема смерти в конце Дон Жуана, или в его квинтетах Моцарт глубоко потрясает нас: по мере того как перед нами разворачивается неизбежность трагедии, мы проникаемся неумолимостью рока и демоническим. Если бы у Моцарта было только первое, игра, то рано или поздно он стал бы для нас банальным и скучным; если бы он представлял только чистую чувственность, то стал бы пресыщающим; но если бы это была только музыка огня и смерти, его творения были бы невыносимы. Он велик потому, что творит во всех трех измерениях, и его необходимо слушать на всех этих уровнях сразу.
Половая любовь также не может быть только игрой, но, наверное, элемент чистой игры должен в ней присутствовать всегда. Тем самым и в случайных половых связях может быть своя радость и смысл, состоящий в разделении удовольствия и нежности. Но если весь настрой и отношение человека к сексу только легкомысленны, то рано или поздно сама игра также становится скучной. То же самое верно и в отношении чувственности, очевидного элемента во всякой доставляющей удовольствие половой любви: если ей приходится нести на себе весь вес взаимоотношения, она становится пресыщающей. Если секс — это только чувственность, то рано или поздно вы восстанете против самого секса. Элемент демонического и трагического придает глубину и неповторимость любви, как в музыке Моцарта.
Аспекты акта любви
Давайте подытожим, каким образом акт любви способствует углублению сознания. Во-первых, тут присутствует нежность как результат осознания потребностей и желаний другого, а также нюансов его чувств. Переживание нежности обусловлено тем, что два человека, стремясь, как любой индивид, побороть разобщенность и изоляцию (определяющие каждого из нас, поскольку мы являемся индивидами), могут участвовать во взаимоотношении, которое в этот момент становится не отношением двух разобщенных Я, а их слиянием. В этом акте любви любящий часто не может сказать, является ли ощущаемое им чувство особенного удовольствия его собственным или его любимой — и это не играет никакой роли. Происходит соучастие, образующее новый гештальт, новое поле силы притяжения, новое бытие.
Второй аспект углубленного сознания является результатом утверждения себя в акте любви. Несмотря на тот факт, что многие люди нашей культуры используют секс для того, чтобы коротким путем обрести суррогат идентичности, акт любви может и должен обеспечивать здоровый и исполненный смысла путь к обретению чувства личностной идентичности. Обычно из физической близости мы выходим с восстановленной энергией, жизненной силой, которая исходит не от триумфа или доказательства своего могущества, а от широты сознавания. Наверное, в половой близости всегда присутствует некий элемент печали — продолжая аналогию, предложенную в предшествующей главе как присутствует он практически во всякой музыке, какой бы радостной она ни была (именно потому что она заканчивается; ее слышишь только сейчас или никогда). Эта печаль идет от присутствующего здесь напоминания о том, что нам не дано полностью избавиться от нашей обособленности; и детская надежда, что мы можем вернуться в лоно, никогда не становится реальностью. Более того, наше возросшее самосознание может служить острым напоминанием о том, что никто из нас никогда не одолевает свое одиночество до конца. Но благодаря восполнению чувства нашей собственной значимости как личности в самом акте любви мы можем смириться с этими ограничениями, налагаемыми на нас нашими собственными человеческими пределами.
Это непосредственно ведет к третьему аспекту, обогащению и осуществлению — насколько это возможно — личности. Начинаясь с расширения сознавания себя и собственных чувств, это переходит в ощущение нашей способности доставлять удовольствие другому человеку и через это достигать расширения смысла взаимоотношения. Мы выходим за пределы того, чем мы являемся в любой данный момент; я буквально становлюсь больше, чем я был. Самым сильным изо всех доступных воображению символов для обозначения этого является порождение — факт, что новое бытие может быть зачато и рождено. Под новым бытием я подразумеваю не просто буквальное "рождение", а рождение какого-то нового аспекта человеческого Я. Буквально или отчасти метафорически, но акт любви несомненно отличается тем, что является порождающим; и будь эта близость случайной и мимолетной или верной и продолжительной, сам акт является основным символом созидательности любви.
Четвертый аспект нового сознания заключается в том любопытном феномене, что способность дать что-то другому человеку в физической близости необходима для полного удовольствия в акте. В наш век механизации секса и акцентуации "разрядки напряжения" на сексуальных объектах это звучит как банальный морализм. Но это вовсе не сентиментальность; это, скорее, момент, в котором каждый может убедиться на своем собственном опыте в акте любви — отдавать необходимо для своего собственного удовольствия. Многие пациенты в психотерапии открывают, главным образом с удивлением, что чего-то не хватает, если они не могут "сделать что-то для другого", дать что-то партнеру — нормальным выражением чего является способность отдаться в половом акте. Точно так же, как отдавать себя существенно важно для своего собственного полного удовольствия, так и способность принимать безусловно необходима в любовном взаимоотношении. Если вы не можете принимать, то ваша отдача выльется в доминирование над партнером. И обратное, если вы не можете отдавать, только принимая, вы опустошаете себя. Поучительный парадокс — человек, который может только получать, становится опустошенным, ибо он не способен активно присвоить и сделать своим собственным то, что он получает. Таким образом, мы говорим не о получении как пассивном проявлении, а об активном принятии; человек знает, что он принимает, чувствует это, впитывает это в своем собственном переживании, и независимо от того, утверждает ли он это словесно или нет, он благодарен за это.
Естественным следствием этого является удивительное явление в психотерапии, заключающееся в том, что когда пациент ощущает какую-то эмоцию — эротическую, гнева, отчужденности или враждебности — терапевт обычно обнаруживает, что сам ощущает ту же эмоцию. Это обусловлено тем фактом, что, когда взаимоотношение искреннее, пациент и терапевт эмпатически разделяют общее эмоциональное поле. Это ведет к тому факту нашей повседневной жизни, что обычно мы склонны влюбляться в тех, кто любит нас. В этом скрыт смысл "ухаживания" и "завоевывания" человека. Большая "тяга" любить кого-то определенного исходит именно от того, что. он или она любят вас. Страсть вызывает ответную страсть.
Мне известны все возражения, которые тут же вызовет это утверждение. Одно — это то, что людей часто отталкивает тот, кто их любит. Другое — это то, что мое утверждение не принимает во внимание все прочие вещи, которые человек готов сделать для того, кого любит, и что я ставлю слишком большой акцент на пассивности. Первое возражение, могу возразить я, является доказательством от противного, подтверждающим мое утверждение: мы разделяем гештальт с тем, кто любит нас, и для того чтобы защитить себя от его эмоции, вероятно, не без оснований, мы реагируем отвращением. Второе возражение является просто примечанием к тому, что я уже говорил — что если кто-то любит нас, то он готов сделать для нас множество вещей, необходимых для того, чтобы продемонстрировать нам, что это так; однако действия являются не причиной, а частью общего поля. Третье же возражение могут выдвинуть только те, кто все еще разграничивают пассивное и активное, не приемля или не понимая смысла активного приятия. Как мы все знаем, любовное переживание для большинства из нас изобилует ошибками, разочарованиями и травматическими эпизодами. Но все ошибки в мире не опровергают сути того, что аффект, обращенный к другому, действительно вызывает ответ в нем, положительный или отрицательный. Если снова процитировать Болдуина, мы оказываемся "подобны влюбленным, которые утверждают, или творят, сознание друг друга". Отсюда любовный акт (где слово акт отнюдь не является ни подчиненным, ни случайным) является самым сильным стимулом для ответной эмоции.
И наконец, существует форма сознания, которая наблюдается в момент высшей точки полового сношения. Это точка, когда влюбленные поднимаются над своей личной обособленностью и когда происходит сдвиг в сознании, который они переживают как единение их с самой природой. Наблюдается обострение ощущения соприкосновения, контакта, слияния до такой степени, что на некоторое время осознание обособленности уходит, заслоняется космическим чувством единства с природой. В романе Хемингуэя По ком звонит колокол старая женщина, Пилар, ждет героя и девушку, которую тот любит, когда они уходят вперед, в горы, чтобы заняться любовью; а когда они возвращаются, она спрашивает: "Земля не сотрясалась?" Подобное представляется нормальной составляющей мгновенной утраты осознания себя и неожиданного взлета ввысь сознания, способного вместить в себя весь мир. Я не хочу, чтобы сказанное мной прозвучало излишним "идеализмом", ибо считаю, что подобное свойственно, сколь бы неуловимым оно ни было, всякой физической близости, за исключением предельно обезличенной. Не хочу я и чтобы это прозвучало просто "мистически", ибо, несмотря на ограничения нашего сознания, я думаю, что это является неотделимой частью подлинного переживания в акте любви.
Созидание сознания
Любовь толкает нас к новому измерению сознания, потому что она основывается на первичном опыте переживания "мы". В противоположность обычным представлениям, мы все начинаем жизнь не как индивиды, а как "мы"; мы созданы слиянием мужчины и женщины, буквально единой плотью, семенем отца, оплодотворяющим яйцеклетку матери. Индивидуальность появляется в рамках этого первоначального "мы" и благодаря этому "мы". Действительно, ни один из нас не осуществит себя, если рано или поздно не станет индивидом, не утвердит свою идентичность по отношению к отцу и матери. Для этого необходимо индивидуальное сознание. Хотя "мы" не начинаемся как обособленные "я", необходимо — поскольку мы уже потеряли первую свободу, Рай у груди своей матери — чтобы мы были способны утверждать свою индивидуальность по мере того, как рушится Рай и начинается человек. Так же как "мы" органически первично, "я" первично в человеческом сознании. Конкретный индивид является человеком потому, что он может принять крушение первой свободы, каким бы болезненным оно ни было, согласиться с ним и начать свое паломничество к полному сознанию. Первоначальное "мы" всегда является задним планом, на фоне которого мы и осуществляем это паломничество. Как говорит об этом Оден:
"Какого бы мненья мы ни придерживались, следует показать Почему у каждого влюбленного существует желание сделать Что-то отличное от него своим собственным: Возможно, в действительности мы никогда не бываем одиноки".3
Мы говорим, что эрос спасает секс от саморазрушения, и это нормальный порядок вещей. Но эрос не может существовать без приязни (филии), братской любви и дружбы. Напряжение постоянного притяжения и постоянной страсти было бы невыносимым, если бы оно никогда не прекращалось. Приязнь — это расслабление в присутствии любимого человека, основанное на признании в другом человеке человека; это состояние, когда нам нравится быть с другим, нравится отдыхать с другим, нравится ритм походки, голос, все существо другого. Это дает эросу широту, это дает ему время для роста, время глубже пустить свои корни. Приязнь не требует, чтобы мы что-то делали для любимого человека, исключая лишь признание его, пребывание рядом с ним и радость с ним. Это дружба в самом ее простейшем и непосредственном выражении. Вот почему Пауль Тиллих так много смысла вкладывает в одобрение и — забавно и вместе с тем досадно, что для современного человека, это будет звучать странно — способность принять одобрение.4 Мы являемся независимыми людьми, которые, зачастую слишком серьезно воспринимая свои силы, постоянно действуют и реагируют, не сознавая, что многое ценное в жизни приходит только в том случае, если мы не настаиваем, приходит спокойно, когда его не подталкивают и не требуют, приходит не от толчка сзади или притяжения спереди, а появляется безмолвно от простого пребывания рядом. Именно об этом говорит Мэтью Арнольд в своих строках:
"Только — хотя не часто —
Когда рука любимого человека лежит в вашей руке,
Когда утомленные напряжением и ярким светом
Бесконечных часов
Наши глаза могут ясно читать в глазах другого,
Когда наши оглушенные миром уши
Ласкают звуки голоса любимого человека,
Тогда где-то в нашей груди стрела снова поражает свою цель,
И снова бьется потерянный пульс чувства;
Глаза обращаются вовнутрь, и сердце спокойно,
И то, что мы думаем, мы говорим, и что мы желаем, мы знаем.
Человек начинает сознавать течение своей жизни".5
Поэтому Салливан акцентировал период "приятельства" в развитии человека. Этот период включает несколько лет, примерно в возрасте 9-12 лет, до того, как начинает созревать гетеросексуальная функция мальчика или девочки. Это время искренней симпатии к своему полу, время, когда мальчики идут в школу, положив руки друг другу на плечи, и когда девочки неразлучны. Это начало способности заботиться о ком-то другом так же, как о себе. Если переживание такого "приятельства" отсутствует, утверждает Салливан, то человек впоследствии не способен к гетеросексуальной любви. Более того, Салливан считал, что ребенок не может любить никого до периода "приятельства", и утверждал, что, если ему навязывать любовь, то можно добиться того, что он будет поступать так, как будто любит кого-то, но это будет только притворство. Принимаем ли мы или нет эти представления в их крайней форме, суть все равно остается ясной.
Дополнительное подтверждение значения приязни дают также эксперименты Гарри Харлоу с резус-макаками.6 Обезьяны Harlow, которым не давали возможности заводить друзей в детстве, которые не научились играть со своими братьями и сестрами или "приятелями" всевозможным свободным и несексуальным образом, впоследствии оказались неспособны адекватно функционировать в сексуальном плане. Другими словами, период игры со сверстниками является необходимым предварительным условием для обучения адекватному половому влечению и реакции на противоположный пол позднее. В своей статье Харлоу говорит: "Мы считаем, что роль привязанности в обобществлении приматов может быть понята только в представлении любви как ряда любовных и чувственных систем, а не как единственной эмоции".
В наше время вечной спешки приязнь чтится, скорее, как след ушедших дней, когда у людей было время на дружбу. Мы считаем себя настолько перегруженными, отправляясь с работы на совещания, затем на поздний ужин, потом спать, а на следующее утро опять все сначала, что вклад приязни в наши жизни оказывается потерян. Или же мы ошибочно связываем ее с гомосексуальностью; американские мужчины особенно боятся мужской дружбы, боятся, чтобы в ней не оказалось какого-то следа гомосексуальности. Но, по меньшей мере, мы должны помнить о важности приязни, способствующей нам в процессе самоопределения и в начале развития личности. Приязнь — филия, в свою очередь, предполагает агапэ. Мы определили агапэ как высокую оценку другого, как заботу о благополучии другого без всякой выгоды для себя; как бескорыстную любовь, подобную любви Бога к человеку. Милость, как это слово переводится в Новом Завете, является неполноценным толкованием, но оно действительно содержит в себе элемент бескорыстной отдачи. Это аналогично — хотя и не тождественно — биологическому аспекту природы, который благодаря внутреннему механизму заставляет мать-кошку защищать своих котят даже перед угрозой смерти, а человеческое существо любить своего ребенка, невзирая на то, что этот ребенок может причинить ему. Агапэ всегда несет в себе риск покровительственного отношения. Но это риск, который необходимо и можно принять. Мы сознаем, что не существует чисто бескорыстных человеческих мотиваций, что мотивации каждого, в лучшем случае, являются смешением этих различных видов любви. Так же, как я бы не хотел, чтобы кто-то "любил" меня чисто бесплотно, не обращая внимания на мое тело и безотносительно того, мужчина я или женщина; точно так же я не хотел бы, чтобы меня любили только за мое тело. Ребенок чувствует ложь, когда ему говорят, что взрослые делают что-то "только для его пользы", и каждому не нравится, когда ему говорят, что его любят только "духовно".
Однако каждый вид любви предполагает заботу — именно это доказывает, что что-то действительно имеет смысл. В нормальных человеческих взаимоотношениях каждый тип любви несет в себе элемент трех других, каким бы неясным он ни был.
Любовь, воля и формы общности
Любовь и воля занимают свое место в рамках форм общности Это мифы и символы, жизненные в данный период. Они являются каналами, по которым передаются жизненные силы общества Творчество есть результат борьбы между жизненной силой и формой. Как известно каждому, кто пытался написать сонет или дать оценку написанному другими, в идеале форма не обедняет творчество, но может обогащать его. И современный бунт против формы доказывает только обратное: в наш переходный век мы ищем, изучаем, исследуем происходящее вокруг, пытаемся определить новые формы для того, что удается обнаружить в эксперименте. Простой иллюстрацией является рассказ Дюка Эллингтона о том, как он пишет музыку. Он говорит, что должен помнить, что его трубач неуверенно берет самые высокие ноты, тогда как его тромбонисту они удаются очень хорошо и, сочиняя в пределах этих ограничений, он отмечает: "Хорошо иметь границы". И не только в отношении либидо и эроса, но также и в отношении других форм любви, с одной стороны, полное удовлетворение означает смерть человеческого существа; с другой стороны, со смертью влюбленных любовь уходит. Таков характер творчества — ему необходима форма для своей созидательной силы, таким образом, ограничение выполняет положительную функцию.
Эти формы общности создают и представляют нам в первую очередь художники. Именно художники учат нас видеть, прокладывают дорогу для расширения нашего сознания; они указывают путь к новым, отвечающим современности измерениям восприятия, в которых мы нуждаемся в данный момент. Вот почему, когда мы воспринимаем произведение искусства, у нас возникает внезапная вспышка самоосознания. Джотто, предтеча замечательной эпохи рождения самосознания, известной как Ренессанс, увидел природу в новой перспективе и впервые изобразил скалы и деревья в трехмерном пространстве. Это пространство существовало все время, но его не замечали из-за поглощенности человека средневековья своим отношением к вечности, имевшим лишь вертикальное измерение, что отражалось в двухмерности мозаик. Джотто расширил пределы человеческого сознания, потому что его перспектива требовала, чтобы индивидуальный человек стоял в определенной точке, для того чтобы видеть эту перспективу. Теперь был важен сам индивид; критерием была уже не вечность, а собственное переживание индивида и его способность видеть. Искусство Джотто явилось предвестием индивидуализма Ренессанса, которому суждено было вступить в пору расцвета сто лет спустя.
Новая картина пространства, рисуемая Джотто, явилась существенно важной с точки зрения новых географических открытий Магеллана и Колумба, которые изменили отношение человека к своему миру, и астрономических открытий Галилея и Коперника, которые изменили отношение человека к небу. Эти новые пространственные открытия привели к радикальному перевороту в представлении человека о самом себе. Наш век не первый столкнулся с одиночеством, порожденным открытием новых измерений пространства и требующим нового расширения границ человеческого разума. Психологический сдвиг и духовное одиночество этого периода выражены в поэзии Джона Донна:
И люди открыто признают, что этот мир исчерпан,
Когда в Планетах и на Небосводе
Они непрестанно обнаруживают что-то новое;
… "Все вдребезги разбито, распалась связь;
Все применительно, все относительно;
Принц, Отец и Сын — все забыто,
Ибо каждый человек в одиночестве, ему остается лишь
Стать Фениксом…"7
Одиночество нашло выражение и в философии Лейбница — в его доктрине изолированных монад "без окон и дверей", через которые одна могла бы сообщаться с другой. То же касается и Паскаля:
"Узрев слепоту и мизерность человека, увидев, что вселенная безмолвствует, а человек пребывает во тьме, предоставленный самому себе, словно заблудившийся в этом уголке вселенной, не ведая ничего, — ни кто поместил его туда, ни зачем он там, ни что ожидает его после смерти, — я испытал страх, как человек, которого, пока он спал, перенесли на пустынный остров и который проснется, не зная, где он и безо всякой надежды покинуть этот остров".8
И точно так же, как эти люди смогли найти новые плоскости сознания, которые до некоторой степени заполнили пустоту новых измерений пространства, так и в наши дни необходим подобный сдвиг.
Сезанн в начале нашего столетия увидел и изобразил пространство по-новому, теперь уже не в перспективе, а в спонтанной целостности, в непосредственном понимании формы пространства. Он изобразил скорее сущность пространства, а не его измерения. Глядя на камни, деревья и горы на его полотнах, мы обнаруживаем, что вовсе не думаем: "Эта гора расположена за тем деревом"; нас охватывает непосредственно целое, мистическое в том смысле, что оно охватывает близкое и далекое, прошлое и настоящее, сознательное и бессознательное в одной непосредственной целостности нашего взаимоотношения с миром. Действительно, недавно, глядя в Лондоне на одну из написанных маслом картин Сезанна, Озеро д'Анннеси (которой я никогда прежде не видел), я с удивлением заметил, что он фактически накладывает мазки горы на дерево, в полном противоречии тому реальному факту, что гора, когда он смотрел на нее, располагалась в двадцати милях от дерева. У Сезанна формы предстают перед нами не как обособленные предметы, собранные вместе, а как единое присутствие, овладевающее нами. То же самое верно и в отношении портретов Сезанна — человек представляется нам не как лицо, имеющее лоб, уши и нос, а как присутствие. Выразительность этого присутствия превосходит наше наивное раболепие перед буквальностью и раскрывает нам большую истину о человека, чем весь реализм. Здесь важно то, что требуется наше участие в самой картине, для того чтобы она заговорила с нами.
У Сезанна мы открываем этот новый мир пространств, камней, деревьев и лиц. Он говорит нам, что старый мир механики ушел, и мы должны увидеть новый пространственный мир и жить в нем. Это очевидно, даже в его, казалось бы, банальных яблоках и персиках на столе. Но особенно выразительно и ясно это предстает в его картинах деревьев. В свои студенческие годы я обычно шел на занятия по территории колледжа под высокими вязами, восхищаясь их величием. Сегодня я направляюсь к своему офису под вязами на Риверсайд Драйв. За время, что прошло между этими двумя событиями, я увидел и научился любить картины вязов Сезанна в их архитектурном величии, и то, что я сейчас каждое утро вижу, — или, вернее, переживаю, — совершенно отлично от того, что я чувствовал в колледже. Теперь деревья являются для меня частью музыкального движения форм, которое не имеет никакого отношения к буквальным размерам деревьев. Белые треугольники неба так же важны, как и ветви деревьев, создающие их форму; зримая сила, витающая в воздухе, не имеет никакого отношения к размерам деревьев, но заключена в линиях, прочерченных ветвями по серо-голубой воде Гудзона.
Новый мир, который открывает Сезанн, выходит за рамки причины и следствия. Здесь нет линейной взаимосвязи в смысле "А" дает "В", а "В" дает "С"; все грани форм рождаются в нашем видении одновременно — или вообще не рождаются. Это демонстрирует ту новую форму, которую в наше время принимает воля. Картина мистична, а не буквальна или реалистична: она вмещает все категории времени — прошлое, настоящее и будущее — сознательное и бессознательное. И что самое главное, я не могу даже просто видеть картину, оставаясь вне ее; она заговаривает, только если я участвую в ней. Я могу увидеть Сезанна, не рассматривая его скалы как точное их изображение, а только глядя на эти скалы как на сочетание форм, которые говорят со мной через мое собственное тело, мои чувства и мое восприятие моего мира. Это мир, в который я должен вжиться. Я должен отдаться ему во вселенной первичных форм, лежащих в основании собственной жизни. Эти картины бросают вызов моему сознанию.
Но как я могу знать, что снова найду себя, если позволю себе взлететь на орбиту новых форм и пространств Сезанна? Этот вопрос объясняет значительную часть того яростного, иррационального и неистового сопротивления, которое многие люди чувствуют по отношению к современному искусству; оно действительно разрушает их старый мир и поэтому ненавистно. Они никогда уже не смогут снова увидеть мир по-старому, никогда не смогут по-старому ощутить жизнь; после того, как старое сознание раскалывается, нет никакого шанса восстановить его снова. Хотя Сезанну, как буржуа, должны быть ближе, упрочившиеся формы, гарантирующие чувство безопасности в жизни, это не должно нас вводить в заблуждение, мешая сознавать, что язык в его картинах совершенно иной. Это тот уровень сознания, который привел Ван Гога к психозу несколькими годами ранее и с которым большой ценой боролся Ницше.
Работы Сезанна представляют собой противоположность принципа "разделяй и властвуй", который характеризовал отношение человека к природе, начиная с Бэкона, и привел нас на грань катастрофы. У Сезанна есть высказывание, что мы можем и должны волеть и любить мир как непосредственную, спонтанную целостность. Сезанн и его единомышленники используют новый мифо-символический язык, который был более адекватен любви и воли в тех условиях, которые нас еще ожидали.
Это страстное стремление художника, какого бы то ни было направления или цеховой принадлежности, "сообщить" нам то, что он воспринимает как бессознательный и сознаваемый смысл своего отношения к творимому им миру. "Сообщение" как передача смысла предполагает "сообщество" и это в свою очередь открывает пути через общение к переживанию общности с нашими собратьями.
Мы любим и волеем мир как непосредственную, спонтанную целостность. Мы волеем мир, творим его своим решением, своим выбором; мы любим его, привносим в него чувство, энергию, силу любить и изменять нас, в то время как мы формируем и изменяем его. Вот что означает всю полноту связи со своим миром. Я вовсе не имею в виду, что мир не существует до того, как мы начинаем любить или волеть его; человек может ответить на этот вопрос только на основании своих допущений. Я, будучи среднестатистическим человеком западной культуры, с врожденно присущим мне реализмом, склонен предполагать, что мир все же существует. Но покуда я не оказываю на него никакого влияния, он не обладает для меня реальностью, не имеет никакого отношения ко мне; я двигаюсь как во сне, вслепую, не чувствуя почвы под ногами и даже не наощупь. Человек может выбирать — отмежеваться от всего мира, как средний житель Нью-Йорка, когда он едет в метро, или же видеть его и творить его. В этом смысле мы сами придаем искусству Сезанна или Собору Парижской Богоматери силу воздействовать на нас.
Что это означает применительно к нашей личной жизни, к которой мы наконец сейчас возвращаемся? Микрокосм нашего сознания предполагает знание макрокосма вселенной. В том, что человек способен сознавать себя и свой мир, заключена исполненная благоговения радость, благословение и проклятие человека.
Ибо сознание неожиданно обнаруживает удивительный смысл в наших, иначе абсурдных, действиях. Эрос, всецело проникая нас собой, манит нас своей силой, обещанием того, что эта сила может стать нашей. А демоническое, — его зачастую душераздирающий голос, который одновременно является выражением нашей творческой силы, — зовет нас к жизни, если мы не убиваем эти демонические переживания, а принимаем их, признавая ценность того, что есть мы и что есть жизнь. Интенциональность, сама обусловленная углубленным самоосознанием, является средством сообщения нашим действиям неожиданно выявленных сознанием смыслов.
Мы стоим на вершине сознания всех предшествующих веков, и их мудрость доступна нам. История — эта избирательная сокровищница прошлого, которую каждый век завещает последующему — сформировала нас таким образом, что мы, пребывая в настоящем, можем глядеть в будущее. Однако, наши интуиции, новые формы, теснящиеся у самых границ нашего разума, всегда уводят нас в девственную страну, где мы, хотим мы того или нет, вступаем на чужую и зыбкую почву. Единственный выход — впереди, и выбор наш состоит в том, чтобы либо отступить, либо утвердиться на этой новой земле.
Ибо в каждом акте любви и воли — а в конечном итоге и то, и другое присутствует в каждом подлинном действии — мы одновременно формируем и самих себя и наш мир. Вот что значит зачать свое будущее.

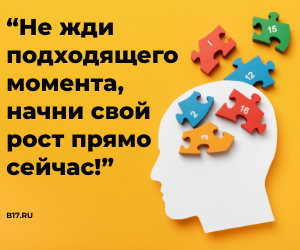

Комментарии к книге «Любовь и воля», Ролло Р. Мэй
Всего 0 комментариев