Введение
ИСТОРИЯ ЛУКАСА
В один из жарких августовских дней 1941 года в Коннектикуте, когда мне было шесть лет, а моей матери — тридцать три, она, выйдя от консультировавшего ее психиатра, зашла в сад и перерезала себе горло. Мой отец, преуспевающий адвокат — хотя и несчастливый человек — получил известие о ее смерти, находясь в своем офисе в Нью-Йорке. Также в доме психиатра в тот день была и моя бабушка. Она водила маму к нему в то лето; эти визиты были кульминационным моментом долгих лет страданий маниакально-депрессивным психозом. Бабушка и отец подолгу спорили о том, что сказать детям — мне и моему восьмилетнему брату, который был в лагере. Отец победил в споре: десять лет характер смерти матери держался от нас в тайне, хотя родственники и большинство друзей знали, что она совершила самоубийство.
В другой жаркий августовский день, когда мне было шестнадцать и мы с отцом сидели на вокзале, я, наконец, узнал правду. Мой поезд вскоре отправлялся, и мне кажется, что отец специально выбрал именно это время, потому что не смог бы выдержать более длительной беседы. «Почему?» — спросил я раздраженно. «Она была больна», — сказал отец, ясно показывая своим видом, что это все, что он собирается сказать по этому поводу. В дальнейшем мы много лет не возвращались к этой теме.
Через двадцать девять лет после этого разговора, после смерти моего отца (он здорово выпивал, и у него сдала печень) и после того, как я почти все это время страдал тревожно-депрессивными состояниями (периодически получая психотерапию), мои пожилые тетя и дядя также покончили с собой, с промежутком в один год. Дядя, как и моя мать, страдал маниакально-депрессивным психозом. У тети был рак. Родственники просили меня сказать прощальные слова во время обеих заупокойных служб. К своему ужасу, я почувствовал сильную злость: на усопших, за то, что они причинили страдания мне и своим детям, на моих кузенов за их просьбу. Вместе с тем, у меня было и чувство вины из-за испытанной злости на двух умерших людей. Во время панихид о самоубийстве никоим образом не упоминалось. Мои дядя и тетя просто ушли в мир иной.
После долгих раздумий мне пришло в голову, что ярость и чувство вины были связаны со смертью матери, случившейся много лет тому назад. И, очевидно, следовало бы изучить эту связь. Я подумал, что когда-нибудь, возможно, займусь этим.
Недавно, четыре года тому назад, мой ближайший друг детства покончил жизнь самоубийством в тот день, когда ему исполнилось пятьдесят лет. В нашем классе его считали мальчиком «с наибольшей вероятностью успеха». Я не виделся с ним много лет, лишь время от времени из города на западе США, где он жил, до меня доходили сведения о нем: вначале он неудачно женился, второй брак оказался счастливым; болел алкоголизмом, затем излечился; был писателем. Я отреагировал на его смерть глубочайшим унынием, и в это время настоятельно нуждался в анализе своих чувств.
Жена предложила мне обратиться к литературе по суицидам. Очевидно, с мыслью, что при том внимании, которое уделяется сегодня лицам, кончающим жизнь самоубийством, возможно, в этих книгах я найду утешение или даже практическую помощь. Я не нашел ни того, ни другого. Из более чем двух тысяч работ по суицидам, опубликованных после 1965 года, — монографий, статей в профессиональных журналах, диссертаций — только в нескольких упоминалось влияние самоубийств на близких людей. Большинство же теоретических и практических научных работ было посвящено самому самоубийце. Популярная пресса также почти никогда не интересовалась близкими, остающимися жить после самоубийства родственника. В ней подчеркивалось возрастание числа суицидов среди подростков, «рациональных» самоубийств, эпидемий депрессии. Тем не менее, между строк в некоторых работах, то тут, то там, я стал находить удивительные факты. Если вы читаете эту книгу потому, что близкий вам человек покончил с собой, то некоторые из них могут быть вам знакомы. Если же с вами этого не случалось, то они могут стать для вас поразительно новыми открытиями.
Статистика
На каждое самоубийство, по оценкам экспертов, приходится от семи до десяти людей, на которых это событие оказывает непосредственное влияние: родители, братья, сестры, дети, дяди, тети, бабушки, дедушки, внуки, близкие друзья. Если принять официальные данные Департамента Здравоохранения США о том, что число самоубийств в стране составляет приблизительно 30000 в год, значит, в течение этого времени появляется 200000–300000 человек, переживших самоубийство близкого. Если же, с другой стороны, взять более вероятное (неофициальное) число суицидов — более 60000 в год (включающее определенный процент от общего числа дорожно-транспортных происшествий, смертей, связанных со злоупотреблением алкоголем и отравлением наркотиками, самоубийства, скрытые родственниками или судебными экспертами), то количество лиц, в течение года переживающих суицид близкого человека, становится огромным — между 350000 и 600000. Учитывая, что большинство из них остаются в живых еще 15-20 лет, я пришел к потрясающему выводу: в настоящее время в США живет шесть миллионов человек, переживших смерть близкого в результате самоубийства. Не исключено, что их число может быть и больше.
Проблемы
Из литературы я узнал, что многие родственники людей, умерших «естественной» смертью, переживают (вдобавок к скорби и печали) потрясение и беспомощность или отрицают случившееся, а человек, переживший смерть близкого в результате суицида, по-видимому, сталкивается с еще более интенсивными отрицательными переживаниями: чувством вины, гнева (граничащего с яростью) и болью — эти чувства обычно сохраняются годами. Помимо этого, люди, пережившие суицид близкого, могут страдать повышенной утомляемостью, мигренями, колитами, алкоголизмом, нарушениями сна, тревогой, плаксивостью, сердечными заболеваниями, боязнью одиночества. Они употребляют больше транквилизаторов, чаще страдают язвенной болезнью и депрессиями. Наконец, что наиболее трагично, лица, относящиеся к этой группе, испытывают больше затруднений в установлении тесных долговременных отношений с другими людьми и сами чаще, чем прочие, совершают суициды. Не удивительно, что Эдвин Шнейдман, основатель Американской Ассоциации Суицидологии, стал использовать по отношению к этим лицам выражение переживший/жертва.
Но стараясь найти в литературе больше конкретного материала по этой теме, я ничего не обнаружил. На проблемы, с которыми сталкивались лица, перенесшие самоубийство близкого, только намекали. Реальных исследований было проведено так мало, что никто не мог с точностью утверждать, было ли то или иное явление результатом переживания самоубийства, считать эти факты доказанными. И все же прочитанный материал был для меня полезен; он был созвучен моему собственному опыту переживания самоубийства близкого человека. Меня переполняли вопросы:
Почему все это происходит?
Каковы при этом действия людей?
Почему человек, переживший суицид близкого, так страдает?
Как длинный список их болезней связан с моими собственными проблемами?
Почему, несмотря на свидетельства о том, что близкие совершивших суициды переживают особые психологические трудности («Есть данные о том, — сказал мне один психолог, — что они тяжело страдают даже спустя много лет после самоубийства близких»), общественность равнодушна, а в литературе так мало данных об этом?
И почему за сорок лет, прошедших со времени смерти матери, никто так и не сказал мне, что мои переживания подобны чувствам, которые испытывают большинство людей, переживших суицид близких? Это бы мне помогло.
Я подумал, что многим из нас, пережившим эти болезненные чувства, следовало бы рассказать о них; мы могли бы поделиться своей жизнью с другими. Поэтому я решил написать книгу, которая раскрывала бы людям, пережившим самоубийство близкого, и всем другим масштабы этой проблемы, влияние суицида на окружающих и — по возможности — то, что можно для них сделать. Поначалу я стал проводить опросы людей, потерявших близкого после суицида, беседовать с психологами и социальными работниками, углубился в литературу по психологии. В начале 1983 года я участвовал в конференции — объявленной как первая встреча лиц, переживших суициды близких, — проводившейся Университетом медицины и стоматологии, а также общественным Центром психического здоровья Медицинской школы Ратджерс в Нью-Джерси. Там около ста человек, потерявших близкого в результате самоубийства (многие из них — недавно), делились друг с другом чувствами гнева, вины и тревоги, возникшими из-за этой потери. Опыт людей, долго (месяцы и годы) страдавших, показал, что, хотя время и смягчает внешние проявления психической травмы, у них остается очень много проблем.
Таким образом, эта книга будет рассказывать о людях, пострадавших от суицида любимого человека, о том, что они узнали и как стараются больше узнать об этом ужасном событии, угрожающем разрушить и их жизни.
НЕМНОГО О ПОДХОДЕ
Все больше и больше углубляясь в исследование влияния, которое оказывает суицид на близких, я почувствовал, что нуждаюсь в помощи человека, имеющего профессиональный опыт. Я попросил Генри Сейдена, опытного практикующего психотерапевта и психоаналитика, написать эту книгу вместе со мной. Ее материал, в целом, получен в результате наших совместных раздумий и исследований.
Мы разделили книгу на несколько частей. В них содержится общая информация о суициде, о психологических реакциях на него и о проблемах, с которыми приходится сталкиваться его жертвам — лицам, пережившим суицид близкого. Важно и то, что в них приводятся истории многих людей, с которыми мы беседовали, стремясь узнать то главное, что испытывает близкий человека, совершившего самоубийство. Как и все жертвы (ограбления, изнасилования, дорожно-транспортных происшествий, пыток и хулиганских действий), они приобрели опыт и могут передать его. Это сыновья, дочери, родители, бабушки, дедушки, внуки, близкие друзья, любимые, супруги, братья и сестры людей, покончивших с собой. В их рассказах есть надежда и отчаяние, успехи и поражения. Кроме того, мы беседовали с практикующими психологами, социальными работниками, психотерапевтами и исследователями, чтобы собрать как можно больше полезной информации о последствиях суицидов.
За те три года, что писалась эта книга, в США произошел небольшой, но все же вызывающий удовлетворение рост числа психологов и научных работников, обративших внимание на людей, переживших суицид близких. Были проведены несколько Ратджеровских конференций. Планируются и другие. Предварительные научные исследования породили сомнения в предполагавшихся ранее различиях между людьми, перенесшими смерть близких от суицида и теми, чьи родственники внезапно или насильственно погибли от других причин. Тем не менее, существует общее мнение о необходимости проведения дополнительных исследований для подтверждения некоторых важных фактов. Но уже сейчас Генри Сейдену и мне совершенно ясно, что те люди, с которыми мы беседовали, прежде всего страдали от очень реальной боли. Многие, кого постигла внезапная, но естественная смерть других членов семьи, настаивали, что эти переживания значительно отличаются от испытанных ими при самоубийстве близкого. (Так, 97% респондентов отметили, что им было значительно труднее перенести самоубийство родственника, чем предыдущие смерти близких от других причин.) Но эта книга не была задумана как сугубо научный анализ психологических переживаний. Мы хотели на основании многих бесед с близкими самоубийц показать прежде всего их неприукрашенные чувства, узнать, какие рубцы остались в их душах после этой потери. Ни у них, ни у меня нет сомнений, что они испытывают чувства, качественно и количественно отличающиеся от эмоций людей, потерявших близкого человека в результате естественной смерти или несчастного случая. Мы предлагаем вашему вниманию результаты наших бесед с близкими людей, совершивших суицид, а также со многими другими людьми по всей территории США
Как выяснилось из бесед с близкими суицидентов/жертвами, независимо от того, были ли они еще полностью погружены в скорбь или уже сумели в какой-то степени осмыслить свою потерю, одним из наиболее болезненных переживаний у них стало осознание, что человек, к которому они питали глубокую привязанность, решил их покинуть; причем не «обыденным» способом — просто уйти или подать на развод — а умереть. Близких чрезвычайно травмирует мысль, что их отвергли именно таким образом. Эдвин Шнейдман предположил, что одной из причин сильной психической боли, испытываемой близкими (и гнева, который она порождает), является осознание, что умерший человек «отказался от всякой возможности получить от них помощь». И это оставляет их с чувством своей полной никчемности и бесполезности.
Еще одним удивительным открытием, которое поначалу озадачило нас, было то, что очень многие, особенно мужчины, не говорили о происшедшем самоубийстве с членами своей семьи, даже спустя много лет после него. (Видно, в этом, как и во многом другом, я не был одинок.) Не обсуждая это событие, близкие суицидентов часто не могли пройти через некоторые естественные этапы работы со своим горем. Они как бы «застывали» в своей скорби. Из собственного опыта и результатов наших исследований несомненно вытекало, что львиная доля особой психической боли, испытываемой близким суицидента/жертвой, связана именно с этим молчанием, молчанием, которому благоприятствует нежелание общества вообще обсуждать тему суицидов. Почему она покрыта таким молчанием — почему в семьях заключаются настоящие сделки, чтобы не обсуждать ее — раскрывается в главе 11.
У всех нас, пострадавших от самоубийства близких, есть чувства, грозящие искалечить нашу душу, хотя мы и не признаемся себе в этом. Часто они серьезно мешают нам найти выход в лабиринте нашей жизни и становятся существенной преградой на пути. Такие преграды мы называем «сделками». Главы с 4 по 11 посвящены им и их последствиям.
Когда я стал взрослым и узнал о характере смерти матери, мне захотелось выяснить, не станет ли ее болезнь фатальной и для моей жизни (что было моим постоянным кошмаром); не покончит ли с собой еще кто-нибудь из родственников или моих детей. Но больше всего мне хотелось получить ответ на вопрос: «Почему?». В этой книге мы обсудим молчание, взаимные обвинения, вопрос «почему» и многое другое, что преследует нас, близких суицидентов/жертв.
О КОМ НАПИСАНА ЭТА КНИГА И КАК ЭТИ ЛЮДИ В НЕЕ ПОПАЛИ
Моей первоначальной целью было написать книгу, которая могла бы помочь близким суицидентов справиться со своими переживаниями. Но когда мы с Генри начали совместную работу, то поняли, что если концентрировать внимание только на этом, большая часть историй близких суицидентов останется не раскрытой. В конце концов мы постарались представить весь диапазон переживаний этих людей.
Кто они? Среди тех, с кем мы беседовали лично, был Ральф, чей отец застрелился более полувека назад, Аманда, чья дочь отравилась лекарствами, Эрик, чей сын выбросился из окна; Мэй, чей отец повесился, когда ей было только Девять лет; Сиэн, отец и два брата которого покончили с собой. В число опрошенных входили медсестра, врач, железнодорожный рабочий, социальный работник, несколько пенсионеров, менеджер крупного магазина, фармацевт, управдом, несколько учителей, безработный бухгалтер. Время, прошедшее от момента самоубийства, было совершенно разным. Наиболее отдаленные случились пятьдесят пять лет назад, самый недавний суицид произошел за три месяца до беседы.
Среди респондентов были представлены почти все возможные семейные и внесемейные отношения: сыновья и дочери, отцы и матери, супруги и любовники, дяди и тети. Почти половина людей, покончивших с собой, покушались на свою жизнь и раньше, многие неоднократно. Среди их близких, с которыми мы вели длительные беседы, почти половина страдала депрессивными состояниями, имела психологические или телесные проблемы, по-видимому, связанные с их участью близких суицидентов. Некоторые из них признавались, что также пытались совершить самоубийство, многие думали об этом. Мы говорили чаще с женщинами, чем с мужчинами, но среди погибших было больше мужчин, чем женщин. (Это соответствует статистическим данным по стране: в среднем мужчины чаще совершают суицид и таким образом больше женщин становятся родственниками суицидентов.) Несмотря на большое внимание, которое уделяется в наши дни подростковым самоубийствам (возраст приблизительно одной седьмой части всех самоубийц не превышает двадцати одного года), мы не стремились фиксировать свое внимание на каком-то одном виде суицида или определенной группе людей, перенесших суицид близкого человека.
Как мы находили их? Некоторые пришли к нам из местных центров психического здоровья, куда они обратились за помощью. Других мы встретили на Ратджеровской конференции, посвященной близким людей, совершивших суицид, и они согласились продолжить разговор с нами. Бывало и так, что мы где-то рассказывали о готовящейся книге и кто-нибудь обращался к нам: «Извините, я случайно услышала, о чем вы говорили. Муж моей сестры покончил с собой, и я уверена, что она захочет поговорить с вами об этом». Самым удивительным в этих беседах было то, насколько охотно люди шли на разговор. Иногда, заметив, что закончилась кассета, или увидев, что наше время истекло, мы выключали диктофон и говорили: «Ну что ж, спасибо». Однако большинство людей продолжали говорить. Они не хотели расставаться и кончать беседу. Оказалось, что разговор о суициде, о том, что значит для человека потерять близкого в результате самоубийства — это как раз то, к чему они стремились.
Наши наблюдения соответствовали тому, что мы многократно слышали от психологов, и подтверждали распространенное мнение: разговор помогает. Естественно, одни люди желали говорить больше, другие — меньше. Мужчины, например, испытывали меньшую потребность в беседе, или же считали, что им это не нужно. Были и такие, которые по той или иной причине вообще не могли заставить себя говорить на эту болезненную для них тему. Но именно так мы получили большую часть материала, использованного в этой книге: через «старомодные» беседы. И наверное, еще раз стоит повторить — вразрез с общепринятым мнением — люди, пережившие суициды близких, несомненно заговорят об этом, если будут уверены, что их выслушают.
Мы также использовали информационные письма и брошюры нескольких групп самопомощи людям, пережившим суициды близких; кроме того, мы черпали информацию и новые мысли из газетных статей, профессиональных журналов, материалов совещаний и встреч, книг, в большинстве случаев посвященных людям, совершившим суициды, но иногда — их близким. Например, группа самопомощи «Расчетная палата» в Нью-Джерси, которой руководит Эд Мадара, была хорошим источником информации для нас, равно как и другие группы психического здоровья.
Генри Сейден и я писали эту книгу совместно. Он является специалистом в области психического здоровья, я же имею опыт человека, пережившего суицид родственника. С этих позиций мы вместе и рассматривали результаты опросов и исследований. Сообща мы старались разрешить дилеммы, разобраться в разбитых судьбах и найти слова утешения для тех, кто думает, что их будущее не содержит ничего, кроме унылых дней депрессии. В этом смысле наша книга — это книга для самопомощи, основанная на твердых правилах в психологии.
Но в конце концов дело не в том, что скажем мы, а в том, что думают люди, пережившие суицид близкого человека, что с их точки зрения может больше всего помочь читателю. Большинство из них, прошедших через ужас недавнего самоубийства близкого человека или оглядывающихся на происшедшее спустя годы, чувствуют себя одинокими. «Мы не знаем, что будет с нами дальше, с кем можно поговорить, как узнать, что желательно было бы предпринять, чтобы сделать одиночество менее болезненным». На основании проведенных бесед мы пришли к выводу, что, как ни странно, есть много общего между людьми, пережившими суицид близких; что испытываемое одним человеком — как в эмоциональном плане, так и в смысле оценки событий — часто сходно с тем, что чувствуют другие; и поэтому естественно, что общение с другими близкими суицидентов может помочь. А ведь люди не верят в такое сходство и полагают, что их боль, проблемы, судьбы являются уникальными; это весьма распространено и составляет часть их дилеммы. Парадокс же заключается в том, что каждое самоубийство, как и человек, который вовлечен в это событие, действительно уникальны. Но, как вы увидите дальше, между всеми, перенесшими суицид близкого, чьи истории описаны в этой книге, имеется глубокое родство. Именно из этих общих скрепляющих нитей люди, попавшие в сходную ситуацию, возможно, смогут извлечь некоторые уроки и использовать их в своей жизни, чтобы преодолеть изоляцию, растерянность, отчаяние, пустоту или стыд.
Каждая травма оставляет рубцы, которые затрудняют естественное функционирование. Телесное ранение, вызванное, например, автомобильной аварией, приводит к видимым следам на теле. Психические травмы оставляют после себя своего рода психологические рубцы. И самоубийство тоже оставляет рубцы у близких. Эта книга написана о них, об их рубцах, о том, как сделать их менее заметными, а если повезет — вовсе избавиться от них. Она написана для двух категорий читателей: для людей, перенесших суициды близких, желающих больше узнать об опыте других в подобной ситуации и о том, как можно изменить свою жизнь к лучшему, и для тех, кто хочет узнать, что переживают близкие суицидентов.
Можно твердо сказать, что этой книги не было бы, если бы не люди, которые делились с нами своими историями и чувствами. Они, как и я, искренне верят, что их личные открытия, даже болезненные, переживания, будут полезны для сотен и тысяч людей, пополняющих каждый год армию близких суицидентов/жертв.
Кристофер Лукас
ПЕРЕЖИВШИЕ САМОУБИЙСТВО: РОДСТВЕННИКИ, ДРУЗЬЯ, ВРАЧИ И ДРУГИЕ
Если предисловие позволяет автору книги высказать в начале мысли, которые с вызывающим сожаление опозданием пришли ему в голову, то послесловие редактора с неизбежностью становится завершающим аккордом, как бы говорящим: «Да, это вещь!» И хотя судьба многих послесловий незавидна, тем не менее научный редактор отваживается на этот шаг, движимый не только стремлением воздать должное самоотверженности, таланту и эрудиции авторов (послесловие-панегирик), но и желанием взглянуть на прочитанное с точки зрения психоисторической перспективы проблемы, которой посвящена книга. Иными словами, что было, есть и чего следует ждать в будущем тем, кто встретит на своем жизненном или профессиональном пути жертв, переживших самоубийство близкого.
Очевидно, надлежит сделать предуведомляющую заметку о терминологии книги. Она ориентирована на самого широкого читателя и потому, к счастью, лишена понятий, описывающих явления, о которых все прекрасно знают, словами, которые никто не понимает (печальный удел многих психологических монографий!). Тем не менее, следует остановиться на понятии, определяющем основную проблему книги. То, что в английском оригинале именуется одним словом «survivor» («оставшийся в живых, уцелевший»), весьма кратко и емко обозначая людей, оставшихся в живых после утраты в их жизни витально значимых ценностей, в русском языке обречено быть переданным не одним понятием, а рядом словосочетаний. В языке характерное понятие, фиксирующее ту или иную проблему, возникает только тогда, когда она как уникальное явление осознается его носителями. Если такого отношения нет, то приходится конструировать фразы. Не имеет ли смысла предположить, что категория «выживших после самоубийства близкого» не осознается как явление или проблема в нашем обществе, а потому и не удостоена языковой привилегии иметь свое собственное уникальное имя? В качестве причин, в самом первом приближении, на ум приходят две. Первая — это, конечно, влияние табу, наложенного на самоубийство и на то, что так или иначе связано с ним. Другая, возможно, носит более парадоксальный характер: не является ли каждый из нас, в той или иной мере, «выжившим после самоубийства близкого»?! Это предположение, естественно, снимает проблему термина, ибо достояние каждого не может считаться уникальным и претендовать на имя. Но оно же рождает и другую проблему: не входит ли жертвенность составной частью в коллективное бессознательное русского этноса? Ответ не может быть однозначным, но ясно, что его следует искать не в сравнительной лингвистике, а в ноосфере нашего общества.
Много лет работая психиатром и последнее время профессионально интенсивно занимаясь проблемой самоубийств, я, тем не менее, не задумывался над вопросом: «А что же я? Какое отношение эта проблема имеет лично ко мне?» И только проделав тот же путь, что и читающие эти строки, прожив несколько дней с книгой К. Лукаса и Г. Сейдена, я вспомнил два события, одно из которых никогда до сих пор не всплывало в памяти. Другое я, конечно, помнил, но...
Первое произошло, когда я учился в восьмом классе. Со мной рядом сидела одноклассница. Девочка достаточно талантливая, подававшая немалые надежды в балете, акробатике и разных видах спорта. Видимо, она была достаточно горда, поскольку, будучи одинаково приветливой со всеми, она ни с кем не находилась в дружеских отношениях. Как будто ее и других сверстников что-то отделяло друг от друга. Хотя года за два до случившегося, я помню, она сказала мне: «Давай дружить». Я не отверг ее предложения, мы были хорошими товарищами, но сейчас мне кажется, что она, возможно, видела это иначе. Однажды она не пришла в школу. Мать нашла ее повесившейся на кухне. Много лет спустя, будучи интерном-психиатром, я встретился с ее матерью в кризисном женском отделении психиатрической больницы. Маниакальное состояние у нее чередовалось с глубокой депрессией. Она и тогда не расставалась с мыслью, что ее дочь должна была быть самой лучшей, самой талантливой, самой первой. По трагической случайности в моем жизненном опыте это было первым столкновением с самоубийством.
Девять лет спустя мой друг покончил с собой. Точнее, для всех и до настоящего времени его смерть остается несчастным случаем. Он разбился на машине, поехав в предновогодние дни неизвестно зачем за город, в метель и очень ненастную погоду, да еще ночью. Он любил ездить очень быстро. Я, бывало, даже завидовал его склонности к риску и какому-то безоглядному азарту. Утром его сестра позвонила мне, он был очень важной частью моей жизни. И первое, что я почувствовал — это отрицание и какой-то провал, видимо, это был шок. Но надо было что-то делать, она просила о помощи. Стояли выходные дни, срочно был нужен судебный эксперт, после заключения которого можно было бы забрать тело. Я занялся поисками. Помню, что действовал как хорошо заведенный автомат, все вокруг было как в тумане, плоское и неживое. Мы поехали вместе со знакомым экспертом. Того, кого я знал живым, мне надлежало опознать мертвым. Я сделал это. Но обстоятельства распорядились еще жестче. Им было угодно, чтобы в тот воскресный день, как водится, в сельском морге не оказалось никого из обслуживающего персонала. Эксперту не осталось ничего иного, как рассчитывать на мою помощь ассистента при вскрытии... Это было действительно ужасно... и сейчас строки, которые я пишу, и близко не напоминают мой обычный почерк. Потрясение остается и сегодня... Я не помню, сколько это длилось, времени не существовало... Последовавшие траурные события прошли как положено, своим чередом. Я уже работал врачом и, принимая в них участие, чувствовал очень сильную неопределенную тревогу и страх. Чего стоил я как врач, если это случилось? Да, конечно, вторил я другим, это был несчастный случай. Но что заставило его отправиться в ночное ненастье? Почему он не поступил иначе? И я, где был я со всеми нашими отношениями и знаниями? Можно ли вообще помочь людям в кризисе, или это обманчивая иллюзия? Если я не помог ему, то буду ли я в состоянии хоть как-нибудь оказывать соответствующую помощь моим больным? Моим родственникам? Близким? Существует ли вообще в жизни что-то мало-мальски прочное, предотвращающее такие несчастные случаи? Тогда я потерял не только друга, но и утратил определенную долю веры в могущество профессионального знания.
Я уверен, что эти два события из моей жизни, даже не принимая в расчет дальнейшего, к сожалению, богатого в этом отношении профессионального опыта, достаточное основание, чтобы я мог рассматривать себя как «выжившего после самоубийства близкого». Не только редактура книги, но и они дают мне право на это послесловие.
Книга К. Лукаса и Г. Сейдена является универсальной для нас во многих отношениях. Прежде всего, она касается проблемы самоубийств — темы, и сегодня остающейся даже для профессионалов закрытой, малопонятной, полной мифов и предрассудков, за которыми часто скрывается беспомощность, брезгливость или отчаяние тех, кто призван оказывать помощь. Она посвящена людям, о которых у нас вообще никогда не говорилось: если замалчивалась сама проблема, то как могли приниматься всерьез оказавшиеся рядом. Наконец, книгу написали двое — профессионал-психолог и один из тех, кто решил поделиться с людьми личным опытом выживания. Это и сегодня для нас случай беспрецедентный. Недавно на конференции Канадской Ассоциации превенции суицидов я был поражен тем, что в зале бок о бок находились психологи, психиатры, социальные работники, уцелевшие самоубийцы, родственники и близкие тех, кто покончил с собой. И не просто сидели, а наравне участвовали в дискуссии, обсуждали различные проблемы и выступали с сообщениями. Полагаю, что перечисленных обстоятельств довольно, чтобы предсказать книге К. Лукаса и Г. Сейдена успех у нашей аудитории, ведь для многих она окажется первым источником, посвященным психологическим проблемам самоубийства и, в частности, переживанию горя.
Западные исследователи за прошедшую четверть века накопили изрядное количество фактического материала, теоретических обобщений и практических результатов помощи тем, кто пережил самоубийство близкого. Большинство из них сходятся во мнении, что любой суицид приводит к более интенсивному переживанию горя близкими (в сравнении с тем, которое именуется в литературе «обычным», «нормальным») и обусловливает более трудный процесс принятия и интеграции утраты, поскольку такая смерть серьезно затрагивает витальные представления человека о незыблемых ценностях мира. Они кажутся всерьез поколебленными, если вообще не утратившими значимость. Многие из оставшихся в живых прежде всего именно себя считают жертвами неожиданной и внезапной смерти близкого человека.
Один из ведущих современных американских суицидологов Норман Фарбероу следующим образом итожит эмоциональные переживания, свойственные выжившим после самоубийства близкого:
1. Интенсивное чувство утраты — переживание горя и скорби.
2. Гнев — из-за необходимости испытывать ответственность за случившееся.
3. Чувство разлученности — из-за того, что предложенная помощь была отвергнута.
4. Чувства тревоги, вины, стыда или смущения.
5. Облегчение, что исчезла раздражающе настоятельная необходимость в заботе или контроле за близким.
6. Чувство брошенности.
7. Появление собственных саморазрушающих тенденций.
8. Гнев, порожденный господствующими предрассудками, что случившееся является пренебрежением нормами социальной и моральной ответственности.
Разнообразные проявления гнева в виде злости, ярости, возмущения или раздражения встречаются очень часто у выживших после самоубийства близкого.
Они бывают направлены на конкретных лиц или учреждения, оказавшиеся безуспешными в усилиях спасти жизнь человека (на врачей, полицейских, спасателей), на всех окружающих (друзей и приятелей умершего, одноклассников или коллег, общество в целом), на самих себя, что упустили нечто важное для спасения, и, наконец, на самих умерших. Моя коллега — суицидолог из Любляны— рассказывала, что один из ее пациентов, отец совершившего самоубийство юноши, после окончания групповой терапии заявил: «Я и сейчас настолько рассержен на него, что если бы произошло чудо и он ожил, то, наверное, я бы растерзал его».
Проведенные научные изыскания свидетельствуют, что после самоубийств, в отличие от других вариантов ухода из жизни, отмечается устойчивая тенденция возникновения гораздо более сильной тревоги, переживания вины и стигматизации (отмеченности) фактом этого способа смерти. Кроме того, выжившие после самоубийства близкого оказываются в состоянии когнитивного диссонанса, когда их знания и убеждения входят в противоречие или прямой конфликт с реальностью. Например, они без устали размышляют о случившемся, оказываясь в плену вопросов типа: «Почему это случилось именно со мной?» — и отчаянно стремясь постичь смысл самоубийства. Бывает, они переворачивают горы литературы, в том числе и сугубо специальной, становясь обладателями обширных формальных знаний в области суицидологии. Так же неустанно работают в этой сфере их активное воображение и фантазии. Сновидения и даже ночные кошмары так или иначе имеют своим ключевым образом случившееся. Воспоминания, порой непроизвольные, различных деталей трагического события возникают достаточно часто, иногда принимая нежелательно навязчивую форму, что приводит выживших в замешательство. Образность и эмоциональная живость воспоминаний нередко наводят на мысль об их сверхъестественном или болезненном происхождении, что, в свою очередь, порождает догадки о возможном безумии и страх утраты контроля над собой и своими поступками. Длительное время эмоции характеризуются неустойчивостью, настроение прихотливо, с заметной амплитудой, колеблется то в одну, то в другую сторону, что влияет на взаимоотношения с окружением. В жизни приходится преодолевать ролевую спутанность («Каким образом я должен вести себя после случившегося?»), которая серьезно нарушает выполнение определенных социальных ролей. Стоит вспомнить мой второй пример: я был другом, однокурсником, коллегой, наши родители были дружны между собой, случившееся заставило меня быть свидетелем и даже исполнителем некоторых тягостных процедур, затем я должен был стать для родственников вестником целого ряда ужасных подробностей случившегося. В ситуации, выходившей за пределы обычного человеческого опыта, вести себя рационально, осмысленно, в соответствии с требованиями роли было невыразимо трудно, а порой — невозможно. Переполнявшие меня переживания позволяли осуществлять лишь некое автоматическое функционирование, часто становившееся несостоятельным при столкновении с малейшими препятствиями (например, связанными с изменением роли), и тогда появлялась парализующая беспомощность.
Не может быть никаких сомнений в том, что большинство переживших самоубийство близкого нуждаются в помощи. Некоторые из них справляются с горем сами или опираясь на родственников и друзей. Многие были бы не прочь прибегнуть к профессиональной поддержке. Это последнее является для нашего общества насущной и пока неразрешимой проблемой: где, когда и кем? В западных странах существует несколько моделей помощи выжившим после самоубийства. Прежде всего ее оказывают врачи общего профиля, медицинские сестры (в западном понимании этой профессии) и социальные работники. Она может быть получена на дому в ходе их консультативного посещения. Желающие имеют возможность посещать группы самопомощи, где встречаются с товарищами по несчастью. Эта форма поддержки прекрасно описана в книге К. Лукаса и Г. Сейдена. Кроме того, возможной и часто целесообразной становится индивидуальная или семейная терапия с родственниками, состояние которых после случившегося внушает наибольшие опасения.
Общие терапевтические принципы работы с выжившими после самоубийства близкого можно свести к следующим:
1. Оживление, предполагающее не что иное, как метафорическое вдыхание новой жизни в человека с серьезной психической травмой.
2. Восстановление — помощь, необходимая для работы — переживания горя.
3. Обновление — освобождение от тягостных последствий и зависимости от утраты.
Задача психотерапевта состоит в том, чтобы помочь клиенту найти собственную стратегию выживания и оказать поддержку в определении уникальных путей переживания горя, особенно принявшего затяжной характер, невзирая на то, какими бы казуистическими или необычными не показались они на первый взгляд. Для некоторых из родственников горе, правомерное и понятное как определенный этап жизни после утраты, становится смыслом всего дальнейшего существования. Они несут его впереди себя подобно знамени или священному символу, насильно увлекая в удручающе беспрестанное траурное шествие и других близких, часто лишая их возможности выбора жить по-своему. Кроме того, тем, кто решает предложить помощь выжившим после самоубийства близкого, не следует рассчитывать ни на толику благодарности последних. Часто кажется, что их личность разделена на две неравные половины: одна из них, большая, темная, полная боли, страданий и иных двойственных переживаний, связанных с ушедшим, нуждается в заботливой опеке терапевта, и обращена к нему в первую очередь. Вторая, более светлая часть, появляется только тогда, когда процесс переживания горя завершается. Задача терапевтической помощи считается выполненной, если выживший после самоубийства близкого способен интегрировать утрату.
К числу выживших после самоубийства близкого, кроме родственников, следует также отнести значимых для умершего людей, например друзей. Обычно они не только не могут рассчитывать на какую-либо помощь со стороны, но волею обстоятельств должны сами проявлять максимум заботы, помогая родным и близким справиться с травмой утраты. Сегодня существуют данные, что друзья и коллеги самоубийцы, переживающие случившееся, также являются в течение полугода после потери группой повышенного риска развития тревожных, посттравматических расстройств и даже депрессивных состояний. Этим нарушениям оказывается подвержена почти треть из них. В частности, влияние самоубийства следует особенно учитывать в школах, колледжах, училищах и институтах из-за опасности его заразительности и появления так называемых «кластерных попыток» у сверстников. В предотвращении подобных явлений и других травматических последствий велика роль, например, школьных психологов, которые должны обладать знаниями и навыками в стратегии суицидальной превенции. Ее основы могут быть изложены в ходе 3-4-дневных образовательных курсов для преподавателей школ с целью обучения их распознаванию и коррекции травматических переживаний у учащихся. Треть времени следует уделить ознакомлению с проблемой в форме лекций, а остальную часть курса посвятить групповым занятиям (ролевым играм, выражению и обсуждению собственного опыта и переживаний и т.д.) для овладения практическими навыками. При возникновении имитационных самоубийств в школе должна начать работу с учащимися, родителями и педагогами «команда спасения» — бригада специалистов-психологов.
Самоубийство пациента также является травматическим событием для того, кто принимал участие в его судьбе, — психиатра, психотерапевта, врача общего профиля, социального работника или медицинской сестры. Кроме суицида, лишь малая толика событий медицинской практики может вызвать такие сильные чувства отчаяния, вины, профессионального и даже личного краха. У персонала обычно нет возможности избежать встречи со смертью, но большинство этих случаев, учитывая род их деятельности, кажутся «понятными», «обычными», «естественными». При самоубийстве подобные характеристики оказываются неприменимыми — это утрата, которую можно было предотвратить, распознать и избежать. Не случайно в медицинской среде существует закономерное убеждение, что большие внимание и забота, тщательная оценка состояния больного и предупреждающих сигналов о грядущей трагедии в состоянии предотвратить ее.
Несмотря на очевидные обстоятельства, медицинский персонал долгое время не рассматривался в качестве выживших после самоубийства, а ведь эти люди реагируют на случившееся подобно родственникам и друзьям. Переживание горя врачами, равно как и влияние травмы на их профессиональную компетенцию и навыки суицидальной превенции, длительное время почти не принимались во внимание. Очевидно, не будет преувеличением утверждать, что медицинский персонал можно разделить на две части — тех, которые уже пережили самоубийство своего больного, и других, которые столкнутся с этим в будущем. По-видимому, нельзя полностью обезопасить и уберечь себя от этого трагического, но, к сожалению, в клинической практике неизбежного события. Личное отношение и переживание случившегося определяются рядом факторов: насколько долго и тесно находился врач в контакте с пациентом, какими в отношении него были профессиональные обязательства, предсказуемость суицида, место и метод его совершения, степень эмоциональной вовлеченности врача в переживания и судьбу больного, уровень осознания явлений контрпереноса, место, в котором проходила работа с пациентом, является ли ответственность одиночной или может быть разделена с другими профессионалами, на каком этапе своей карьеры находится врач — в начале пути или обладает достаточной квалификацией, есть ли возможность супервизии, какие личные доводы используются для объяснения происшедшего, на какой стадии жизненного цикла находится врач, каковы особенности его мировоззрения и клинического мышления. Его переживания могут варьировать от весьма сходных с реакциями близких (охваченность разнообразными эмоциями, самообвинением, отрицанием, уходом, виной, стыдом или даже депрессией), до имеющих скорее отношение к его профессиональной позиции: ощущение трагичности профессиональной ошибки, упущения или неудачи, утраты престижа или положения как специалиста, болезненное переживание пределов и ограниченности, страх перед возможными юридическими и иными неблагоприятными последствиями. Исследования показали, что более половины психиатров испытывали посттравматические расстройства после того, как их пациенты кончали с собой.
Американский ученый Дж. Уорден выделяет пять типов факторов, определяющих реакцию врача на самоубийство больного:
1. Особенности взаимоотношений: характеризующиеся зависимостью, нарциссизмом или амбивалентностью.
2. Обстоятельства времени: если врач пережил ряд суицидов пациентов в течение короткого промежутка времени.
3. Особенности значимых жизненных обстоятельств: если врач в прошлом испытал осложненное горе, депрессию или в детстве столкнулся с утратой родителей.
4. Особенности личности: настоятельное стремление во что бы то ни стало быть сильным и контролировать происходящее, а также трудности осознания собственных чувств.
5. Средовые обстоятельства: отсутствие возможности обсудить случившееся с другими.
Клинические, этические и юридические дилеммы, с которыми сталкивается врач после случившегося, являются более чем очевидными. Однако не меньшее значение для его личности имеют внутренние, часто подавляемые и неосознаваемые переживания. Надо отметить, что эта часть для исследователей, как и для самих врачей, остается настоящей terra incognita. Они бывают в высшей степени удивлены или поражены, обнаруживая в себе скрытые эмоциональные нарушения, затрудняющие обыденную или профессиональную жизнь. Существуют различия в реагировании и между полами. На них устойчиво влияют мифологические представления массового сознания о женщине-профессионале в той или иной области. Лицемерие мужских обыденных представлений заключается в том, чтобы сохранить женщину зависимой и подчиняющейся навязываемым требованиям, ограничить, регламентировать и контролировать круг ее активности. Если женщина как специалист терпит неудачу, общество охотно спешит объяснить это ее непрофессионализмом. Если же она достигает успехов, то они приписываются чему угодно, только не ее способностям или талантам. Подобное отношение, несомненно, сказывается на профессиональной идентичности женщины, часто приводя к низкой самооценке, страху «потерять лицо» или оказаться несостоятельной. Поэтому, естественно, в случае суицида своего пациента они испытывают более сильное чувство стыда или вины, порой отчаянно опасаясь возможной дискредитации как специалиста, нередко они чувствуют растерянность, безысходность и даже потерю смысла жизни, приписывая себе множество недостатков, реально им не присущих. Как свидетельствуют исследования, проведенные на Западе, только небольшое число женщин-специалистов справляются с драматическими коллизиями в своей профессиональной деятельности без серьезных последствий.
Медицинскому персоналу, особенно при длительной работе, приходится, естественно, переживать не одно самоубийство их подопечных. Кроме того, деятельность в медицинских учреждениях сопряжена с ожиданием его повторения, что требует особой подготовки и своевременного использования адекватных приемов личностной защиты. Они могут существенно различаться у мужчин и женщин. Очевидно, эти и другие обстоятельства, еще подлежащие выяснению, должны приниматься в расчет при изучении проблемы отношения медицинского персонала к самоубийству. Однако уже сегодня следует считать аксиомой, что каждый врач или другой представитель медицинской профессии после совершения больным самоубийства испытывает горе или состояние, близкое к нему, безотносительно к способности или желанию поделиться им с другими. Поэтому возникает очень важный практический вопрос — каким образом можно уменьшить интенсивность и длительность посттравматических переживаний и их неблагоприятные последствия?
В этом случае к врачу следует подходить с теми же мерками, что и к любому горюющему человеку. Прежде всего следует иметь в виду, что горе — это индивидуальный для каждого человека процесс, протекающий во времени. Скорость переживания, интенсивность работы горя является уникальной личностной константой. Попытки насильно ускорить выполнение этой тяжелой работы могут привести к усилению психической боли и других постсуицидальных феноменов. Вместе с тем, помощь врачу может и должна быть оказана, по меньшей мере, по двум направлениям:
1. В поддержании его профессиональной состоятельности и компетентности: этому служит коллегиальное обсуждение истории болезни пациента, проведение психологической аутопсии, разработка оптимальной стратегии бесед с родственниками (кто, как и о чем будет их информировать) и неоднократное подтверждение осознания, что принятое решение находилось в сфере ответственности больного.
2. В поддержке возникших личностных переживаний: врачу необходима помощь в определении, выражении и облегчении собственных эмоциональных проявлений, в осознании и принятии неизбежно существующих пределов и ограничений, в подтверждении, что горе носит универсальный характер, в предотвращении взаимных обвинений или заблуждений относительно всемогущества медицины.
Эта помощь может быть реализована в ходе индивидуальной (с супервизором) или групповой работы. Особый такт и уважение следует проявить к личностным защитам, работа с которыми должна проходить в атмосфере принятия и безопасности. Кому-то поначалу стоит предоставить возможность уединения для конструктивных размышлений и переживания, другие могут нуждаться в непосредственном разговоре и выражении чувств своим коллегам. В ходе работы целесообразно подчеркнуть, что самоубийство больного может стать уделом любого профессионала. Практика показывает, что в нашем обществе медицинский персонал оказывается недостаточно профессионально подготовленным не только к самоубийствам, но и к смерти больного вообще. Этому в немалой степени способствуют разнообразные мифы о самоубийстве, до сих пор имеющие широкое хождение в медицинской среде.
Таким образом, книга К. Лукаса и Г. Сейдена является, несомненно, своевременным изданием, не только освещающим мало известные страницы науки о саморазрушающем поведении человека, но, по-видимому, могущим способствовать развитию оригинальных отечественных исследований в этой области, повышению осведомленности и готовности прийти на помощь человеку в психологическом кризисе.
А. Н. Моховиков,
кандидат медицинских наук, начальник отдела Одесского городского центра, социально-
психологической помощи
детям, подросткам и молодежи,
член Международной ассоциации
превенции самоубийст
Будущее
Пятнадцать лет назад Эдвин Шнейдман, основатель Американской ассоциации суицидологии, призвал к поственции — «работе с лицами, пережившими суицид близкого человека — его жертвами, с целью помочь им справиться со страданиями, чувствами вины, гнева, стыда и растерянности». Он указывает, что «...общество должно предоставлять повседневную поствентивную психиатрическую помощь лицам, пережившим суицид близкого человека. Поственция — это профилактика для следующего десятилетия и для следующего поколения» (выделено нами. — Авт.).
Даже в те годы Шнейдман оценивал число лиц, переживших суицид близкого человека, в 100000 в год — если не считать замаскированные суициды. Сегодня их намного больше. Но целенаправленные усилия в области поственции все еще не прилагаются. Молчание продолжается.
Совершенно ясно, что требуется: поощрение к разговору, психотерапия, направленная на близких суицидента, распространение информации о группах самопомощи, избавление от клейма самоубийства — особенно в отношении к близким самоубийцы — и понимание того, что существует категория людей, перенесших суицид близкого человека. Совершенно очевидно, что последние составляют объект здравоохранения. Совершенно очевидно, что имеет смысл, в самом широком социальном понимании, разорвать цепь инвалидизирующих заболеваний, депрессий, чувств вины и скорби. Пора положить конец молчанию.
Кристофер Лукас, Генри Сейден, Ph.D.
Часть первая
Глава 1, ЧТО ПРОИСХОДИТ С БЛИЗКИМИ ЧЕЛОВЕКА, СОВЕРШИВШЕГО СУИЦИД
В большинстве культур и почти во все исторические эпохи отношение к самоубийству и убийству было в чем-то родственным: оба они запретны и вызывают ужас.
Ирвинг Штенгель. «Суицид и суицидальная попытка»Удивляет, как много было написано о самоубийстве и как мало о том, что происходит с оставшимися в живых близкими самоубийцы. Эта глава начинает наш рассказ о том, что происходит с людьми, пережившими самоубийство близкого человека.
У всякой смерти есть жало. У самоубийства их много. Первое: потрясение от известия о самой смерти.
СЫН: Я спал. Было около двух часов ночи. Я помню, что мама поднялась к нам наверх, в спальню. Она сказала об этом каждому из нас по очереди. Она, конечно, рыдала. Моей первой реакцией было потрясение; я проплакал час или два. Мама сразу сказала нам, что он присоединил шланг к выхлопной трубе. Я помню, как она старалась объяснить нам его поступок, по возможности смягчая его: «У вашего отца были проблемы, с которыми он не смог справиться». Но в том возрасте я так и не сумел понять этого полностью.
ОТЕЦ: В тот день я вернулся домой на машине. Я заметил, что в гараже стоит машина сына и вокруг нее происходит какое-то мельтешение. Я подумал, что он просто приехал на ней домой, чтобы отремонтировать. Когда я зашел в дом, мне сказали, что мой сын покончил с собой.
ДРУГОЙ СЫН: Когда я пришел домой из школы, отец позвал меня вместе с другими братьями и сестрами. Их забрали из школы, не дожидаясь конца занятий, и известили, что их мать умерла. Он усадил нас за кухонным столом и сказал, что он должен сообщить нам такую новость, которую любому отцу труднее всего высказать своим детям. Затем он почти выдавил из себя, что мама умерла. Повисла долгая пауза. Потом мои младшие сестры стали спрашивать: «Как? Почему?» Они по-настоящему не понимали, что происходит. Мне кажется, что в то время я был достаточно большим, чтобы иметь свое представление о смерти, однако мне стоило больших трудов понять, как все изменится вокруг, что теперь будет, буду ли я тосковать по ней. Я много не говорил об этом, а подолгу размышлял над тем, что будет дальше и почему это случилось. Я никогда ни у кого ни о чем не спрашивал.
У многих, если не у всех людей, тревога и ужас начинаются не в день смерти их близкого, а задолго до этого, иногда за три, четыре, пять лет, когда любимый ими человек уже покушался на свою жизнь. И в течение этого времени они жили со знанием, что попытка может повториться и быть успешной. Для Руфи, матери Бесс, и для Ивена, ее жениха, знавшего ее восемь лет, это выражалось в необходимости постоянного присмотра за ней. И вот он кончился.
РУФЬ: Она жила в городе и начала работать учительницей. Она очень волновалась по поводу работы. Представьте, начальная школа. Ей было двадцать четыре года. Близилось начало учебного года, она казалась взволнованной, и мы все это видели. Она всегда охотно делилась своими чувствами. И еще со времени ее прошлых попыток покончить с собой мы никогда не теряли бдительности. Ивен жил вместе с ней до самого начала занятий в школе и уехал за десять дней до случившегося. Она осталась одна в своей городской квартире. За два дня до происшедшего она позвонила мне и сказала, что на следующий день не пойдет в школу. Мой муж был дома. Он пригласил ее и настоял, чтобы она сразу же приехала. Когда я в тот вечер пришла домой, мы долго говорили с ней, и она рассказывала о своей тревоге. Она не говорила, что хочет умереть, но упомянула, что не готова преподавать, не знает, что ей дальше делать, что уже попросила на завтра выходной, что больше не может справиться с ситуацией. На следующий день она осталась дома и не пошла в школу. Весь день она обсуждала с нами разные варианты выхода из сложившейся ситуации. Мой муж посоветовал ей уволиться, на время все бросить и снять напряжение. Она сказала, что с его стороны хорошо предлагать ей все это, но: «Я не уверена, что это именно то, чего я хочу».
Она договорилась о встрече с психиатром, но потом сказала, что не видит в ней смысла и что он ничем не сможет ей помочь. Я настояла, чтобы она все же сходила, и, вернувшись от психиатра, дочь сказала, что врач ей очень понравилась: «Она хороший специалист, она внимательно отнеслась ко мне и попросила опять прийти завтра». Она поговорила с Ивеном, который всегда был рад ее звонку.
Легкий иностранный акцент оттеняет рассказ Руфи, но ее английский вполне хорош и она знает, что именно хочет сказать. Ивен же говорит тихо и неуверенно. Кажется, что он вот-вот заплачет.
ИВЕН: Я очень хорошо помню тот день, потому что мы говорили два или три раза. Я провел у телефона примерно минут сорок пять. В девять вечера она позвонила вновь и сказала, что весь день чувствовала себя подавленной и не раз принималась думать о самоубийстве. «Что бы ни случилось, позаботься о моей собаке». — «Что ты имеешь в виду?» — «Я не знаю.» И я спросил: «Ты собираешься покончить с собой?» Она сказала: «Не знаю».
РУФЬ: С самого начала мы всегда много говорили. Мой муж тоже принимал в этом участие. Бесс всегда была готова поделиться своими чувствами.
ИВЕН: Свидетельством того, как много мы говорили, было то, что она могла сказать мне, что хочет покончить с собой, и меня это уже не шокировало. У нас были десятки разговоров о ее смерти, и дело дошло до того, что она могла говорить мне об этом, а я продолжал делать то, чем был занят до разговора. Это показывало, насколько все мы были знакомы с ее взглядом на мир. Подобные обсуждения стали регулярными.
На следующий день позвонил отец Бесс. А он звонил мне всего два-три раза за все те восемь лет, что я знал их семью: «С Бесс плохо. Приезжай скорее». Я хорошо помню свои тогдашние чувства. Я ехал на машине, всю дорогу плакал и шептал: «Боже, пожалуйста, не позволь ей умереть». А ведь я даже не верю в Бога. Потом я приехал сюда и, увидев на подъездной дороге машины, понял, что случилось худшее.
Руфь нашла Бесс мертвой, рядом с ней был пустой флакон из-под снотворного. Все они как-то не ожидали, что она может покончить с собой дома.
Обнаружение тела может быть большим потрясением Даже для взрослых. Для детей же это во сто крат хуже. Это переживание остается с человеком на всю жизнь.
МЭЙ: Мне исполнилось восемь, значит это было в 1931 году. На Рождество отец дома покончил с собой — он повесился, и, к сожалению, именно я нашла его; это было очень тяжелым испытанием, оно преследует меня до сих пор. Даже сейчас, когда я думаю об этом, мои глаза наполняются слезами. Это всегда со мной. Я была его любимым ребенком. Незадолго до случившегося я читала ему книгу, потом он сказал, что устал, и велел мне уйти. Он сказал, что немного поспит, и попросил прийти попозже.
Я помню о том, что произошло, во всех подробностях. Когда я нашла его, я подбежала и схватилась за его ноги. Я пыталась как-то удержать его. Но было уже поздно.
Я была его любимицей — почему он меня оставил? Я много думаю об этом. Несколько дней назад в журнале я увидела статью с одной иллюстрацией, и ракурс, с которого были сфотографированы ноги женщины, наводил на мысль, что она висит; это потрясло меня.
Я, наверное, никогда не смогу избавиться от этих переживаний.
Саре двадцать три года, она типичная старшая сестра — осторожна, но слушает других и разговаривает охотно. Патриции, сидящей напротив нее за столом, двадцать, она смущается. С трудом подбирает слова до тех пор, пока не начинает говорить о самом самоубийстве. Тогда ее речь становится беглой и вразумительной. Они живут в маленьком домике в рабочем районе города. Однажды утром Сара обнаружила, что их мать совершила самоубийство.
САРА: Я не знаю, кто обнаружил тело. По-моему, я... Так ведь?
У меня было какое-то предчувствие. Я выносила мусорное ведро и увидела, что окно гаража запотело. Я поняла, что там кто-то должен быть — человек или животное. Затем я услышала, как работает мотор машины, и у меня появилось плохое предчувствие, я побоялась открыть дверь и побежала будить Патрицию.
Патриция подхватывает рассказ. Как у многих людей, переживших суицид близкого человека, детали самого события остаются для нее смутными, даже спустя два года.
ПАТРИЦИЯ: Я до сих пор не могу вспомнить, кто открыл дверь. Не знаю даже, как я вышла из своей комнаты — как добралась от постели до гаража. Я не была уверена, поскольку в ее комнате наверху работало радио. Я боялась смотреть перед собой.
Обе сестры (тогда им было восемнадцать и двадцать один) остолбенели. Ничто из их предыдущего опыта не подсказало им, что нужно выключить двигатель машины, в которой лежала их мать, отравившаяся угарным газом. Они вызвали «скорую помощь» и полицию.
ПАТРИЦИЯ:
Мы знаем многих полицейских в нашем районе, они очень нам сочувствовали. Но по долгу службы все же должны были фотографировать, спрашивать, кто нашел тело, и все такое прочее. Один из них явно нервничал, он просто сидел у нас и молчал. Он не знал, что делать и что сказать.
В других случаях полицейские не «сидят». Многие люди, пережившие самоубийство близких, рассказывали, что детективы тратили много времени в поисках улик «преступления»; они не принимали — или не могли принять — на веру рассказ о самоубийстве. Одна женщина говорила, что квартира ее дочери оставалась опечатанной целый месяц, пока полиция расследовала версию возможного убийства. Полицейский допрос близких часто приобретает жесткий и обвинительный характер.
Одной из причин неполноты статистических данных по самоубийствам является то, что в случае многих смертей — от огнестрельных ранений, дорожных происшествий, отравлений наркотиками — не всегда ясно, намеревался умерший покончить собой или нет. Судебные эксперты и полиция, семья и друзья нередко сходятся во мнении, что избежать позора и других неблагоприятных последствий легче, если назвать смерть несчастным случаем. Это имеет значение не только для страховых компаний, выплачивающих страховку, но и для всего дальнейшего хода событий. Члены семьи должны решить, придерживаться ли им этого отступления от реальности в будущем или затем изменить свою версию происшедшего.
Иногда смерть не наступает сразу; родственники отправляют близкого в больницу и ждут, что же будет дальше. Марта была на работе, когда ее сестра позвонила из Флориды и сообщила, что их мать совершила попытку самоубийства, выпив бутылку едкого чистящего средства.
МАРТА: Я помню, что была потрясена и находилась на грани истерики, думая, что мне нужно добраться туда, а перед этим связаться с мужем. Я просто была готова прикончить оператора на телефонной станции. Она все время повторяла: «Номер занят». Наконец, одна из секретарш все же дозвонилась до мужа. Я не помню перелет и думаю, что была в состоянии шока. Я не могла поверить, что это случилось; я боялась, что она умрет до того, как я доберусь туда, и я не смогу повидать ее и поговорить с ней.
Для некоторых потрясение бывает двойным: одно — это сама смерть родителя или другого близкого человека; другое — обнаружение, иногда случайное, того, что она наступила от самоубийства.
Реакция людей, не принадлежащих к семье, теперь становится важной для близких покойного, которые борются за то, чтобы обрести какое-то равновесие в жизни. Друзья и соседи, начальство и подчиненные, несомненно, влияют на наши чувства в отношении самих себя и случившейся смерти.
Некоторые люди, пережившие суицид своих близких, говорят:
Близким человека, совершившего самоубийство, нечего стыдиться... но мы поневоле испытываем именно это чувство.
Друзья избегают вас. Никто не звонит, не заходит. Вы остаетесь одни.
Мне просто хочется исчезнуть с глаз долой. Люди говорят своим видом: «Что ты ей сделал?»
Общество относится к самоубийцам как к сумасшедшим. Это же касается и нас, родственников. Нас заставляют чувствовать, будто и мы тоже больны.
Мои тесть и теща вели себя так, будто я был в ответе за случившееся.
Люди все время подходят и интересуются: «Вы видели, как это случилось? А ваша семья видела? Почему это произошло?» Чувствуешь себя как на допросе. А все, что ты знаешь на самом деле, это только, что любимый тобой человек умер.
Я чувствую, будто на мне висит огромный плакат: «Мой сын покончил с собой».
Самоубийство — это публичное свидетельство того, что я мало любила своего ребенка.
Эти мысли и чувства принадлежат самым разным людям: бедным и богатым, молодым и старым, жителям городов и пригородов. Их общественное положение, по-видимому, не имеет значения. Общество считает самоубийство действием, отклоняющимся от принятой нормы, и семья покончившего с собой подвергается сильному негативному давлению. Естественно, это отношение имеет исторические корни. Только недавно, например, основные религии перешли от наказующего отношения к самоубийце к относительно терпимому. Многие века людей, совершавших самоубийства, хоронили на перекрестках дорог, а их сердца пронзали колом. Самоубийц отлучали от церкви, их родственников избегали, а у их семей отбирали имущество усопшего. (Люди, совершавшие суицидальные попытки, подвергались лишь немногим более мягкому порицанию: их часто наказывали плетьми или заключали в тюрьмы.) Наше столетие стало свидетелем смягчения официального отношения религии и общества к этому явлению — мы больше не сажаем в тюрьмы людей, пытавшихся покончить с собой, — но все еще есть священнослужители, относящиеся к самоубийству как к греховному поступку. Это — палка о двух концах. Некоторые священники и раввины полагают, что если суицид считать грехом, то это уменьшит число самоубийств среди последователей данной религии, но такой подход влечет за собой гнев общества в отношении семьи «грешника». В нем до сих пор сохраняется множество предрассудков относительно самоубийства: оно все еще считается постыдным поступком, граничащим с безумием или порожденным вмешательством сатаны. Очень трудно беседовать о чьем-то суициде без риска столкнуться с порицающим отношением к нему. Потому и отношение к близким самоубийцы часто бывает столь же осуждающим. Патриция и Сара рассказали нам, что кое-кто в городе обвинял их в смерти матери. Другие порицали их отца, потому что он восемь лет был в разводе с матерью. Многие люди, пережившие суицид близких, рассказывали похожие истории.
ШОН: Отец одного из наших друзей часто возил нас играть в кегли, но потом это прекратилось. Мамин зубной врач посоветовал нам уехать из города из-за того, что наш отец совершил суицид.
РУФЬ: Семейный доктор сказал, что наша вина в том, что Бесс не давали лекарств. Но она отказывалась принимать их! А ведь он был еще и нашим близким другом!
ВАНДА: Наиболее удивительно было наблюдать реакцию людей. Двое моих близких друзей, семейная пара, перестали заходить ко мне. Я не видела их несколько месяцев. Это меня просто поразило. Но бывает и понимающее отношение. Иногда поддержка чувствуется со стороны семьи, иногда извне.
ИВЕН: В тот день пришли друзья. Мы не придерживалисъ шива (традиционный семидневный период траура - в иудаизме, во время которого друзья и родственники неотлучно находятся в доме покойного) официально, но их было столько, что возникло ощущение встречи с долгожданными гостями. И мы чувствовали большую поддержку.
В этот период, когда людьми владеет подавленность, когда они плачут, испытывают гнев или страх, когда дети, много лет не говорившие о кошмарных снах, начинают видеть их, трудно решить, к кому обратиться за помощью. Многие люди, перенесшие самоубийство своих близких, рассказывали нам о поддержке, оказанной им отдельными священниками, несмотря на осуждающее отношение официальных церквей. Это было особенно важно, когда приходило время принимать решение о похоронах или панихиде по покойному. Будет ли обсуждаться самоубийство? Или о нем умолчат? Что будет сказано? (К сожалению, священники подчас не знают, что сказать. Возможно, многие из них, смущенные происшедшим, пытаются сказать то, чего не следует говорить, или сглаживают факты потому, что этого хочет семья. В некоторых группах самопомощи написаны брошюры для организаторов похорон и священников, дающие им хоть какое-то представление о том, что испытывают люди, перенесшие самоубийство близкого, с советами, как себя вести и о чем следует говорить — что помогает, а что нет.)
ИВЕН: Я уверен, что важным для нас человеком оказался пришедший к нам раввин. Я очень мало уважал священников, но он пришел именно в тот день и определенным образом взял контроль над ситуацией. Он усадил нас. Он рассказал нам, что произойдет дальше. Его присутствие мне очень помогло.
РУФЬ: Он хотел знать все о Бесс и побудил нас говорить о ней. Потом произнес удивительную заупокойную речь. В ней он не осудил ее выбор и не возвел его в ранг закона, а наставлял нас понять его. Из ее жизни он вывел метафоры. Я не знаю, что его вдохновило, но это было чудесно.
Что — и сколько — должен говорить родственник самоубийцы другим людям? Некоторые семьи могут рассказать все своим более отдаленным родственникам, но что говорить, например, начальству или сослуживцам? Каждый в этой ситуации выбирает свой подход, но почти все они сопряжены с известными опасностями. Один человек боялся сказать правду начальнику, думая, что ему после этого не будут доверять на работе. «Я решил, он подумает, что я сумасшедший, как мой брат». Другая женщина беспокоилась из-за того, что часто плакала на работе и не знала, как объяснить руководителю происходящее с ней. Еще одна женщина очень сердилась, что работодатель не сочувствовал ей, хотя она и сказала, что ее сын покончил с собой («Не знаю, то ли мой шеф настроен против самоубийств, то ли он просто черствый человек, но все время он только и твердил, чтобы я взяла себя в руки»). А один сказал: «Нужно обязательно ходить на работу... естественно, если тебе повезло и ты не безработный. Сидеть дома гораздо хуже!»
Ванда считала, что ей особенно повезло.
ВАНДА: У меня просто замечательное место работы. Сослуживцы так хорошо отнеслись ко мне! Например, моя супервизор — когда она заговорила со мной... я смогла просто зайти к ней и выплакаться. А начальник отдела однажды позвал меня к себе, чтобы просто поговорить. Его помощник тоже пригласил меня для беседы. По отношению ко мне люди вели себя прекрасно.
Если не знаешь, что сказать начальству, то что уж говорить о прессе? Патриция была особенно расстроена тем, как газеты и телевидение обыгрывали самоубийство. В тот год в стране было много суицидов среди подростков.
ПАТРИЦИЯ: Я не думаю, что сообщать об этом в новостях полезно. Что сказать людям? Даже незнакомые говорят, что узнали вас; интересуются, не была ли она в состоянии депрессии. Честно говоря, это наводит на дурные мысли. В тот год, когда мама ушла из жизни, о суицидах говорилось так много! Мне кажется, что ей могло прийти в голову: «Ну, если они могут решиться на это, то почему я до сих пор не смогла?» Эта мысль не оставляет меня, потому что она жила со своими проблемами двенадцать лет, а в тот год, когда все это муссировалось в новостях, она решилась на это через месяц.
Мысль о том, что широкое обсуждение чего-то в средствах массовой информации приводит к подражанию, не нова и не ограничивается только самоубийствами. Это также касается секса, употребления наркотиков, убийств, расизма. И все же этот аспект особенно часто обсуждается близкими самоубийц. На Ратджеровской конференции многие из них настаивали, что именно свободное упоминание о суицидах в прессе, в популярных песнях, романтизация в мыльных операх привели их сыновей и дочерей к мысли убить себя.
Вопрос о том, как именно должен преподноситься средствами массовой информации любой акт насилия, долго обсуждался. Хорошо это или плохо, если мы узнаем о подробностях самоубийства по радио или в утреннем выпуске газет? Патриция не возражала бы, чтобы о происшествии упоминалось в газетах, но без лишних деталей. Другие люди, с которыми мы разговаривали, хотели, чтобы описывались и подробности суицида, полагая, что если мы с вами прочтем о его ужасах, то удержимся от искушения оборвать свою жизнь. Это давний спор, который вряд ли можно разрешить на основании мнений отдельных людей.
Интересно, что согласно множеству свидетельств, за последние годы число самоубийств возросло, однако описание их в газетах стало менее подробным и не столь ярким, как сто лет назад, когда их частота была, по-видимому, существенно меньшей. Вот несколько примеров:
Нью-Йорк, 3 июня 1882 года.
Дентон Миллер, клерк ювелирной мастерской Вилера, Парсонса и Хейса по адресу Мейден Лейн, 2, застрелился вчера в отеле Вестерн. Он был сыном Артура Миллера и проживал с родителями в Бруклине, на улице Монро, 64. Мистер Миллер сказал, что вчера его сыну исполнилось 34 года. Он был женат на мисс Холмвелл из Норфолка, но развелся через два года. Дентон долгое время был подавлен, но выглядел вполне веселым, когда во вторник отправился на рыбалку.
Статья о Дентоне Миллере, появившаяся в «Нью-Йорк Тайме», занимала одну колонку длиной в четыре дюйма (10 см) в газете, имевшей в тот день объем восемь страниц. Другими словами, хотя Миллер был лицом практически неизвестным, его самоубийство стало фактом, которому газета уделила достаточно много места. Конечно, в те времена все подобные издания широко освещали преступления в своих разделах «полицейских хроник». Но все же факт остается фактом — самоубийству было отведено значительное газетное пространство. После обсуждения факта смерти Дентона Миллера, «Нью-Йорк Тайме» печатает интервью с его отцом и братом. Она детально рассказывает, как именно умер Дентон (описывая «страшную рану») и упоминает, что он оставил брату записку. Далее...
Мистер Миллер сказал, что не может предположить никакой причины этого самоубийства. «У моего сына не было ни финансовых затруднений, ни каких бы то ни было проблем с женщинами».
Статья откровенна, пространна и серьезна в обсуждении суицида. Газета без колебаний приводит фамилии и адреса и предполагает различные конкретные причины. Практика публикации подобных длинных и в определенной мере показательно-разоблачительных статей о самоубийствах продолжалась в «Нью-Йорк Тайме» тридцать или сорок лет. В них поражает не только объем, но и то, что они не пытались сохранить конфиденциальность или дать оценку самому поступку. Это, естественно, разительно отличается от современной практики. Хотя в сегодняшней «Нью-Йорк Тайме» (газете, ежедневный выпуск которой часто состоит из ста страниц) печатается гораздо больше сообщений о суицидах, но значимость этих рассказов во времена полицейских хроник была несомненно весомей, а характер описания, конечно, иным. Объем этих сообщений сегодня составляет не более одного-двух дюймов газетной колонки. Отсутствуют интервью с семьей, такие подробности как имена и адреса. Еще интереснее то, что гораздо меньше внимания, чем в прежние годы, уделяется анализу причин самоубийства. Несколько примеров:
19 февраля 1954 года.
Мисс Дж. Форд, 26-летняя секретарша генерального консула Пакистана в Нью-Йорке, вчера ночью была найдена мертвой в наполненной газом кухне своей однокомнатной квартиры по адресу 52-я улица, дом 140 Е. По данным заключения о вскрытии, смерть наступила в результате самоубийства.
1 июля 1954 года.
Подросток из Бруклина, не сдавший в школе экзамен по французскому языку, а также проваливший вступительный экзамен в техническое училище, вчера, вернувшись после занятий, повесился на собачьем поводке. ...Он прикрепил его к трубке душа.
2 июня 1983 года.
23-летний мужчина из Нью-Джерси вчера днем бросился вниз с обзорной площадки Эмпайр Стэйт Билдинг. Полицейский сказал, что этот человек, Дж.Ларкин, про- живавший в Маунт Холли, перелез через защитное ограждение на 88-м этаже вскоре после часа пополудни и умер тотчас при падении на тротуар Восточной 33-й улицы.
Поверхностная интерпретация этих различий привела бы к ошибочным впечатлениям. Сегодняшние газеты сообщают о самоубийствах гораздо менее подробно, чем сто лет назад; это, однако, не отражает реальную тенденцию роста уровня самоубийств; вместе с тем, современное освещение не имеет никакой видимой связи и с наблюдающимся одновременно возрастанием частоты самоубийств у взрослых. Однако у подростков дело обстоит иначе. Исследования показывают наличие «кластерного» эффекта — когда в средствах массовой информации появляются сообщения о покончивших с собой подростках, некоторые из молодых людей, по-видимому, воспринимают их как приглашение к совершению самоубийства. Это ставит перед средствами массовой информации не решенную до сих пор проблему, которая выходит за пределы темы данной книги: поддерживать ли нездоровое молчание, которым окружены суициды, или идти на риск спровоцировать увеличение подростковых самоубийств, описывая совершившиеся факты.
Для человека, пережившего потерю близкого, время продолжает идти. Похороны, панихида уже в прошлом. Члены семьи вернулись к своей работе. Прошел уже месяц, и родственники самоубийцы начинают надеяться, что теперь они наконец смогут продолжать дальше свои дела без эмоционального хаоса прошедших недель.
В целом эти ожидания нереальны. Последствия суицида не рассеиваются сами по себе. И вопрос «Почему?», первым встающий перед многими родственниками самоубийцы, может оставаться с ними дольше всего. Проблема, конечно, в том, что большинство из нас не имеют возможности обсудить его с тем единственным человеком, который имел точный ответ. Переживание самоубийства близкого человека часто сравнивалось со спором, в котором последнее слово осталось за умершим. У вас нет возможности сказать: «Прощай».
Одно явление этого периода вызывает у близких самоубийцы явное беспокойство и замешательство. На самом деле оно достаточно распространено, и его описывают близкие не только самоубийц, но и людей, умерших естественной смертью. Это ощущение того, что любимый вами человек все еще находится где-то рядом.
Анна-Мария — женщина «за тридцать», ее брат недавно покончил с собой. Ее жизнь и ранее была омрачена: мать болела шизофренией и постоянно находилась в психиатрической больнице, а отца она никогда не знала. Она говорила о том, как одиноко себя чувствует, как самоубийство разбило остававшееся еще семейное единство. Во время разговора она вдруг замолкает и думает о чем-то другом.
...Не знаю, со мной происходят странные вещи, вот например, несколько дней назад. Я зашла в банк и увидела маленькую птичку, летавшую вокруг канделябра. Я была действительно уверена, что это — мой брат, вернувшийся, чтобы сказать: «Держись, Анна-Мария, все будет хорошо». Я видела летающую птичку, и это был он, вернувшийся, чтобы поговорить со мной.
Этот разговор происходил на собрании группы самопомощи, где обсуждалось много различных переживаний. Женщина, сидевшая в углу и до этого момента почти все время молчавшая, наконец заговорила. Ее дочь покончила с собой пять лет назад, более давно, чем у кого-либо в группе.
...Я тоже видела птичек, иногда чувствовала, что кто-то тянет меня за одежду, и думала, что схожу с ума. Почти у всех, кого я знаю, бывали подобные переживания. Все они принимают желаемое за действительное. Блондинка, мелькнувшая в толпе, каким-то чудом должна была оказаться моей дочерью. Конечно, теперь я так больше не думаю.
Именно в этот период родственники человека, совершившего самоубийство, могут испытывать потребность в том, что называют поственцией, то есть в профессиональной помощи. Они могут начать задаваться вопросом, почему столь многие из окружающих их людей, видимо, не понимают их боли или проявляют жестокость в отношении к ней, почему поддержка, которая была бы оказана им в случае гибели их близких в автокатастрофе, отсутствует, если смерть была связана с самоубийством; почему они оказались настолько не подготовлены к этому кризису в своей жизни.
Глава 2, ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ НА СУИЦИД
Суицид причиняет семье больше боли, чем любая другая смерть, и его труднее принять. Близкий человек часто страдает от чувств вины и стыда, которые мешают естественному переживанию горя.
Гарвардская медицинская школа, Информационное письмоБлизкие суицидента страдают по трем причинам: во-первых, они скорбят по умершему; во-вторых, они переживают психическую травму — как жертвы так называемого посттравматического стрессового расстройства; в-третьих, потому что о самоубийстве не принято говорить и окружающее его молчание мешает исцелению, которое наступает при обычном трауре.
В главе 11 мы подробно поговорим о молчании. В этой главе — основное внимание уделим горю и травме.
ТРАВМА
Психическая травма — это результат тяжелого потрясения, например, смерти ребенка или родителей, попадания в серьезную аварию, изнасилования, избиения или любого иного внезапного и трагического события.
Когда люди испытывают сильное потрясение, им больно. Кроме боли, тяжелое потрясение приводит к другим отсроченным психологическим последствиям.
Хорошо известно расстройство, характерное для людей, перенесших травму. Во время первой мировой войны его называли контузией. Позже, во время второй мировой войны, оно стало называться неврозом военного времени. Когда закончилась война во Вьетнаме, у многих ее участников после возвращения в США было выявлено нарушение, которое теперь называется посттравматическим стрессовым расстройством. В сущности, такое измененное состояние психики и поведения свойственно психической травме, которая может быть получена и на войне, и в мирное время.
Лица, страдающие этим расстройством, не психически больные, но у них имеются некоторые пограничные нарушения. Они особым образом реагируют на травматическую ситуацию, которую пережили. Они испытывают психическую боль, растерянность и другие эмоциональные нарушения, настолько отличающиеся от их обычного психического состояния, что им кажется — вся их жизнь перевернулась.
Для близких самоубийство родственника несомненно является психической травмой. Им обязательно следует знать, что их страдания — это не только горе, вызванное смертью любимого человека, а и хорошо известный психологический феномен, который с ними разделяют миллионы других людей, переживших трагические события.
Психиатры в своей практической деятельности используют «Диагностическое и статистическое руководство Американской психиатрической ассоциации» («DSM»). В нынешней версии этого руководства (III-R) описаны симптомы посттравматического стрессового расстройства. Ниже приведены извлечения из этого описания. Вероятно, любой человек, переживший самоубийство своего близкого, сразу узнает эти симптомы.
Люди, страдающие от посттравматического стрессового расстройства:
Повторно переживают травму одним из следующих способов:
У них постоянно всплывают воспоминания о пережитом событии
Они часто видят это событие во сне.
Они внезапно чувствуют, что событие повторяется.
Чувствуют ослабление или уменьшение связи с миром:
Угасание интереса к значимым для них видам деятельности.
Чувство отчуждения от других.
Уплощение и снижение эмоций.
Обнаруживают некоторые из следующих симптомов
Нарушения сна.
Чувство вины, что остался жить.
Ослабление внимания и памяти
Повышенная пугливость
Они избегают некоторых видов деятельности, которые будят воспоминания о травме.
Симптомы посттравматического стрессового расстройства появляются непосредственно после травмы или спустя несколько месяцев или лет. Они могут продолжаться короткое время или длиться всю жизнь. Поскольку люди умеют хорошо скрывать свои чувства, в том числе и от самих себя, особенно если чувства эти болезненны, то они могут видеть во сне кошмары, которые, казалось бы, не имеют ничего общего со смертью их близкого. Это может быть сразу после самоубийства или значительно позже — иногда спустя годы. Как бы ни был скрыт смысл этих кошмаров, они часто являются показателем того, что страхи, гнев, чувство вины еще очень актуальны.
Людям, пережившим самоубийство своих близких, следует знать, что симптомы более резко выражены, если реакция возникает не на природные, а на «рукотворные» катастрофы (войны, нападения, тюремное заключение, пытки, убийство или самоубийство близкого человека).
Людям, пережившим самоубийство близкого человека, необходимо знать (и мы надеемся, эта книга поможет им), что и степень тяжести, и продолжительность симптомов во многом зависят от того, как окружающие обращаются с человеком после травмы.
Одиночество затрудняет излечение. Отсутствие возможности поговорить о своих переживаниях делает их еще более тяжелыми. Отсутствие возможности понять, что случилось и почему, чувство вины, социальная стигматизация и молчание — все это затрудняет процесс исцеления.
РЕАКЦИИ НА САМОУБИЙСТВО
До сих пор мы говорили о посттравматическом стрессовом расстройстве в общем. А что можно сказать о конкретных реакциях на суицид? Они, видимо, имеют ряд особенностей. После самоубийства возникают как горе от потери, так и реакция на травмирующее событие.
САРА, чья мать покончила с собой: Долгое время — это продолжается и поныне — меня мучили кошмарные сны. Будто она старается убить меня. Если бы она не покончила с собой, кажется, у меня бы не было этих чувств — в отношении естественной смерти или чего-то подобного. При самоубийстве вы имеете дело с потерей, чувством вины и вопросами — и все это сразу. Это очень тяжело.
АРТУР, отец: Эта смерть отличается от других. Как бы я хотел, чтобы можно было сказать, что это несчастный случай. Я думаю, мне было бы намного легче.
Но произошел не несчастный случай. Это было самоубийство, и вот как реагируют на него многие из близких.
ПЕРВАЯ ВОЛНА
В этих «волнах» эмоций нет четко определенной последовательности, но реакции часто наступают именно в таком порядке.
«Я не знал, куда мне бросаться».
«Я не понимала, что со мной происходит».
«Я не могла в это поверить».
«Я отказывался осознать это!»
«Слава Богу, это совершил не я!»
«Как он мог так бросить меня?»
«Оглядываясь назад, я вижу, что происходившее с нами походило на «американские горки»: то она была внизу, а я постепенно поднимался наверх; затем депрессия начиналась у меня, а ее настроение повышалось».
«Это было адом».
«Это было тяжелее естественной смерти отца. Это самое ужасное, через что я прошел за всю свою жизнь».
Сначала человек бывает оглушен тем, что его постигло. Он пытается отрицать случившееся, может даже заявить, что это было не самоубийством, а чем-то иным. Он чувствует беспомощность: как ему продолжать жить теперь? Как продолжать работать дальше? Как он будет без любимого человека? Внезапность случившегося и полная неподготовленность оставляют его без предварительной «работы» горя, которая часто сопровождает естественную смерть. Например, в этом случае чаще всего нет длительной болезни, лекарств, посещений врача, постельного режима — ничто не подготавливает близкого к смерти, у него нет даже возможности попрощаться. Даже если самоубийство совершается после ряда прошлых попыток, близкие не готовы к фатальному концу. Звучит общий рефрен: «Я просто не думал, что она это сделает».
Некоторые из перенесших самоубийство близкого чувствуют внезапное облегчение — от того, что окончилась удручающая цепь попыток к самоубийству, что у любимого человека наконец прошла боль, что их борьба завершилась. Но оно быстро уступает место чувству вины, и человек начинает корить себя за испытанное облегчение или же за то, что остался в живых.
У большинства людей вслед за шоком и беспомощностью самым сильным является осознание их глубоко личного отвержения. Близкий самоубийцы поражен тем, что любимый человек по своей воле его бросил.
Наконец, появляются обвинения, неутешительные попытки уйти от осознания вины — переложив ответственность на кого-то другого.
ОТЕЦ: Все сидели и обвиняли, обвиняли, обвиняли. Никто не был занят ничем полезным.
СЕСТРА: Если говорить о том, как лучше справиться с ситуацией, я совершенно все делала неправильно. Когда я в два часа ночи услышала о случившемся с братом, я сказала моим детям, что произошел несчастный случай. Затем я поехала к отцу, чтобы обо всем ему рассказать. Мы вместе пошли к его сестре и провели целый день в разговорах о том, кто виноват. Он говорил, что в семье матери все сумасшедшие. Ее не было с нами, и она не могла никого защитить. Затем кто-то вспомнил о его родственнике с поразительными странностями. Потом пришли к выводу, что виновата сестра. Мы не говорили о самом случившемся, на похороны никого не пригласили, не было заупокойной службы. Семья брата — жена и трое детей — быстро выехали из своего дома, и я потеряла контакт с ними на несколько лет.
Таким образом, первая волна эмоций, со всей очевидностью, включает шок, отрицание, беспомощность, облегчение (иногда) и обвинение.
ВТОРАЯ ВОЛНА
Гнев
ДОЧЬ: Я помню, как ехала на работу, а эмоции захлестывали меня. Я то начинала ужасно сердиться, то кричала от боли — хорошо еще, что окна в машине были закрыты. Я буквально тонула в этих волнах, а затем просто отдалась им; почувствовала, что ни когда не смогу с ними справиться.
МУЖ: Я был разъярен после этого. Она ведь ушла от меня, бросила насовсем.
АННА-МАРИЯ, чей брат покончил с собой: Я кричала, я так орала, что было слышно из окна: «Как ты мог так поступить со мной?» Я чувствовала ненависть к невестке, сильную ненависть. Я никогда не была так зла за всю свою жизнь. Я даже меньше злилась на мать и отца за то, что их у меня никогда не было. Это такой шок: ведь брат у меня, по крайней мере, был всегда. Я постоянно думаю: «Почему ты так поступил со мной? Почему ты сделал это мне?»
ЖЕНА: Я одновременно чувствую себя и вдовой и разведенной. Я чувствую, что муж бросил меня.
МАТЬ: Ты даешь ребенку жизнь, потом он уничтожает ее.
ПЛЕМЯННИЦА: Я любила дядю, но не в силах простить ему то, что он причинил своим детям, семье. Я сержусь на него, потому что уже никогда не смогу относиться к нему, как раньше. Я не в состоянии хранить приятные воспоминания о нем из-за гнева на его поступок.
О гневе, который близкие обращают на самоубийцу, часто не говорится вслух, он даже не всегда ощущается как гнев, потому что они испытывают слишком сильное чувство вины.
АМАНДА, чья дочь болела наркоманией: Трудно сердиться на человека, чья жизнь и без того была полна страданий и мучений, который проводил время так жалко и убого. Поверьте, я сердилась на нее, когда она была жива и глотала все эти таблетки, но я не могу сердиться на нее теперь. Во мне очень много злости, но я просто не могу ее адресовать ей.
Действительно, тяжело сердиться на любимых людей, особенно если этот гнев глубок и продолжителен. Гнев, остающийся надолго. И все же мы направляем по крайней мере его часть на людей, с которыми мы живем: наши чувства иногда бывают двойственными, и с этим ничего нельзя поделать, это естественно для людских переживаний. Амбивалентность свойственна человеческой природе.
Потому-то, когда кто-либо погибает насильственной смертью от своей руки, мы испытываем амбивалентность чувств, или, хуже того, гневаемся, или чувствуем недовольство самими собой. Начиная злиться по поводу его смерти, мы еще больше ухудшаем положение. В конце концов бесмысленно сердиться на жертву. Одна из важных эмоций, которые возникают у человека, если он чувствует гнев по поводу самоубийства близкого, — это чувство вины, вины за гнев, который он, оставшийся в живых, испытывает к мертвому.
Чувство вины
Если и есть одна общая эмоция, возникающая у людей как реакция на самоубийство близкого, то это — чувство вины. Внезапно появляется бесконечное число оснований чувствовать себя ответственным за эту смерть. Что бы я мог предпринять для сохранения жизни любимого человека? Сделал ли я для этого достаточно? Может, я был недостаточно заботлив? Может, я не замечал знаки, предупреждавшие об угрозе суицида?
«Я должна была предусмотреть, что он это сделает».
«Я должна была постоянно помнить, что у него бывают депрессивные состояния. Нам нужно было его вовремя поместить в больницу».
«Что мешало мне относиться к нему лучше?»
«Почему я не видел настораживающих знаков?»
«Если бы только я больше заботилась... если бы я любил ее больше... если бы я вел себя лучше... если, если, если...»
Кем бы об этом ни говорилось, будь то взрослый или ребенок, общая мысль одна: если бы мы больше делали для них, больше любили или чаще были с ними, все было бы иначе: наши любимые остались бы жить. Это ощущение порождает у близких чувство вины, которое твердит им: «Нам нужно было как-то предупредить самоубийство».
Детям свойственно своего рода магическое мышление: «Вот я злился на отца, и он, заболев, умер. Значит, это случилось из-за меня». Но и взрослые тоже думают подобным образом. Или верят, что какое-то их действие — или бездействие — привело к суициду.
МАРИЯ, чей двадцатилетний племянник застрелился: Это было кошмаром. Семья брата распалась. Мои родители чувствовали моральное опустошение. Нам и сейчас тяжело, мы так и не знаем, почему это случилось и все время думаем: что же мы сделали не так?
Анжела — одна из двух основателей группы самопомощи. У нее и Френсис была подруга, которая покончила с собой. Они в то время втроем жили на даче.
АНЖЕЛА: За день до ее смерти мы говорили о самоубийстве. Она была преданной католичкой и выглядела очень озабоченной: она сказала, что церковь раньше осуждала суициды. «Как ты думаешь, тот, кто совершает самоубийство, попадет в ад?» — спросила она. Я ответила: «Не думаю, чтобы кто-то попал за это в ад». Через восемнадцать часов она решилась на это.
Вряд ли у меня когда-нибудь полностью исчезнет чувство вины за этот случай.
ЖАНЕТТА: Многие месяцы я была уверена, что виновата в случившемся. Мне казалось, что это я нажала на курок, а не он. Это, конечно же, было глупостью. Тогда я была далеко от дома, но все же чувствовала, что это — моя вина.
Ларри не вспоминал о самоубийстве многие годы — до недавнего времени. Бородатый, сдержанный, он говорил так, будто не имел права выражать свои чувства.
ЛАРРИ: Девятнадцать лет назад, примерно в это же время года, мой сосед по комнате совершил суицид. Он плохо учился, шесть месяцев занимался в мореходном училище, затем бросил его и поступил в другое училище, где успевал лучше. Но продолжал считать, что именно мореходка сделала бы из него настоящего мужчину. Я говорил ему: «Но у тебя и так все в порядке».
Как-то он поехал в Лас-Вегас, и там у него пропали деньги. Когда он возвращался назад на отцовской машине, у нее взорвался мотор. В один и тот же день он посетил двух своих прежних подруг и каждой предложил выйти за него замуж. Обе отказали. У него и у матери часто бывали мигрени, и он отравился своими болеутоляющими таблетками.
Я работаю в центре по профилактике самоубийств. Недавно во мне всплыли старые чувства, включая вину. Тогда я не слишком прилежно учился. Мне показалось, если бы я вел себя по-другому, то мог бы помочь ему и он бы успевал лучше. Однажды он попросил меня написать за него контрольную работу, но у меня не было времени. А вскоре после этого он бросил училище. Мне постоянно лезут в голову эти мелочи. Хотя я прекрасно понимаю, что это ерунда, но все же часто пережевываю их.
РАЛЬФ, брат которого покончил с собой, говорит о реакции своей невестки на самоубийство: Целый год, поначалу каждые две недели, она звонила мне и рассказывала одно и то же: «Если бы только я не поехала в аэропорт, если бы в ту ночь, когда шила дочери платье, я спала — этого бы не случилось». Я убеждал ее, что это все равно бы произошло в другое время, и она была бы бессильна помочь. Но она не прислушивалась к моим доводам.
МЭЙ, жена Ральфа, чей брат также покончил с собой1: Я тоже чувствую вину, это просто какое-то сумасшествие. Врачи сказали, что у меня рассеянный склероз, и я сообщила эту новость брату, потом об этом, естественно, узнала вся семья. Вскоре я приехала в Нью-Йорк на совещание и он захотел повидаться. По телефону я сказала ему: «Не спеши, я очень занята сейчас. А весной мы и так переезжаем в Нью-Йорк, так что еще немного — и мы увидимся». Но он покончил с собой до того, как я нашла возможность увидеться, и я все думаю об этом...
На возникновение вины у близких самоубийцы влияет немало обстоятельств — например, у близкого были натянутые отношения с умершим, или суицидальные попытки совершались многократно, а родственники не в силах были оказать помощь и т.п. — но наиболее сильным и действенным провокатором вины становится то, что можно назвать «обвинением из могилы». Часто создается впечатление, что умерший показывает пальцем на своего близкого: «Ты подвел меня». «Ты сделал мне то-то и то-то. Ты заставил меня совершить этот поступок».
Контекст «указующего перста» может заключаться в самом суициде; он бывает включен в неоконченные разговоры, невысказанный гнев или амбивалентность.
Сара и Патриция, очевидно, чувствуют такое обвинение своей умершей матери, которая покушалась на самоубийство и прежде.
САРА: Мы с матерью опять поссорились, и, как ни странно, потом долгое время мне казалось, что эта ссора стала причиной ее смерти. А она ведь и раньше не раз пыталась покончить с собой. Вообще-то я понимала, что моей вины нет, но чувствовала себя в ответе за то, что она ушла из жизни именно тогда.
Я никогда не чувствовала особой злости после ссор, просто уставала от них. Но в тот день я пришла домой и сказала: «У меня нет сил говорить с ней». Это был один из тех случаев, когда мне не хватило терпения. Обычно она исподволь намекала, вроде того что «жизнь — никудышная штука». В тот вечер Патриция спросила: «Как ты думаешь, не сделает ли она что-нибудь с собой сегодня?» Я ответила: «Нет, у нее не то настроение».
ПАТРИЦИЯ: Сара поинтересовалась: «Ты не сходишь поговорить с ней?» А я ответила: «Нет, утром». Это было странно, обычно я шла к ней наверх...
САРА: И я тоже.
ПАТРИЦИЯ: ...Я поднималась к ней и старалась во всем разобраться, все уладить, чтобы знать, что... Чтобы с утра мы могли встать с новыми силами и все опять вернулось к норме.
САРА: Не было случая, чтобы мы все вечером не обсудили.
ПАТРИЦИЯ: Потом у меня было чувство, что, если бы я поговорила с ней и все загладила, ничего бы не случилось.
Наверное, в тот вечер происходило что-то, отличавшееся от всех вечеров, от других ссор. Может быть, мать хотела помешать им уладить ссору, чтобы они чувствовали себя виноватыми после ее смерти. Может, она просто старалась отстраниться от них. При продолжавшемся конфликте ей, возможно, было легче сказать: «Ну и черт с вами; оставайтесь как хотите, а я покончу с собой». Не исключено, что она не хотела улаживать ссору, ибо именно тогда она была столь обижена, разгневана или достаточно отчаялась, чтобы умереть.
Это, конечно, только предположения. Но из рассказа совершенно ясно, что Сара и Патриция до сих пор продолжают чувствовать обвинение из могилы. То же происходит и с другими близкими самоубийц.
Чувство вины столь болезненно и потому, что близкие самоубийц понимают: невозможно узнать у умершего, простительна ли их вина. Им не дано узнать, действительно ли их поведение было последней каплей. Они могут только размышлять — продолжая чувствовать себя виноватыми.
Стыд
Несмотря на то, что сегодня на суицидах нет официального клейма, близкие часто испытывают стыд из-за отношения соседей, друзей или групп людей. Нам рассказали следующие случаи:
Одна женщина спустя шесть лет после самоубийства ее супруга продолжала считать, что, узнав об этом, люди подумают, что в их семье есть психически больные. Сразу же после случившегося, из-за отрицательных чувств, вызванных у нее отношением соседей, она выехала из квартиры.
Невеста двадцатитрехлетнего мужчины покончила с собой. Он ощутил, что друзья не понимают его чувств, а окружающие предвзято думают о нем из-за случившегося. Он был вынужден сменить место жительства.
Суицид матери вызвал у пятнадцатилетней дочери сильнейшее чувство стыда. Он обсуждался на первых полосах газет. Во время расследования ее взволновало, что полицейские с ней даже не поговорили. Ей показалось, что о «им было на все наплевать». Далее, отец наставлял ее не говорить друзьям правды о смерти матери. Спустя полтора года она почувствовала себя покинутой всеми. У нее появились серьезные сложности в общении с людьми.
Страх
«Я боялась, что это случится и с другими моими детьми».
«Я боялась выходить на улицу».
«Я боялся оставаться дома один».
Близкие суицидента пережили потрясение, и потому, естественно, они очень ранимы, не могут дальше доверять своему опыту и людям в этом мире, верить, что к ним вернется справедливое отношение.
МАТЬ: Теперь, возвращаясь домой, я все время боюсь узнать, что произошла еще одна трагедия. Теперь самоубийство стало допустимым вариантом выбора.
ОТЕЦ: Только спустя полтора года наши дети смогли проводить вечера вне дома без того, чтобы у нас появлялась паника.
СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЙ СЫН: Прошел уже год, а я все еще боюсь встречаться с девушками. Словно каждая женщина собирается меня оставить. Меня бросает в холодный пот, и я даже не могу пригласить их погулять. Я точно знаю, что-то должно случиться.
Таким образом, вторая волна эмоций поражает близких гневом, чувством вины, стыдом и страхом.
ТРЕТЬЯ ВОЛНА
Когда люди теряют кого-то (или что-то) важного для них, их настигает печаль. Затем они чувствуют гнев из-за этой потери.
Когда люди сердятся, но при этом чувствуют вину или страх и бессилие, они часто обращают свой гнев на самих себя. В результате возникает депрессия.
Близкие самоубийц имеют несомненные основания для печали и депрессии. Но депрессия в этом случае часто является очень длительной и глубокой. Она парализует волю людей. Они теряют в весе или переедают; им трудно из-за низкой самооценки формировать новые отношения; они уверены: если один человек отверг их, то же самое сделают и другие. Некоторые долго не могут найти работу, другие чересчур подавлены, чтобы просить о повышении по службе. Самоубийство, совершенное тем, кого они любили, повергает их в пучину отчаяния.
МАРК, чья девушка покончила с собой год назад: До этого у меня было чувство, что я имею власть надо всем, что со мной происходит. Странно, но после смерти Анжелы я больше никогда не чувствовал контроля над ситуацией. Мне хотелось вернуться в то время, когда она была жива, и что-то сказать о том, что случилось. Но, естественно, это невозможно. Сделанного не воротишь. И теперь я не чувствую, что имею власть над чем-либо в моей жизни.
АМАНДА: ...Когда это случилось, я порвала отношения с мужем, поменяла место жительства, моя жизнь стала распадаться. Сейчас меня ничто не связывает с людьми. Я перенесла несколько напрасных операций. У меня нет семьи. Меня никто по-настоящему не любит.
ТОМАС: Целыми днями я сижу дома. Иногда я сплю двенадцать часов подряд. Я ни к кому не хожу, не звоню, и никто не приходит ко мне. А если и заходят, то мне им нечего сказать. Я чувствую этот неимоверно густой туман; он давит, не дает мне двигаться. Окружающие говорят, что у меня очень тихий голос, настолько, что они не могут понять меня. Но мне все равно. Для меня все это слишком...
Таким образом, во время третьей волны эмоций близкие самоубийц часто испытывают депрессию со снижением самооценки.
ЧЕТВЕРТАЯ ВОЛНА
Удивительно, что в течение полугода после случившегося почти каждый близкий самоубийцы обращается за помощью к семейному врачу. Один из исследователей перечисляет некоторые симптомы: приступы плача, бессонница, страх одиночества, мигрени, язвы (желудка и др.), сердечные приступы, повышенная утомляемость. Близкие суицидентов принимают разные средства — мужчины чаще алкоголь, женщины — транквилизаторы.
Другие указывают на достаточно серьезные психологические проблемы, от чувства пустоты до невозможности устанавливать отношения с новыми людьми, а также фобии, тревоги по поводу самых простых повседневных событий.
Одной из самых печальных сторон этих психологических и психосоматических реакций является то, что многие не связывают их с самоубийством своего близкого. Они часто не сообщают о нем врачу. Вдобавок они могут испытывать еще и вину за свое состояние и вовсе не искать помощи у врачей. Посттравматическое стрессовое расстройство, говорит один врач, еще недостаточно известно как жертвам, так и обществу в целом.
Нежелание пострадавших обращаться за помощью обусловлено как непониманием ими своего состояния (кошмаров, бессонницы, тревоги), неспособностью близких поверить и поддержать их, так и недостатком знаний об имеющихся в обществе источниках помощи.
Из-за того, что население не знает ничего о посттравматическом стрессовом расстройстве, жертвы часто живут с чувством изолированности и вины за ранящие их симптомы. У них нет уверенности, стоит ли обращаться за помощью.
К сожалению, одна из психологических реакций у близких самоубийцы на случившееся, — их желание также покончить с собой.
Это настолько распространенное явление, что группы самопомощи близким самоубийц используют слово «нормальные» по отношению к этим суицидальным мыслям. Очевидно, почти каждый человек в подобной ситуации в тот или иной момент думает о самоубийстве.
Но иногда они действительно покушаются на свою жизнь. И в ряде случаев такие попытки могут оказаться успешными. «Омега», журнал, посвященный различным аспектам смерти и умирания, привел данные, что из семнадцати детей, чьи родители совершили самоубийство, пять предприняли аналогичные попытки и двое довели их до конца.
Американская Ассоциация суицидологии, глубоко изучающая различные аспекты суицида, утверждает, что близкие совершивших самоубийство имеют большую вероятность покончить с собой, чем остальное население.
Таким образом, четвертая волна эмоций включает широкий спектр психологических и психосоматических проблем, включая склонность к самому суициду.
ОТРИЦАНИЕ
Следует также упомянуть еще одну эмоциональную реакцию, которая полностью не укладывается ни в одну из «волн». Иногда близкий человек не может осознать значимость постигшего его события. Следующее за этим отрицание в некоторых случаях проявляется в отказе принять само событие: смерть объясняется как-то иначе. В других случаях это отказ бороться с эмоциональными последствиями события.
Например, Фрэнк был разведен с женой восемь лет. Она страдала алкоголизмом и в конце концов, закрывшись в гараже, отравилась угарным газом. (Об их двух дочерях, Саре и Патриции, уже рассказывалось в этой главе.) Когда мы пришли к ним побеседовать, их отец был дома, но не проявил видимого интереса к разговору. Однако затем в какой-то момент он появился в дверях и присоединился к беседе. Было ясно, что он не хочет брать на себя никакой ответственности за происшедшее или признаваться в каких-то особых чувствах по этому поводу.
ФРЭНК: Вы не думаете, что, какими бы ни были поступки людей, они в основном делают то, что хотят? Неважно, что именно. Только представьте: женитьба, работа и так далее и тому подобное. Почему сюда нельзя включить и самоубийство? Почему оно обязательно должно быть чьей-то виной?
Одна дочь хочет поступить в колледж, другая — нет. Одна желает выйти замуж:, другая — против. Люди сами принимают решения. Некоторые решают уйти из жизни. Вот как на это нужно смотреть. Конечный результат всегда один. Мертвый есть мертвый.
Ее стремление к самоубийству было своего рода болезнью. По этому поводу у меня нет никаких особых чувств. Она умерла. Я был так же расстроен, как если бы она скончалась от сердечного приступа. Это, конечно, потеря. Но она сама приняла это решение. Я не думаю, что это когда-нибудь произойдет с моими дочерьми или я поступил бы таким образом. Но если они сделают это — это будет их личной проблемой.
Арлене было только восемнадцать, когда ее брат покончил с собой. Ко всеобщему удивлению, она внешне никак не отреагировала на это событие. В тот вечер она, несмотря на возражения родителей, как всегда пошла на свидание. Затем целый месяц они не видели никаких изменений в ее поведении. Однако она не пошла на панихиду, сказав, что смерть брата была несчастным случаем и немного для нее значила.
А через месяц она в школе потеряла сознание. Ее отвезли в больницу, где обнаружили кровоточащую язву желудка.
********************************************************************************
Как уже говорилось, некоторые близкие самоубийц охвачены гневом, чувством вины, тревогой, другие — нет. Все они работают над своими чувствами и живут дальше. Но всем им в этой ситуации важно понимать, через что они проходят, узнавать признаки острого горя после утраты, симптомы посттравматического стрессового расстройства и осознавать, что они могут «застрять» в них и не двинуться дальше.
Кроме того, этим людям нужно понимать: то, что они переживали в течение полугода после самоубийства их близких, только начало путешествия. Во второй части этой книги мы расскажем о средней части этого «долгого пути».
Глава 3, ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ
Нельзя говорить о переживаниях близкого самоубийцы вообще. Каждый человек отличается от других; каждый переживает свою собственную трагедию, а затем возвращается — или нет — к повседневной жизни. На всем протяжении этой книги, в тех или иных местах, мы цитируем высказывания самых разных людей. Но именно потому, что они приведены в контексте соответствующих глав, по частям, может не возникнуть целостного представления о жизни этих людей. Чтобы дать читателю возможность ознакомиться с ней, мы решили полностью привести две беседы с родственниками самоубийц. Вот первая из них.
Это — история одной семьи. В ней можно найти многое из того, о чем говорилось выше: хронологию суицида, эмоциональные переживания — страхи, вину, гнев. Но при этом что-то отсутствует, ибо ни один из близких самоубийцы не проходит через все переживания или стадии и не рассказывает обо всем. Наконец, в рассказе Милдред будут и такие аспекты, о которых мы подробнее поговорим в следующих главах.
Ни один из членов семьи не видит суицид точно так же, как другой. В этой семье, где случилось несколько самоубийств, такое различие в восприятиях трагических событий стало более разительным. В одной из последующих глав Шон, один из сыновей Милдред, говорит о тех же семейных суицидах. Его взгляд на них, естественно, отличается от материнского.
В этой семье было шестеро детей. Старшим был Фрэнк, затем Шон, Эллен, Одри, Эрнест и Мак. Восемь лет назад Фрэнк умер от передозировки снотворного, и коронер причиной смерти назвал самоубийство. Два года назад повесился Мак. Одри был поставлен диагноз маниакально-депрессивного психоза, и она несколько раз пыталась покончить с собой. Но вся цепь суицидов началась с мужа Милдред. При всем, что ей пришлось пережить, она выглядит моложе своих лет, говорит сжато, ее речь не расцвечена эпитетами, но история впечатляет.
МИЛДРЕД: Двадцать четыре года прошло с тех пор, как мой муж покончил с собой. Мне кажется, что тогда я «убежала» от сильных переживаний, связанных с этим — с шестью детьми у меня просто не было на них времени. Мне всегда удавалось держать это событие на расстоянии, и, в самом деле, его смерть не сказалась на моих силах. Но с другой стороны, я постоянно обсуждала его с кем-то: это и был мой способ борьбы с тягостными переживаниями. У меня были прекрасные подруги, которые очень поддерживали. Особенно одна подруга, потерявшая мужа: мы сидели часами и говорили. В основном, о детях: как смерть повлияла на них, что мы делали и как справлялись с тем, чтобы быть для них одновременно и матерью и отцом. Позже я стала видеть сны о том, что мой муж жив, а мне об этом не говорят. Я часто думала, что таким образом проявляется гнев. Во сне я говорила ему: «Почему ты не сказал мне, что ты жив?», и при этом испытывала к нему ярость. А это было уже через пару лет после его смерти.
У него нередко бывали депрессии, но за всю свою жизнь он не пропустил ни одного рабочего дня. (Будучи владельцем автозаправочной станции, он работал без выходных.) Больше никто не догадывался, что он болен. Я знала, что у него случаются депрессии, и мне казалось, что они возникают из-за меня. Часто на ум приходил вопрос: что такого я сделала? Какое-то время я терпела, потом мне хотелось как-то встряхнуть, расшевелить его, заставить поговорить со мной.
Но я и не подозревала, что это были депрессии, способные привести к самоубийству.
Однажды вечером он закрывал гараж, где стояла наша спортивная машина. Как выяснилось потом, он соединил шланг от выхлопной трубы с салоном машины. Я долго ждала его, но потом задремала. Вскоре проснулась. Обычно он перед сном заходил поинтересоваться, не нужно ли нам чего-нибудь. Поскольку было уже поздно, я решила сходить на автозаправку, но его там не было. Мы с отцом сидели и ждали. Был сентябрь, светила полная луна, ночь была теплой. Какое-то время мы сидели на ступеньках. Не выдержав, я пошла к одному из его рабочих и принялась громко стучать в дверь. Я разбудила его собаку и ребенка, но он не отозвался. Уже было два часа ночи, когда я вновь пошла на автозаправку, но теперь было так тихо, что я внезапно услышала звук работающего двигателя в гараже. И сразу все поняла. Своему врачу он оставил записку: «Я уверен, что Вы все поймете, но Милдред может понадобиться ваша помощь». Доктор потом говорил: «Мне казалось, что в тот день он чувствовал себя лучше, чем обычно».
Мне действительно кажется, что я отстранила от себя все это. Когда что-то случалось у нас в семье, я волновалась, в основном, о детях. Но никогда не позволяла себе чувствовать боль. Две мои сестры — восемнадцати и двадцати двух лет — внезапно умерли от врожденного порока сердца. Поэтому у меня был опыт переживания скоропостижной смерти, который я получила двенадцати лет от роду; мне казалось, что можно привыкнуть к смерти, приспособиться к ней. Мой отец говорил: «И такое случается. На все воля Божья». Когда я слышала о переживаниях других людей, я полагала, что обезопасила себя от них. Вскоре после того, как умер мой муж:, произошли известные события в заливе Кочинос, но я совершенно не помню их. Похоже, будто я забыла мужа, не помню обо всем, что происходило тогда. Мне легче плакать о чужих семьях, чем о своей. Но знаете, когда я плакала больше всего? Через год после моего мужа погиб Кеннеди, и я не могла успокоиться четыре дня. Я знаю, тогда многие плакали, но я просто не могла остановиться. Я смогла дать себе волю выплакаться из-за Кеннеди, как не смогла сделать этого после смерти мужа. Когда умер Фрэнк, а Одри серьезно заболела, я обратилась к доктору Р. Он был психологом. В конце концов он сказал мне: «Я не собираюсь заставлять вас плакать или гневаться; похоже, вы справились сами, и это прекрасно». С самого начала он старался вызвать во мне эти чувства, но в этом не было нужды. Этих чувств я не испытывала.
Конечно, было большое чувство вины! Если бы только я лучше понимала своего мужа. Его работа была связана с большим напряжением. Может, стоило заставить его бросить бизнес. Я вспоминаю, как он приходил вечером домой, а мы все его ждали. Он стриг лужайку, а я ходила с ним взад и вперед. Теперь, вспоминая, я думаю: «Боже мой, этому человеку нужна была хотя бы минута покоя!» Мы были женаты двенадцать лет. И как всегда случается, что-то не то говоришь или не так делаешь. Или не делаешь вовсе. Когда в тот вечер он позвонил, я стирала внизу. Он сказал: «Ладно, не зовите ее, я перезвоню». Но не перезвонил. Если бы только я тогда была возле телефона... Я понимаю умом и постоянно твержу себе, что он был болен, но все равно чувствую себя виноватой. А тут еще моя сестра сказала мне: «Если бы у вас было не так много детей! Может, он не мог всего этого вынести». Естественно, ее слова расстраивали меня. Потом, после его смерти, пошли слухи: что он волочился за женщинами; занимался денежными махинациями — ну, тут нужно было знать моего мужа. Он был действительно хорошим парнем, это подтвердит и мой отец. Я смеялась над этими слухами, они меня совершенно не трогали, но я не знаю, о чем пришлось услышать детям в школе.
Все кажется странным... Мы жили по соседству с Джонсонами. Наши дети все время бегали друг к другу. В тот вечер, когда умер мой младшенький, Мак, он звонил Филу Джонсону. Фил говорил с ним два или три часа, только тогда впервые узнав, что мой муж совершил самоубийство. А я-то была уверена, что об этом знают все. Я думала, что за все это время кто-нибудь должен был обязательно упомянуть об этом. Он говорил: «Я ничего не знал до тех пор, пока Мак не сказал мне в тот вечер». И тогда он признался, что и его отец тоже покончил с собой. А я и не знала этого. Фил не думал, что у Мака все так серьезно. Он считал, что тот просто рисуется. У него был свой пистолет, и Фил послал кого-то к нам, чтобы забрать пули. А потом Мак повесился.
Как же глубоко прятал Мак в себе мысли о смерти отца, что эта тема никогда не всплывала в разговорах с лучшим другом.
Иногда я не знаю, может, я задушила в себе чувство вины или поднялась над ним, на другой, что ли, уровень.
У Эллен были свои проблемы. Ей исполнилось пять лет, когда умер муж, и она была так поражена случившимся, что мне пришлось обратиться к психологу, к которому она ходила потом год или два. Когда она училась в колледже, то программа оказалась весьма сложной. На третьем курсе она как-то позвонила и сказала, что бросает учебу и возвращается домой. С того времени она уже восемь или девять лет посещает психолога. Она не выглядит особенно подавленной, но вместе с тем утверждает, что никогда не испытывает и радости. Она вышла замуж, но развелась три или четыре года назад. Когда умер Мак, я очень беспокоилась за нее. Она действительно очень тяжело пережила его смерть. Мне казалось, что тогда у нее были суицидальные мысли. Но внешне всего этого по ней не скажешь. Она оживленна и бодра.
Вот Одри — та похожа на своего отца. Она очень легко замыкается в себе. У нее маниакально-депрессивный психоз. Шестнадцати лет она бросила школу. Принимает литий и другие лекарства. Со всем этим лечением мне иногда кажется, что я ее потеряла. Я не знаю, где она. Я думаю, что это было тяжелейшим ударом — потерять отца, а затем братьев, младшего и старшего. И теперь дети вроде в обиде на меня за то, что я сумела выстоять, и как бы бросают мне: «Ну, ты же такая сильная».
Мы не собирались и не говорили всей семьей до тех пор, пока два года назад не умер Мак. Стоило мне только начать разговор об отце или упомянуть его имя, как Фрэнк (в первую очередь) сразу же выходил из комнаты. Он совершенно не хотел говорить об этом. В тот вечер, когда умер Мак, мы встретились с психологом и социальным работником, но дети говорили не о нем; все они возвращались к случившемуся с отцом. И знаете, что меня удивило, — это гнев, который они испытывали. Видите ли, я почему-то никогда не могла гневаться или сердиться. Может, это чувство слишком глубоко спрятано во мне. Но дети были очень рассержены, они обвиняли меня. Они ненавидели отца, ненависть касалась и меня, поскольку случившееся имело ко мне отношение. И все это вышло наружу двадцать лет спустя.
Недавно я нашла письмо, которое Фрэнк написал в двадцать с немногим лет, в нем говорилось: «Я хочу извиниться за то, что говорил о папе и о тебе. Я был очень зол». Я часто воевала с Фрэнком, с ним было нелегко справиться. Но все же он обладал большим чувством юмора. В последние годы жизни я стала замечать у него колебания настроения. Совсем как у Одри. Он мог зайти ко мне в три часа ночи и начать многословно говорить о своей работе, затем погружался в тихое, медлительное, философское состояние, не произнося ни звука. Затем приступы говорливости у него повторялись. Не знаю, могла ли я ему чем-то помочь. Сам он не считал, что у него есть хоть какие-то проблемы.
Раньше я так не понимала депрессию, как теперь. Я думала, если сделать то-то и то-то, можно что-либо изменить. Я всегда считала, что могу удержать людей в живых. Но это правда, что уже много лет я живу, как бы затаив дыхание, чувствуя, что если позволю себе свободно дышать, то Одри тут же умрет; она отчается и уйдет из жизни. Я была сердита на всю медицину за то, что мне не объяснили, в чем заключается депрессия. Когда муж лежал в больнице, мне только задали несколько вопросов, совершенно ничего не объяснив. Никто не сказал мне так, чтобы я поняла, что чувствует человек в состоянии депрессии. А тогда я не читала никаких статей. После этого уж не пропускала ничего. Людям, которые не страдают депрессией, бывает трудно понять, что человек может испытывать такую боль, что способен расстаться с жизнью. Об этом Мак говорил Филу (я узнала это месяцев шесть назад), он все время твердил: «Фил, ты просто не понимаешь этой боли. Ты не понимаешь этой боли». А мой муж, совершив однажды попытку самоубийства, сказал, что должен был как-то избавиться от того, что происходило у него в голове.
Чем старше становишься, тем больше понимаешь, что именно в тот день их можно было удержать в живых; ну а потом, что случится потом, если они действительно хотят этого?
У меня есть подруга, с которой мы проработали пятнадцать лет. Мы были очень дружны. Через пять или шесть лет совместной работы кто-то сказал мне: «Я знаю, почему вы с М. так близки: ее муж тоже совершил самоубийство». Я совершенно не имела об этом представления и не знаю, известно ли ей, что я оказалась в курсе дела. Она об этом ни разу не упоминала. По-моему, она не могла сказать об этом ни слова.
Я всегда говорила о случившемся с людьми. Я сказала об этом детям, но не уверена в их понимании. Иногда мне кажется, что младшие отгородились от этого. ...Я же сказала им всем, как только это случилось... Эрнесту было девять. Когда ему сказали об этом в школе, он поразился, как чему-то новому, а ведь я уже говорила ему.
Каждый отреагировал по-разному. Например, Шон говорил о Фрэнке: «Он был мне братом, отцом и лучшим другом». И все же он ощутил огромное облегчение, когда Фрэнка не стало. Он, можно сказать, поддерживал, «нес» Фрэнка по жизни. Мне никогда не приходилось «нести» мужа. А вот Одри, которая теперь больна, — ей тридцать один год — я «несу» уже много лет. Много раз она пыталась покончить с собой. Не знаю, что бы я почувствовала, если бы она умерла.
Я не понимала гнева, который испытывали мои дети, и узнала о нем только спустя много лет. И теперь я жалею об этом. Если бы только я могла осознать этот гнев, возможно, я помогла бы им. Как бы хотелось вовремя узнать об этом. Я и не представляла себе, что они держат его в себе. Фрэнк был очень близок с отцом, и столкнуться с тем, что его не стало, да еще вследствие самоубийства — это просто не укладывалось у него в голове. Он был вне себя от гнева!
После самоубийства мужа никто не предложил мне: «Может быть, детям походить на психотерапию?» Была только эта единственная встреча с психологом после смерти Мака — я даже думала: «Согласятся ли они встретиться с ним, придут ли?» Все это очень сложно. Возьмите, например, Шона. На прошлой неделе была годовщина смерти Фрэнка, но я уже и не прошу их прийти на службу в память усопшего. Я далее не могу говорить с Шоном о Фрэнке. И это продолжается уже восемь лет. Шон просто не может заставить себя. Но в ту ночь, когда приходил доктор Р., он был открыт. Он говорил и говорил. Мне кажется, на самом деле ему хочется поговорить об этом. Но со мной он не может.
Часть вторая
Глава 4, СДЕЛКА, КОТОРУЮ МЫ ЗАКЛЮЧАЕМ С ЖИЗНЬЮ
Это самое тяжелое, что мне довелось пережить. Проходит пара дней, и я возвращаюсь назад, к тому, что случилось, и думаю — что же будет через пять лет. Один знакомый, переживший суицид близкого, сказал мне, что боль постепенно притупляется, но я не знаю. Это, пожалуй, мое самое тяжелое переживание. Это моя собственная, личная катастрофа.
Человек, переживший суицид близкогоЧасть эмоциональных переживаний близких самоубийц кратковременна, другие продолжаются долгие годы. Некоторые же остаются навсегда, настолько сильными бывают отголоски суицида. Не удивительно, что под тяжестью этого стресса жизнь близких принимает новые формы.
То, что совершают люди, чтобы справиться с происшедшим суицидом, мы называем сделками. Они позволяют чувствовать себя чуть комфортнее в этой ситуации. Они дают возможность жить. Мы называем их сделками потому, что в их основе лежит обмен. Человек отказывается от чего-то в обмен на более приемлемое эмоциональное положение. Так он платит определенную цену и получает что-то взамен. Например:
Поиск «козла отпущения»
В этой сделке близкий самоубийцы находит одного или несколько людей, которые, по его мнению, ответственны за смерть покончившего с собой. Сосредоточившись на «козле отпущения», близкий направляет свой гнев не на самоубийцу или самого себя, а на тех, кто «мог бы» остановить его или «был причиной» его смерти. Интенсивное преследование «козла отпущения» мешает близким погибших вести естественный образ жизни.
Сделки защищают людей, переживших самоубийство близких, от слишком болезненных чувств и мыслей, с которыми те иначе не справились бы. Но они же обусловливают возникновение у них измененных форм поведения. Таким образом, можно сказать, что сделки имеют свои плюсы и минусы. Минусы не всегда очевидны. В случае поиска «козла отпущения», например, неосознанность гнева не проходит без последствий, ведь это чувство не исчезает. Оно просто скрыто. И поскольку человек не принимает его как часть реального Я, он не дает себе возможности поговорить о нем и избавиться от груза. Гнев остается с ним, глубоко спрятанный, и источает свой яд. Если этот человек проведет оставшиеся дни, преследуя «козлов отпущения», то большая часть его жизни окажется бесполезной: он будет испытывать постоянную горечь, которая искалечит его личность.
Сделки, кроме того, мешают людям ощущать положительные стороны их существования: заключать (или сохранять) хорошие браки, знакомиться с новыми людьми, получать удовольствие от работы — и в этом их вред. Преимущество же от сделки состоит в том, что «убийство» негативного чувства позволяет дальше развиваться тому, что осталось. Но если «убивается» слишком большая часть личности, приносится слишком большая жертва, то сделка не дает никаких позитивных результатов. Человек продолжает испытывать психическую боль — хотя она скорее порождена уже не невыносимостью чувств, а «застреванием» на них.
Какие еще формы поведения можно назвать сделками? Как вы увидите дальше, они различны; мы назвали их в соответствии с некоторыми их особенностями. Вот несколько кратких примеров. В последующих главах мы дадим более детальную картину того, как суицид приводит к сделкам.
Прощание
Вместо того, чтобы продолжать жить, некоторые люди, пережившие самоубийство близкого, тратят годы на прощание с умершим. Налицо непрекращающийся траур, без невыносимой боли, но и без всякого движения вперед.
Вина как наказание
Вместо того, чтобы найти «козла отпущения» вовне, люди выбирают на эту роль себя. Они чувствуют ответственность за происшедший суицид. Они превращаются в жертв и надолго остаются в этой роли, глубоко погрузившись в скорбь.
Соматические проблемы
Вместо того, чтобы калечить себя психологическими переживаниями, близкие суицидентов могут отдаться соматическим проблемам. Они уверены, что сосредоточение на проблемах здоровья сможет отвлечь их от суицида. Но это не срабатывает.
Самоограничение
Они могут не позволять себе, чтобы в жизни случалось хоть что-то хорошее. В итоге их семьи распадаются, дело доходит до разводов, снижается половое влечение или теряется работа. Дети не могут вести себя спонтанно, как свойственно детям, они теряют чувство свободы. Один из психологов установил, что мужья и жены, которые потеряли супругу(а) после самоубийства, часто повторно вступают в брак с человеком, который способен вновь разочаровать их — появляется еще один способ быть отверженным миром, еще один путь через наказание.
Суицид
Самая скорбная сделка из всех — это та, которая кончается суицидом человека, пережившего самоубийство свого близкого.
Бегство
В этом случае человек постоянно меняет — одну работу на иную, одни взаимоотношения на другие. Делается все что угодно, лишь бы не остаться лицом к лицу со своими внутренними чувствами. Это приводит к отказу от многих положительных сторон жизни — от тех вещей, которые можно обрести только остановившись и разобравшись в них — включая эффективные взаимоотношения с новыми супругами, приносящую удовольствие работу или добрых друзей.
Есть и другие сделки, о которых мы расскажем в следующих главах.
Очень трудно определить, какой была бы жизнь людей, если бы не самоубийство их близкого. Страдали бы они депрессией? Развелись бы, стали алкоголиками, потеряли бы работу, имели бы желудочно-кишечные проблемы, разочаровались бы в детях — не будь в их жизни суицида? Знать этого, естественно, нельзя, но из историй членов семей и друзей самоубийц становится ясно, что их формы поведения действительно драматичны. В целом, как группа, эти люди являются жертвами. Для них, по-видимому, характерны более сильный гнев, чувство вины и скорбь, чем для остальных людей. И сделки, которые они заключают, как формы адаптации явно невыгодны.
Названия, которые мы дали сделкам, — это путеводная нить к пониманию форм поведения, лежащих в их основе. Как и все психологические феномены, сделки накладываются друг на друга или пересекаются. В конечном итоге, рассмотрение сделок через рассказанные истории является лишь одной из точек зрения на жизнь людей, перенесших суицид близкого.
Анализируя их, мы пришли к выводу, что гнев, по-видимому, играет исключительно важную роль. Именно гнев, который чувствуют близкие по отношению к умершему человеку, усложняет их жизнь. Он имеет тройное происхождение:
Во-первых, это ярость на то, что их отвергли, бросили или бесчеловечно обвинили.
Затем, он возникает от того, что человек отвергается близким, не посчитавшим его столь значимым, чтобы ради него остаться в живых; он чувствует себя брошенным тем, кого он любил, и ощущает обвинение, будто умерший показывает на него пальцем, говоря: «Ты недостаточно сделал для меня».
Далее, человек, перенесший самоубийство близкого, не знает, как ему быть с этим ужасающим гневом, который пугает, вызывает чувство вины, заставляет думать о себе плохо. Если мы внимательно вглядимся в чью-нибудь сделку — мы обязательно обнаружим гнев.
К счастью, сделки не всегда постоянны. Конечно, неудачливые люди «застревают» в них и, чтобы справиться с жизнью в мире (и с самоубийством), длительное время практикуют формы поведения, вредные для себя, семьи или друзей. Однако если им повезет или они сумеют найти помощь, заключенные ими сделки могут со временем измениться. В историях многих людей, описанных в настоящей книге, можно увидеть потенциал для изменений.
Понятно, что с самого начала многие сделки помогают. Несмотря на неосознанный гнев, депрессию или вину, многие, перенесшие самоубийство близких, способны справиться со сложившейся ситуацией. Иными словами, посттравматическое стрессовое расстройство или длительное горе после суицида необязательно приносит постоянный вред. В этой книге уделено много внимания обсуждению пагубных сделок, которые заключаются с жизнью, для того, чтобы озвучить общие для многих переживания, а не показать жизнь этих людей хуже, чем на самом деле. Многие люди чувствуют, что назвать переживания означает в какой-то степени овладеть ими. Поэтому в третьей части книги лицам, пережившим самоубийство близких, предлагаются некоторые техники, способные облегчить вызванную этим боль.
Глава 5, СДЕЛКИ: ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ
У большинства людей нет возможности попрощаться с человеком, совершившим самоубийство. Внезапность, порождающая удивление, — одна из самых общих особенностей переживаний близких самоубийцы. Поэтому некоторые из их сделок заключаются в попытке попрощаться с ушедшим. К сожалению, это означает нескончаемые и безуспешные усилия, которые держат близкого в плену у умершего. (Очевидно, прощание «примешивается» у близких самоубийцы к каждой «сделке» с жизнью.) Ее преимущество состоит в том, что если вы все еще прощаетесь, то умерший еще не совсем ушел — и потому можно отложить переживание полной потери, еще не нужно выражать гнев, чувство вины или стыд. Плата за эту сделку— сложности в освоении других дел в своей жизни.
Она обычно сопровождается чувством изоляции. Умерший ушел, вырвав какую-то вашу часть, и вы, по сути, уже не тот человек, что раньше. Если бы можно было вернуться к прежнему состоянию, попрощаться, тогда вновь ощутилась бы целостность.
Часть сделки Руфь проявляется в потребности продлить прощание (хотя прошлые суицидальные попытки Бесс и давали ей возможность подготовиться к нему). Она чувствует необходимость удерживать образ дочери при себе, например, кроме всего прочего, она сделала спальню Бесс своим кабинетом: «Там мне очень удобно. Все осталось так, как было при ней. В комнате хранится память».
Ивен сохраняет очень близкие отношения с Руфь и ее семьей. Он часто заходит к ним, они вместе обедают, и снова и снова возвращаются в разговорах к самоубийству Бесс.
ИВЕН: Думаю, что в каком-то смысле я все последние три года прощался с ней. Но с другой стороны, я так и не сделал этого до конца.
И сейчас я все еще стараюсь удержать ее в живых. У меня сохранилось много ее фотографий. Каждый день я думаю о ней; даже если у меня не хватает времени, я нахожу его. Я продолжаю ходить сюда. И в большой степени чувствую себя членом этой семьи. Я сплю в ее постели, как делал это раньше. Иногда замечаю, что разговариваю с ней.
Важно подчеркнуть, что в чувствах и поведении Ивена нет никакой патологии. Люди, пережившие суицид близкого, имеют право — и потребность — выражать свои чувства, как им хочется. Но каковы последствия того, что Ивен не прощается и старается удержать Бесс в живых? Умертвил ли он что-то в себе? Отдает ли он часть своей жизни взамен ее смерти? Есть ли у гнева, который он, вроде бы, не испытывает по отношению к Бесс, какой-то выход? Возможно, он гневается на себя?
ИВЕН: Я попал в серьезную автомобильную аварию и думал, что погибну. Машина перевернулась прямо на шоссе. Что меня больше всего поразило, так это отсутствие беспокойства при мысли о смерти; я очень хорошо помню, что подумал: «Ну что же, вот настал и мой час, теперь я увижу Бесс». Может, это должно было взволновать меня больше. По-моему, уже то хорошо, что последние пять месяцев я чувствую, что моя скорбь о Бесс прошла ряд состояний. Может, еще наступит то время, когда я не захочу удерживать ее в живых, как сейчас. Мне кажется, что, если моя машина опять перевернется, я приложу больше усилий, чтобы остаться в живых.
Я сейчас на распутье, мне нелегко принимать решения из-за моего отношения ко всему: «Какое это имеет значение?» Но я знаю, что решать все равно нужно, так как когда-нибудь это приобретет значение. Поэтому я время от времени прилагаю усилия. И надеюсь, что если окажусь по своей оплошности в неблагоприятной ситуации, то смогу разрешить ее.
Помню, как давно, когда наши отношения только начинались, мы не чувствовали уверенности. Когда стало ясно, что мы много значим друг для друга, то часто говорили, кто из нас первым прервет отношения. Каждый был уверен, что это сделает другой. Больше всего меня печалит, что теперь я не смогу, к сожалению, прожить с ней жизнь, ведь, по-моему, мы оба были необычными людьми и подходили друг другу. Бесс первая порвала наши отношения.
Ивен и Руфь говорят о том, что они «верны истине». Они открыты в своих чувствах по отношению к случившемуся. В некотором смысле они хорошо переживают последствия самоубийства. Они организовали похороны Бесс и не растерялись. В проявлениях их эмоций не было беспомощности. Но они оба все еще сражаются с проблемой, как отпустить Бесс, попрощаться с ней.
Есть много способов продлить прощание. Мы уже писали о Шоне, представляя интервью с его матерью в конце первой части. У него была другая точка зрения на многочисленные суициды и реакцию матери. Вот некоторые из его мыслей о прощании.
ШОН: Для нее это было почти постоянным трауром. Она постоянно поощряла нас к беседам на эту тему и сама почти не переставала говорить. Я имею в виду, что все хорошо в свое время, у нее же это было похоже на вечную скорбь. Эрнест сказал, что у него с ней испортились отношения в связи с этим. Однажды, придя к нему домой, она вспомнила вновь об одном из умерших близких, и он сказал: «Господи, ну почему же ты не оставишь их души в покое?!» И я чувствую то же самое. Я чувствую, что хотел бы продолжать свою жизнь. Вот вам пример. В тот же день, когда по желанию матери крестили моего сына, она заказала поминальную службу по моему старшему брату. Ей было непонятно, почему никто не хочет принять в ней участие. Для меня это пример смешения радости настоящего и боли прошлого.
Может быть, смерть просто въелась в нее. Везде и всегда она ходит на поминки. Я был свидетелем, как она отказывалась от многих приглашений в гости. Это хороший показатель ее мыслей. Она ловит больший кайф от поминок, чем от хорошей вечеринки.
Гнев Шона на частые суициды в семье обращается на мать (как мы увидим в следующей главе), но есть и доля правды в том, что они убили у нее часть радости жизни и она продлевает прощание с ушедшими.
У некоторых из близких уходит много энергии на предотвращение повторных приступов гнева. Поэтому их прощание и становится одной из многих попыток справиться с яростью. В результате их жизнь, наполненная виной, гневом и одиночеством, часто отрывается от жизни других. Аманде бывало очень трудно с дочерью, когда та была жива. Но теперь она вспоминает о ней как о человеке, с которым ей никогда не хотелось расставаться. Она ищет ответы на свои вопросы. Этот поиск звучит даже в интонациях ее речи, голосе, дрожащем и пронзительном. Во время беседы ее лицо бледнеет, волосы растрепаны, и, закончив говорить, она устало откидывается на подушку.
АМАНДА: Никто не любит меня так, как любила дочь. Это факт. Теперь я совсем одна. У меня нет родных, разве что двоюродная сестра, которая только и рассказывает мне о проблемах своей дочери. И с посторонними я не могу найти контакта.
Ничего не забывается. Люди говорят, что потом станет легче, но это не так. Я ощущаю, что мне постоянно чего-то недостает и это чувство останется со мной навсегда.
Я не попрощалась с ней. Большинство из нас не попрощались.
Она была очень красивой девушкой — быть может слишком прекрасной — от ее красоты дух захватывало. Я чувствую себя виноватой перед ней. Я потратила двенадцать лет, избавляя ее от наркотиков, и создавалось впечатление, что в конце концов мне удастся сделать это.
Как я могу сердиться на нее, если она так мучилась ?
И в самом деле — как? Это и есть та дилемма, которая стоит перед большинством переживших самоубийство своих близких: они действительно сердятся на умершего человека, одновременно испытывая вину за свой гнев. «Как я могу сердиться на нее, если она так мучилась?» Противоречие снимается тем, что они гонят свой гнев с глаз долой. К сожалению, он никуда не уходит, и это помогает понять причину тех мук, которые испытывают эти люди, например Аманда. Если бы только она могла лучше думать о дочери, создавшей ей столько сложностей при жизни.
АМАНДА: Конечно, у нас были проблемы. У меня не было сил проводить с ней круглые сутки. И у бедняжки жизнь была ужасной, но потом она пыталась бросить наркотики, она старалась сделать это.
Я хочу прижать ее к себе; хочу испытывать счастье заботы о ней — три месяца, три года, сколько угодно, только бы не было так, как случилось. Боже мой, ну почему я не погладила ее по головке, не обняла, не дала ей выплакаться? Вина не дает мне покоя.
Глава 6, СДЕЛКИ: ПОИСК «КОЗЛА ОТПУЩЕНИЯ»
Как уже говорилось, все рассматриваемые сделки имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Многие из них, если не большинство, являются формой борьбы с той накапливающейся злостью, что возникает до или после суицида — злостью на человека, который умер. В целом, отрицая гнев и оставаясь на плаву, человек приобретает контроль над ситуацией. Но он же и проигрывает, не осознавая своих чувств. Застывшее горе может длиться очень долго.
В проигрыше остается прежде всего тот, кто пережил самоубийство близкого, но у него ведь еще есть взаимоотношения с другими людьми. Человек портит жизнь не только себе, но и другим.
ЭРИК: Мой сын Альберт совершил самоубийство немногим более года назад. Ему ставили диагноз шизофрения, и он болел ею пять лет. Два раза он предпринимал попытки покончить с собой. Однажды на мосту он снял с себя одежду, хотя был ноябрь, и собирался прыгнуть в реку, но его остановил проезжавший мимо мотоциклист. После курса лечения в больнице его выписали.
Семнадцатого января, в четверг, был сильный снегопад, и я остался дома. Примерно в четыре часа дня Альберт сказал моей жене, что ему плохо и он хотел бы вернуться в больницу, чтобы его посмотрел врач, который лечил. Я спросил, в чем дело. Он сказал, что слышит «голоса».
Человеку, который рассказывает эту историю, Эрику, шестьдесят лет с небольшим. На протяжении всей беседы его голова остается опущенной, голос приглушен, настроение подавленное. Он почти на грани нервного срыва. Он работает учителем в большом городе. У нас возникает чувство, что свою историю таким образом он рассказывает уже много раз. Только когда речь доходит до врачей в больнице, его голос повышается, наполняясь презрением и гневом.
ЭРИК: Поговорив с Альбертом пять минут, врач позвал меня в кабинет. Я спросил: «Альберт рассказал Вам, что слышит голоса?» «Ну, — сказал врач, — он просто галлюцинирует». — «А он сказал Вам, что они приказывают ему совершать ужасные вещи?» — «Это ничего, я дам ему таблеток». Мне хотелось, чтобы врач оставил его в больнице, и это было бы совершенно правильное решение. Вместо этого он отшутился и сказал: «Ему нужно принимать таблетки». У меня до сих пор сохранился тот флакон. Я подал в суд на врача и больницу потому, что он велел мне забрать Альберта домой.
На следующий день Эрик пошел на работу. А его сын залез на крышу небоскреба и бросился вниз.
Та женщина позвонила охраннику и сказала, что Альберт собирается прыгнуть вниз, но тот отказался снять его. Альберта можно было спасти.
Я отец, я ничего не забыл. Просто не могу выбросить все это из головы.
На этом месте Эрик снова опускает голову и смотрит вниз. Его голос становится тише.
Вот и вся история.
Позже мы узнали, что Эрик подал в суд также на владельцев здания за то, что его сыну не помешали броситься вниз, не спасли.
В Эрике необычно не то, что он подавлен смертью сына или сердится. Исключительно то количество энергии, которое он тратит, во-первых, на поиски «козлов отпущения», виновных в самоубийстве сына, и, во-вторых, на поощрение собственной боли. Позже во время нашей беседы он сказал:
После того, как мой сын покончил с собой, я сказал, что должен вернуться к работе в школе. Я буквально заставил себя и худо-бедно справлялся с ней, но когда наступил июнь, мне просто захотелось умереть. Я сильно заболел, физически и душевно. Да, я чувствовал вину за смерть сына. Я был уверен, что врач просто убил его, и мне хотелось отомстить ему тем же.
Высказывание о вине Эрик отбрасывает, как будто оно вырвалось случайно, но гнев на врача остается очень сильным. А что с гневом на умершего сына?
У меня никогда не было ненависти к сыну. Я любил его. Я не гневаюсь на него. Я сержусь на себя.
Сделка Эрика состоит в стремлении навсегда сохранить воспоминания о смерти сына. («Я никогда не забуду».) Он «убивает» в себе гнев, который мог бы испытывать по отношению к нему, и испытывает жгучую ярость к себе и «козлам отпущения». Ценой, которую он платит, является плохое телесное и психическое самочувствие («Я тяжело заболел физически и душевно»).
Но погодите, ведь можно возразить: что плохого в том, что человек сердится на врача, халатно отнесшегося к своему пациенту? И разве не верно подать в суд на владельцев здания? Эрик имеет право на восстановление справедливости и те переживания, которые испытывает. Но это не только чувства или борьба за справедливость — здесь сделка, которую заключил Эрик. И он сам говорит или демонстрирует нам, что в ней плохого. Прежде всего, он скрывает от себя и не осознает чувства сильнейшего гнева на сына. А проявление ярости в адрес окружающих не приносит чувства удовлетворения. Он физически и морально страдает.
Это же, видимо, можно сказать и об Аллане, человеке несколько старшем по возрасту, чем Эрик. Он начинает свое повествование с того, какой чудесной была дочь. Он не таит на нее никакого зла и отвергает точку зрения, что она сама в ответе за свою жизнь. Хорошо образованный, со свойственной интеллигентам правильной речью, этот пожилой, сломленный жизнью человек, повышая голос, привлекает внимание к наиболее значимым моментам рассказа.
АЛЛАН: Она любила жизнь, веселье и людей. Она была очень общительной и преуспевала в работе. С ней ни когда не было проблем, ни в детстве, ни в подростковом возрасте. У нее был очень деструктивный брак; мы ее умоляли, уговаривали, просто на коленях просили, чувствовали, что она не переживет этого. Мы убеждали ее: «Брось его».
Они обращались за помощью, получали семейные консультации, но ее муж оказался удивительно упрямым человеком. Он сопротивлялся всему, что говорили. Как будто он знал все лучше, чем консультант, и слушал только себя. За двадцать пять лет она пять раз уходила от него и вновь возращалась. Их жизнь становилась все хуже и хуже. Если раньше она никогда не страдала эмоциональными расстройствами, то примерно за год до трагедии я впервые заметил, что она выглядит очень подавленной. Она не понимала, что что-то явно не в порядке с человеком, который испытывал патологическую склонность к ссорам и дракам. Мы вновь умоляли ее: «Брось его». Во всем остальном она была очень умна. А тут не видела, что он попросту болен.
Так или иначе, она почувствовала себя настолько плохо, что попала в больницу. Она не была бойцом и не могла справиться с постоянными скандалами и криком. Она говорила врачу: «Мой дом — настоящее поле боя, я не могу вынести этого». Через какое-то время ее выписали домой, назначив поддерживающее лечение. Дома она пробыла десять дней. А после этого...
Дочь Аллана умерла, отравившись алкоголем и наркотиками. Как и Эрик, он говорил об этом тихо, напряженным голосом. Несколько раз он принимался плакать. Вот еще одно напоминание, что кто-то другой в ответе за смерть самоубийцы. И в этом случае поражает сила гнева. Но человека, покончившего с собой, нельзя винить. И все же отец тоже страдает, как физически, так и душевно.
Я был совершенно сломлен физически. Попал в аварию. После перенесенной операции я всегда хожу с тростью. У меня очень больное сердце.
В этот момент кто-то сказал Аллану, что его боль станет меньше, что, возможно, ему удастся совсем забыть ее. В гневе он отвечает: «Я не хочу ее забывать!»
Вот в чем заключается его сделка: ему никогда не освободиться от испытываемых страданий. Но зачем же он заставляет себя так страдать? Дело, по-видимому, в том, что он испытывает вину за то, что не сделал чего-то для дочери.
АЛЛАН: Когда я читаю о самоубийстве чьих-то сыновей или дочерей, я говорю себе: «Наверное, было время, когда отец или мать чего-то не сделали для ребенка, поэтому у него не хватило сил выжить, и это при сложившихся обстоятельствах привело к такому исходу». При этой мысли меня просто преследует чувство вины. Чего я не сделал раньше для ребенка, чтобы дать ему силы для преодоления трудностей, дать желание жить? Пожалуйста, скажите мне, если можете.
Кто-то поспешил утешить, что он не виноват, что ему не в чем себя винить, что его дочь была взрослой женщиной, имевшей собственную волю. Было также высказано предположение, что тяжелый брак не мог быть единственной причиной самоубийства. «Не убивают же себя только из-за неудачного замужества», — сказал кто-то. На это Аллан ответил гневным тоном: «У нее не было других проблем!» И в течение нескольких следующих минут он старался уйти от вопроса, могло ли что-то зависеть и от него. Возможно, чувство вины стало слишком сильным и он не мог с ним совладать.
Кто-то сказал: «В вас столько гнева!» И Аллан ответил: «Чертовски много! Потрясающе много! Когда случается такая катастрофа, все мы сердимся; мы гневаемся на окружающих за то, что они мало поддерживают нас. Вы знаете, сколько вокруг идиотов? Близкие друзья, которые говорят: «Прошло уже семь месяцев, а ты все еще плачешь?» Разве можно не сердиться на них?» Таким образом, в сделку Аллана входит гнев на мужа дочери, на «идиотов», говорящих, что ему следовало бы лучше себя чувствовать, на тех, кто не поддерживает его, и вполне определенное чувство вины за то, чего он не сделал. Но дочь, которую он идеализирует, не в чем винить. И он будет вечно хранить память о своей боли, даже если самоубийство дочери искалечит его навсегда.
Здесь, вероятно, следует коснуться одного типичного варианта выбора «козлов отпущения»: ими часто бывают врачи-психиатры. Почти все, с кем мы встречались, гневно отзывались о врачах. Это лишь кажется оправданным, ведь врачи обманули надежды близких, не предотвратив суицид. Даже те, кто неплохо справляются с происшедшим самоубийством, сердятся на врачей.
Возьмем, например, Шона: У меня с братом одинаковое чувство: что психологи почти никчемны и приносят пользу, если люди не нуждаются в реальной помощи, а хотят только «быть в форме». Ну, а в государственных учреждениях вообще психологи просто паразитируют. Вот моя сестра — ее напичкали лекарствами, но напряжение так и не прошло; меня все это возмущает.
Или случай с Амандой. Прошло пять лет после смерти дочери, но чувство скорби не изменилось, также как и двойственное отношение к психотерапии.
АМАНДА: Я не могу смириться с тем, что жизнь моей дочери была столь несчастливой. Когда она обращалась к врачам по поводу передозировки наркотиков, ей говорили: «Что, опять ты здесь?»
Девяносто девять процентов психиатров, с которыми я встречалась, были просто отвратительны. Но к одному я иногда обращаюсь и теперь. Последнее время я хожу к нему чаще. Может быть, он и не самый лучший. Но знаете, как часто бывает, в основном врачи говорят: «Вы должны делать то-то и то-то», но при этом совершенно не сочувствуют. А он, по крайней мере, добрый, внимательный и, как мне кажется, компетентный. При нем я могу позволить себе визжать, кричать, стонать.
Гнев на врачей характерен для очень многих из близких самоубийц, но самым ярким примером его использования для сделки — чтобы избежать ярости, которая возникает на умершего человека — было высказывание одной женщины, у которой близкая подруга погибла два года назад. Мы пришли взять у нее интервью вместе с несколькими друзьями погибшей. Она сказала: «Один из вас психолог, правда?» Потом добавила: «Знаете, все мы плохо относимся к ним; мы сердиты на врачей». На вопрос «Почему?» она ответила: «Ну, надо же на кого-то сердиться».
Следует уточнить, что, конечно, существуют психиатры, не справляющиеся со своими обязанностями по отношению к пациентам и их семьям, проявляющие халатность и/или некомпетентность. Но такие люди, как Милдред, заставляют нас поверить, что они сами знают о сокрытии своего гнева на самоубийц и направлении его на «козлов отпущения».
МИЛДРЕД: Больше всего я злюсь на медиков. Может, так я вымещаю свой гнев. В больнице были врачи, которые по отношению к Одри просто совершали глупости. Дважды ей отменяли все медикаменты. И тогда она становилась совсем безумной. Ее помещали в комнату с мягкой обивкой и все такое прочее. Я сама совершенно сходила с ума. Как они могли с ней так поступать? Она и так очень страдала. После чьей-то смерти уже ничего нельзя поделать, но я же пыталась сохранить дочь в живых. А они работали против меня. Я говорила им: «Если вы не будете ей давать литий, я вас засужу».
Я много гнева выместила на медиках.
Поиск «козлов отпущения» частично характерен даже для тех, кто хорошо справляется с последствиями самоубийств, — он помогает им уменьшить интенсивность накапливающегося внутри гнева. Хорошими примерами этого являются Руфь и Ивен.
ИВЕН: В течение прошедших трех лет у меня действительно был один вполне определенный «козел отпущения» — подруга Бесс по колледжу.
РУФЬ: У нее была очень эмоционально беспорядочная дружба с одной женщиной, и мы все еще возвращаемся к ней. Если бы они не встретились, если бы она не поступила в тот колледж, она была бы жива. Это были очень странные, мучительные для обеих взаимоотношения, природу которых мы до сих пор не понимаем. И первая суицидальная попытка Бесс была связана с этой подругой, которая внезапно отвернулась от нее. Это непосредственно спровоцировало ее поступок.
Как и все, чья сделка заключается в поиске «козлов отпущения», Ивен и Руфь испытывают определенное облегчение от того, что чувствуют гнев на постороннего, а не на умершего человека. Но в других случаях их информация свидетельствовала, что этот скрытый гнев становился серьезной помехой в жизни.
Глава 7, СДЕЛКИ: «Я ВИНОВЕН; Я ЖЕРТВА»
Во второй главе мы писали, какое сильное чувство вины испытывают люди, пережившие самоубийство близкого. Сейчас мы остановимся на переживаниях тех, кто воспринял это чувство вины как справедливое наказание. Они не сражаются с ним. Их жизнь вращается вокруг него и взятой ими ответственности за случившуюся смерть, независимо от того, сколь абсурдным это может показаться стороннему наблюдателю. Эта сделка помещает их в безопасное положение жертвы. Естественно, будучи виновными, они не осознают испытываемый гнев. И поэтому в значительной степени теряют контроль над своей жизнью.
Мы уже встречались с Руфью и Ивеном. Несмотря на неплохую адаптацию к ситуации самоубийства и открытость в разговоре, Руфь постоянно говорила о своем чувстве вины.
РУФЬ: Мне очень тяжело, потому что из всех детей (а их у меня четверо), единственным ребенком, с кем у меня возникали трения и конфликты или, во всяком случае, отношения не отличались гладкостью, была Бесс. Чуть ли не с момента рождения. Теперь мне трудно убедить себя, что это не имело никакого отношения к ее смерти. Когда мне легче, я умом понимаю, что это одно не могло ее убить — что у многих дочерей бывают и худшие отношения с матерями, но они не кончают самоубийством — но все же большую часть времени я чувствую себя очень, очень виноватой. Ведь я была ее матерью!
ИВЕН: Мои чувства меняются день ото дня. Есть такие ситуации в прошлом, которые мне хотелось бы переделать, но, в основном, я чувствую, что очень ее любил, и мне кажется, она знала об этом. И даже если когда-то я сделал что-то, о чем мог потом пожалеть... Все равно я уверен, что она знала о моей любви и понимала, что ради нее я был готов на все.
Может быть, в этом-то и была часть проблемы.
РУФЬ: Ты уже и раньше говорил, что, возможно, был для нее неподходящим человеком: слишком сильно любил ее... Если хочется найти вину, это всегда возможно. [Очень тихо] Наверное, ты любил Бесс больше, чем я.
ИВЕН: Это не так.
РУФЬ: Возможно, ты мог бы винить меня.
ИВЕН: Многие люди винят себя.
РУФЬ: Смерть от самоубийства отличается от любой другой. Из-за того, что она убила себя, я до ужаса сосредоточена на ее смерти, на моих проблемах и на ее детстве; есть много воспоминаний о плохих моментах в наших отношениях, а я стараюсь думать о том, как нам порой прекрасно было вместе. Но это очень, очень трудно; и я ужасно боюсь, что если мне потребуется все больше времени, чтобы возвращаться к ее жизни, то в конце концов я совсем забуду о ней, и все, с чем я останусь, будет: «Что мы делали неправильно?», «Что мы могли сделать?». Я почти одержима этими мыслями, хоть и знаю, что им не следует поддаваться. У меня бывают и моменты, когда я вспоминаю что-то хорошее или представляю, что она умерла, например, от лейкоза. Это просто прекрасно. Но потом я возвращаюсь к плохим чувствам. Таково наследство самоубийства.
Точнее говоря, это было наследством, которое оставил Руфи суицид дочери, потому что не все вспоминают только о плохом или «вытравливают» хорошее; не все осознают полноту своей «ответственности». Мы попытались выяснить, не связано ли чувство вины у нее с гневом, который теперь она направляет на себя.
РУФЬ: После первой ее попытки самоубийства я так сердилась, что готова была уничтожить ее. Это же надо совершить такую глупость! Так поступить в отношении меня. Как можно было так надругаться над собой и надо мной? Ну а во второй раз внешние обстоятельства были вообще просто невероятными: она собиралась уехать и беспокоилась о том, как лучше упаковать вещи! Я была просто в ярости на нее. Хотя и понимала, что она серьезно больна.
Но на сей раз я не могу вызвать у себя гнев. Я чувствую только очень сильную скорбь. Может, мне бы помогло, если бы я рассердилась.
Но она не сердится. Она ощущает «облегчение». В сочетании с гневом, который она испытывала, пока Бесс была жива («я просто готова была убить ее»), это может объяснить навязчивое чувство вины, от которого Руфь теперь не может избавиться. Сделка помогает ей не осознавать гнев (который заставил бы ее испытывать еще худшие чувства в отношении себя), но в то же время приводит к тому, что она отбрасывает хорошие и живет с плохими воспоминаниями. Таким образом, она становится жертвой своей собственной вины.
С Марией мы встретились в группе самопомощи, которая собиралась в церкви. Почти десяток людей приходил туда каждый месяц, чтобы поговорить о тех, кого они потеряли вследствие самоубийства. Она говорила о пережитом тихим напряженным голосом, периодически всхлипывая. Было видно, что она чувствовала сильную боль. Но казалось не совсем ясным, почему она ее испытывала; внешне у нее не было серьезных оснований брать на себя такую тяжесть из-за смерти своего двадцатилетнего племянника. И все же не оставалось сомнений, что она жила с очень сильным чувством вины, вины, которую она разделяла с другими родственниками, но воспринимала очень лично. Ее вина делала невозможным гнев, она была не в состоянии сердиться на юношу, трагически ушедшего из жизни. Дрожащие губы, слезы на глазах — все свидетельствовало, как глубоко Мария потрясена случившимся.
МАРИЯ: Я потеряла племянника четырнадцать месяцев назад. Он взял ружье и выстрелил себе в голову. Он сделал это дома. Мои родители жили на первом этаже, а брат с невесткой и двумя детьми — наверху. Брат услышал выстрел, но, когда вбежал в комнату, было уже поздно. У него в доме хранилось незарегистрированное ружье, племянник собрал его и застрелился.
До того, как это произошло, не было никаких предостерегавших признаков — депрессии или раздачи им своих вещей.
С тех пор в доме воцарился кошмар. Брак моего брата и раньше не ладился. Случившееся вовсе разрушило его. Невестка с сыном уехали из дома. А мой брат живет с переполняющим его чувством вины, он считает, что раз ружье принадлежало ему, то он за все в ответе. Моя невестка со своей стороны не упускает случая упрекнуть его в том, что в доме находилось ружье. Мои родители опустошены горем. Я испытывала особо теплые чувства к племяннику. Случившееся особенно тяжело потому, что мы не знаем, зачем он совершил это. Я все время думаю: «Что же мы такое сделали или, наоборот, упустили? Почему он был столь несчастлив, что свел счеты с жизнью?»
Существование чувства вины и взаимных обвинений в этой семье очевидно. Однако почему именно Мария чувствует себя виноватой, полагает, что она «что-то упустила»? Ответа мы не знаем. Но можно считать, что эта реакция на смерть племянника — часть сделки, которая заставляет ее постоянно обвинять себя и, как она сама признает, мешает ей жить дальше.
Проявления роли жертвы могут быть весьма разнообразными, например символическая смерть вместе с умершим человеком. Даже обладающие большим самоосознанием по сравнению с большинством опрошенных нами лиц попадают в ловушку этой сделки. У Анны-Марии было ужасное детство. Ее мать болела шизофренией и постоянно лечилась в психиатрической больнице. Ее отец, которого она никогда не знала, также был психически болен. Брат вырос в детском доме, но ему все же удалось стать преуспевающим юристом. Потом, в возрасте сорока с небольшим лет, он заболел паркинсонизмом. Тогда пришлось продать свое дело и поменять работу. А между тем болезнь прогрессировала.
В говоре Анны-Марии слышен отчетливый бруклинский акцент. Она живет неподалеку от того места, где родилась. Во время рассказа она испытывает растерянность и боль. События, о которых повествуется, случились недавно.
АННА-МАРИЯ: Продав дело, он все больше уходил в себя. Я постоянно слышу, как он говорит: «Я так одинок, так одинок». Был обычный день. Он временно жил у меня, так как невестка уехала отдыхать во Францию. За ночь он дважды вставал. Во второй раз он сказал, что хотел бы поговорить со мной. И мне казалось, что я его успокоила. Потом в дверь позвонил полицейский.
Брат Анны-Марии выбросился из окна спальни.
Я поймала себя на том, что разговариваю с ним: «Почему ты не пришел ко мне? Почему ты не позвал меня? Я же была в соседней комнате».
Я жалею, что не послушалась своего инстинкта. Я же психолог. Я его слышала, но не слушала. Последнее время я читаю книги, учебники и все, что попадает под руку, о самоубийствах и постоянно спрашиваю себя: «Зачем я это делаю? Ведь он мертв. Чего я ищу?»
Я просто парализована.
Но какова же сделка Анны-Марии? Это выясняется, когда она рассказывает о гневе на брата за то, что он ее оставил.
Я кричу, ору, глядя на это окно, я смотрю вниз и почти шиплю, задыхаясь от злости: «Как же ты мог сделать со мной такое? У нас ведь нет родителей, как ты мог взять и бросить меня? Ты же знал, что я совсем одна». Временами я вымещаю злость на вещах, у меня появилась ненависть к невестке, сильная ненависть. Обычно я пассивный человек и никогда сильно не сержусь. За всю мою жизнь я никогда так не злилась, как сейчас. Даже на своих родителей я не была так сердита за то, что их у меня не было. Это очень фрустрирует. Я ведь жила с мыслью, что у меня, по крайней мере, всегда был брат... Не знаю... Он выбросился из окна в моем доме. Почему он так поступил со мной? Зачем он это со мной сделал?
Анне-Марии, естественно, кажется, что сделанное братом совершено по отношению к ней, поскольку он выбрал именно ее дом, чтобы покончить с собой. Но вместо того, чтобы позволить себе и дальше сердиться, она колеблется в проявлении этого чувства и в конце концов переходит к чувству вины: начинает обвинять себя.
Вместе с братом они пережили серьезную травму — психическую болезнь родителей. Они вдвоем вынесли очень тяжелое детство. Создается впечатление, что их выживание чуть ли не зависело от их единения. Теперь, когда он ее оставил, она, естественно, не понимает почему. По крайней мере, временно Анна-Мария ставит себя на его место. Это она подвела его, а не он. Отождествляя себя с ним, чувствуя его вину, она, возможно, сохраняет иллюзию, что не потеряет его навсегда.
В этом состоит ее сделка. Она достаточно сложна, но ее главная ценность для Анны-Марии в том, что она позволяет ей уйти от гнева, когда она чувствует необходимость этого — от гнева, который может отнять у нее брата навсегда.
Глава 8, СДЕЛКИ: САМООГРАНИЧЕНИЕ
Не всегда жизнь людей, переживших самоубийство близкого, можно уложить в четкие рамки. Далее описываются разнообразные сделки, центральная тема которых — самоограничения, «выхолащивание» своей жизни. Но сфера самоограничений в конкретных случаях различна. На свой гнев люди реагируют широким спектром ограничений своего опыта или переживаний. В способах самоограничений, избираемых для борьбы с гневом или виной, присутствует некая мучительная острота. Читатель может извлечь из дальнейших рассказов немало поучительного.
Брат Бернис умер от отравления наркотиками ровно за одиннадцать лет до нашей беседы. Когда мы встретились с ней, она работала в центре, распространявшем информацию о различных группах самопомощи. Незадолго до встречи ее психотерапевт уехал из города, оставив Бернис без необходимой поддержки. Полтора года назад она сама совершила попытку самоубийства и была госпитализирована в лечебницу, где у нее выявили биполярный аффективный психоз. Бернис положительно отнеслась к беседе, охотно рассказывая о себе. Нас поразило, насколько Бернис была отделена от своих чувств, и она согласилась с нашим мнением.
БЕРНИС: Когда умер мой брат, родители не хотели, чтобы мы обсуждали эту тему. Мне не позволили пойти на похороны, поэтому я не смогла проявить горе в полной мере. Собрав всех нас, отец сказал, что смерть Сэма является «божьим наказанием» за наши грехи.
Мой отец — настоящий, как говорят, трудоголик. Он работал не менее восемнадцати часов в сутки, включая выходные дни. Моя семья была очень религиозной, и это сыграло большую роль в том, что произошло после самоубийства Сэма. Он принимал наркотики и считался позором и проклятием семьи.
Я любила брата и, когда он умер, почувствовала себя заброшенной. После начала маниакалъно-депрессивного психоза у меня появились сильные чувства вины и подавленности. В этом состоянии я приняла большую дозу медикаментов, чтобы отравиться, но не провела никаких аналогий между моей попыткой и самоубийством брата.
Как-то психотерапевт сказал мне, что я держусь за смерть Сэма. Но самое странное в том, что я никогда не упоминала о смерти Сэма на сеансах психотерапии до тех пор, пока терапевт не собрался уезжать. У меня действительно не было никаких чувств в отношении смерти Сэма до той поры, пока он не сказал, что уезжает. И вот тогда-то возникло чувство потери. Я догадываюсь, что у меня нет связи со своими чувствами, я как бы отделена от них и они возникают самопроизвольно.
Мы спросили Бернис: работая в организации, связанной с группами самопомощи, не участвовала ли она сама в одной их них, предназначенной для лиц, переживших самоубийство близких? Это помогло бы ей открыться после одиннадцати лет отгораживания от чувств, связанных с потерей брата.
БЕРНИС: Я опасаюсь быть в группе, боюсь дать выход эмоциям в чужом окружении.
Знаете, когда я лежала в больнице, я общалась с многими больными наркоманией. До того я испытывала облегчение, что мой брат умер, я думала, что так для него лучше. Но встретив этих людей в больнице, поняла, что им можно помочь и что они, в своей сути, неплохие люди. И теперь я чувствую себя виновной в том, что испытывала облегчение от смерти Сэма.
Мы уже приводили в главе 5 мнение Шона о своей семье, в основном касаясь его чувств относительно нежелания матери попрощаться. Ниже приводится его рассказ о том, как он и его семья реагировали на частые суициды близких. Шон работает в магазине, торгующем автомобилями. Он худощав. Не так давно его предки жили в Коре, и ирландский акцент до сих пор слышится в его речи, особенно если он заговаривает о своих чувствах.
ШОН: Ну, я повидал много такого.
Если я что-то и чувствую, то прежде всего пустоту. Наверное, плохо, что я не знал отца, но вряд ли я могу винить кого-то в его смерти. Когда-то я думал, что, возможно, сам в чем-то виноват. Помню, когда был маленьким, нам доставляло удовольствие снимать семейные любительские фильмы. Мать орудовала кинокамерой, а отец старался задержать меня в кадре. Я отталкивал его локтями. Когда позже я смотрел этот фильм, то думал: «Боже мой, что я делал с отцом?» Но это было в далеком детстве.
В 1962-63 годах у меня был психоделический период, когда вместе со старшим братом мы стали приниматъ сильные наркотики. Тогда у меня не было воли и желания жить. Я думал, что если повезет, то смогу дотянуть до двадцати. В то время влияние брата было очень сильным. Я очень уважал его.
Позднее я был очень зол на отца за то, что именно он заварил всю эту кашу. После двадцати лет я часто сердился на него. Я и до сих пор считаю, что его смерть способствовала разрушению нашей семьи. Гнев был так силен, что мне было трудно называть его отцом. Часто в глубине души я чувствую по отношению к нему едкую горечь. Во многом он не был мне отцом. Конечно, он обеспечивал меня, хотя и не виделся со мной. В этом смысле я уважаю его, но все же думаю, что он мог бы сделать и еще что-то.
Я злился на мать за то, что она не обеспечила брата поддержкой. Она должна была сообразить, что я ему нужна помощь: ведь он был болен. Меня возмущало, что она не имела ни малейшего понятия о том, насколько он болен и нуждается в стабильной жизни. В том возрасте он мог бы обойтись без борьбы. Ему был нужен товарищ, тот, кто мог заменить отца. И она имела возможность повторно выйти замуж. Это, конечно, обеспечило бы определенную стабильность.
Какое-то время мы оба употребляли наркотики, однако Фрэнк втянулся в это дело сильнее меня. Это его и убило. В ту свою последнюю ночь он находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Страховая компания отказалась платить пособия. Они сочли случившееся самоубийством. Что-то весьма странное произошло и в отношениях между нами; в некотором смысле я виню себя в его смерти (не полностью, конечно. Я был уверен, что он когда-нибудь доиграется, как, впрочем, и я сам). Мы были очень близки. Тогда я встречался с девушкой, которую любил, но далеко не все было идеальным в наших отношениях. Мне кажется, что он заметил это. Защищая мои интересы, он старался вбить между ней и мной клинья, вероятно, для моей же пользы. Но мне это не нравилось. Однажды, хорошо набравшись водки, я сказал ему какуюто гадость, что именно — не помню. Он никогда не вспоминал об этом, но месяц после этого мы были уже как чужие, а еще спустя месяц он умер. Я считаю, что этот случай способствовал его смерти. Не думаю, что человеку можно сказать нечто, что убьет его, по крайней мере в буквальном смысле, но все-таки интересно: что же такое я сказал ему? Что могло так его ранить?
Как видно, Шон по меньшей мере двойственно относился к своей ответственности за смерть брата. Гнев, который он мог бы испытывать на бросившего его брата, с которым он был очень близок, по-видимому, превратился в чувство вины, вероятно, лишившее Шона некоторых потенциально продуктивных сторон его личности.
ШОН: Я думаю, что не использовал все свои потенциальные возможности. Я имею в виду, что сразу после школы у меня не было уверенности, чем заняться. Я хотел годик подождать. Но меня заставили поступить в колледж. И поэтому я тоже недоволен матерью. Три года я проучился в Фордхеме, прослушал теологию, английский — ну и что с того? В то время я думал, что хорошо бы заняться каким-то делом в сфере финансов или стать инженером. Если и в пятьдесят пять лет мне придется работать там, где сейчас, вряд ли я буду удовлетворен.
Мэй и ее муж Ральф — жертвы не одного самоубийства. Их отцы покончили с собой, когда они были детьми, их братья свели счеты с жизнью тридцать лет спустя. Мы уже встречались с ними раньше (в главе 1 Мэй описывала Рождество, когда ее отец совершил самоубийство). Теперь, в шестьдесят с небольшим, болезнь мышц приковала Мэй к инвалидной коляске. Их брак с Ральфом несомненно был счастливым, и, по-видимому, они прекрасная пара в отношении взаимной поддержки. В то же время она вспоминает о многих случаях своей жизни, когда чувства брали верх, и о ряде ситуаций, когда она отрезала себе пути к более продуктивной жизни. У Мэй недюжинное самообладание. Какое бы страдание она ни испытывала, это не отражается в ее голосе или на лице.
МЭЙ: После самоубийства отца мы больше месяца почти не видели мать. Она была в плохой физической форме, сломлена морально, и какое-то время мы жили у друзей. На похоронах два мои брата и я были вместе, а потом, не помню, как это произошло, нас разлучили, и, мне кажется, это-то и было ужасно. Наверное, братья остались вместе, а я уехала с друзьями семьи, собравшимися вскоре меня удочерить. Но мама сказала: «Нет, довольно!» — и забрала нас к себе. В прежнем доме мы прожили еще где-то полгода, а потом уехали оттуда насовсем. Мама много говорила со мной о случившемся. Эта тема обсуждалась и с братьями, конечно, не так часто, поскольку они были еще малы. Позже, подростками, мы почти не возвращались к ней. Потом старший из братьев тоже покончил с собой, и с оставшимся мы, естественно, обсуждали случившееся гораздо больше.
Моя мать прошла, очевидно, через все возможные этапы переживания вины: винила его, обвиняла себя, осуждала всех вокруг. Не помню, было ли у меня чувство вины, что в тот вечер я не осталась с отцом. Не помню, возможно, и было.
Снова и снова мама возвращалась к тому, что ей следовало бы сделать иначе, и что он сотворил с ней, и какой была их жизнь — вначале он был для нее самым лучшим человеком в мире, а потом — самым худшим. Когда она плохо говорила об отце, я начинала глухо ненавидеть ее. В душе осуждала ее. Но никогда вслух. Она была очень сильной и агрессивной женщиной. Я никогда с ней не конфронтировала и не обсуждала ее отношение к отцу.
Но между тем меня не оставляла уверенность, что в случившемся виновата именно она. Со своей стороны, сердилась и на отца: это же понятно, ведь он бросил меня. Я всегда была его любимицей, почему же он оставил меня ? И потом, почему он сделал так, что именно я нашла его?
Я не думаю, что он ушел из жизни специально, чтобы причинить мне боль. В это я не верю. И я не защищаю его. Думаю, у него были финансовые проблемы, и, кроме того, он серьезно переживал отношения с другой женщиной, которая создавала ему трудности. Он и раньше совершал попытки к самоубийству, и мы знали об этом. Мы это видели.
После случившегося я прошла через множество перемен в себе. Я стала очень религиозной. Посещала многие церкви, очень активно искала именно ту религию, которая бы удовлетворила меня. Наконец, я прекратила поиски, в основном из-за физических, трудностей, иначе я продолжала бы ходить. Ведь для меня это был поиск пути в жизни.
Отец часто снился мне и продолжает сниться до сих пор: лишь недавно я вдруг поняла то, что касалось ужасной череды снов, которые видела долгие годы — снов о том, что я нахожусь в доме со множеством дверей, и, бродя из одной комнаты в другую, боюсь чего-то. Что-то страшное находится за дверью — именно так и случилось со мной на самом деле. Но мне понадобилось очень много времени, чтобы осознать, что означает этот сон. В нем я все время открывала дверь. Прошло очень много лет — ведь мне уже шестьдесят один год — но лишь пару лет назад я все поняла.
Страхи? О да. У меня всегда было чувство, что любой мужчина, с которым я была связана, может оставить меня, и теперь я осознаю, что через какое-то время я сама начинала его отталкивать. И до сих пор, когда Ральф уходит на яхте и не приходит вовремя домой, мне кажется, что он уже не вернется. До сих пор я думаю именно так.
Как бы мне теперь хотелось пройти после случившегося курс психотерапии. Думаю, что тогда бы я была... Наверное, моя юность сложилась бы более счастливо. А так я была несчастной девчонкой. Очень одинокой. Ничего не делала, только запоем читала книги. Я полностью уходила в это, иногда я проглатывала по две или три книги в день. Думаю, что я была очень несчастливым ребенком.
Мэй говорит, что очень сердилась на отца, но тут же «поправляет» себя, отмечая, что у него были финансовые и супружеские трудности. Возможно, у него не хватило сил помочь себе. Ее несчастливое детство отчасти являлось результатом того, что она вынуждена была примирять в себе эти противоречивые чувства, прятать от посторонних глаз, хоронить свой гнев.
Некоторые сделки исправимы и открыты изменениям. Они, по-видимому, не доставляют особых хлопот близким самоубийц. Но и эти «удачливые» на первый взгляд люди тем не менее идут на жертвы в своей жизни, чтобы превозмочь гнев.
Ванда, семейный психотерапевт лет тридцати, во время наших бесед достаточно открыто выражала свои чувства. От нее исходила жизненная энергия, и чувствовалось, что ее эмоции все на поверхности. Казалось, что она в значительной степени контролирует свои чувства, говоря о самоубийстве. Тем не менее она свидетельствовала, что в ряде жизненных ситуаций она не могла поступать так, как ей того хотелось. На суицид своего отца она все-таки ответила одной-двумя сделками.
ВАНДА: Стоял август — год и четыре месяца тому назад. И до сих пор случившееся для меня не совсем реально. Отцу было семьдесят лет. Он жил один, но у него была заботливая подруга (у этой пожилой пары были хорошие отношения). Каждый имел свой собственный дом, но они находились близко друг от друга. Я была самой младшей в семье, любимой дочерью, и он всегда трогательно заботился обо мне. У нас были достаточно близкие отношения, однако в них не было места тем доверительным разговорам, какие он вел со старшим братом.
В то время случилось сразу несколько семейных потрясений: умер его старший брат, что явилось для него тяжелым ударом. В тот же самый день ему сделали операцию на сердце. Он всегда был очень активным, деятельным человеком, увлекался теннисом, и для него эта операция была тяжелой прежде всего морально. Кроме того, одна женщина больше года досаждала отцу, настаивая, чтобы он продал ей дом. Отец один жил в нем. Но до этого вся наша семья жила там больше трети века. Отец был очень доброжелательным человеком, сказал ей, что назначит за дом низкую цену. Он не хотел продавать сразу, однако она настаивала и, думаю, она буквально водила отца за руку, заставляя подписать документы. Все родственники советовали ему избавиться от дома, кроме меня, как он сказал во время нашего последнего разговора. Так или иначе, как-то утром перед работой я позвонила ему (мы давно не говорили по телефону) и по голосу поняла, что он очень напряжен и подавлен. Он сказал: «Я продал ей дом, но теперь намерен расторгнуть контракт. Хотя я не знаю, что мне делать, ведь она не соглашается. Мне просто хочется наложить на себя руки». Это звучало странно и было совсем на него не похоже. Нечего и говорить, что, чуть не упав со стула от потрясения, я сразу позвонила брату. В нашей семье было принято недооценивать серьезность происходящего. Брат поговорил с отцом, потом я снова перезвонила брату и он принялся отрицать, что дела у отца обстоят так уж плохо. Я, в свою очередь, подумала, что это просто глупо — решиться на такое!
Тем не менее, в тот вечер я вновь поговорила с отцом, напомнив ему о его словах, что он хочет покончить с собой, и сказав: «Папочка, я не хочу, чтобы ты уходил от меня». Он ответил: «Ну, хорошо, я не сделаю это только ради тебя». Потом он сказал: «Я не хочу переезжать». И я ответила: «Я тебя хорошо понимаю и не виню, ты ведь так долго прожил в этом доме». Я помню до сих пор — ведь это оказался наш последний разговор — он сказал: «Ты единственная, кто меня понимает».
Потом я поговорила с дядей, не стоит ли мне приехать домой, но не приехала. Ну почему же я не сделала этого, если знала, что отец в беде? Я могла бы что-то предпринять, и, даже если это было бы безуспешным, я по крайней мере знала бы, что сделала все от меня зависящее. Теперь же мне придется жить с этой мыслью, с этим вопросом, нависшим надо мной. На следующий день мне позвонили, что отец покончил с собой. Он задохнулся в машине. Его нашел мой старший брат. Думаю, что отец не спал всю ночь — наступил день, когда он окончательно должен был покинуть дом, но не сделал этого. Он был загнан в угол и не знал, что делать. Он не имел сил выехать, а эта сука не соглашалась освободить его от обязательств.
Долгое время я ужасно сердилась на отца. Помню вечер того дня, когда это случилось. Пришли мои друзья, и я от гнева чуть не пробила кулаком насквозь стену ванной комнаты. Я в самом деле едва не сделала это. Помню, как я остервенело била изо всех сил в стену. Я была в неслыханной ярости на него за то, что он не подождал.
Моя злость на него длилась не более двух месяцев. Но и сегодня у меня все еще остается глубоко скрытый (от себя) гнев на старшего брата. Он был самым близким для отца человеком и, очевидно, мог бы поступить иначе, чем действовал. Я не говорила ему об этом и, наверное, никогда не скажу. Ведь позже я узнала, что отец подавал много предостерегающих сигналов, которые брат не принимал всерьез. Отец говорил ему: «Если бы у меня было ружье, я бы застрелился». Я этого не знала.
Со времени самоубийства отца меня тревожит мысль, что в семье кто-то еще может совершить подобное. Во мне до сих пор сидит эта тревога, усиливающаяся, когда кто-то чрезмерно расстраивается из-за происходящего, например брат.
Сделки Ванды являются незначительными: она выбрала «козла отпущения» («суку», которая хотела купить отцовский дом), и она продолжает скрывать сохраняющийся, не очень значительный, гнев и чувство вины в отношении членов своей семьи, включая умершего отца. Короче говоря, она отграничивает, «отрезает» себя от ряда своих чувств, чтобы продолжать повседневную жизнь. В целом же ее сделки производят впечатление скорее позитивных, чем негативных.
Но иногда человек, переживший самоубийство близкого, совершенно явно давит в себе или отгораживается от тех эмоций, которые могли бы сделать его жизнь более естественной и спокойной. Барбара, женщина лет пятидесяти, разведенная, жалующаяся на свое здоровье и воспитывающая трех детей-подростков, осознает эту сделку в своей жизни и чувства, которым нет выхода.
Но ей очень трудно измениться; самоубийство отца оставило ее наедине с очень травматичными дилеммами. Из-за почти беспрерывного курения Барбара говорит охрипшим голосом. Она строит длинные предложения, соединяя их звуками «э-э-э». Во время разговора она редко смотрит на собеседников, и создается впечатление, что, говоря о настоящем, она все время уплывает в прошлое.
БАРБАРА: Моя мать умерла в 1968-м, а Эми, моя дочь, родилась в 1969-м. Потом, в 1970-м, родился второй ребенок, и, кажется, спустя четыре месяца после его рождения мой отец совершил самоубийство. У меня есть еще третий ребенок, который родился в 1972-м. И вот что лежит в основе всех моих чувств: я очень зла на отца.
Ему было около шестидесяти четырех, он выглядел очень подавленным, был замкнут и скрытен. Он был очень близок духовно с моей матерью, поэтому, когда она умерла, мы понимали, что он потерял то, что связывало его с реальностью. Для него просто не имело смысла продолжать жить.
Я очень злилась тогда. И продолжаю сердиться сейчас. Все происходило не так, как хотелось: дети у меня появились после сорока, к тому времени почти все родственники умерли, и у них никогда не было близких. Я была просто в ярости на него. Думаю, что поступок отца сильно испугал брата — он испытывал немало сложных переживаний, связанных со случившимся, которые не проработал, поскольку не хотел ни с кем о них разговаривать. Он стал подавленным, затем от всего отрешился. С ним стало трудно общаться, и мы боялись, что он становится похожим на отца. Его жена серьезно беспокоилась из-за этого поведения. Она часто говорила об этом со мной, и я, в свою очередь, навещала его, стремясь разговорить, но так и не смогла до него достучаться. Вскоре он умер. У него внезапно развилась опухоль мозга.
У меня было очень сильное чувство гнева, и я использовала его, чтобы отгородиться от остальных эмоций. Тогда же я осознала это и подумала, что, может, это и хорошо, ведь мне нужно еще воспитывать детей. В то время у меня не ладились отношения с мужем, я не исключала, что наш брак может распасться и мне придется детей воспитывать одной. Поэтому тогда я чувствовала, что не могу позволить себе, в некотором смысле, роскошь проявить другие эмоции. Потому-то я и использовала гнев, давала ему свободу выхода, временами почти неограниченную, и, мне кажется, эффективно подавляла остальные переживания.
Какие же чувства она не признавала?
Ну, наверное, чувство потери! Для себя.
Все было бы иначе, если бы у меня не было детей и не требовалось исполнять ту роль, которую я тогда играла. На самом деле, я была совсем одна. И вся моя жизнь состояла только из физических действий. Заботясь о детях, я очень уставала. И мне кажется, первые семь лет у меня не было ни минуты даже подумать о своих чувствах.
Барбара производит впечатление очень умной женщины. Она осознает, что «запечатала» от себя собственные чувства, и понимает, что не позволила себе переживать потерю или испытывать гнев «от своего лица». Она испытывала их только «ради своих детей». Но она, по-видимому, не представляет, какой ценой удерживает все это внутри. Она мучается физически и страдает эмоционально. И замужем она оставалась дольше, чем стоило (по ее же словам), не осознавая гнева, которого заслуживал ее супруг. Она полагает, что сохранять равновесие в семье было бы еще труднее, позволь она себе испытать все свои чувства. Казалось бы, осознавая сделку, она почти целиком игнорирует ее последствия.
Очевидно, что у меня появятся другие чувства, когда дети вырастут и я смогу уделить себе время. А пока мне нужно поддерживать эту карусель. Если бы я была совсем одна, все выглядело бы гораздо сложнее.
На самом же деле Барбара сделала ситуацию не менее, а более сложной, «отрезав» от себя свои чувства и настаивая на необходимости этого непростого действия по установлению душевного равновесия. Она и сама подозревает, что со сделкой не все в порядке.
Я знакома с одной учительницей, очень организованной женщиной, приверженной суровой дисциплине, дочь которой покончила с собой. Этим поступком вся ее организация была напрочь сломлена, и она не смогла продолжать жить как раньше. В этом есть кое-что поучительное для меня. Человек, который был дисциплинирован всю жизнь, сломался от одного несомненно трагического случая. Она полностью погрузилась в свое горе, настолько, что не может ни на чем сосредоточиться или собраться. Я имею в виду, как же мне удалось отставить в сторону все свои чувства, когда дело касалось моего отца? Что произошло с моим горем?
Глава 9, СДЕЛКИ: ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ
ПОЧЕМУ?
САРА: Я все-таки хочу узнать, почему она покончила с собой?
ФРЭНК: Финал один. Она просто умерла.
САРА: Но почему именно тогда? В ту ночь. Я хочу это знать!
Почему? Это часто первое слово, звучащее из уст близких самоубийцы. Оно может оставаться с ними долгие годы, часто навсегда. Его можно услышать с момента случившегося суицида: «Почему он это сделал?», «Зачем она меня оставила?», «Что заставило его подумать, что нам все равно?», «Почему, почему, почему?» Это естественная, но бесконечно фрустрирующая задача. Естественная, потому что близкие нуждаются в своего рода успокоении, в действенном способе, позволяющем исключить возможность того, что именно они явились причиной самоубийства. Фрустрирующая, поскольку лишь умерший человек имеет ключ к настоящей причине совершенного им. Все остальное — это только допущения, догадки, самообвинения или осуждение других. И все же большинство близких самоубийц вновь и вновь перебирают различные возможности.
Почему? — этот вопрос задают не только родственники самоубийц. Психологи, психиатры, социальные работники, облеченные властью ответственные лица, представители общественности — все они спрашивают: почему? Множество книг и статей, диссертаций и монографий было написано о том, почему люди совершают самоубийство или почему они решаются на суицидальные попытки.
Можно дать вполне определенные ответы: депрессия, маниакально-депрессивный психоз (биполярное аффективное расстройство), психологический стресс, враждебность к члену семьи, агрессия по отношению к себе, шизофрения, старость, алкоголизм и т.п.
И все же, судя по бесконечным повторениям этого вопроса близкими самоубийц — многие из которых слышали или читали о причинах суицидов — эти «ответы» не удовлетворяют их. Человек может понимать: «У моей сестры была депрессия», но при этом упорно повторяет: «Почему она сделала это?» Другой утвердительно заявляет: «Папа был зол на весь мир», но остается в недоумении: «Я не понимаю». Семья может прекрасно осознавать: «Мы были враждебно настроены друг к другу», не прекращая в то же время спрашивать: «Почему? В чем же действительная причина?»
Отчасти это происходит в силу того, что вопрос «Почему?» можно перефразировать иначе: «Что сделало жизнь любимого мною человека столь невыносимой? Был ли я хоть частично в ответе за это? Что мог я предпринять, чтобы сделать его хоть немного счастливее? Способен ли я был удержать его от смерти?» Короче говоря, вопрос «Почему?» может быть концентрированным выражением чувства вины.
Мария, чей брат покончил с собой за три месяца до нашей встречи с ней, относится к людям, для которых вопрос «Почему?» является особенно важным. Она неутомима в поисках причин его смерти.
Я читаю книги, хожу по книжным магазинам. Я читаю все, даже учебники, все, что только могу, постоянно спрашивая себя: «Зачем я это делаю? Он умер. Чего же я ищу?»
Люди, пережившие самоубийство близких и тратящие нескончаемые часы на поиски ответа, могут вполне искренно спрашивать: «Почему он это сделал?» Но они же порой избегают обсуждения переживания вины и гнева, видимо подсознательно понимая, что это усилит их отрицательные чувства. Поиски, предпринимаемые Марией, на самом деле могут быть поисками способа отменить то, что случилось. Однако, к сожалению, это невозможно. Поэтому она упирается в вопрос «Почему?».
Существуют люди, для которых вопрос «Почему?» остается актуальным навсегда. Они используют любые средства и ищут ответ где только возможно. Неотступно, фанатично, бесконечно тратят гигантские усилия, стремясь разгадать тайну. Был ли совершенный поступок связан с биохимией? С генетикой? Имел ли на то муж (жена, сын, отец, племянница) основания? Какие? Можно ли их выяснить? Была ли оставлена записка? Есть ли в ней объяснения? Проблема бесконечного поиска ответа на вопрос «Почему?» заключается прежде всего в том, что он занимает неадекватно много времени. Становясь основным делом жизни, он мешает развитию иных значимых взаимоотношений и препятствует дальнейшей продуктивной жизни.
Естественно, желание выяснить, был ли специфический пусковой момент — то, что привело к окончательному решению совершить самоубийство — не противоречит здравому смыслу. Правомерно спрашивать, заставило ли человека умереть скрытое разочарование или какое-либо непреодолимое препятствие. Вполне приемлемо даже представить себе (хотя это и может фрустрировать), какая именно личная катастрофа привела человека к самоубийству. Но неразумно и болезненно продолжать эти изыскания всю оставшуюся жизнь, ставя вопрос «Почему?» во главу угла, неся его и связанный с ним поиск впереди себя, как миноискатель.
Человек, который неотступно ищет ответ на вопрос «Почему?», по-видимому, не желает признать, что, возможно, не было никакой рациональной причины суицида. И поиск помогает ему скрыть свой страх, чувства вины или стыда. Поиск причин, превращаясь во всепоглощающую страсть, становится укрытием, но таким, которое обрекает жизнь человека на фрустрирующие и бесплодные искания.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Часто из-за суицида разрушаются семьи. И очень жаль, что это именно так. Как раз тогда, когда люди особенно нужны друг другу, удар, нанесенный случившимся, убивает большую часть любви и уважения, которые они испытывали, заменяя их горечью и гневом. В наших беседах мы неоднократно слышали об обвинениях, о гневе, разводах, требованиях возмещения убытков. Анна-Мария, брат которой покончил с собой у нее в доме, считает, что воссоединение с невесткой и племянницей, которую она очень любит, почти невозможно.
АННА-МАРИЯ: Она больше со мной не разговаривает. Я потеряла свою племянницу. Я жду, кажется, подходящего момента, чтобы возобновить отношения с ними. Но неужели меня оттолкнет даже ребенок? Что такого она ей сказала? Ведь всегда приходится стоять на чьей-то стороне. Я приняла сторону дяди в денежных вonросах. А почему? Из-за любви. Он помог мне окончить колледж; забрал брата из детского дома, воспитал его, помог стать юристом. Любил его. И вдобавок к этому, он ходит к матери в больницу уже сорок три года.
Ну скажите мне, какое она имеет право ставить меня в такое положение? Она ведь всех обвиняет.
Но когда разрушаются прежние взаимоотношения, бывает очень трудно создать новые.
ВАНДА: Я обнаружила, что не могу заводить новых отношений с людьми. Перед смертью отца я начала встречаться с одним человеком. После случившегося он неоднократно старался возобновить отношения. Но я не могла сойтись с ним ближе, прощаясь с отцом.
МЭЙ: Я считаю, что меня никогда не покидало чувство, что любой мужчина, с которым я нахожусь в близких отношениях, оставит меня, и я сознаю, что через определенное время сама начинала его отталкивать.
САРА: У меня есть серьезные трудности в установлении взаимоотношений с другими... подругами, например. Я настроена очень скептически к другим людям. Я полагала, что хорошо знаю свою мать, но так и не смогла понять, что она собирается свести счеты с жизнью тем вечером, когда она это сделала. Что же я могу тогда знать о совершенно постороннем человеке?
При ближайшем рассмотрении некоторые рассогласования и трудности в семейных отношениях оказываются ничем иным, как сделками людей, переживших самоубийство близких. Суицид в своей сути является ультимативным отвержением, и нередко в последующем, чтобы нас вновь не отвергли, мы сами спешим отвергнуть другого человека. Это весьма невыгодная сделка для человека, потому что она завершается тем, что мы в конце концов остаемся одни — в любом случае чувствуя себя отвергнутыми.
Но сделка может иметь еще худшее влияние, чем просто ограничение новых взаимоотношений, которое вводится для контроля над возможным отвержением. Есть мужья и жены, которые после самоубийства супруга выбирают нового партнера с явно нездоровыми личностными качествами: злоупотребляющего алкоголем, избивающего жену или даже еще одного самоубийцу. С детьми дело может обстоять еще серьезнее. Если отец или мать насильственно покидают их вследствие самоубийства, то как, вырастая, они могут вновь научиться доверять близким? Они полагают, что лучше отвергнуть всех: тогда меньше риск, что отвергнут их. Становясь взрослыми, они снова и снова обрывают значимые взаимоотношения, которые могли быть полезными и целительными, поскольку их так и не научили доверять людям.
Существуют и такие люди, для которых неспособность устанавливать новые взаимоотношения связана не со сделкой, а с всепоглощающим характером скорби и горя. Они кажутся просто физически оглушенными самоубийством своих сыновей, дочерей, близких друзей или братьев. Их тела прежде времени сгибаются не от старости, а от горя. Многие из них страдают телесными заболеваниями. Они говорят тихим, приглушенным голосом, безутешно рыдают, каждый раз вновь творя заупокойную службу по умершему и повторяя одни и те же факты без каких-либо перемен изо дня в день. Они оказываются убиты, заморожены, поглощены своей скорбью. Порой кажется невозможным, чтобы они нашли новые созидательные взаимоотношения в своей жизни.
КОНТРОЛЬ
Когда умирает родитель, дети часто становятся совершенно беспомощными, неспособными отразить удары, которые судьба может нанести им в будущем. Парадоксально, но одновременно с этим они могут чувствовать, что были инициаторами смерти (подробнее об этом мы поговорим в главе 16).
Одним из результатов этого переживания является стремление детей чрезмерно контролировать свою жизнь и чувства, так, будто они могут противостоять случившемуся несчастью после того, как оно произошло. Дэйв, которому ко времени самоубийства матери было девять лет, может быть неплохим примером. С того момента он удивительно преуспел сначала в контроле своих чувств, а затем и поведения в целом.
Когда мы встретились с ним, ему было уже двадцать пять. Он успел потратить на удивление много энергии, изучая механику и электронику — предметы, позволяющие ему «контролировать» и «налаживать» окружающий мир — и мы, естественно, обратили внимание, как часто в беседе Дэйв подчеркивал необходимость контроля, описывая свои чувства после случившегося. Но, конечно, никто не может «наладить» или отменить смерть его матери.
ДЭЙВ: Моя мать покончила с собой, отравившись выхлопными газами автомобиля. Она вышла, припарковала машину, прикрепила к выхлопной трубе шланг, конец которого завела через окно в салон. Мне кажется, я узнал, как она покончила с собой, на следующий день. Помню, я думал: что скажут мне люди, что я отвечу им.
В течение следующих нескольких недель я много времени проводил в одиночестве. Друзья никогда не затрагивали эту тему. Они боялись говорить о случившемся. В свою очередь, я почти не говорил об этом с братом и сестрой. Когда им хотелось чем-то поделиться, я сидел и слушал, не сообщая никакой информации и не задавая вопросов.
Я как бы выдавливал из себя эмоции по каплям, мало плакал, позволяя себе думать о том, что чувствую, понемногу. Я разрешал себе думать об этом маленькими порциями, ровно такими, чтобы суметь справиться. Одно чувство я очень хорошо запомнил: это та боль, которую причиняли мне открытки с соболезнованиями, посланные нам, естественно, с самыми наилучшими намерениями. Я совершенно не хотел думать о случившемся. Когда в школе мои учителя и одноклассники вручили такую открытку, мне показалось это совсем ненужной тратой времени и усилий.
Я бы сказал, что у меня была депрессия, но большая часть чувств проявилась лишь три года спустя; именно тогда мне стало ее особенно не хватать, я стал думать, насколько разными были летние каникулы до ее смерти и после, о том, что вот я катаюсь на лыжах, а ее рядом нет.
Порой мне кажется, что я в чем-то являюсь уникальным человеком, например в том, как я справился с ситуацией, выдавливая из себя чувства по каплям.
Дэйв сейчас работает управляющим большого жилого комплекса. Его отец был учителем физики, мать работала с психически больными детьми. Сделка Дэйва ограничивает его в сфере интеллектуальных способностей, чувств и в значительной части его личностного потенциала. В своих усилиях контролировать свою жизнь он утратил ряд ее ценных возможностей.
СПАСЕНИЕ МИРА
Он никогда не чувствовал, что достиг многого. Каждый день для него был символом очередной неудачи.
Джереми, преуспевающий физик-экспериментатор, говорит о своем отце, юристе, нажившем довольно большое состояние в двадцатые-тридцатые годы, практикуя сначала в области уголовного, а затем — гражданского права. Ко времени самоубийства матери Джереми в конце тридцатых, отец уже был владельцем дома с шестью спальнями, построенного на участке в семь акров в фешенебельном районе города, а также владельцем большой юридической конторы. Однако после самоубийства все изменилось.
ДЖЕРЕМИ: Вначале он выглядел просто подавленным. Потом однажды в субботу (он обычно работал по выходным) он сказал, что оставляет юридическую практику. Мы удивились, потому что считали, что он является специалистом высокого класса, и не могли понять, зачем ему менять работу. Конечно, мне было только семь лет, а сестре девять, поэтому, естественно, такие вещи нас не очень заботили.
Вскоре он стал работать в организации, специализирующейся на разработке изменений законодательства, касающегося несовершеннолетних правонарушителей. Спустя много лет я узнал, что за первый год работы ему уплатили только один доллар. И тем не менее для него было важно выполнять именно эту работу! Их деятельность состояла в том, чтобы изучать, как обращаются с делинквентными подростками и затем устанавливать, нет ли в этом связи с уровнем преступности среди взрослых. У папы была сумасшедшая идея, что можно ликвидировать преступность, обнаружив причину, заставляющую подростков становиться правонарушителями, а затем изменить соответствующие законы (если дело было в них) или ликвидировать способствующие этому социальные факторы (если причиной были они).
У него не хватало ни времени, чтобы побыть с нами, ни денег на покупки для семьи. Он всегда был в офисе, стремясь спасти малолетних преступников. Теперь, конечно, у меня к этому двойственное отношение. С одной стороны, я вижу добро, которое он творил, например, разработав закон, в соответствии с которым детей до шестнадцати лет не разрешалось помещать в тюрьму вместе со взрослыми преступниками. Но в то время я был зол на него, ведь он совсем не уделял нам времени.
Его отношение к окружающему миру было достаточно странным. Помню, когда я учился в выпускном классе школы, у меня появилась возможность подать заявление на работу, выполняя которую можно было съездить в Европу. Это казалось очень заманчивой перспективой, и я стремился к ней изо всех сил. Но однажды отец, отведя меня в сторону, сказал: «Не слишком-то надейся. Знаешь, мир не всегда вознаграждает тех, кто этого заслуживает». Я возразил, что, по-моему, все равно имеет смысл подать заявление. В ответ он только покачал головой, как бы говоря: «Насколько глупа молодежь». А вслух сказал: «Я лишь хочу, чтобы ты был готов к худшему».
У меня также было отчетливое впечатление, что он никогда не бывал удовлетворен своими делами. Каждый раз, когда ему удавалось провести новый закон или привлечь общественное мнение к проблеме делинквентного поведения подростков, он недооценивал себя и свой вклад. Всего этого, казалось, было недостаточно. Наконец, через десять лет он оставил и эту деятельность.
Затем он стал работать в организации, связанной с гражданским правом, и собирался искоренить расизм в Америке. Мне кажется, он действительно верил в это. И тем не менее, он никогда не считал, что в чем-то достиг успеха, даже когда оспорил дело в Верховном Суде — и выиграл!
Вдобавок, он еще и начал пить. Много. Думаю, что у него был алкоголизм. Помню, как я пытался поговорить с ним об этом. Он был разъярен на меня. Сказал, чтобы я не совался не в свое дело. Но все-таки было видно, что он не удовлетворен своей жизнью. И при этом самое странное состояло в том, что все, что он делал, у него чертовски хорошо получалось! Однако ему всегда казалось, что он сделал далеко не все.
Конечно, со своей точки зрения, отец Джереми недооценивал себя. Его целью было возместить, компенсировать смерть жены. Он не смог удержать ее от самоубийства, поэтому он решил изменить мир. Во всяком случае, он думал, что в состоянии сделать это.
Приведенный случай не является единственным. Альберт Кэин и Айрин Фаст, психологи, занимавшиеся исследованиями психологических реакций лиц, переживших самоубийство своих близких, выявили, что в группе супругов, чьи мужья или жены покончили с собой, чувство отверженности, вызванное решением умершего человека оставить их и мир в целом, иррациональное чувство вины, испытываемое супругом, оставшимся в живых, молчание, нависающее над самоубийством, отсутствие поддержки или даже обвинения со стороны друзей и родственников — все эти феномены ведут к появлению целого ряда личностных проблем, среди которых наблюдается и стереотип «спасителя мира». Эти исследователи подчеркивают, что такой человек как будто стремится компенсировать смерть супруга такими достижениями, как реализация грандиозных экономических программ, открытие способов лечения рака, обнаружение исключительных путей в сфере религиозного опыта, создание вакцин против психических болезней, изготовление продуктов питания из особых веществ, способных накормить все человечество, и тому подобное... Эта деятельность, все более расширяющаяся, в конце концов, становится единственным стремлением в жизни, почти фанатическим, она наносит вред другим интересам и видам деятельности человека, выполнению им обязанностей и его профессиональной репутации.
Эти цели превращаются в недостижимые фантазии, которые способны только разочаровать человека, сделав его или ее мир болезненно пустым и бессмысленным.
Менее глобальный характер, но близкий к фантазиям о спасении мира, носит описанное Кэин и Фаст вступление после самоубийства супруга в повторный брак с хронически больными людьми и инвалидами, чем предпринимается очевидная попытка сыграть роль «спасителя» или любящего спутника жизни. Оставшийся в живых муж или жена стремятся принести в жертву свое счастье, пытаясь показать, какие они «хорошие», и «облегчить» несчастье другого человека, чтобы «исправить» вред, нанесенный человеку, совершившему самоубийство.
ДЖЕРЕМИ: Третий брак моего отца, длившийся семь лет, был с женщиной, которая страдала наркоманией. Мы неоднократно спрашивали его, почему он не разведется, ведь между ними нет ничего общего. Но он упорно твердил: «Мне жаль ее. Я подожду, пока она встанет на ноги, и тогда расстанусь с ней». Но тем временем его пьянство усиливалось, как и ее злоупотребление наркотиками.
Иногда потребность заключить брак с человеком, в котором супруг самоубийцы может проявить всю свою «добродетель», возникает не только от испытываемого чувства вины, но и в силу дополнительного груза — будто и так недостаточно — возложенного близкими и родственниками, утверждающими, что он «довел» супругу до самоубийства. Это предвзятое мнение окружающих долгим эхом слышится на протяжении всей жизни близких самоубийцы, накладываясь на собственное чувство вины, с которым они и без того живут, молчание, которое они навязывают себе и другим, и так и не разрешившийся процесс горя. Мало того, что человек потерял мужа или жену, ему еще приходится выносить обвинения родственников или соседей в случившемся. И все же такое нередко происходит.
СЕКСУАЛЬНОЕ НЕУДОВЛЕТВОРЕНИЕ
Что можно сказать о сексуальной активности среди лиц, переживших самоубийство своего близкого? Видимо, лишь то, что у них отмечается тенденция к ее «захоронению», наряду с другими чувствами и видами деятельности.
Лори была пышущей здоровьем женщиной двадцати с небольшим лет, когда ее отец внезапно заболел раком. По мере прогрессирования болезни становилось ясно, что она неизлечима. После семейного совета с женой и старшими детьми («Они считали, что я слишком молода») отец принял большую дозу снотворного. Это «рациональное самоубийство» было признано семьей и близкими друзьями необходимым, но Лори оказалась сражена им: «Как он мог так бросить меня?» После случившегося она впала в депрессию, ее гнев обратился внутрь. После сеансов психотерапии и участия в группе самопомощи она возвратилась к работе, внешне выздоровевшей. «Но я умерла сексуально. Даже тот мужчина, с которым я встречалась, больше не привлекал меня. Никто больше меня не интересовал». Естественно, депрессия вскоре вернулась.
Сделка, заключенная Лори, позволила ей продолжать жить, но она лишила себя сексуального удовольствия, которое раньше было частью ее личности.
ТИМОТИ: По-моему, нет такого человека в мире, которого я мог бы полюбить. Когда я знакомлюсь с женщиной, она мне кажется совершенством. Мы встречаемся несколько раз, в сексуальном плане все чудесно, а потом я внезапно теряю к ней интерес.
Это явление нельзя назвать необычным, если говорить о некоторых юношах, только становящихся взрослыми. Но Тимоти уже за тридцать и описанная ситуация повторяется множество раз в течение длительного времени. Его сестра покончила с собой, когда ей было девятнадцать, а Тимоти четырнадцать лет.
Мы не были слишком близки из-за естественной разницы в возрасте. Она уже начала встречаться с парнями, когда я был еще в начальных классах школы. Когда я перешел в среднюю школу, сестра поступила в колледж. И тогда она внезапно покончила с собой. Никто не знал, почему она сделала это. Родители не могли или не хотели говорить об этом. У меня в школе случались сильные вспышки ярости, и меня часто за это наказывали. Временами мне ее не хватало. Хотя мы и не были близки, но любили друг друга. Как-то она пообещала пойти со мной на двойное свидание, когда я поступлю в колледж.
Тимоти хорошо учился в колледже, потом специализировался в экономике и сразу после выпуска получил престижную работу на Уолл-Стрит. Внешне он высокий и интересный мужчина, какие обычно привлекают противоположный пол.
Не в этом дело. Я нравился многим женщинам, но мне так и не удалось найти ту, в которую я мог бы влюбиться, и после двух-трех встреч я становился импотентом... это было ужасно стыдно. Каждый раз все начиналось необыкновенно, мы чудесно проводили, время, а потом у меня вдруг исчезали все сексуальные чувства. Наверное, я встречался с сотней девушек — и со всеми разорвал отношения.
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Сами по себе болезни не обязательно являются сделками, но нередко составляют их важную часть. Люди, пережившие самоубийство близких, выявляют самый разнообразный спектр медицинских проблем. Многие исследователи находили у них алкоголизм, наркоманию, психосоматические расстройства. Нам рассказывали о головных болях, желудочно-кишечных нарушениях, сердечных приступах и многом другом. Некоторые психологи полагают, что люди реагируют таким образом не только на смерть любимого человека, но и на свое чувство вины. Телесные и психические заболевания становятся способом самонаказания за смерть близкого или отождествления с ним. Если человек испытывает очень сильный гнев, он может наказание обратить на себя.
Многие из этих людей остро осознают, что их здоровье расстроилось в результате самоубийства близкого человека. Примерами этого являются Эрик и Аллен (глава 6). Но даже они не понимают, что их инвалидизирующее заболевание обусловлено гневом, который они не в силах осознать. Тело реагирует на подавленные эмоции, даже если о них не догадывается сознание.
Проведенные нами беседы оставляют мало сомнений, что неблагоприятные реакции организма людей, переживших самоубийство близких, являются частью сделки, заключенной с жизнью.
Глава 10, САМАЯ ПЕЧАЛЬНАЯ СДЕЛКА: «ТЫ УМЕР, ЗНАЧИТ УМРУ И Я»
Те, кто остаются в живых, переживают тройную потерю: смерть близкого, отвержение и утрату иллюзий... самоубийство крадет у человека чувство своего достоинства, ценности и уникальности. Все эти обстоятельства усиливают у скорбящего потенциал враждебности, и опасность того, что он может обратить ее на единственно доступную или наиболее подходящую цель — на себя.
Эрих Линдеманн и Ина Мэй Гринер, «Мне хочется покончить с собой»Почти не существует людей, переживших самоубийство своих близких и избежавших подобных мыслей и чувств. В каком-то смысле они являются худшим кошмаром этих людей. Смерть любимого человека заставляет близкого чувствовать себя никчемным и вызывает страх, что он, в свою очередь, тоже может совершить самоубийство. Факты подтверждают, что многие так и поступают. Это является самой печальной из сделок.
Существуют статистические данные, что частота суицидов среди близких самоубийц на 80-300% выше, чем в среднем по населению. Наши изыскания показали, что примерно в одной трети семей, с которыми мы говорили, было более одного самоубийства в разных поколениях. Если за самоубийством члена семьи следуют мигрени, алкоголизм, желудочные заболевания и различные психологические проблемы, то же самое можно сказать и о самом суициде.
Достаточно ясно, что иногда встречается своеобразный суицидальный стереотип в семьях, но не совсем понятно, каким образом можно прогнозировать, кто именно из близких последует печальному примеру, став истинной жертвой умершего человека, а кто не сделает этого. Вероятно, каждый такой случай имеет особенности и у каждого человека на то есть свои причины. Для одного умершая являлась кумиром и он стремится последовать за ней; другой без отца, которого он и при жизни-то недостаточно знал, чувствует себя растерянным и подавленным; иной наказывает себя; кто-то еще страдает тем же заболеванием; и так далее. Если бы только мы могли поговорить с этим человеком и спросить его: «Почему вы решили во что бы то ни стало стать жертвой самоубийства другого человека?»
Разнообразные факторы могут подталкивать к самоубийству, но у нас так и нет достоверных сведений, какой из них является решающим. Страдал ли родственник, подобно самому самоубийце, биполярным аффективным расстройством? Снабдило ли самоубийство сестры остальных членов семьи своего рода «разрешением» поступить аналогичным образом? (Пользующийся авторитетом человек отважился покончить с собой; теперь это могут сделать и другие.) Если нам доступно избавляться от гнева на умершего человека, находя козлов отпущения, то мы можем также обратить гнев и на себя. И действительно, многие специалисты полагают, что близкий самоубийцы постоянно изменяет направление гнева и враждебности, испытываемых к умершему человеку, обращая их на себя. Вина, депрессия — и суицид — могут часто являться звеньями одной цепи. Мы можем даже создать идеальный образ умершего человека, отождествить себя с ним и захотеть быть во всем на него похожими, вплоть до самого самоубийства.
Дочь Руфи, Бесс, оставила после себя записку, очень похожую по форме и содержанию на ту, которая была написана ее тетей, ушедшей из жизни двенадцать лет назад.
РУФЬ: Она была близка с тетей больше, чем нам казалось. После того, как моя невестка умерла, мы попросили Бесс приехать, чтобы помочь брату с детьми поскорее закончить домашние дела, связанные с их выездом. Мы с ней готовили еду. Он хотел сразу избавиться от ее одежды, и Бесс помогала мне разбирать ее вещи. Тогда она и прочитала записку. Позже мы узнали, что Бесс переписала текст для себя, и впоследствии я нашла несомненное сходство между предсмертными записками Бесс и ее тети. Это событие настолько впечатлило ее, что в сочинении во время вступительных экзаменов в колледж она писала о том, чему ее научило самоубийство тети.
По мнению матери, оно научило Бесс считать суицид правомерной альтернативой, и в беседе с нами Руфь выражала сожаление, что допустила это.
Это рикошетом ударило по нам. Я отнеслась к смерти невестки с пониманием — она болела шизофренией — и старалась хорошо объяснить, что из этого следует, в частности, то, что каждый имеет право на подобный поступок. Естественно, когда Бесс впервые предприняла суицидальную попытку, я сказала: «Теоретически все это так, но не для тебя, и, поскольку ты мое дитя, я сделаю все, что в моих силах, чтобы удержать тебя в живых». Но самоубийство уже было узаконено. Она видела, что другой человек его совершил. Она прочла о суициде все, что было возможно. Она была одержима этой идеей.
Утром того дня, когда Руфь беседовала с нами, ей позвонила сестра из Калифорнии. Шестнадцатилетняя племянница Руфи в тот день пыталась покончить с собой.
Ральф — муж Мэй, ему шестьдесят лет. Его отец застрелился, когда сыну было три года. Спустя сорок лет брат Ральфа также покончил с собой.
РАЛЬФ: Мой брат был врачом. В колледже он считался своего рода баловнем судьбы: второй по успеваемости в классе по инженерной специальности, подполковник ведомства подготовки офицеров резерва, председатель — словом, «большая шишка». У него была блестящая армейская карьера, а потом он решил стать врачом, переехал на запад США. Думаю, что медицинская практика продвигалась не так быстро, как он надеялся, и, кажется, имея слишком высокие запросы, он стал снимать возникавшее эмоциональное напряжение медикаментами, которые были в его распоряжении. По крайней мере, так он говорил об этом. Закончилось тем, что у него возникла зависимость от многих препаратое, и в итоге он покончил с собой. Он был не просто подавлен, как случается иногда с каждым. Он испытывал настоящую депрессию. Когда у него забрали ружья, которые у него хранились, он заколол себя ножом.
По превратности судьбы или по несчастному совпадению, в которое очень трудно поверить, брат Мэй также покончил с собой.
МЭЙ: Я не прекращаю думать и горевать о нем. Я была очень близка с братьями, и мне его очень не хватает. Ему исполнилось, должно быть, столько же лет, как и отцу, тридцать девять-сорок. Когда он совершил самоубийство, у него было шестеро детей. В то время он столкнулся с финансовыми трудностями и сложными отношениями с другой женщиной, все как у отца. И ушел из жизни он тем же способом — повесившись.
Это не первая и далеко не последняя история такого рода. На Ратджеровской конференции, где мы присутствовали, одна участница рассказала следующее:
Мой брат совершил самоубийство, когда ему исполнилось тридцать девять лет. У меня был дедушка, который тоже покончил с собой где-то в сорок пять лет. Именно брат и нашел его. Брата назвали в честь дедушки. Они оба застрелились из пистолета, сидя за кухонным столом.
Здесь сходство сразу бросается в глаза: один вид смерти, сходный возраст, одинаковые имена.
Для Шона несомненно, что именно суицид отца стал причиной смерти Фрэнка.
ШОН: Я не думаю, что другие самоубийства или болезнь сестры были чем-то предопределенным от рождения. В каком-то смысле, это как теория домино. Я вижу это достаточно ясно: мой брат Фрэнк и наш отец были очень близки. После его смерти Фрэнк так и не стал прежним, каким был раньше. В последние годы у него определенно не было воли к жизни. Он старался как мог, но что-то внутри убивало его. Он выглядел измученным человеком и яростно ненавидел мать. В ссорах они вымещали друг на друге злобу и ярость и создавали в доме беспокойную обстановку. Думаю, что это повлияло на сестру. Понимаете, у брата были очень теплые отношения с отцом, и он постоянно обвинял мать: «Ты виновата в смерти отца, ты просто убила его». Эта мысль необычайно цепко сидела в нем.
И когда ему было двадцать семь, он все еще продолжал сражаться с матерью, обвинять ее. Он был просто раздавлен поступком отца.
Потом было еще одно самоубийство.
Мой младший брат покончил с собой рано утром; накануне он поссорился со своей девушкой. Он работал барменом, обычно допоздна. Своему ближайшему другу он сказал, что очень переживает смерть отца и Фрэнка. Сожалел, что он никогда не знал отца по-настоящему: это причиняет ему невыносимую боль. Незадолго до этого Мак купил пистолет и повыбивал пулями все окна в своем доме. Это было определенным сигналом о его намерениях. Друг послал к нему своего соседа по комнате, и Мак немного успокоился; затем у него произошла еще одна бурная сцена с объяснениями с девушкой. Он взял свой пояс и повесился. Ему исполнилось двадцать три.
Марджори — женщина, которая перенесла более чем достаточно различных болезней. Врачи ей сказали, что из-за одной из них у нее никогда не будет детей; другая едва не парализовала ее на всю жизнь. Все же она поправилась, у нее появилась семья, родилось двое детей. Однако одним из последствий ее болезней стало сознательное решение никому не жаловаться на свою боль, какой бы нестерпимой она ни была. Рассказывая свою историю о суициде дочери, случившемся за два года до нашей беседы, Марджори дала понять, что считает свое молчание очень важным моментом в смерти Рэйчел. Дочь, как оказалось, тяжело переживала самоубийства двух своих подруг. Слушая Марджори, мы понимали, что имеем дело с самым полным отчетом о суициде человека, пережившего самоубийство близких, из всех, с которыми нам приходилось сталкиваться в ходе наших бесед.
Едва ощутимый иностранный акцент делает речь Марджори очень экзотичной. Концы ее темных волос высветлены. Она сидит, откинувшись, в шезлонге и иногда морщится от заметной физической боли, о которой мельком упоминает.
МАРДЖОРИ: Когда Рэйчел была маленькой, она как-то спросила меня: «Мамочка, а сколько тебе лет?» И я, шутя, ответила: «Выбирай сама; мне столько, сколько ты захочешь». — «Ну хорошо, тогда тебе двадцать семь». И я подумала: вот здорово, мне теперь никогда не придется врать. И каждый год на мой день рождения она посылала мне открытку, поздравляя с двадцатисемилетнем. (Мой день рождения был ровно за две недели до ее.) Два года назад я получила от нее последнюю открытку: «Мамочка, только представь себе, через две недели мы станем ровесницами». Она умерла в свой двадцать седьмой день рождения.
Это не совпадение, я не верю в них. И она тоже говорила, что не верит в совпадения.
На протяжении десяти лет мы знали, что у нее имеются саморазрушающие стремления; она никогда не совершала попыток к самоубийству, но почти убивала себя работой. Не переставая, она работала днем и ночью. Это началось еще в средней школе. На летних каникулах перед выпускным классом она провела месяц в музыкальном лагере. Там она очень близко подружилась с двумя сестрами. А где-то через месяц после возвращения домой одна из них совершила самоубийство. Девочке было только семнадцать лет, и это произвело на Рэйчел ужасное впечатление, она рассказывала нам об этом. Потом она стала чаще закрываться у себя в комнате, изолируя себя от нас (прежде она никогда не делала этого); мы видели, что она очень подавлена, но не знали причины. И теперь она не делилась с нами.
Мы начали ходить в церковь, при которой был театральный кружок. Там ей предложили сыграть роль в пьесе «Дверь на сцену». Ей дали понять, что она может претендовать на главную роль, и она согласилась попробовать. Однако главную роль ей не дали, а предложили сыграть роль женщины, совершающей самоубийство. Этого я не знала. Не сказав мне, она согласилась на эту роль.
После премьеры спектакля все говорили: «Рэйчел сыграла потрясающе хорошо! Она была действительно лучше всех». А мне просто хотелось кричать, слыша все это. С тех пор она больше стала думать о самоубийстве. Это было заметно, когда еще она была на сцене. И в то же время — очень странно, потому что раньше все в ее жизни было ярко и прекрасно. Она была нашим солнышком, с самого раннего детства. Мы ее так и называли.
Как-то раз ее ближайшая подруга обратилась ко мне: «Я должна поговорить с Вами. Я очень боюсь за Рэйчел». Я ответила, что тоже за нее беспокоюсь. И рассказала ей, что, по-моему, все началось с прошлого года, когда погибла ее любимая подруга. Тогда она сказала: «Ой, миссис В., она потеряла не одну, а двух подруг. Ведь оставшаяся сестра совершила самоубийство месяц спустя». Оказалось, что именно с того времени она стала замыкаться. И ее дверь была все чаще закрытой. Это причиняет мне сильную боль — я чувствую себя виноватой. Она отлично научилась оставаться наедине со своими проблемами, не говоря о них. Естественно, научилась от меня.
В колледже она работала, работала и работала. Она специализировалась в области романских языков. На степень бакалавра она написала самую лучшую в колледже работу.
После его окончания она подыскала работу в юридической фирме. Там она была персоной номер один. Трудилась больше всех. Однажды она проработала тридцать шесть часов подряд без сна. Я была просто в ужасе. «Рэйчел, ты играешь со своим здоровьем». Я сама хорошо знаю, что значит здоровье, ведь мне приходилось следить за ним с самого детства. «Ой, мамочка, не тревожься, не стоит волноваться, все будет в порядке». Она всегда говорила, что с ней «все будет хорошо».
Я никогда не думала, что ее проблемы были связаны с самоубийством тех двух сестер. Рэйчел всегда выглядела такой нормальной и хорошенькой. За исключением разве того, что я достаточно хорошо понимала: она всегда играла роль. Особенно в последние годы.
Вначале я обвиняла в тяжелой работе юридическую фирму. Но оказалось, что Рэйчел делала это по своей воле. Каждый раз, когда появлялась работа, которую никто не хотел на себя брать, именно она соглашалась. Затем она решила поступить на юридический факультет. Она едва не заболела в тот год. Ее брат преподавал в школе и предложил ей подрабатывать там же. Она преподавала почасово и одновременно занималась юриспруденцией. «Ой, мамочка, не волнуйся, мне это нужно, чтобы понять менталитет преподавателей». И мой муж к тому времени тоже был в ужасе. «Пожалуйста, — говорил он, — брось это все». В конце концов она подготовила там прекрасную студенческую работу, потому что все, что она делала, было прекрасно.
Вскоре она стала работать в школе на полную ставку. Ответственная за обучение иностранным языкам готовила Рэйчел к тому, чтобы она замещала ее на период отпуска. Если существует человек, которого мне очень трудно простить, — в принципе, у меня нет сильного гнева, но это единственный человек, на которого я сержусь — так это именно та женщина, ведь она использовала Рэйчел в своих целях. Она хотела, чтобы Рэйчел замещала ее на должности преподавателя, ответственного за обучение иностранным языкам, пока она на целый год уходила в отпуск. Рэйчел, естественно, боялась брать на себя эту ответственность, одновременно преподавая французский и испанский языки.
Письма, которые мы получали от ее учеников и их родителей, были чудесными. Все считали ее образцом: «...Моя дочь хочет стать похожей на нее». А тем временем все учителя видели, что она больна, катится под откос, но никто, даже мой сын, который был с ней близок, не отдавал отчета, насколько это серьезно. Он говорил нам: «Вы же знаете, какая она. Уж если что решила сделать, удержать ее никто не сможет». И добавлял: «То же самое было в юридической фирме и в колледже». Именно тогда я как-то связала все воедино и оторопела. Мы ничего не могли сделать. Она действительно себя убивала и видела в этом свою цель. Она часто не могла спать; и ей никто не мог помочь.
Ее друзья и учителя школы беспокоились о происходящем. За день до ее смерти трое из них долго обсуждали между собой, нет ли какого-то способа госпитализировать ее в психиатрическую больницу. Но, знаете, это было бы большой ошибкой, ведь она оставила такие прекрасные письма, полные любви и тепла, она осталась нашим другом, и теперь я могу спокойно общаться с ее душой. Теперь, после своего ухода, она стала мне гораздо ближе, чем когда она была физически здесь, и в то же время душевно мертвой. А если бы мы поместили ее насильно в лечебницу, это означало бы конец нашим отношениям, потому что она не простила бы нас никогда, а с этим я не смогла бы жить. Я не могла бы терпеть, если бы она сердилась на меня за причиненную боль.
Как бы там ни было, у меня существует твердое убеждение, что она не могла пережить свой двадцать седьмой день рождения. Это избавляет меня от волнений и самообвинений, касающихся того, что «могло бы быть иначе». Я не хожу на все эти собрания родителей, старающихся разобраться, что они могли бы сделать для предотвращения случившегося. По-моему, это просто должно было произойти.
Она вскрыла себе вены. Странно, но моей первой мыслью было: «Наконец она обрела покой и больше не страдает». Позже, когда я стала понемногу все вспоминать, то поняла, что приняла происшедшую трагедию с тем же душевным настроем, с которым отнеслась к своему кровоизлиянию в спинной мозг, после которого долгое время не могла ни ходить, ни говорить. Я приняла это как должное, и тем самым позволила Богу помочь мне. Ведь если бы я восстала и злилась, то повредила бы самой себе. Мое принятие было благословением, и я признаю это.
Я вспоминаю о довольно странном случае примерно за шесть недель до смерти Рэйчел. Я говорила с ней по телефону. Все в семье знают, что я обычно ни на что не жалуюсь. Не помню, что я тогда сказала ей, но, вероятно, тон моего голоса был подавленным. Она очень бурно отреагировала на это, заявив: «Я терпеть не могу, когда ты себя жалеешь». Это и было предупреждением: она не будет себя жалеть.
У нас была заупокойная служба по ней; в течение десяти дней после ее смерти, просыпаясь, я слышала ее голос, ее слова. Собрав ее мысли, я составила свою речь, и она шла из уст моей девочки. Я знала, что у очень многих людей было немало причин, при желании, чувствовать себя виноватыми перед ней: у детей, не делавших уроки; у ее коллег, беспокоившихся и знавших, что ее жизнь приближается к концу (она очень сдала, похудела). Но она скрылась за маской; она перехитрила абсолютно всех. Рэйчел так хорошо умела маскироваться.
Глава 11, ГЛАВНАЯ СДЕЛКА: МОЛЧАНИЕ
Молчание не излечивает болезнь. Наоборот, оно ее ухудшает.
Лев ТолстойНикто в семье не хочет говорить об этом. Приходится притворяться, что ничего ужасного не произошло.
Близкий самоубийцыКогда случается несчастье, то в семьях обычно говорят: «Что нам теперь делать?», «Как это случилось?», «Почему это произошло именно теперь?». Обсуждение происшедшего является естественным и полезным. Оно дает выход психической боли, скорби, гневу и фрустрации, которые мы чувствуем, когда с нами происходит что-то непоправимое. Смерть, как и любое другое несчастье, требует обсуждения — времени, необходимого для того, чтобы мы могли выразить свои чувства. Действительно, траур был бы незавершенным, если бы у нас не было возможности выразить, что мы чувствовали по отношению к умершему человеку, если бы не могли поплакать или проявить гнев, чувство потери, боль, связанные с его или ее кончиной.
Но людям, пережившим самоубийство близких, трудно высказать свои мысли о случившемся. В отличие от обстоятельств естественной смерти, друзья и родственники часто не хотят говорить о событиях, связанных с самоубийством. Они прячутся за разнообразными мифами, верят, что смерть была несчастным случаем, убийством, тайной, чем угодно. Причин нежелания обсуждать истинную природу смерти немало. Но одной из них безусловно является то, что члены семьи не желают выражать имеющиеся у них вину и обвинения в адрес других членов семьи. Разрываемые этими чувствами, они не могут вынести их. Молчание становится попыткой не дать выхода ужасным обвинениям — в отношении себя и других.
Короче говоря, в то время как большинство сделок являются для индивида способами разрешения проблемы появления сильных чувств после суицида, сделка молчания является для семьи в целом способом разрешения проблемы существования гнева, взаимных обвинений, а также чувства вины по отношению к себе. К сожалению, это сделка приводит к страшным последствиям. В предыдущей главе мать Рэйчел кратко говорила о своем чувстве вины за то, что научила дочь «оставаться наедине со своими проблемами, не обсуждая их». Нам кажется, что она весьма недалека от истины: часть оснований для совершения самоубийства Рэйчел может состоять в молчании, которое она избрала после самоубийства двух подруг.
Кэин и Фаст ярко описывают природу этого молчания и его серьезные последствия; стоит привести полностью цитату из их работы. Как мы уже упоминали в главе 9, их исследование касалось мужей и жен, чьи супруги покончили с собой. Они отмечают, что у этих людей встречались разнообразные проблемы и что они не хотят распространять свои выводы на всех людей, чьи близкие совершили самоубийство, однако считают «заговор молчания» типичным для многих из них.
Стыд и чувство вины обычно приводят к чрезмерно преувеличенному избеганию обсуждения всех аспектов, касающихся суицида, что в свою очередь фактически препятствует проработке горя. Отрицание, утаивание, отказ или неспособность говорить о суициде способствуют замораживанию или задержке развития горя на самых ранних стадиях и дают ему лишь незначительную возможность естественного, хотя и тяжелого, течения. Заговор молчания, который быстро возникает вокруг суицида, серьезно ограничивает возможности катарсиса, действенной проверки искаженных фантазий относительно реальных фактов, развенчания разнообразных ложных концепций, а также осознания и разрешения иррациональных чувств вины и, особенно, гнева к совершившему самоубийство человеку у того, кто остался в живых.
Таким образом, Главной Сделкой является молчаливое соглашение заинтересованных людей не обсуждать суицид или вызванные им чувства.
Это молчание представляет собой чрезвычайно эффективный способ разрешения проблем вины и взаимных обвинений, бушующих после самоубийства. Это выглядит как «джентльменское соглашение» ни в коем случае не давать воли этим невыносимым обвинениям. Но зато какой ценой! И какой вред оно приносит естественному завершению процесса горя. Молчание — это враг. Оно усугубляет отрицательное влияние суицида.
Так или иначе, большинство из нас осведомлены об этом. Есть немало свидетельств, относящихся к другим травмирующим событиям в жизни человека, указывающих, что обсуждение проблем помогает. Не нужно быть психологом или экспертом, чтобы понять, что это действительно так. Опереться на плечо друга, пожаловаться, поговорить о своей боли, наконец, поплакать: все это дает поддержку. Если я ушибу палец молотком, то могу выругаться, закричать, увидев, что он посинел, или пожаловаться на то, как болит ушибленное место. Если мой отец погибнет от сердечного приступа, я буду открыто горевать, рассказывать другим о том, как я его любил, у меня есть возможность поплакать на плече жены, я выслушаю соболезнования друзей во время заупокойной службы. Когда же случается самоубийство, многие люди не обсуждают своих чувств; часто отказываются от заупокойных церемоний и не произносят речей. Более того, вдобавок появляются подозрения со стороны полиции, неодобрительные взгляды соседей, осуждение священников, сохраняются обвинения из могилы и молчание людей, испытывающих слишком сильный гнев, вину или страх, чтобы обсуждать случившееся. Будь то сам близкий самоубийцы, который не в состоянии говорить, или его друзья, не желающие обсуждения, факт остается фактом: во многих случаях сохраняется поистине смертоносное, предательское молчание.
Конечно, нельзя сказать, что нам бывает легко говорить о том, что мы чувствуем. Тот, у кого был подобный опыт, знает об этом. Один из лидеров группы самопомощи обнаружил, что даже через несколько месяцев совместной работы участники группы весьма печалились, когда их фамилии публиковались в газете. Они все еще не могли поведать соседям правду о случившемся в своей семье. А некоторые люди никогда так и не говорят об этом.
На самом деле для семьи молчание является в известной мере решением серьезной проблемы. Ее члены испытывают гнев на умершего, злость на тех, кто предпринял «недостаточные» усилия для предотвращения суицида, чувство вины за свои собственные «упущения», фрустрацию, ощущение невосполнимой потери, страх за будущее. Сохранение молчания, по крайней мере, помогает им держать эти чувства в узде, сохранить свой имидж и престиж семьи, сохранить корабль семьи на плаву. И при этом не имеет значения, что гнев на умершего может быть вполне понятен и правомерен — его выражение представляет слишком большую угрозу для всех.
Но сохранение молчания далеко не всегда является продуктивным решением; оно не дает выйти психической боли. Скрытые чувства продолжают существовать в глубине, и результатом этого часто является неспособность эффективно жить в дальнейшем. Тела и психика людей все равно находят пути выразить гнев и вину иными способами, если запрещено их явное, словесное проявление. В этом и состоит психологическая суть сделок. И — с течением времени — недостаток общения между членами семьи оказывает свое опустошительное действие на ее жизнедеятельность.
В главе 8 мы уже встречались с Бернис. В дальнейшем она рассказала, как в ее семье вели себя после смерти старшего брата.
БЕРНИС: Он покончил с собой одиннадцать лет назад, приняв большую дозу наркотиков, ему было восемнадцать. Самым худшим стал двойной обман. Родители утаивали правду от нас, трех младших детей, сказав, что он умер от «рака легких». Истину я узнала потом от своих старших братьев и сестер. Родители не имели об этом представления, поскольку практически не общались с нами и не разрешали обсуждать эту тему.
Кончилось же все тем, что я совершенно перестала верить людям.
Мне не позволили пойти на похороны, так что практически мне не удалось погоревать. Я даром прожила одиннадцать лет, все время сидя на своих чувствах, не давая возможности им выйти наружу.
В семье Бернис результатом молчания, как видно, стали серьезные нарушения физической и психологической жизни детей. Как уже упоминалось выше, сама она страдает биполярным аффективным расстройством и в прошлом пыталась совершить самоубийство. Ее старший брат отличался повышенной агрессивностью («Он все время попадает во всякие переделки и драки. Напивается, а потом ходит и ищет на свою голову неприятностей»). У ее сестры отмечается хроническое желудочно-кишечное, а у младшего брата — частые респираторные заболевания. В семье есть и другие проблемы, которые, в основном, порождаются ненормальным молчанием. После нашей первой беседы Бернис сообщила, что ее семья намерена собраться вместе в день Св. Патрика, который совпадал с годовщиной самоубийства брата. Оно произошло одиннадцать лет назад, но она была уверена, что никто так и не заговорит об этом событии. Так и случилось.
Все выглядело просто странно. Тему смерти моего брата избегали изо всех сил. Было видно, что родные искали способа пораньше уйти. Никто не думал говорить о чем-либо неприятном. А я сидела и чувствовала себя виноватой за то, что поделилась случившимся с вами. Наверное, я вообще не должна была ни с кем говорить об этом. Я как бы застряла на точке зрения, что это — позор. Мой отец, видимо, чувствует, что, если об этом заговорить, случившееся может повториться. С одной стороны, нельзя же все время это скрывать. А с другой — ни с кем в моей семье невозможно поговорить о том событии. Они, конечно же, принялись бы выяснять: «чья это была вина?».
В том-то все и дело. Сделка заключается в том, что пока вы не обсуждаете случившееся, вы не имеете дела с «виной». Гнев и чувство вины не выходят наружу. И как жаль, что семья Бернис не понимает, насколько невыгодной является их сделка.
В беседах с людьми о самоубийствах, происшедших в их жизни, часто встречается расхожее мнение, что, очевидно, лучше дать ранам затянуться молча, чем говорить о случившемся.
Ральф страдал от молчания, нависшего над смертью отца, случившейся, когда ему не было и четырех. Ясно, что и вся его семья серьезно переживала, как вы помните из прошлой главы: его брат тоже покончил с собой спустя лет сорок после отца. Ральф говорит, что не знал о самоубийстве отца до двадцати с лишним лет, хотя его старшие братья, конечно, были осведомлены. Но трудно поверить в то, что у него не было ни малейших подозрений, если учесть, насколько откровенны бывают дети друг с другом, а также то, что взрослые часто обсуждают серьезные семейные проблемы в присутствии детей, как будто малыши не смогут ничего понять. Ясно одно: что старшие члены семьи не хотели, чтобы Ральф знал правду.
РАЛЬФ: Я был удивлен тем, насколько мало мы общались друг с другом. Однажды я прямо спросил мать о том, как умер мой отец, и она сказала, обманув меня, что он болел раком.
Это произошло, когда моим братьям было по семь и девять лет, но самоубийство никогда не обсуждалось. Помню, что, когда, наконец, мы стали говорить об этом, самый старший брат рассказал, что, когда его забирали из школы после случившегося, дядя не сказал, как умер наш отец, но вернувшись в школу, он услышал от одноклассников: «Ага, а твой папа покончил с собой!». Вот так он узнал о происшедшем.
Последний рассказ очень ярко иллюстрирует один из весьма опасных аспектов молчания: правда обычно так или иначе раскрывается, но часто неподходящим и травматичным образом — в данном случае через сверстников, которые отнеслись к случившемуся как к чему-то постыдному.
Позже, когда старший брат Ральфа ушел из жизни, то средний отказался рассказать своим детям о самоубийстве как отца, так и брата. По словам Ральфа, они просто «предпочитали» не говорить об этом, но, судя по всему, тоже заключили Главную Сделку. Упорное молчание было насильственно навязано и следующему поколению.
Иногда, когда в семье случается более одного суицида, кто-то начинает осознавать, насколько пагубным является молчание. Руфь, чья дочь Бесс отравилась, рассказывает о своей свекрови и о самоубийстве тети Бесс, Алисы.
РУФЬ: Думаю, что немало положительного можно извлечь, говоря правду, признавая слабость. Ведь тогда вам удается обнаружить, что существуют и другие люди с аналогичными трудностями и сходными слабостями. Когда вы делитесь своими переживаниями, то одновременно помогаете другим в их проблемах. Перед тем, как совершить самоубийство, Алиса лечилась в больнице. Но моя свекровь скрыла это от всех. Алиса, видимо, страдала от молчания. Эту ситуацию нельзя было обсуждать, и она вынуждена была жить с различными воображаемыми представлениями о себе.
Свекровь до сих пор думает, что друзья не знают правды об Алисе. Когда Бесс впервые совершила суицидальную попытку, она сказала друзьям, что у Бесс пневмония. Потом, когда Бесс умерла, она очень расстраивалась: что же говорить людям — и мы с братом, рассердившись, сказали ей в глаза: «Бесс совершила суицид, в этом и состоит правда. Это плохо скажется на вас? Да, возможно. Это печально отразится на мне? Да, конечно. Но это факт, и от него никуда не денешься».
Тот факт, что Руфь могла говорить и подолгу обсуждала самоубийство Бесс ценится ею высоко, поскольку это, несомненно, помогло ей удержаться «на плаву». Ей также повезло с друзьями и родственниками, которые охотно выслушивали ее бесконечные излияния на тему «почему?».
Мы вновь и вновь возвращались к этим рассуждениям. Просто удивительно, сколько раз повторялось одно и то же, и ни у кого из нас не иссякало терпение! Они слушали и слушали. Сидели и охотно это обсуждали.
Но встречаются и такие люди, которые просто не в силах этого делать. Не имеет значения, друзья это или родственники. Обсуждение причиняет им слишком сильную боль, и они избегают этой темы.
АМАНДА: Я знаю женщину, чей ребенок умер одиннадцать лет назад. Второго ребенка она видит постоянно, но никогда не говорит о происшедшем. Они очень близки друг другу, тем не менее, она не желает это обсуждать. Как-то я разыскала свою кузину, которую не видела двадцать лет. Она один раз выслушала исповедь о моем несчастье, и никогда больше этот разговор не повторялся. Когда она видит, что я со слезами на глазах хочу вернуться к нему, то говорит: «Ой, ой, ой, не надо». Я успокаиваю ее: «Я больше не буду плакать, все нормально». Она просто не хочет ни о чем подобном знать.
Один из наиболее ярких и болезненных рассказов о подобного рода молчании касается мужчины, чьи шестидесятипятилетние родители, договорившись, совершили двойное самоубийство. Никто из окружения не хотел говорить с ним о случившемся — из-за ошибочного стремления пощадить его чувства, возможно, из-за страха или стыда — он не знал почему. Вскоре священник, старый друг семьи, посетил их город. С радостью этот мужчина ожидал встречи с ним; наконец, думал он, можно будет облегчить душу, поговорив о происшедшем. Но первое, что он услышал от гостя, было: «Я бы не хотел говорить о смерти твоих родителей». Сын сказал: «Но я очень хочу разобраться в случившемся». Но священник был неумолим: «Я против этого разговора не ради тебя, мой мальчик. Я избегаю его ради себя».
А Барбара (глава 8) молчит прежде всего ради себя самой. И давление, оказываемое молчанием, сказывается на ней. Она никогда не обсуждала со своими детьми самоубийство их дедушки.
БАРБАРА: Я никогда не рассказывала им об этом. Я часто разговариваю с ними о своей матери, но, вероятно, все еще слишком сержусь на отца, так как стараюсь вообще не упоминать о нем. Но я собираюсь когда-нибудь все им рассказать. В этом году у учительницы, с которой хорошо знакомы мои младшие дочери, двадцатилетняя дочь совершила самоубийство. Об этом рассказали по телевизору — они видели эту передачу и мы говорили о ней позже. И я подумала, что они уже достаточно взрослые для того, чтобы говорить с ними о людях, каковы они на самом деле... Раньше мне казалось, что просто нет подходящего случая... который помог бы обратиться к этой теме... какого-то факта, примера, с которого можно было бы начать разговор.
Нам было очевидно, что страдания Барбары, как телесные, так и психические, отчасти были связаны с тем, что она не признавалась в своем горе ни себе, ни своим детям. Она не разрешала себе говорить о суициде. Послушайте, что она рассказывает, когда, наконец, во время беседы с нами она решается выразить свои чувства.
Я чувствую грусть, правильнее, сильную печаль. Я только что вспомнила, как он последний раз приезжал в гости. Он гулял с моим сыном, он был у нас, когда дочь выписалась из больницы. Он гостил около месяца, и, что самое печальное, я уверена, именно тогда решил покончить с собой. Помню, в день отъезда он стоял на лестничной площадке и напевал песню, которую, бывало, пел раньше, когда мать была жива. Он часто пел ей. И в тот раз я услышала что-то популярное из репертуара 20-х годов, где говорилось что-то вроде «когда ты вспоминаешь меня, думай обо мне молодом и веселом...». Вспоминайте хорошее обо мне, вот что, очевидно, он имел в виду. В то время он уже расстался с жизнью, реальностью, со значимыми взаимоотношениями, с детьми; казалось, его уже ничего не удерживало в этом мире — он уже удалялся от него. Он пел так, будто, прощаясь, говорил это моей матери. Когда я думаю о том, каким человеком он был, я чувствую печаль, этот образ трогает душу, мне действительно очень и очень грустно.
Но тем не менее я продолжаю его осуждать. Я злюсь на жизнь. И конечно, все это ужасно.
Мы все рано или поздно нуждаемся в открытом обсуждении, чтобы проработать свои чувства, связанные с переживанием горя. Ванда, например, говорит о потребности страдать открыто, о том, что семья старалась ее ограничить в этом, и только друзья и сотрудники позволили ей излить свои чувства. Вы, вероятно, помните, что отец Ванды умер, отравившись выхлопными газами, год назад. Ванда в то время была далеко и теперь чувствует вину, что ее не было рядом. Она также очень сердита на него, что он ее оставил.
За что мне бывало немного стыдно, так это за интенсивность своего горя. Это было большой проблемой и для моей семьи. Помню, как я приехала домой на Рождество после смерти отца. Прошло уже четыре месяца. Я оставалась на ногах, я «функционировала», но я была больна. Помню, старший брат встретил меня в аэропорту. Он подошел ко мне сзади и сказал: «Б-y-y-y!», а я расплакалась. Все Рождество я оставалась в доме брата и проводила много времени играя на пианино и читая книги. Я чувствовала себя очень подавленной, мне не хотелось ни с кем общаться. Мои братья и невестка стали ворчать на меня, что со мной совсем неинтересно. Помню, как-то невестка сказала на кухне, в мамином доме: «Слушай, с тобой всегда так весело, а в этом году ты совсем другая», и мне просто захотелось свернуть ей шею. Так и нужно было сделать, нужно было стукнуть ее. Я сказала: «Я тоскую об отце». Я не знала, как еще можно это выразить. На меня было оказано давление, чтобы я вела себя как обычно.
Мама тоже хотела раньше времени заставить меня молчать о моей скорби. Мы как-то ужасно разругались с ней по телефону, и это, наверное, было полезно для наших отношений. Я сказала ей: «Я должна делать это. Мне плохо и грустно, и мне не поможет, если ты постараешься закрыть мне рот». И тогда она стала рассказывать мне об отношениях со своей матерью на похоронах ее отца. Она стала плакать, а мать сказала ей: «Ш-ш-ш!» Ее мать, значит, тоже заставляла ее молчать. И, рассказывая об этом по телефону, мама стала плакать. Это было хорошо, очень хорошо. Старший брат не мог со всем этим справиться. С его точки зрения все должно было быть гладко, тихо, прикрыто, я чувствовала себя плохой. Средний брат, когда я говорю ему, что чувствую себя виноватой, отвечает что-то вроде: «В чем же тебе себя винить?» Он никогда не говорил мне, что тоже чувствует вину, но его друзья говорят, что он выглядит усталым, углубленным в себя.
Мне приходилось бороться, чтобы не быть «хорошей девочкой», мне приходилось бороться, чтобы не бояться расстроить людей своим горем. Это было труднее всего. И думаю, потому что смерть отца была так важна для меня, мне удалось сделать это. Оказывается, для меня есть настолько важные вещи, что мне наплевать, кого я расстраиваю. Но очень трудно было не сказать: «Со мной все в порядке». Я как-то говорила с клиенткой, которая чувствовала себя виноватой за свое горе и гнев по поводу самоубийства, случившегося в ее семье, и я сказала ей: «Это, возможно, единственный случай в вашей жизни, когда можно полностью отдаться чувствам, раскрыться, пожалуйста, не пропустите его», и я представила это как возможность для нее заглянуть поглубже в себя.
Таким образом, сделка молчания является решением одной проблемы, но создает другие. Мы предположили, что это — главная сделка, она покрывает многие другие сделки и предоставляет им укрытие для действия. Мы уже говорили, что многие физические и психологические проблемы близких суицидентов порождаются таким молчанием, что те последствия суицида, которые мы обсуждали в предыдущих главах, получают свою силу, если не существование, от молчания.
Были ли мы в ответе за самоубийство? Был ли это действительно суицид? Как именно близкий покончил с собой? Если, в результате невозможности или нежелания говорить, мы не имеем возможности полностью испытать чувства и сравнить свои фантазии с реальностью, — облегчение просто не наступает.
Психоаналитики называют трансформацию переживаний при психотерапии «прорабатыванием», и что-то в этом роде может происходить и в повседневной жизни. Каждый раз, когда вы говорите о болезненных переживаниях, происходит небольшое изменение. Переживания чем-то напоминают калейдоскоп: каждый поворот позволяет элементам поменять позицию. Если поворот допускается, происходит какая-то реорганизация, какое-то движение вперед, наступает некоторое облегчение. Происходят крошечные трансформации. Вы обретаете возможность перейти в более комфортную модальность, чувствуете меньше отчаяния при той же реальности.
Молчание замораживает скорбь. Чем дольше мы сопротивляемся разговорам с самыми близкими людьми, тем труднее ее разморозить. Независимо от того, насколько глубоко захоронены наши чувства, мы в конце концов страдаем от их последствий.
Могут быть и другие причины, по которым люди сохраняют заговор молчания. Среди них бытует печальная вера в то, что они каким-то образом сохраняют близость к умершему человеку, сохраняя молчание. Это один из способов единения с любимым человеком, который, понятно, тоже молчит.
Другая причина того, что люди продолжают молчать, — понимание невозможности общения с единственным человеком, с которым им по-настоящему хотелось бы поговорить, — с человеком, совершившим самоубийство. Это чувство прерванного разговора очень сильно после суицида. Последнее слово остается за умершим человеком, и мы ничего не можем с этим поделать. Не удивительно, что нам не хочется говорить. Ничто из того, что может быть сказано, не изменит факта смерти любимого нами человека, и ничто, что мы можем сказать, не донесет до него невысказанных (или недосказанных) нами слов: «Не уходи, я люблю тебя».
Сделки являются и другом и врагом человека, пережившего самоубийство своего близкого. Каждая из них предоставляет способ ухода от болезненного, разрушительного гнева, но каждая ведет его по тропе к колючим зарослям проблем. Как покажут последующие главы, мы считаем, что главный путь к разрешению всех проблем такого человека — это нарушение молчания. Молчание — настоящий враг.
Облегчение в растерянности, депрессии, гневе, чувстве вины зависит от его нарушения, от обучения тому, как говорить о суициде.
Глава 12, РЕАКЦИЯ НА ПОДРОСТКОВЫЙ СУИЦИД
Для родителя суицид сына или дочери-подростка — ужасная трагедия. В приведенной ниже истории можно видеть страхи и гнев, чувство вины, боль, сделки и продолжающуюся скорбь, которые преследуют многих близких суицидентов, особенно родителей молодых людей, совершающих самоубийство. Но история Элизабет — также переход к третьей части настоящей книги, которая касается способов совладания с трагедией. Ее сын, Чарльз, покончил с собой около четырех с половиной лет назад, и она теперь начинает видеть будущее в несколько другом свете, чем в предыдущий период. Несмотря на свою скорбь, сделки, чувство вины, Элизабет постепенно примиряется с самоубийством сына.
Голос Элизабет делает ее старше; можно закрыть глаза и представить себе женщину лет шестидесяти. Она говорит охотно, но в голосе чувствуется напряжение. Слова сыплются одно за другим. После суицида она сильно прибавила в весе.
ЭЛИЗАБЕТ: В 1974 году мы переехали в этот дом. У нас было двое родных детей (мальчик и девочка). В следующем году был крах во Вьетнаме и мы усыновили нескольких вьетнамских детей. Сначала Фреда, затем Чарльза и Джоан — они брат и сестра. Их мать умерла за год до этого, и отец позволил нам их усыновить. Он живет в США, и Чарльз с Джоан часто виделись с ним. [Все приемные дети Элизабет называют родного отца Чарльза и Джоан отцом, а Элизабет и ее мужа — мамой и папой.] Затем усыновили Ларри. Чарльз умер четыре года назад, шестнадцатого апреля. Это было до так называемой эпидемии подростковых суицидов. Он пробыл с нами семь лет.
Моим единственным прежним опытом суицида был случай с соседом, в детстве. Мне было около четырнадцати лет. Я была последним человеком, видевшим его в живых. Помню, мне пришлось ходить с полицейскими и его искать. Они нашли его. Он прыгнул в яму, из которой добывали глину. Потом и его сын совершил самоубийство, много лет спустя.
Как это случилось
Я операционная медсестра. Меня пару раз оперировали несколько лет назад, и после этого я решила, что хочу стать медсестрой, сказала об этом моему хирургу, доктору Р., и он стал для меня вроде наставника. Мне было тридцать восемь лет.
Случилось так, что я была на работе в больнице, когда мне позвонили из полиции о Чарльзе. Я повернулась к старшей по смене и сказала: «Скажите д-ру Р.» За эти несколько секунд, когда ноги у меня просто подгибались, у меня все же хватило ума повернуть вентили на аппарате для наркоза. Я спустилась этажом ниже в сестринскую и сказала: «Мой сын умер» (у меня было предчувствие, что он уже мертв); я удивлялась, почему все они стоят. Спросила: «Почему же вы ничего не делаете?» Но его даже не привезли еще в больницу.
Чарльз завел машину в гараж, закрыл дверь и подсоединил выхлопную трубу к салону шлангом. Фред в этот день пришел из школы раньше — прогулял урок — и нашел тело. Он открыл дверь гаража, выключил мотор и сделал Чарльзу искусственное дыхание.
Он сделал все, что в человеческих силах, и позвал на помощь.
Первое, что захотели сделать на работе, это ввести мне большую дозу валиума, но у меня не было истерики. Я сказала, чтобы позвали доктора Р.; старшая сестра знала, что я была его бывшей пациенткой и одной из любимиц. Странно, что он в это время как раз пришел в больницу и она сразу нашла его. Он сам расплакался, когда услышал новость, но заставил себя успокоиться, прежде чем идти ко мне. Он сказал мне слова, которые поддержали меня, а может быть, и сохранили мне жизнь. Помню, я сказала: «Том, почему, почему, почему?» и «Как я могу сказать это его отцу?». Том сказал: «Ты должна сообщить его отцу». — «Почему же он это сделал? Он недавно получил стипендию в одиннадцать тысяч долларов в Принстоне и стипендию в другом колледже». И Том сказал: «Элизабет, лучшим его колледжем была ты». Какие прекрасные слова.
Доктор — чуткий, прекрасный человек. Несколько месяцев он каждый вечер звонил мне, чтобы узнать, как у меня дела.
Реакции
Я не перестаю спрашивать почему. Но, думаю, реакции каждого члена семьи были различными. Примерно год назад, на третью годовщину, я была не в духе, и помню, как мой муж: закричал: «Я ненавижу Чарльза». Я не поверила, что он может такое сказать. А он добавил: «Чарли забрал у меня жену». Тогда я поняла, что случилось: я не могла теперь быть такой открытой, как была раньше; мне придется скрывать часть своих эмоций.
В тот вечер, когда он умер, я пригласила к себе двух подруг. Одна из женщин потеряла ребенка из-за несчастного случая, вторая понимала, как я себя чувствую. Мне нужны были они, а не священник, который не понимал, каково мне. Одна из подруг сказала мне: «Как ужасно поступил с тобой Чарли». Я тогда не поняла, что она имеет в виду, но теперь знаю.
Я никогда не сердилась на него, может быть, поэтому я и не могу до сих пор оправиться. Фред рассердился в первый же вечер, он поднялся на второй этаж и разнес комнату Чарли. «Почему он это сделал? Как смел он так поступить с отцом? Как смел он так поступить с мамой и папой? Почему, почему, почему?»
Чарли был очень необычным ребенком, возможно, он был мне ближе всех остальных детей. Каждый старается нарисовать картину в розовом цвете после чьей-то смерти, но я не преувеличиваю. Мне никогда не приходилось добиваться от него дисциплины. Другим детям я говорила: «Неужели мне судьбой предначертано слушать рок-н-ролл всю оставшуюся жизнь?» Но этот ребенок играл на фортепиано — Моцарта, Бетховена — о чем мечтает каждая мать. Это был ребенок, которому никогда не приходилось говорить: «Иди учи уроки». Он был своего рода сыном из мечты. Конечно, в каждом ребенке есть что-то свое, отличающее его от других, но Чарли все же был особенным.
Чувство вины
Я была первой по успеваемости в своей группе в медицинском училище. Мне было тридцать восемь. Учеба отняла у меня много сил и отняла многое у семьи. Все то время, что я провела вне дома. Все обвинения. Я много думала — если бы, если бы, если... Если бы я могла больше быть дома. Если бы я не попросила его выгладить мою униформу предыдущим вечером. (Все дети имеют свои обязанности. Чарли чудесно гладил.) Я приняла все случившееся так близко к сердцу, и все же я знаю, что он любил меня. Я знаю это.
В городе меня называли Супермама. Я не только усыновила четверых детей, но десятки других детей из самых разных стран жили у нас в разное время.
Сразу после смерти Чарли я обратилась к психиатру, и этот человек чуть не убил меня. Если бы у меня была более старая машина, я могла бы свалиться на ней с моста. Он сказал: «Вас оказалось недостаточно». Ни одной матери не захотелось бы услышать, что ее недостаточно. Я платила ему семьдесят пять долларов, чтобы получить возможность немного поспать после разговора с ним. И он говорит мне, что меня оказалось недостаточно! Мне нужно было совсем не это. Думаю, что я совершенно правильно сделала, когда вырвалась из его рук, он бы меня просто уничтожил. Конечно, меня оказалось недостаточно, чтобы удержать Чарли в живых. Никто не смог этого сделать. Но можно же было сказать это так; а не «Вас было недостаточно».
Что я почувствовала? Что дети хороших матерей не совершают самоубийства!
Родной отец Чарли очень хорошо к нам отнесся. Он дал нам свой самый драгоценный дар. А я принесла ему всю эту боль. Как бы мне хотелось освободиться от этого чувства!
Моя собственная мать никогда не могла сказать, что она виновата. Ни в чем. Мне кажется, что слова «я виновата» очищают душу. Я так и делаю в операционной. «Я забыла». Или: «Я не могла заставить себя это сделать». Я стараюсь всегда брать на себя ответственность, когда я неправа.
Я могу вам с уверенностью сказать, что недостатка любви с моей стороны, конечно, не было. Помню, когда я вышла из кабинета психиатра во второй раз, я закричала: «Ты думаешь, мы тебя не любили? Ты думаешь, мы тебя не любили? Ну, посмотри на нас теперь, если ты где-нибудь, откуда можешь видеть нас». И какая-то часть меня знает, что он должен был знать, что мы его любим. Но дело не в любви, разве не так? Одной любви недостаточно...
Мой муж через пару лет сказал, что он думал о случившемся, думал и решил, что он ничего не мог сделать, чтобы предотвратить смерть Чарли. Так что он будет жить дальше.
У Чарли было большое чувство юмора; он старался, чтобы последнее слово всегда оставалось за ним.
И в этом случае последнее слово осталось-таки за ним. Ребенок, который никогда не причинял мне боли при жизни, причинил мне самую сильную боль. Эта боль никогда не утихнет. Ну, может быть, она немного ослабела. Я теперь могу целых пятнадцать минут не думать о ней. Боже мой, это прогресс! Это действительно прогресс.
Соседи и друзья
Люди говорят ужасные глупости. Я отошла от людей и потеряла многих друзей. У меня есть близкая подруга, живущая неподалеку, — она осталась хорошей подругой. Но есть и много людей, которые не могут прийти и поговорить со мной. Не могут справиться с разговором. Одна соседка присутствовала, когда Чарли пытались вернуть к жизни, и каждый раз, когда я ее после этого встречала, она отворачивалась. Через пару месяцев я шла мимо ее дома в школу, и она не могла на меня смотреть.
Однажды я проходила по улице и другая соседка вышла ко мне и спросила: «Чарли покончил с собой потому, что не поступил в Гарвардский университет?» Я ответила: «Чарли не пытался поступать в Гарвардский университет. Он не хотел туда поступать».
Как-то на улице я встретила еще одну женщину. Мне сказали потом, что мне не следовало ей отвечать, но я ответила. Она спросила: «Чарли совершил самоубийство из-за того, что он был гомосексуалистом?» Я сказала: «Не знаю, был ли Чарли гомосексуалистом или нет, а если был, то знал ли он сам об этом или нет. Но вот что я вам скажу: я бы предпочла живого сына-гомосексуалиста мертвому гетеросексуалу». И я действительно так думаю. Тогда я подумала: как глупо! Меня поразило, что кто-то мог такое сказать.
Думаю, что люди нуждаются в ответах.
В нашем квартале был риэлтер, который, показывая людям дома, говорил: «Вон дом самоубийцы».
Мой муж нашел, что ответить на это: он сказал, что наш дом видел столько хороших времен, что теперь может принять и трагедию.
Мы заказали частную похоронную службу, потому что отец Чарли буддист, и следовало провести определенные ритуалы. Для него было очень важно как можно скорее произнести определенные молитвы, поэтому мой муж, он и я пошли в помещение для гражданской панихиды и нас провели в подвал; он читал свои молитвы, мой муж стоял все это время рядом с ним и плакал, полтора часа мы стояли, пока произносились эти молитвы, а рабочие ходили вокруг, стучали и смотрели на нас. Это было просто ужасно. Потом мы поднялись из подвала и он был кремирован при нас. Никого из других детей мы туда не взяли. Но на следующий день, в воскресенье, мы заказали заупокойную службу на дому, и я пригласила его друзей и наших ближайших друзей. Мне всегда казалось, что самый разумный способ проводить похоронные службы — на дому. Я не люблю эти специальные помещения, в которых люди по очереди подходят к гробу и говорят: «Прости». Я рад, что это случилось не со мной — так и кажется, что они это говорят.
Страхи
Прошел целый год, пока я смогла зайти в гараж. И тогда я заставила себя осмелиться сделать это. Ровно через год после его смерти.
Всегда остается страх, что случится еще что-то. Как-то мы были все вместе на Рождество. В четверть одиннадцатого вечера Ларри ушел, чтобы побыть со своей девушкой (у нее были проблемы). Через некоторое время мы спросили: «Где Ларри?» Никто не знал. Вы себе представляете, чего нам стоило выйти на улицу — с мыслями, что с ним что-то случилось — пойти с фонариком в гараж, искать его, думая — не мог ли он повеситься? Была мокрая, снежная ночь. Я позвонила домой к его девушке в четверть второго.
Думала, что, может быть, я побеспокою ее мать, но она меня поймет. И девушка сразу взяла трубку и сказала: «О, нет, его у нас нет». Я сказала ей: «Если ты увидишь его, отправь его домой». Потом я выключила свет и прилегла. Я смотрела на часы. Сказала себе, что в половине третьего позвоню в полицию. В два двадцать девять он вошел в дверь. Я спросила: «Где ты был?» — «Ну, я был нужен Шарон, пришлось побыть с ней». Я сказала: «Если бы ты сказал мне, я бы отвезла тебя туда на машине». Мы не спали до четырех часов утра, я рассказывала ему, что он заставил меня пережить. «Разве ты не видишь, что тебя любят? Почему ты так поступаешь со мной?» Я старалась показать ему, как жестоко так себя вести.
Фреду двадцать лет. Он хотел научиться летать. Я написала ему записку: «Не делай этого». Он ушел. Я сказала мужу: «Если он погибнет, я не пойду на его похороны. Я уеду в отпуск. И это будет для вас всех большим конфузом!». Тогда Фред сказал: «Нельзя же так поддерживать свои страхи». Я ответила: «Я похоронила одного сына, и этого довольно. Я не собираюсь больше никого из вас хоронить. Не собираюсь этого делать. С меня хватит».
Сделки
После смерти Чарльза я хотела умереть. Одним жарким летним вечером я пришла домой с работы и налила себе холодного чаю; дома никого не было. У нас гостила девушка из Дании, и она поставила на сушилку ножи лезвиями вверх, хоть я всегда учила детей ставить их лезвиями вниз. Я доставала что-то с полки над сушилкой и сильно порезала руку, пошла кровь. Это было несколько месяцев спустя после смерти Чарльза, в июне или июле. Я не могла остановить кровь — это я-то, операционная медсестра — и сказала себе: «Ну и что, если я умру? Это будет только к лучшему». Я просто стояла и смотрела, как идет кровь. Мне было все равно. Я видела, как люди истекают кровью, это не так уж страшно. Но потом я сказала: «Нет, я не хочу умирать». Наложила повязку, и все обошлось.
Помню, сразу после смерти Чарли моя любимая племянница выходила замуж во Флориде. Я ненавижу летать на самолете, но в тот раз я полетела к ней и сказала: «Мне безразлично. Если я умру, я увижу Чарли. А если не умру — тоже ничего».
Мне кажется, я стала роботом. Я гораздо больше работала, просила дополнительного времени дежурств, работала по выходным, потому что не могла заставить себя приходить домой, особенно в послеобеденное время, которое я обычно проводила с Чарли. Именно тогда я переутомилась и мне потребовалась помощь. Человек не осознает, что делает с собой.
Как с едой. Я набрала восемьдесят фунтов со времени смерти Чарли. Я стараюсь сейчас над этим работать, потому что тучность тоже причиняет страдания. Но знаете, я думаю, что это вид самоубийства. Переедание вредно, во всяком случае, поправка до такого веса. Но похоже, что мне нужно было наказать себя.
Некоторые люди морят себя голодом. Я сделала наоборот.
Молчание
Мне бы хотелось, чтобы муж когда-нибудь сам завел разговор на эту тему. Если у него есть какие-то воспоминания — просто чтобы протянуть мне руку. Он очень нежный, любящий человек, но этой черточки в его поведении недостает. Если бы он мог сжать мою руку и сказать: «Это напоминает мне о Чарли». Вероятно, вначале щадишь других, размышляешь: «Думает ли он о том же, о чем и я?», и если нет, то не хочется, чтобы он испытывал такую же боль, какую сама испытываешь. Если у него не возникло воспоминания, вызванного песней или чем-то еще, если в этот раз его это миновало, я не хочу причинять ему боль, вызывая это воспоминание. То же самое с детьми.
Я уже не знаю, что чувствуют другие дети. Мы об этом не говорим. Чувствуют ли они вину? Надеюсь, что нет. Фред сделал все, что мог, чтобы спасти Чарльза. То же сделала полиция. Но я действительно не знаю, что они чувствуют. В разговорах об этом есть что-то, что вызывает у всех неловкость.
Траур и горе
Я нашла в городе магазин принадлежностей для вязания, и он стал для меня чем-то вроде клуба. Люди, которые приняли меня такой, какая я есть, и позволили мне оставаться самой собой. Это позволяет мне полностью поменять обстановку после работы.
У меня все еще бывают тяжелые минуты. Раз в месяц я дежурю по чрезвычайным вызовам. Вечером в День Поминовения зазвонил телефон. Обед был на столе, а я должна была мчаться в больницу. Туда попал молодой человек, который стрелял в себя, и больной с перфоративной язвой желудка. Я уже собралась домой, когда по телефону сообщили о мальчике, который повесился. Я должна была спуститься в реанимационную, и мы вскрыли ему грудную клетку для открытого массажа сердца. Два суицида в одну ночь. Мы были в той же комнате, куда привезли и моего сына. Девочки в реанимационной не делали прежде открытого массажа сердца и радовались, что я на работе и знаю, что делать. Вошел хирург (он очень нечуткий человек) и сказал ехидно: «Что же должно найти на человека, чтобы он такое с собой сделал?» И я подумала: какие ужасные слова он говорит при мне.
Во мне есть часть, которая не желает преодолеть горе. Я имею в виду, что преодолеть-то горе хочется, но при этом хочется сохранить в памяти эти семь лет. Я не хочу забыть этого ребенка.
Его родная сестра подошла ко мне и спросила: «Теперь, когда вам так больно, вы хотели бы, чтобы его у вас никогда не было?» И я сказала: «Нет!»
Понимаете, это почти как сказать: «Я не хочу отпускать тебя. Я не хочу, чтобы ты отступил в моей душе на задний план и хранился на задворках памяти, как испанский язык, который я когда-то учила».
Муж всегда говорит мне, что он на мне женился потому, что я крепкая. Его мать крепкая, сестра крепкая, я крепкая. Если кто-нибудь сможет все пережить, так это я. Но сама я не хочу, чтобы меня воспринимали как скалу. Я хочу, чтобы меня считали слабой.
Моя жизнь не была обычной. Когда я поступила в медучилище в тридцать восемь, мой отец (ему в следующем месяце будет восемьдесят) сказал: «Ну, что ты на этот раз задумала?» Когда я брала к себе нового ребенка: «Что ты задумала на этот раз? Кто теперь живет в твоем доме?» Когда умер Чарли, к нам приехала мать с сестрой и ее мужем. Отец не захотел приехать. Он никогда не говорил мне: «Бетти, извини». Наверное, я искала себе отца. Думаю, что любая дочь всегда хочет, чтобы он обнял ее — не как муж, а как отец — и сказал: «Извини». Ближе всего к этому был врач, о котором я рассказывала. В нем была какая-то искра. Что-то особенное.
Недавно я стала работать на полставки, трижды в неделю; я осознала, что нет смысла убивать себя. Моя работа требует много сил, не только физических, но и моральных. И я получаю удовольствие от того, что опять дома. Мне нравится готовить еду и делать многое другое, а иногда сходить куда-нибудь на обед. Быть немного легкомысленнее. Это пришло само по себе. Но теперь я чувствую себя виноватой. Мне не следует получать удовольствие. Я не заслужила этого.
Потому что дети хороших мам не совершают самоубийств.
Получение и оказание помощи
Родители моего зятя сказали мне: «Это самый худший день в вашей жизни. Никакой день не будет хуже этого». И это правда. Что бы ни случилось, уже не может быть хуже. Это была моя собственная зона военных действий.
Полтора года я ходила на беседы со священником. Я очень много работала, и однажды в операционной доктор Р. увидел, что я не справляюсь. Он сказал, что мне обязательно нужно обратиться за консультированием. И, слава Богу, я так и сделала.
Потом была еще группа самопомощи для близких суицидентов.
Я думаю, что среди тех, кто это пережил, есть какая-то общность. Тот мальчик, который покончил с собой в ту ночь — на День Поминовения — как много мне хотелось сказать его родителям.
Я чувствую, что моя миссия еще не окончена. Еще очень много нужно сделать. Я думаю, у всех нас, кто пережил все это, есть многое, что мы можем предложить тем, кто проходит через все это сейчас. Потому что они испытывают такую изоляцию. Если бы я не позвонила тогда по телефону (в группу самопомощи) и если бы в операционной не было супервизора, который увидел мое состояние... — я имею в виду, что эти люди буквально спасли меня.
Под «миссией» я подразумеваю, что хочу участвовать в чем-то. Как те люди, которые поддерживают больных, перенесших удаление молочной железы. Или группы самопомощи больных раком. Чтобы помогать людям, у которых случилось такое же горе.
Мне бы хотелось кое-чем с вами поделиться. Вчера я была в больнице и там было три операции. Последней я боялась. Это была маленькая девочка пяти лет. Два года назад я была в операционной, когда ее оперировали по поводу рака. Она прошла курс химиотерапии и теперь поступила снова. У нее в животе нашли какое-то образование. Она плакала и отбивалась. Не хотела идти в операционную, звала маму. Я постаралась поговорить с ней и объяснить, что с ней будут делать, а она спрашивала, почему ей нужно делать операцию, и будут ли ей делать уколы, и будет ли больно — все это было ужасно. Потом хирург сделал разрез, и мы увидели, что у нее только киста и она доброкачественная. И он послал меня в приемную сообщить об этом ее матери и отцу. Они встали, когда увидели меня, и я видела по ним — чего они ожидают. Я сказала: «Все хорошо. Это только киста. И она доброкачественная». Они мне не поверили. «Вы нам правду говорите? И это все?» Я кивнула. Они переспросили: «Вы уверены?» И я ответила: «Да, я уверена».
Вот такие дни дают мне силы для продолжения жизни.
Часть третья
Глава 13, АКТИВНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ
Я хочу снова хорошо к себе относиться.
Близкий суицидентаВ двух первых частях настоящей книги говорилось о некоторых реакциях, возникающих у людей после суицида их близких. Эта часть посвящена активному реагированию.
Вместо того, чтобы быть пассивными жертвами своей судьбы, близкие суицидентов могут приспособиться и дать ответ судьбе; они могут проявить активность ради себя и стать активными в своей жизни. Итак, когда мы говорим об активном реагировании, мы имеем в виду использование человеком, пережившим суицид близкого, как можно большего числа частей своей личности, стремление к сдвигу; продолжение процесса, в котором этот человек — участник, а не наблюдатель. Активный ответ — не реакция.
Как человек, переживший суицид близкого, может это делать? Как он заботится о том, чтобы не попасть в ловушку — молчания или невыгодных сделок? Мы постараемся изложить, по возможности на конкретных примерах, как люди прорабатывают свои переживания и выходят из этих ситуаций. Что им помогает. Что оказалось бесполезным.
Возможно, полезно будет знать, что почти все люди, чьи близкие совершили суицид, испытывают депрессию, или беспомощность, или гнев. Они чувствуют себя одинокими, нелюбимыми, брошенными. Их гнев оборачивается вовнутрь, и у них появляются мысли о самоубийстве. Но полезно знать также, что все эти чувства, вместе с мыслью «Я больше так не могу», не обязательно остаются постоянными. Их можно изменить, другие это делали.
АКТИВНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ
1. Активное реагирование — это не забывание того, что случилось. Оно не подразумевает ожидания, что вы полностью оправитесь после суицида. Но оно подразумевает хорошие мысли об умершем человеке; оно учит не чувствовать себя в ответе за суицид; оно означает способность вновь испытывать к себе хорошие чувства.
2. Активное реагирование требует времени; все близкие суицидентов узнают это. В течение этого времени многие чувства отчаяния, депрессии, гнева и вины могут продолжаться. Но следует знать, что многие люди в этой ситуации обращаются за разнообразными видами профессиональной и непрофессиональной помощи, и в результате им удается быстрее улучшить свое состояние. Одно совершенно ясно: если обращаешься за помощью, лучше сделать это пораньше.
3. Переживать эти болезненные чувства нормально, и полезно их выражать. Суицидальные мысли, к примеру, являются естественной реакцией на суицид близкого вам человека. Гнев естественен. Облегчение, что «все кончилось», естественно. Некоторое чувство вины естественно. Страх естественен. Снижение самооценки естественно. Вам не должно казаться, что вы «теряете», выражая эти чувства, и вы должны понять, что такие же чувства испытывает множество других людей.
4. Траур очень важен. Под трауром мы подразумеваем что-то, что позволяет вам взять тайм-аут у реального мира и подумать об умершем человеке и ваших отношениях с ним или с ней. Во время периода траура, каким бы коротким он ни был, вы сосредоточиваетесь на умершем человеке. Может быть, вы зададите вопросы о нем и о вашем месте в мире; вы можете быть полностью поглощены его смертью. Но вы вернетесь к собственной нормальной жизни, приспособившись к этой смерти, будучи способным дать ответ окружающему вас миру. Траур очень нужен. Но у многих людей в этой ситуации нет возможности побыть в трауре, потому что они «застревают». Их настоящие чувства настолько отдаляются, чувство вины настолько велико, а гнев настолько интенсивен, что они остаются со своим горем, повторяя свою литанию, не продвигаясь вперед. Некоторым людям необходима какая-то помощь извне.
«СОРТИРОВКА» ЧУВСТВ
На протяжении предыдущих частей настоящей книги мы обсуждали разнообразные чувства, которые возникают у людей после суицида близкого человека. Полезно может быть вновь пересмотреть эти чувства с точки зрения активного реагирования — какого развития этих чувств следует ожидать.
Чувство вины
После суицида близкого человека вы можете испытывать чувство вины, которое возникает из-за гнева до смерти, гнева на смерть, чувства беспомощности, амбивалентности в отношении умершего человека и даже имеющегося иногда чувства, что из могилы на вас указывает палец: «Ты сделал это со мной».
Вам, вероятно, придется какое-то время испытывать чувство вины, но вам может помочь знание о том, что большинство людей в подобной ситуации приходят к принятию того факта, что они не в ответе за жизнь любимого человека. Или, по крайней мере, признают, что есть какие-то пределы, до которых они должны чувствовать себя в ответе.
Гнев
Одни люди описывают его как ярость, другие как враждебность. Это может быть гнев на умершего человека за то, что он вас бросил или обвинил; это может быть гнев на кого-нибудь другого, кто, по вашему мнению, виноват в смерти вашего близкого; это может быть и гнев на себя.
Гнев может также продолжаться долгое время. Некоторые люди обнаруживают, что со временем гнев изменяется по направленности и интенсивности. Другие чувствуют облегчение, когда они могут выразить гнев, который они испытывают по отношению к умершему.
Беспомощность и страх
Эти чувства обычно наиболее сильны в самом начале, но страхи могут вернуться, чтобы преследовать вас в любое время. А вдруг еще один человек в моей жизни оставит меня таким же образом? Не покончу ли с собой я сам? Смогу ли я вернуться к нормальной жизни? Смогу ли я чувствовать себя в безопасности?
Обычно эти люди, продолжая жить, видят, что их близкие не бросают их, не умирают и не совершают самоубийств, и их страхи постепенно уменьшаются. Они могут все более полно реагировать на окружающий мир.
Депрессия (чувство подавленности)
Самым устойчивым чувством для всех людей, перенесших психотравму, является чувство подавленности (депрессия). Вам может помочь знание того, что гнев, остающийся невысказанным, очень часто является причиной депрессии (гнев оборачивается против себя). Некоторые люди обнаруживают, что выяснение того, на кого в действительности направлен их гнев, облегчает депрессию. В главе 17 некоторые близкие суицидентов рассказывают о своих попытках активно реагировать; интересно, что помощь другим людям помогала некоторым из них испытывать к себе хорошие чувства и, по-видимому, облегчала депрессию.
Потеря
Потеря тяжела. Людей невозможно заместить. Вы кого-то любили, и любимый вами человек ушел от вас. Чувство потери не исчезнет, этого нельзя и ожидать. Другое дело, насколько важную роль чувство потери играет в вашей жизни. Вы можете помнить умершего человека и испытывать к нему положительные чувства, не продолжая скорбеть.
ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ ЗАТРУДНЯЮТ АКТИВНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ
Вам может помочь знание о том, что, по мнению некоторых людей, мешает научиться активно реагировать.
Молчание
Время от времени в наших беседах с людьми, пережившими суицид своих близких, мы слышали, как естественное стремление говорить (люди в норме общительные существа) подавлялось. Удивительно, как много раз желание молчать пряталось за старыми истинами: «Зачем вспоминать старое?», «Не бередите рану», «Со мной все в порядке, я не нуждаюсь в разговорах», «Мы с мужем сами с этим справляемся», «Разговоры об этом не помогут». Или возьмем такое высказывание отца покончившего с собой молодого человека: «Если об этом говорить, то все расстроятся, и потом кто-нибудь еще совершит самоубийство». Ретроспективно же большинство людей, переживших такую ситуацию, чувствуют, что все это является прикрытием своей неспособности говорить о суициде. А это, как мы уже писали, опасно.
Амбивалентность
Продолжительная скорбь у людей, переживших суицид близкого человека, не всегда является тем, чем кажется — что она вызвана потерей человека, которого они слишком любили. Задолго до суицида эта любовь была смешана с гневом, потому что все отношения — даже любящие — включают в себя гневные чувства друг к другу. Что осложняет процесс скорби, так это подавленный гнев, особенно если он силен. При тех отношениях, в которых было сравнительно мало гнева, траур может проходить чище, быстрее и более полно. Продолжительная скорбь типична при выражение амбивалентных отношениях, то есть при таких, в которых имеется много еще не разрешившегося гнева.
Родители
Чувство вины и депрессия среди родителей, чьи дети совершили суицид, сильнее и продолжительнее, чем у других родственников суицидента. Буквально каждый из родителей, с которыми мы говорили, выражал одни и те же чувства: их «задачей» было защитить своего ребенка — и они с ней не справились. Возможно, наибольшим кошмаром в этой ситуации является страх, что, если один ребенок умер в результате суицида, с другими будет то же самое. Родители часто выражают сильный гнев в адрес своего умершего ребенка, затем отрицают эти чувства, затем говорят о чувстве вины и депрессии.
Что можно сказать об этих опустошающих переживаниях? Многие из нас сами имеют детей и понимают, что родители чувствуют особую ответственность за поведение и безопасность своих детей. Но многие родители приходят к выводу, что они не могут контролировать жизнь своих детей; что с раннего возраста дети начинают брать контроль над собой в свои руки, становятся самостоятельными и мы, как родители, поощряем их в этом (если бы это было не так, дети не могли бы вырасти и стать взрослыми). Очевидно, что родители не обладают достаточной силой, чтобы уберечь детей от ошибок, даже от такой трагической ошибки, как самоубийство. Четко сформулировал это отец молодого человека, совершившего самоубийство:
Я отвечу на ваш вопрос. Воспитывая ребенка, не-возможно сделать тысячу и одно дело. Можно сделать только тысячу. Каждый родитель делает столько, сколько может. На большее он не способен.
Таким образом, активное реагирование, вероятно, требует, чтобы родители приняли тот факт, что они не могли и не могут управлять всем, что происходит. Это непросто; если бы это было легко, родители, чьи дети совершили суицид, не страдали бы так сильно, как страдают. Но принятие этого факта может позволить им избавиться от части парализующего их чувства вины.
Мужчины
По сравнению с женщинами, мужчинам труднее найти себе место во время периода траура. Зато у них хорошо получается говорить: «Я не нуждаюсь в разговорах». В 1985 г. «Журнал госпитальной и общественной психиатрии» (Journal of Hospital and Community Psychiatry) опубликовал работу Национальной Академии Наук, которая показывала, что «скорбящие» мужчины подвергаются гораздо большему риску, чем женщины. Женщины, по-видимому, лучше справляются со смертью. У мужчин, потерявших супругу или родителей, наблюдается значительное повышение уровня смертности от сердечных заболеваний, инфекционных болезней и несчастных случаев. Добавьте к этому результаты исследования университета им. Джона Гопкинса, которые показали, что нежелание выразить свои эмоции удерживает многих вдовцов от обращения за помощью, необходимой им, чтобы справиться с горем — а это, в свою очередь, приводит к высокой частоте депрессий, алкоголизма и других расстройств — и можно убедиться в том, что мужчины, чьи близкие совершили суицид, составляют группу повышенного риска.
Мало мужчин присоединяется к группам самопомощи, и, даже если они это делают, они реже участвуют в их работе, чем женщины. Женщинам, по-видимому, легче выразить свое горе и гнев, пояснить свои чувства. Мужчины охотнее сидят и слушают. Им, судя по всему, труднее выразить свои чувства, поэтому много боли остается внутри. Фактически, подход «Со мной все в порядке, я не нуждаюсь в разговорах» часто не является признаком того, что дела у человека хороши, а служит прикрытием его неспособности выразить болезненные чувства.
ДРУГИЕ ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ ЗАТРУДНЯЮТ АКТИВНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ
• Обвинения и поиски «козла отпущения». Один человек сказал: «Семья должна понять, что никто не виноват».
• Отсутствие системы поддержки — друзей, родственников, работы, других людей, которые поддержали бы вас.
• Объяснение суицидом всех жизненных проблем. Суицид, вероятно, является лишь одной частью разладившейся жизни. Что-то было не в порядке еще до суицида и может быть не в порядке после него. На это следует смотреть реалистично.
• Бесконечные фантазии о спасении. «Если бы только я сделал то-то и то-то...»
• Обнаружение тела. Те несчастные, которые находят тело самоубийцы, получают более сильную травму. Это факт.
• Мнение о том, что окончание скорби — это то же самое, что забывание любимого человека. Некоторые люди думают, что если они перестанут скорбеть, то это будет все равно что забыть (или предать) умершего человека. Это совсем не так. Близкие могут выражать свою любовь многими путями, но не обязательно делать это, держась за скорбь. Есть люди, которые чувствуют, что нуждаются в человеке, которого они потеряли, чтобы продолжать жить. Они чувствуют, что их личное выживание под угрозой из-за произошедшего суицида. Эти люди очень реально ощущают, что умерший человек был частью их самих. Для таких людей профессиональная помощь может быть единственным путем, чтобы продвигаться дальше через нормальный процесс горя.
ЧТО ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ В АКТИВНОМ РЕАГИРОВАНИИ
Какое-то дело
Следует знать, что активные действия помогают. Каждый, кто страдает периодами депрессии, знает, какое чудесное облегчение может наступить, если встать утром и начать что-то делать, потому что депрессия — этот гнев, обращенный внутрь — очень хорошо снимается деятельностью. К сожалению, горе делает многих близких суицидентов неспособными к действиям. Однако в начале периода скорби есть по крайней мере одно дело, которое могут сделать все близкие суицидентов, и это многие из них находят полезным. Они могут включиться в обычные ритуалы: поминальную службу, похороны, поместить объявление в газете. Многие люди, пережившие суицид своих близких, рассказывали, что они этого не сделали, и это усилило страдания семьи.
РАЛЬФ: Семья моего брата не хотела устраивать поминки, поэтому они не устроили совсем ничего. Мы просто пошли домой.
ЖЕНА: Мы не заказали поминальной службы; мы переехали. Не было никаких внешних признаков того, что Сэм совершил самоубийство. Это было ошибкой.
Люди обычно отмечают важные события церемониями. Мы стараемся подчеркнуть этим их значимость. Общественные и индивидуальные церемонии позволяют нам увидеть, что означает для нас та или иная дата. Примерами этого являются государственные и религиозные праздники.
Отмечаются и менее социально значимые события: рождение ребенка (мы сообщаем о нем нашим родственникам и друзьям, приглашаем их, принимаем подарки), бракосочетание (свадьба, медовый месяц), дни рождения. Смерть, в частности, почти всегда отмечается ритуалами (ночное бдение, шива, похороны, панихиды, зажжение свечей на годовщину, траурные венки и т.п.).
Иногда для нас самих не совсем ясно, какие чувства мы испытываем в отношении происходящих событий. Церемония является одним из способов определения того, что они означают, или подчеркивает их значение. И это полезно потому, что, когда проясняется смысл, мы всегда чувствуем себя более комфортно. Иногда мы не отдаем себе отчета в своих истинных чувствах, до тех пор пока не примем участия в церемонии. Похороны или поминальные службы помогают людям разобраться в том, какие чувства они испытывают к умершему человеку.
Но, как мы видели, многие люди избегают формально отмечать смерть близкого, покончившего с собой. Отказавшись от мемориальной службы, поминок и даже похоронной церемонии, они лишают себя возможности рано отдаться трауру и отметить то ценное, что было в потерянной жизни.
Конечно, важно найти именно те церемонии и ритуалы, которые значимы для данного человека (близкого суицидента). Какая-то другая церемония может иметь меньшую значимость, но какая бы ни была выбрана — большая или меньшая, общественная или частная, привычная или новая — она может быть чем-то вроде знака препинания, окончанием и началом, способом помочь близким перейти к следующему эмоциональному этапу. В дальнейшем повторные церемонии (годовщины) могут помочь нам определить, как далеко мы продвинулись и сколько еще осталось, чтобы научиться активному реагированию.
Нахождение поддержки
Джон Макинтош, психолог из Университета Индианы, высказывает предположение, что есть «маги совладания с ситуацией», — люди, которые «посылают сигналы» и, в результате, получают всевозможную помощь в обучении активному реагированию. Некоторые же люди не посылают сигналов и не получают никакой поддержки.
Когда случается трагедия, одиночество может сделать ее гораздо более болезненной. Полезно, если человек, переживший самоубийство близкого, может установить контакт с другими людьми, способными помочь ему преодолеть хоть часть этого чувства одиночества. Большую способность в активном реагировании проявляют те, чье окружение (люди и учреждения) предоставляет им возможность чувствовать себя в безопасности, связанными с другими, частью всего мира. Люди, пережившие суицид близкого, могут помочь себе сами, разыскивая такое окружение, не позволяя себе впадать в одиночество и скорбь. Есть люди, которые помогут — мы должны их найти.
Разговор
Никого не удивит, что разговор мы считаем наиболее важным способом обучения активному реагированию на суицид близкого. Молчание, сокрытие своих чувств, вызванных суицидом, наказание самого себя только продлевают скорбь. Выражение скорби и боли, чувств гнева и вины полезно. Чтобы иметь возможность говорить, нужно в первую очередь найти кого-то, кто бы слушал. Следующие три главы касаются разговора и выслушивания, обучения тому, как найти собеседника и как говорить о самоубийстве.
Главу 14 («Оказание помощи выслушиванием») мы начинаем с определения того, что такое помощь людям, пережившим суицид близкого, и предлагаем потенциальным помощникам способы ее оказания. Затем, в главе 15 («Получение помощи путем разговора»), мы переходим к путям активного поиска помощи близкими суицидентов. Глава 16 посвящена серьезной проблеме детей, потерявших одного из родителей вследствие суицида. Наконец, приводятся истории тех, кто уже учится активному реагированию (глава 17, «Жизнь с суицидом»).
В начале настоящей главы мы сказали, что обучение активному реагированию с вовлечением все большей и большей части своего Я требует много времени. Следует добавить, что некоторые чувства никогда не уйдут: чувство потери, потребность найти «объяснение». У вас останутся воспоминания, некоторые из них приятные, иные — печальные. А почему нет? Умер человек, составлявший важную часть вашей жизни. У вас нет причин забыть его. Мы лишь надеемся, что со временем останется больше приятных воспоминаний, не несущих с собой гнева, чувства вины и депрессии.
Вы никогда не сможете отменить происшедшее самоубийство или сделать его менее трагичным, но в результате активного реагирования на него вы сможете идти дальше по жизни более здоровым, более творческим, более продуктивным путем; с должным философским взглядом (издалека) и чувством равновесия; не нуждаясь в отрицании того, что грустное — грустно, но воспринимая вещи такими, как они есть; не нуждаясь в блокировании, ограничении или «урезывании» разных аспектов своего Я.
Это часто означает отказ от сделки или ее пересмотр. Из-за того, что сделки являются привычками, а от привычек трудно отказаться и трудно их изменить, вам потребуется в этом помощь. И именно этому посвящается следующий раздел этой книги.
Глава 14, ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ВЫСЛУШИВАНИЕМ
Лучше всего в нем было то, что он просто позволил мне плакать, кричать и злиться и не старался «все уладить», не пытался улучшить ситуацию. Я сказала ему, что то, что у него не было никакого готового, штампованного ответа, никакого гладкого решения — он просто слушал — было великолепно!
ВандаКогда друг или сосед хочет принести утешение, он часто чувствует, что беспомощно стоит, не зная, что сделать или сказать. Человек, переживший суицид близкого, часто не дает ясного сигнала о том, чего он или она хочет от друзей и близких. Хочет ли она поговорить или побыть одна? Хочет ли он выразить гнев или похоронить его? Часто и сам человек в подобном случае этого не знает. И потенциальный помощник растерян, или смущен, или подавлен — и незаметно вовлекается в главную сделку молчания. Или же, если разговор состоится, то часто в нем скрываются настоящие чувства и отрицается истинное значение суицида.
Если бы друзья яснее понимали, что они могут чем-то помочь и знали, как именно это сделать, то они, вероятно, не были бы парализованы в тот самый момент, когда они больше всего нужны. Наша цель в данной главе состоит в том, чтобы показать, что можно сделать для человека, пережившего самоубийство своего близкого и предложить, как именно можно оказать ему помощь. Глава основана на некоторых мыслях о том, что такое психологическая помощь: полезнее всего создать климат, в котором может наилучшим образом проявиться собственная способность человека к исцелению. Это такой климат, в котором помогающий в основном слушает.
Это касается не только переживших суицид своих близких, но и всех людей, нуждающихся в психологической помощи.
ЦЕЛИ ПОМОЩИ
Для начала следует четко определить цели помощника и человека, нуждающегося в помощи.
Ничто не вернет к жизни умершего любимого человека. Ничто не может исправить того, что случилось, или стереть то, что было сказано таким окончательным действием, как суицид. Но то, что невозможно исправить или изменить, можно легче перенести.
Таким образом, цель оказания людям психологической помощи заключается в том, чтобы они легче переносили потерю, боль и личную трагедию. Помогать близким суицидентов — значит находить для них путь меньше застревать в трагедии и быть более способными к продолжению дел в жизни. Помощь означает нахождение для них способа заключать менее дорогостоящие сделки. Она означает нарушение чрезвычайно дорогостоящего молчания.
Руководство к помощи
Что нужно знать помощнику?
Специалисты-психиатры и психологи исчерпывающе изучили этот вопрос. Часть того, что было выявлено, очень вдохновляет: обычные люди могут помогать друг другу. Естественно, некоторый опыт и обучение в качестве помощника может быть очень полезно (особенно в случаях, когда реакции людей экстремальны), но есть много такого, что может сделать непрофессионал, неспециалист и что принесет огромную пользу. Очень важно подчеркнуть, что совсем не обязательно быть специалистом. Нужно очень хотеть помочь и, самое главное, желать выслушать человека, переживающего горе, испытывающего боль. Это самое главное из того, что делает хороший психотерапевт, и это могут делать друг для друга обычные люди.
• Нужно знать, что в качестве помощника вы не должны улаживать дела (разрешать проблемы) за людей.
Иными словами, вам не надо находить нужный ответ. В действительности не так уж полезно предлагать свои ответы и решения. Такие выражения, как «Может быть, так лучше», или «Будь мужественной ради детей», или «Поплачь», или «Не нужно плакать» звучат как-то жестко, плоско и неуместно. Они действительно бывают неуместны. Людям нужна помощь в нахождении своих собственных ответов и решений. В конечном счете, только их собственные ответы и являются уместными, относящимися к делу.
• Нужно знать, что понимание человеком смысла происшедшего корректируется само, если ему дают возможность произвести такую коррекцию.
Понимание смысла происходящего меняется. Суицид, который сначала воспринимается как обвинение, может в дальнейшем видеться (например) как результат — хотя и печальный результат — болезни, которую никто не мог излечить. Это изменение смысла, и изменение важное. В таком видении вещей гораздо меньше чувства вины и боли.
Изменения обычно происходят в направлении самокоррекции; то есть, если человеку дать шанс, при благоприятном эмоциональном климате понимание происходящего улучшается, а не ухудшается. Хорошая помощь обеспечивает такой шанс. Это дает человеку возможность прийти к своим собственным продуктивным ответам.
• Нужно знать, что хорошее выслушивание способствует хорошему разговору.
Нужный (надлежащий) вид разговора может быть чрезвычайно полезен. Он помогает потому, что позволяет людам сфокусировать внимание на том, что означают для них вещи и события, а затем изменить фокус. Именно эта фокусировка и изменение фокуса, происходящие в атмосфере безопасности, и приводят к изменениям. Разговор — это процесс, с помощью которого люди разбираются в том, что означают для них вещи, а затем разбираются в том, что они могут означать.
Предложить выслушать — это лучший способ помощи человеку, который нуждается в разговоре.
• Существуют правила хорошего выслушивания.
Новая информация, новые перспективы, новые инсайты меняют смысл вещей, но не просто информация, перспективы и инсайты, полученные из внешних источников. Новые знания, идущие изнутри, тоже изменяют смысл вещей.
Хорошее выслушивание имеет своей целью помочь людям сфокусировать внимание на том, что они уже знают, но не всегда знают, что знают. Информация, имеющаяся внутри, может быть пугающей, ее бывает трудно осознавать. Хорошее выслушивание направлено на то, чтобы сделать безопасным осознание того, что уже известно.
Ниже мы приводим ряд предложений о том, как хорошо слушать... На это нас вдохновила чудесная книга психолога Юджина Джендлина «Фокусирование», где много говорится о хорошем выслушивании.
НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ВЫСЛУШИВАНИЯ
Правило 1. Первой задачей является установка на выслушивание.
Чтобы кого-нибудь выслушать, требуется искреннее желание услышать, что этот человек говорит и собирается сказать. Для выслушивания необходимо уважение к его или ее образу мыслей и способу их организации. Для него нужен искренний интерес — чувство, свободное от готовых мнений (пресуппозиций) о том, что именно человеку следует чувствовать, порождающее желание узнать, что он или она чувствует и думает в действительности.
Такое отношение, настройку слушателя легче описать, чем достичь, так как она требует, чтобы слушатель отставил свой образ мыслей и способ определения вещей, отошел от них. Такое отставление особенно трудно, когда мы слушаем о волнующих и болезненных переживаниях, событиях. В таких случаях мы часто сами хотим определять вещи по-своему.
Представьте, например, как к вам приходит человек со своими болезненными, а возможно и постыдными чувствами, касающимися самоубийства отца. Подумайте, что может происходить с вами в то время, пока вы слушаете. Сколько времени пройдет, прежде чем вам захочется его утешить, или поправить (например, сказать ему, что он должен был бы чувствовать), или рассказать свою историю? Даже ваше желание его утешить может быть способом отделаться от него, закончить разговор.
Те, кто занимается помощью профессионально, знают, как трудно сохранить установку на выслушивание. Они знают, что цель, к которой нужно стремиться — уметь все лучше и лучше выслушивать, испытывая при этом все меньше и меньше желания перебивать. Это же верно для любого человека, желающего слушать: ставить перед собой цель сохранять настройку на выслушивание.
Правило 2. Отражение сказанного — повторение собеседнику смысла того, что вы услышали — с этого начинается процесс.
Юджин Джендлин указывает, что в основе техники хорошего выслушивания лежит отражение сказанного («saying back»). Это можно сделать либо словами собеседника, либо своими собственными словами, но цель заключается в том, чтобы уловить сущность того, что говорит собеседник, и повторить ему.
Какой бы простой ни казалась эта техника, она дает удивительные преимущества. Во-первых, она требует, чтобы слушатель сосредоточил свое внимание на мыслях говорящего, а не на своих. Во-вторых, она дает говорящему почувствовать, что собеседник его слышит и понимает, о чем он говорит. В-третьих, что важнее всего, эта методика позволяет человеку, которого выслушивают, перейти в мыслях — и в чувствах — к следующему этапу.
Часто даже тем, что вы буквально повторяете только что сказанные вам слова, вы даете человеку возможность услышать самого себя и расширить его переживание смысла. Кроме того, повторение сказанного нетрудно осуществить. Труднее помнить, что с этого начинается процесс помощи.
Давайте рассмотрим пример.
Женщина пятидесяти лет страдает. Ее дочь покончила с собой. Явно испытывая скорбь и отчаяние, она говорит вам: «Почему? Вот чего я не могу понять: почему она убила себя?»
Вы удерживаетесь от соблазна ответить на сам вопрос или даже успокоить ее. Вместо этого вы отражаете сущность того, что она говорит: «Вы не понимаете причину ее поступка?»
Чем это помогает?
Такой ваш ответ улавливает и поддерживает смещение акцента с боли, которую испытывает женщина, на недоумение, высказанное ею. Он открывает путь для следующего шага, возможно к признанию того, что существует загадка, и к дальнейшему исследованию этой загадки.
Что именно так непонятно? Что ее дочь была настолько подавлена? Что ей пришлось покончить с собой? Что она не нашла другого решения? Или же мать размышляет над тем, что она сама не сделала для дочери чего-то, что ей следовало сделать? Слушатель не может знать этого, но может помочь человеку разобраться в этом.
Мать говорит: «Да, я не понимаю всей глубины ее отчаяния».
Вы говорите: «Вы не понимаете ее отчаяния».
Она говорит: «Ее отчаяние казалось настолько непропорциональным...»
Вы отвечаете: «Трудно понять ее образ мыслей, правда?»
Теперь открывается путь к обсуждению образа мыслей ее дочери, может быть природы ее заболевания и т.д. Фокус сместился с боли матери, через недоумение, к обсуждению, которое теперь может сфокусироваться на понимании и выяснении образа мыслей дочери. Положение изменилось — хотя, естественно, обсуждение и боль не кончились.
Правило 3. Если вы чем-то озадачены, чего-то не поняли — скажите это.
Постарайтесь сказать, что именно из сказанного собеседником вы поняли, а что — нет. Это поощряет говорящего яснее выражать свои мысли (а именно к ясности мы и стремимся).
Женщина продолжает: «Она, казалось, отчаянно хотела мне что-то сказать. Но все, что она говорила, не вязалось между собой. Я все размышляю об этом...»
Вы говорите: «Я понимаю то, что вы сказали о ее отчаянии. Но я не поняла, что она вам говорила и о чем вы размышляете».
Она говорит: «Может быть, она хотела мне сказать что-то — обо мне самой?»
Теперь открыт путь к разговору о том, что происходило между ними. Просьба к матери уточнить помогает ей более четко сфокусировать внимание на том, о чем ей далее нужно поговорить: об их взаимоотношениях с дочерью.
Без колебаний просите у вашего собеседника уточнений, если вы не понимаете, о чем он или она говорит. Ваше притворство, что вы поняли, не поможет; оно достаточно скоро раскроется. Если же вы попросите его или ее уточнить, это будет на пользу.
Правило 4. Еще один способ помочь в беседе — это сказать собеседнику, что вы чувствуете, когда его слушаете.
Можно сказать, что вы чувствуете по отношению к собеседнику или какие чувства вы испытываете к себе. Старайтесь выразить их позитивно, но будьте честны. Ваша задача в этом случае — дать реакцию, а не совет, не слова утешения; вызвать у говорящего чувство, что его услышали и отреагировали на его слова. Суть заключается в том, чтобы не перебивать, не вмешиваться из-за своей потребности выразить себя, а дать собеседнику что-то («зацепку»), что поможет ему продвигаться вперед в его размышлениях.
Например:
«Когда вы так рассказываете о своей дочери, мне тоже очень грустно и я тоже озадачена ее поступком».
Или:
«Вы заставляете меня думать о моем ребенке, о том, что бы я испытывала, если бы он такое сделал».
Или (и это приводит нас к еще одной методике — правило 5):
«Слушая ваш рассказ, мне очень хочется вам помочь».
Правило 5. Иногда можно говорить о том, что происходит между вами и собеседником.
Это особенно интенсивная форма обмена вашими реакциями. Она заставляет человека остро и четко осознавать свои высказывания. Она может быть очень ценной, но ее следует применять тактично и честно.
Вы можете сказать: «Знаете, вы всегда приходите ко мне со своей печалью. Я рада, что вы считаете, что я могу вам помочь, — но я также испытываю печаль».
Или:
«...но это вызывает у меня чувство вины, что у меня есть сын, а вашей дочери у вас теперь нет».
Или даже:
«...но мне кажется, что вы слишком многого от меня ждете. Может быть, вы нуждаетесь в такой помощи, которую я не могу вам оказать».
Важно помнить, что этот вид реагирования все же остается формой выслушивания. Вы прислушиваетесь к действию, которое оказывает на вас собеседник. Вы делитесь своими переживаниями, своими чувствами или своим восприятием взаимодействия между вами, чтобы этим помочь собеседнику сфокусировать внимание, сделать его яснее и лучше понять его или ее собственные переживания. Здесь особенно важна настройка на выслушивание.
Правило 6. Ищите сдвигов в осмыслении.
Важно помнить, что в роли помощника-слушателя вы не обязательно стремитесь к тому, чтобы ваш собеседник выразил согласие с вашими ответами. Вы даже не ищете прямого словесного выражения того, что собеседник почувствовал себя лучше. Вы не ищете его благодарности (как бы приятна она вам ни была). Вы ищете свидетельства того, что произошел сдвиг в осмыслении. Собеседник, хотя бы временно, видит обстоятельства несколько иначе, под другим углом зрения. Именно это признак того, что произошло что-то полезное.
Одна из причин того, что бывает трудно обеспечить продолжительную серьезную помощь — и почему бывает нужен специалист для продолжения работы — заключается в том, что серьезный слушатель должен добровольно отказаться от всех обычных сигналов и выражений благодарности, как например «вы правы» и «спасибо, что вы мне помогли, мне уже лучше». Как бы приятно ни было их слышать и как бы правильно ни было надеяться услышать их в конце, вы не можете полагаться на такую обратную связь. Единственным реальным сигналом того, что вы помогли, является очевидность того, что опыт и переживания вашего собеседника продвинулись вперед.
Правило 7. Будьте готовы к тому, что процесс будет медленным.
Совершенно очевидно, что описанные выше правила упрощают сложный процесс. Помните, ваша задача в том, чтобы способствовать трудному, сложному и часто болезненному прорабатыванию. К одним и тем же проблемам приходится возвращаться вновь и вновь. А затем еще раз, сначала! Смысл изменяется медленно. Будьте терпеливы.
Правило 8. Будьте готовы отойти в сторону.
Иногда, когда вы получите сигнал, вам придется отойти в сторону и ждать. Часто людям нужны время и пространство, чтобы самостоятельно проработать процесс, начатый при разговоре. Если вы поймете, что требуется именно это, скажите человеку, что вы всегда готовы помочь ему, что вы уважаете его потребность в психологическом пространстве, но что вы готовы выслушивать его опять, когда он захочет поговорить.
НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ ПО ВЫСЛУШИВАНИЮ
Применяйте выслушивание. Удивительно, как мало мы слушаем других в повседневной жизни. Выслушивание — забытое искусство, мы пренебрегаем им в нашем стремлении думать о своих собственных переживаниях. Часто мы говорим потому, что хотим выяснить, какова же наша собственная жизнь. Помощь состоит в другом. Вспомним одного психолога, чья двадцатилетняя пациентка покончила с собой. Психолог чувствовал себя виноватым и сказал об этом коллегам. Они поторопились успокоить его, напомнить, что он был лишь одним из факторов в ее жизни, что у нее была своя воля, что никто не властен над жизнью другого человека и т.д. Слушая горячие излияния своих заботливых друзей, психолог все больше и больше расстраивался и все больше и больше сердился. «Если бы только они позволили мне поговорить о том, что Я чувствую, — сказал он, — вместо того, чтобы ограничивать мое чувство вины». Как это ни парадоксально, но его коллеги фактически делали с ним то, что никогда бы не делали с пациентом.
Пользуйтесь возможностью практиковать выслушивание в повседневной жизни. Следуйте правилам, приведенным выше. Тогда вы будете гораздо лучшим помощником, если к вам обратятся. И вы увидите: ваше повседневное общение станет более глубоким и содержательным.
ЛЮДЯМ, ПЕРЕНЕСШИМСУИЦИД БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА
Если вам нужна помощь, найдите слушателя. Некоторые люди умеют слушать лучше других. По какой-то причине они с большей готовностью отказываются от удовлетворения своей потребности в самовыражении. Они достаточно умны, чтобы не давать пустых советов. Они сумеют предложить вам свое общество так, чтобы с ними вы яснее все воспринимали. Найдите человека, который, как вы чувствуете, вас слышит и понимает. Поговорите с ним или с ней.
Вы можете прямо сказать людям о своем желании, что вы бы хотели, чтобы вас просто выслушали и сказали бы: понимают ли вас, повторили бы, что от вас услышали. Скажите им, что вы не просите у них советов, готовых решений или даже слов утешения. Скажите, что вы просто хотите, чтобы вас послушали.
Если вы не можете найти хорошего слушателя (большинство друзей хороши до определенного момента, а затем переходят к своим делам), вам может потребоваться специалист. Вам может быть нужен человек, обученный помогать другим разбираться в происходящем, понимать смысл и умеющий удерживаться от того, чтобы навязывать вам свои мысли, чувства и ценности. Но обращаясь за профессиональной помощью, следуйте тому же критерию: вам нужен человек, слышащий и понимающий вас. Если это не так, то какое бы ни было у него образование, он вам скорее всего не поможет.
Несколько советов о советах
У вас, как у человека, пережившего суицид своего близкого, попавшего в беду и страдающего, может возникнуть искушение считать, что вам нужна помощь большая, чем просто выслушивание. Вы можете думать, что нуждаетесь в чем-то более активном — чтобы кто-то взял на себя ваши проблемы, сказал бы, что вам делать.
Конечно, советы, относящиеся к делу, бывают полезны. Юридические, финансовые или медицинские советы, например, могут быть важны психологически (помимо решения вопросов, касающихся права, финансов и здоровья). Советы вызывают у вас чувство, что о вас позаботились, и вы меньше страдаете от одиночества. В моменты стресса мы нуждаемся в том, чтобы чувствовать заботу о себе и меньше испытывать одиночество.
Но будьте осторожны. Полезность совета зависит от желания и возможности советчика выслушать вас. Нужно, чтобы ваши советчики были слушателями. Если это не так, то их совет будет скорее касаться их самих (то есть того, что было бы нужно им, если бы они были на вашем месте), чем вас.
Глава 15, ПОЛУЧЕНИЕ ПОМОЩИ ПУТЕМ РАЗГОВОРА
Я не могу вам передать, насколько прекрасно было иметь возможность говорить с ней; это было частью того бесконечного, непрекращающегося излияния чувств, которое, как я теперь понимаю, так необходимо.
Близкий суицидентаТо, что невозможно исправить или изменить, иногда можно легче перенести. Как мы говорили выше, чтобы перенести трагедию легче, нужно иметь возможность отреагировать на нее естественным, самокорректирующим процессом скорби. На это и направлена помощь — на нахождение климата, в котором этот самокорректирующий процесс (процесс, в результате которого вы чувствуете себя немного лучше, немного менее подавлены, меньше застреваете) продвигается вперед. И самое главное в таком климате — это иметь возможность быть услышанным. Говорить и быть услышанным.
Многие близкие суицидентов организуют себе возможность быть услышанными, соглашаясь выслушивать друг друга в группах самопомощи. Другие организуют это с помощью психотерапии. Некоторые семьи соглашаются получить помощь, выслушивая друг друга в семейной терапии. Данная глава посвящена этим видам помощи.
ГРУППА САМОПОМОЩИ
В течение последних нескольких лет во многих местах США люди, пережившие суицид своих близких, собирались вместе, иногда со специалистом в области психического здоровья (социальным работником, психологом) иногда — без такого специалиста, в группы самопомощи где они могли бы рассказать о своем горе, выразить свои чувства.
Концепция таких групп не нова. Группа «Анонимные алкоголики», вероятно, является самой первой и наиболее известной, но есть и много других. В Нью-Джерсийской службе «Self-Help Clearing House», мы видели компьютеризированный список сотен таких групп, во всех областях человеческих страданий, от страдающих от побоев женщин до жертв диабета или суицидов.
По большей части группы самопомощи функционируют сходным образом: многие, например, собираются по вечерам и начинают с простого ужина вскладчину, к которому каждый что-нибудь приносит. Разговор за ужином общий, люди интересуются, например, кто где был в течение прошедшего месяца. Новых членов группы представляют именно в это время.
Затем, во время организованных занятий, которые продолжаются приблизительно два часа, члены группы обычно по очереди рассказывают о себе. Поочередно, по кругу каждый человек называет себя, говорит, кто из его близких умер, как это случилось, что он/она чувствует в связи с этим. Какое-то время никто не отвечает, каждый член группы с уважением слушает истории других людей. Затем, когда кто-нибудь замолкает, возможно охваченный слезами или горем, другой член группы или лидер может что-то сказать. Это может быть что-нибудь простое, например: «Да, и я это чувствовал». Или: «Позвольте я расскажу, что случилось со мной».
Люди делятся чувствами вины. Некоторые спешат извинять друг друга, хотя часто кто-то говорит: «Если она хочет чувствовать себя виноватой, пускай. Мы все так себя чувствуем».
По мере того, как идет время и круг замыкается (когда последний член группы расскажет свою историю), обсуждение становится свободнее. Кто-то может вспомнить о чем-то о чем он/она не рассказал(а). Кто-то может вставить замечание. Задается вопрос, и на него отвечают. Часто звучит вопрос «Почему?». «Почему мне не сказали?» «Почему врачи не сделали что-то?» «Почему мой внук отказывается говорить о самоубийстве?»
Некоторые группы предназначены для всех людей, потерявших близкого в результате суицида; другие имеют более специфичную направленность. Большинство групп принимают любого человека, желающего в них участвовать, хотя во многих заранее проводится беседа, чтобы проинформировать людей — чего им следует ожидать от группы.
МАРТА: В моем районе есть две разные группы. Одна была для молодых родственников, другая — для лиц более старшего возраста. Сначала мы посещали первую группу. Люди в группе были очень приятными. У них всех после случившегося самоубийства прошло уже какое-то время. Месяц, шесть месяцев, два года, пятнадцать лет. Группу ведут две женщины, у них обеих произошли суициды в семьях — их братья покончили с собой — так что они могут все понять, кроме того, они психологи и понимают все и с этой позиции. В этом месяце мы ходили во вторую группу. Там тоже люди, потерявшие мать, невесту, отца. Хорошо просто поговорить с людьми, которые понимают.
Огромная важность разговора с теми, кто понимает ваши чувства, признается почти всеми людьми, посещавшими группы.
САРА: Я чувствовала, что это было хорошо, ведь там были люди, прошедшие через все это. Мне не хотелось много говорить об этом дома, потому что, если Патриция чувствовала себя в какой-то день хорошо, мне, конечно, не хотелось нагружать ее. Она и отец были настроены так же. Поэтому я предпочитала поговорить с кем-то другим. Я чувствовала, что для людей из группы это не было в тягость. Они очень поддерживали меня.
Есть также и другие причины того, что группы помогают людям.
«Группы позволяют нам поделиться своим горем».
«Мы можем там преодолеть печать стыда».
«Мы чувствуем себя там в безопасности и можем поделиться своей болью».
«Группа повышает самооценку».
«Она дает нам модели поддержки».
«Она говорит мне, что горе — это нормально».
«Взаимная поддержка помогает нам преодолеть миф о том, что, если бы я сделала что-то, чтобы он почувствовал себя более любимым, — он бы остался жив».
«Группа помогает выплакаться, и при этом люди не прекращают свои дела».
«Люди нуждаются в том, чтобы знать, что они не сошли с ума. Группа избавляет нас от страхов, касающихся нашего поведения, и от страхов, касающихся испытываемых страхов».
Некоторые группы самопомощи ведут профессионалы, имеющие образование в области психического здоровья или опыт в психологическом консультировании или в работе с группой; другие группы ведут лица, сами пережившие суицид своих близких и желающие помочь другим людям, попавшим в подобную ситуацию.
Можно спорить о том, какая форма руководства группой лучше, но несомненно, что личные качества лидера имеют огромное значение для того, чтобы опыт группы самопомощи был эффективным и ценным. Некоторые считают, что специальное образование и профессиональная подготовка являются обязательными и что для поддержки микроклимата, в котором возможна настоящая помощь, требуются опыт и чуткость.
С другой стороны, некоторые убеждены, что одного только профессионального психологического образования недостаточно, чтобы человек мог квалифицированно вести группу людей, переживших суицид своих близких. По их мнению, группы показывали, что могут хорошо работать и без профессионалов, которые часто (как они говорят) не понимают, какие чувства испытывают участники группы.
Будь то профессионал или неспециалист (в некоторых группах имеются оба), необходимое качество лидера, которое следует искать и у любого лица, помогающего другим, — это способность слушать и помогать членам группы слушать друг друга. Именно в этом и заключается эффективность группы. Самое важное, что группы — это способ быть услышанным: поделиться переживаниями с людьми, которые эти переживания поймут и им посочувствуют.
Группы самопомощи эффективны и по другим причинам. Они поощряют вид деятельности, который способствует ускорению протекания процесса скорби в человеке, — работу по оказанию помощи другим. «Я излечиваюсь по мере того, как помогаю другим», — сказал нам один участник группы.
Кроме того, группа — это место, где можно вспомнить умершего, поговорить о нем свободно, не чувствуя ограничений, накладываемых обществом и друзьями. Большинство людей также считают, что лица, пережившие суицид своих близких, могут использовать группы, чтобы получить утешение и поддержку, покончить с дезинформацией и, глядя на то, как другие продолжают жить дальше, сдвинуться с мертвой точки и получить вдохновение от того, что другие продолжают жить.
У групп самопомощи есть и ограничения. У некоторых людей могут быть серьезные проблемы, существовавшие еще задолго до случившегося суицида — проблемы, которые группа просто не может излечить. Например, возможны депрессивные состояния, требующие психиатрического вмешательства.
Бывает, что некоторые люди пытаются навязать себя и свои потребности группе таким образом, что их поведение может стать манипулятивным или доминирующим. В отсутствие лидера, обладающего достаточным опытом в обращении с подобными людьми, конкретная разновидность «застревания», свойственная одному человеку, может стать настоящей проблемой — для него самого и для всей группы.
Таким образом, если группа не работает так хорошо, как желал бы пришедший в нее человек, стоит поискать другую — или альтернативную форму помощи.
Мы живем в мире, где люди, пережившие суицид близкого человека, чувствуют себя изолированными и одинокими. Молчаливое горе углубляет эту изоляцию. Гнев и чувство вины усугубляют ее. Изоляция растет сама собой. Группы самопомощи являются одним из способов вырваться из нее и обеспечить наступление здорового процесса горя — вместе с другими людьми, которые также пережили все это. Группы самопомощи могут быть эффективными и важными. Хотелось бы только, чтобы они были более доступными.
Но ко времени написания этой книги в США существует всего 150 групп самопомощи в данной области. Среднее число членов в каждой из них — 35 человек. Среднемесячная их посещаемость — 18 человек. Это означает, что только около 4500 нуждающихся охвачено помощью и только 3000 из них посещают группы регулярно — из приблизительно 600000 человек, которые ежегодно попадают в число тех, кто пережил суицид своих близких. По-видимому, сделка молчания настолько сильна, что такие люди даже не разыскивают друг друга.
МАРТА: Думаю, что меня особенно расстраивало отсутствие помощи, доступной для людей, переживших самоубийство близкого человека. Я имею в виду тот факт, что мне приходится ехать на машине час пятнадцать минут в Нью-Джерси, потому что в Нъю-Йорке, метрополисе с восемью миллионами жителей. Я довольно упорный человек, и я звонила — если подсчитать, то в целом примерно пятьдесят раз — и ничего не могла добиться, до тех пор пока мне, наконец, не сказали о той группе, которую я сейчас посещаю. Это ужасно, потому что я знаю, что большинство людей не настолько упорны, как я. Если только они не получат нужные сведения при первом или втором своем звонке, то они так все и оставят. Есть много людей, нуждающихся в помощи и не получающих ее. Никто не знает, насколько плачевен результат.
ПСИХОТЕРАПИЯ
Какими бы полезными ни были группы самопомощи, часто бывает, что люди — даже при отсутствии у них тяжелых проблем — нуждаются в таком уровне внимания и чуткости, который, возможно, не сможет обеспечить им эта группа. Они могут нуждаться в такой ясности, терпении и такте, которые способен проявить лишь подготовленный слушатель, опытный психотерапевт.
Тем не менее, люди подчас неохотно обращаются к психотерапевту. В то время, как многие посещают врачей общего профиля по поводу различных физических заболеваний в течение нескольких первых месяцев после случившегося суицида, мало кто идет к психотерапевту. Некоторые просто не понимают, что нуждаются в такой помощи или что им такая помощь может быть обеспечена. Другие не обращаются за ней — молчаливые в своем горе, они сохраняют это молчание и в отношении обращения за помощью.
Иные люди в этой ситуации выражают гнев (часто достаточно сильный) в адрес работников служб психического здоровья.
Иногда, как мы писали в главе 6, гнев на врачей может быть одним из вариантов поиска «козла отпущения». Иногда это порождение горького разочарования. В самом деле, специалисты в области психического здоровья, к которым они в прошлом обращались, их, казалось бы, подвели, и подвели ужасно. Они не удержали в живых их любимых людей.
Значит, отчасти, это гневное нежелание обращаться к психотерапевту обусловлено настоящим разочарованием. И за это разочарование несут какую-то долю ответственности профессионалы — они позволили себе пообещать больше, чем могли дать. Часто они брали на себя задачу «лечить» кого-то, кто неизлечим, или они недостаточно ясно выражали свои мысли, или не проявили должной скромности в отношении границ своих возможностей.
Но разочарование от прошлых неудач может привести к печальному непониманию. Люди часто думают, что раз профессионалы не спасли их сына или дочь, мать или отца, значит, они не могут теперь и для них ничего сделать. В этом они ошибаются, потому что ситуация здесь совершенно другая. Во-первых, в большинстве случаев психологическая проблема близкого очень отличается от проблемы человека, совершившего суицид. Во-вторых, вид психотерапии, требующийся в этом случае — разговорная психотерапия — другой.
Что касается психотерапии, полезно помнить, что разговор, происходящий в кабинете психотерапевта, больше похож на вариант обучения, чем на лечение в медицинском понимании. Это процесс обучения, направленный на прояснение переживаний, коррекцию искаженных концепций, облегчение тревог. Психотерапевт способствует эмоциональному росту так же, как учитель способствует интеллектуальному росту, например задавая хорошие вопросы, помогая пациенту работать над своими собственными ответами, выслушивая пациента, указывая важные связи, которые пациент, может быть, не заметил, помогая пациенту осознать его тенденцию к тому, чтобы уходить от собственных хороших ответов или их игнорировать.
Такая деятельность, так же как и хорошее образование, может быть чрезвычайно полезна, помогая людям преображать свою жизнь. Но она может быть совершенно неадекватна при разрешении иного рода проблем. Если, например, у человека депрессия, вызванная биохимическими нарушениями в организме, никакая разговорная психотерапия не может быть достаточной.
Однако горе человека, пережившего самоубийство своего близкого, отличается от депрессии самоубийцы — по крайней мере, в большинстве случаев. Люди в этой ситуации не являются в прямом смысле «больными», то есть они не больны физически. Это здоровые люди, проходящие через очень тяжелый процесс, переживающие реакцию адаптации к жестокому стрессу — посттравматическое стрессовое расстройство, описанное нами в главе 2.
Люди в этой ситуации не обязательно страдают глубокими невротическими или психотическими нарушениями, возникающими вследствие ранних детских нарушений, или обнаруживают симптомы биохимически обусловленного расстройства — проблемами, при которых, как мы уже говорили, эффективность психотерапии часто бывает ограниченной. Фактически, они скорее мучимы как раз той проблемой, при которой психотерапия наиболее эффективна — реакцией адаптации, возникшей вследствие специфичного и недавнего события. Более того, чем раньше после такого события люди обращаются за помощью, тем более эффективной может она оказаться; чем дольше они откладывают (и чем меньше говорят), тем труднее им помочь.
Таким образом, есть ряд фактов, касающихся психотерапии, которые следует помнить людям, пережившим суицид близкого человека:
Получение помощи зависит от получения хорошего слушателя. Психотерапевты являются подготовленными слушателями.
Думайте о психотерапии как о своего рода обучении (а не о лечении). Вы научитесь видеть себя и то, что с вами случилось, более ясно — и с более удобной позиции.
Как и в учебе, лучшие, более способные ученики лучше успевают. Может быть, это печально, может — вызовет ироничную улыбку, но это правда — здоровые люди получают от психотерапии больше, чем больные.
Люди, пережившие суицид близкого человека, в большинстве являются здоровыми людьми, страдающими реакцией адаптации. В связи с этим они хорошо поддаются психотерапии.
Чем раньше вы получите помощь, тем лучше. Чем дольше вы будете откладывать (и чем меньше говорить), тем труднее будет психотерапевту вам помочь.
Психотерапевты являются подготовленными слушателями, но они еще и люди. Вам, естественно, одни люди нравятся больше других, вы с ними чувствуете себя комфортнее. Найдите психотерапевта, к которому вы испытываете хорошие чувства. Прежде всего такого, который, по вашему мнению, понимает, о чем вы говорите.
СЕМЕЙНАЯ ТЕРАПИЯ
Иногда семьи, даже любящие семьи, попадают в безвыходное положение: члены семьи не могут друг другу помочь — застревают в гневном тупике или застывают в своей неспособности справиться с горем.
При семейной терапии вся семья вместе посещает терапевта, который помогает членам семьи поговорить между собой. При их совместном разговоре терапевт помогает им прояснить свое общение и понять свое взаимодействие друг с другом. Проблемные паттерны поведения (такие, как скрытые альянсы, неправильно направленная лояльность, реакции гиперпротекции или большое число других нездоровых форм общения) могут быть выявлены и указаны.
Семейная терапия обычно считается кратковременным методом — шесть, восемь или двенадцать сеансов. Она может быть очень полезной, чтобы «сдвинуть с места» «застрявшую» семью. Она может быть особенно полезной для изменения или расторжения плохой сделки в семье.
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
Но как может человек узнать, когда ему обратиться за помощью к психотерапевту? Иными словами, когда бывает недостаточно группы самопомощи? Когда недостаточно неподготовленных, но сочувствующих слушателей дома?
Чувствуете ли вы себя лучше? Стала ли ваша скорбь менее горькой? Начали ли вы отказываться от мысли, что именно вы виноваты в случившемся? Меньше ли вы сердитесь? Можете ли вы, как выразил это один человек, переживший суицид своего родственника, сказать:
Это случилось. Мне жаль, что это произошло. Я бы не избрал суицид ни для него, ни для себя. Но теперь все позади. Я умываю руки. Я свободен. Пора продолжать свою жизнь.
С другой стороны, есть ли литания, которую невозможно прервать? Прошло уже пять лет, а вы все еще чувствуете горечь, подавленность, болезненное состояние? Трудно ли вам до сих пор вернуться к своей работе? Продолжаете ли вы делать суицид центром своей жизни?
Ваши ответы на эти вопросы помогут определить, показана ли вам еще какая-нибудь форма помощи. Умелое выслушивание может вскрыть процесс, который будет способствовать выздоровлению, оно очень полезно для уменьшения боли, которую испытывает человек.
КАК НАЙТИ ПСИХОТЕРАПЕВТА
Найти психотерапевта не всегда просто. Лучше всего последовать рекомендации человека, которого вы знаете и которому доверяете. Люди, сами побывавшие на сеансах психотерапии, — хороший источник рекомендаций. Если они хорошо говорят о психотерапевте, к которому сами обращались, знают вас и считают, что вы и этот терапевт найдете общий язык, то с этого хорошо начать.
Существуют местные профессиональные организации социальных работников, психологов, психиатров и медсестер, в которые вы можете обратиться. Они рады будут дать вам совет. То же можно сказать о местных университетах с отделениями социальной работы, медицинских учебных заведениях и т.п.
Следует также знать, что ничего предосудительного нет в том, чтобы записаться на первую беседу к нескольким потенциальным психотерапевтам — и выбрать того, кто вам больше всего понравится.
«ДРУГИЕ ТЕРАПЕВТЫ»
Очень легко попасть в ловушку чувства, что никто не станет вас слушать. Иногда все дело в том, чтобы постараться кого-то найти. Например, в разговорах с близкими суицидентов мы услышали, что некоторых наших собеседников очень поддержали в процессе их выздоровления как члены их семей, так и люди, не относящиеся к их семьям. Эти близкие суицидентов не обращались ни в группы самопомощи, ни к психотерапевтам. Мы назвали их помощников «другими терапевтами».
Это люди, которые готовы быть рядом с таким человеком, когда другие этого не могут, примерно так же как в повседневной жизни тот или иной член семьи имеет желание выслушать и понять, в то время как другой не обеспечивает нам того, в чем мы нуждаемся. В самом деле, не может один человек дать нам то, в чем мы нуждаемся ежеминутно, но кто-то из членов семьи или друг может нас выслушать, может позволить нам выразить наш гнев или выплакать горе, может стать «другим терапевтом».
Национальная Академия Наук (США) в исследовании, опубликованном в «Нью-Йорк Тайме», показала, что наперсник может особенно хорошо помочь в период скорби. Когда человек, переживший суицид своего близкого, остается один, он или она ведет беседу с умершим человеком, в то время как в присутствии собеседника, скорее, будет говорить о значении своей потери и о том, как его или ее жизнь должна будет теперь измениться. Такие наперсники являются «другими терапевтами», как, например, друг Ванды (в главе 14), который «просто слушал».
Лучшими «другими терапевтами» может быть расширенная семья, поступающая так, как поступали семьи Сары и Дэйва (по их рассказам).
ДЭЙВ: Думаю, что наличие в семье стольких детей, сколько было в нашей, изменяло ситуацию в лучшую сторону. Всегда был кто-то, на чьем плече можно было поплакать, и еще кто-нибудь, чтобы отвлечь твои мысли от случившегося. Нужда в человеческом общении, любовь других людей, так необходимая тебе, — все это обеспечивалось благодаря тому, что в семье было много людей.
САРА: Мой парень взял целую неделю отпуска. Он был со мной. Да и все мы друг друга поддерживали, старались говорить друг другу: «Это не твоя вина, не нужно чувствовать себя виноватым. Тебе не в чем винить себя».
Мы были близки друг другу и раньше. Между нами уже была установившаяся связь. И мы говорили: понимаете, это случилось, и никто в этом не виноват.
Отсюда видно, что сами люди, пережившие суицид близкого человека, могут быть «другими терапевтами»: отец или мать, помогающие другим справиться с тяжестью потери ребенка; ко-лидер группы самопомощи; сестра или брат самоубийцы. Интересно, что такие «другие терапевты» заметили: помощь другим приносит значительное облегчение их собственной боли.
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК / БЛИЗКИЙ СУИЦИДЕНТА: Была одна пара из Колорадо, которая потеряла сына. Они всем рассказывали о том, как узнать, что у ребенка есть суицидальные тенденции, предупреждая людей, особенно родителей, о знаках опасности. Он — отец — сказал мне, насколько ему лучше, когда он чувствует, что активен, что он что-то делает.
МАТЬ: По вторникам и четвергам я хожу к тем старикам, у которых сын покончил с собой. Он жил с ними много лет. Может, это «родительская» часть меня, а может быть, я чувствую себя лучше потому, что могу о ком-то позаботиться — и на этот раз результат будет лучше. Как бы то ни было, моя помощь им помогает и мне. Конечно, может быть, я просто стараюсь возместить то «зло», которое я делала раньше, но я так не думаю.
БЛИЗКИЙ СУИЦИДЕНТА, ОСНОВАВШИЙ ГРУППУ САМОПОМОЩИ: Это способ сделать бессмысленную смерть наполненной смыслом.
Мы только можем пожелать, чтобы для каждого человека, пережившего суицид своего близкого, нашелся не только человек, готовый ему помочь, но и кто-то, для кого он сам мог бы стать «другим терапевтом».
Глава 16, РАЗГОВОР С ДЕТЬМИ
К потрясению и растерянности ребенка, вызванным смертью брата, сестры или родителя, прибавляется еще и недоступность другиx членов семьи, которые могут быть так потрясены горем, что не способны обсуждать смерть с ребенком. Родственники в подобной ситуации должны проводить с ребенком как можно больше времени, ясно давая ему понять, что ему разрешается показывать свои чувства открыто и свободно.
Американская Академия детской психиатрииДетям свойственно чувствовать ответственность за суицид или думать, что они должны были как-то его предотвратить; жизнь под тяжестью этих мыслей может вызвать у них депрессию, пассивность и аутоагрессию.
Методическое письмо Центра психического здоровья Гарвардской медицинской школыЯ никогда не видел, не слышал и не читал о человеке, потерявшем родителя в результате суицида, который бы не страдал от серьезных и продолжительных последствий.
Т. Л. Дорпат, психиатрСуществует преобладающее и неправильное мнение, касающееся разговоров о смерти (особенно в результате суицида), что лучше оставить детей в покое, чтобы они сами излечились, или вообще не разговаривать с ними, чем сказать «не то, что нужно». Или даже что сказать правду о смерти маленьким детям — вредно для них.
Примечания
1 Отцы у Ральфа и Мэй оба покончили с собой; у каждого из них был брат, совершивший суицид. Семьи, в которых происходит по несколько самоубийств, встречаются довольно часто. Можно даже сказать, что одно самоубийство, по-видимому, провоцирует другое — трагическое явление, которое будет обсуждаться в 10 главе.

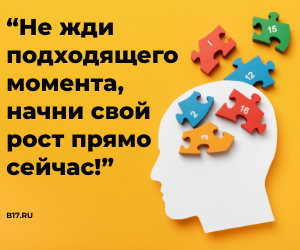

Комментарии к книге «Молчаливое горе: Жизнь в тени самоубийства (фрагменты из книги)», Кристофер Лукас
Всего 0 комментариев