Лекции по общей психологии
РАЗДЕЛ I. Эволюционное введение в психологию
ГЛАВА 1. Психология как наука. Ее предмет и практическое значение
Человек живет и действует в окружающей его социальной среде. Он испытывает потребности и пытается их удовлетворить, получает информацию от окружающей среды и ориентируется в ней, формирует сознательные образы действительности, создает планы и программы действий, сличает результаты своей деятельности с исходными намерениями, переживает эмоциональные состояния и корригирует допускаемые ошибки.
Все это является психической деятельностью человека, а наука, изучающая психическую деятельность, называется психологией.
Психология ставит своей задачей установить основные законы психической деятельности, проследить пути ее развития, вскрыть лежащие в ее основе механизмы и описать те изменения, которые происходят в этой деятельности в патологических состояниях.
Только та наука, которая способна изучить законы психической деятельности с возможной точностью, может обеспечить не только познание этой деятельности, но и управление ею на научных основах. Именно поэтому научная психология становится одной из самых важных дисциплин, значение которой будет все более возрастать с развитием общества и с дальнейшим совершенствованием ее методов.
К истории психологии как науки
Психология как наука имеет очень короткую историю. Однако первые попытки описать психическую жизнь человека и объяснить причины человеческих поступков коренятся в далеком прошлом. Так, например, еще в древности врачи понимали, что для распознания болезней необходимо уметь описать сознание человека и найти причину его поступков.
Этот материалистический подход к поведению человека был на многие века оттеснен идеалистической философией и церковью, которые подходили к сознанию человека как к проявлению его духовной жизни, считая, что духовная жизнь не подчиняется тем же законам, что и вся материальная природа, и к ее анализу нельзя подходить с причинным объяснением явлений.
Вот почему в течение столетий к психическому миру человека и к его сознанию подходили как к явлениям особого рода, обособленным от всех остальных естественных процессов. Философы по — разному трактовали сознательную жизнь, считая ее проявлением божественного разума или результатом субъективных ощущений, где они видели простейшие «элементы», из которых построено сознание. Однако всех философов — идеалистов объединяло убеждение, что психическую жизнь следует понимать как проявление особого субъективного мира, который раскрывается только в самонаблюдении и не доступен ни для объективного научного анализа, ни для причинного объяснения.
Такой подход к психическим процессам на многие столетия задержал развитие научной психологии, и даже после того, как процессы внешнего мира стали предметом точного научного исследования, явления психической жизни человека продолжали рассматриваться как проявление особого, духовного мира, доступного только для субъективного описания.
Разделение всех явлений на две большие категории (физические — доступные для причинного объяснения и психические — недоступные для объективного научного анализа) было закреплено основными положениями дуалистической философии Р. Декарта, который считал, что все физические процессы, включая поведение животного, подчинены законам механики, в то время как психические явления следует рассматривать как формы духа, источником познания которых может быть только разум или интуиция.
Дуалистический подход сохранился в зарубежной философии и психологии до последнего времени. В XIX в. ученые начали рассматривать элементарные физиологические и психофизиологические процессы (включающие ощущения и движения) как естественные процессы, подлежащие исследованию точными научными методами, но высшие явления психической жизни (сознание, мышление) продолжали считаться проявлением духовного мира, подойти к которому можно только путем субъективного описания происходящих в нем явлений. Это положение привело к тому, что к концу XIX в. психология фактически разделилась на две области:
• естественно — научную, или физиологическую, психологию, которая пыталась точно изучить и причинно объяснить элементарные психические процессы и установить их объективные законы;
• описательную, или субъективную, психологию, которая рассматривала высшие формы сознательной жизни человека, подходя к ним, как к проявлениям духа.
Дуалистический подход к явлениям психической жизни нашел свое отражение в трудах таких классиков психологии, как немецкие психологи В. Вундт (1832–1920), Г. Эббингаус (1856–1909), как американский психолог У. Джемс (1842–1910), и представителей идеалистической философии, таких как В. Дильтей (1833–1911)и др.
Влияние дуалистического подхода к психическим явлениям завело психологическую науку в тупик и вызвало естественные попытки преодолеть возникший в психологии застой, ввести в изучение психических процессов естественнонаучные методы и подходить к этим процессам так же, как и ко всем другим явлениям природы.
Эта тенденция, проявившаяся уже у французских материалистов и отчетливо сформулированная в середине XIX в. русскими революционными демократами, нашла свое яркое отражение в трудах выдающегося русского физиолога И. М. Сеченова (1829–1905). В своей книге «Рефлексы головного мозга» он высказал мысль, что и наиболее сложные процессы психической жизни следует рассматривать материалистически, как сложные рефлексы. По его мнению, мысль является тем же рефлексом, но заторможенным, оставшимся без своего внешнего моторного конца, а явления психической жизни должны изучаться естествоиспытателем теми же путями, которыми изучаются и другие явления природы. Эта материалистическая линия была продолжена другим выдающимся русским физиологом, И. П. Павловым (1849–1936) — основоположником объективного изучения высшей нервной (психической) деятельности при помощи условного рефлекса. Попыткам подойти к объективным, физиологическим основам психической деятельности и обосновать возможность объективной, естественнонаучной психологии были посвящены труды выдающихся представителей русской науки В. М. Бехтерева (1857–1927), А. А. Ухтомского (1875–1942) и др.
Учение И. П. Павлова об условных рефлексах, которое он сам расценивал как физиологическую основу психологической науки, оказало большое влияние на развитие американской психологии. В конце XIX в. американский психолог Э. Торндайк начал исследовать поведение животных, применяя методы, позволявшие проследить, как вырабатываются новые навыки животных в лабиринте. Эти исследования легли в основу нового направления в психологии, названного американским психологом Дж. Уотпсоном бихевиоризмом (наукой о поведении). В нем он видел естественно — научную форму психологической науки, которая должна заменить психологию. Исходя из положения, что «сознание» является не более как субъективным понятием, недоступным для объективного исследования, представители американского бихевиоризма предложили сделать предметом научного исследования лишь внешнее поведение животного, которое, по их предположениям, является результатом его биологических влечений (потребностей) и надстроенных над ними условных рефлексов. Так создалось новое направление в науке, которое отбрасывало всякое изучение субъективного мира и ограничивалось описанием внешних форм поведения, законы которого трактовались как механически образованная система навыков, полностью подлежащих естественнонаучному рассмотрению. Попытка заменить психологию изучением внешнего поведения и законов выработки сложных навыков была отражением борьбы за психологию как объективную науку и в свое время имела прогрессивное значение.
Однако американский бихевиоризм, как пример крайне механистического подход к психической жизни, уже очень скоро проявил свою ограниченность и привел психологию к кризису, не менее выраженному, чем кризис дуалистического подхода к психическим явлениям.
С одной стороны, как стало отчетливо видно уже через несколько лет бурного развития бихевиоризма, господствовавшее в нем механистическое объяснение таких процессов, как образование навыков не раскрывало их подлинных физиологических механизмов и заменяло их научное физиологическое исследование внешним описанием и механистическим толкованием этих явлений.
С другой стороны, огромная часть сложных форм психической жизни человека, проявляющихся в сознательной деятельности высших, специфических для человека способах и приемах его поведения, активного внимания, произвольного запоминания и логического мышления оставалось вообще вне сферы научного исследования.
Вот почему уже в пределах самого бихевиоризма начинала возникать потребность выйти за пределы упрощенных механистических описаний элементарных навыков и перейти к научному анализу наиболее сложных форм психической деятельности человека.
Эта потребность в создании подлинно научной психологии, способной подойти с объективными научными методами к наиболее сложным формам психической жизни человека, и стала основной задачей, которая к 30–м гг. XX в. была осознана как условие, которое могло бы вывести психологию из состояния кризиса.
Пути выхода из кризиса психологии были впервые сформулированы выдающимся советским психологом Л. С. Выготским (1896–1934) и стали исходными для дальнейшего развития психологической науки, сначала в Советском Союзе, а затем и за его пределами.
Как мы уже упоминали выше, исторический смысл кризиса психологии заключался в том, что психология стала развиваться по двум направлениям.
1. Одно, продолжавшее традиции естественнонаучного подхода к явлениям, ставило перед собой задачу объяснить психические процессы, фактически ограничиваясь лишь наиболее элементарными психофизиологическими процессами и отказываясь от рассмотрения сложных, специфических для человека явлений сознательной жизни.
2. Второе делало объектом своего рассмотрения именно эти внешние, специфические для человека явления сознательной жизни, но ограничивалось описанием их субъективных проявлений, рассматривая их как проявление духа и отказываясь от их научного, причинного анализа.
Основная задача выхода из этого кризиса, как ее видел Л. С. Выготский, заключалась в том, чтобы сделать предметом исследования высшие, специфические для человека формы сознательной деятельности и подойти к ним с точки зрения научного анализа, причинно объяснить их происхождение и установить объективные законы, которым они подчиняются.
Выполнение этой задачи требовало, однако, коренного пересмотра основных исходных положений психологии.
Как отметил Л. С. Выготский, попытка подойти к психике как к непосредственной функции мозга и искать ее источники в глубинах мозга так же безнадежна, как и попытка рассматривать психику как форму существования духа.
Психическая жизнь животных возникает в процессе их деятельности и является формой отражения действительности, осуществляемой мозгом, но которая может быть объяснена лишь объективными законами этой отражательной деятельности.
Подобно этому, те высшие формы сознательной деятельности, активного внимания, произвольного запоминания и логического мышления, которые являются специфическими для человека, не могут рассматриваться как естественный продукт эволюции их мозга, но являются результатом той особой, общественной формы жизни, которая характерна для человека. Чтобы причинно объяснить высшие психические функции человека, нужно выйти за пределы организма и искать их истоки не в глубинах духа или в особенностях мозга, а в общественной истории человечества, в тех формах общественного труда и языка, которые сложились в истории общества и вызвали к жизни наиболее совершенные виды общения и новые формы сознательной деятельности.
Психология, стремящаяся стать подлинной наукой, должна изучить общественно — историческое происхождение высших форм сознательной деятельности и обеспечить научный анализ тех законов, которые лежат в их основе.
Такие исходные положения в корне перестраивают традиции дуалистической психологии и ясно очерчивают предмет научной психологии.
Психология человека должна заняться анализом сложных форм отражения действительности, которые сформировались в общественной истории и осуществляются человеческим мозгом. Она должна заменить субъективное прежнее описание сложных форм сознательной жизни их объективным научным анализом, не подменяя этой задачи изучением физиологических процессов, лежащих в их основе, и не ограничиваясь их внешним описанием. Это и составляет задачу психологической науки, которая должна установить законы:
• человеческого ощущения и восприятия;
• регуляции процессов внимания и памяти;
• протекания логического мышления;
• формирования сложных потребностей и личности, рассматривая их как продукт общественной истории и не отрывая этого изучения от анализа тех физиологических механизмов, которые лежат в их основе.
Это и будет составлять содержание общей психологии в целом и психологии человека в частности.
(обратно)Отношение психологии к другим наукам
Психология может развиваться, сохраняя лишь тесную связь с другими науками, которые не замещают ее, но обеспечивают важной информацией, для того чтобы она могла успешно раскрывать свой собственный предмет.
Первой наукой, с которой психология должна сохранять теснейшую связь, является биология.
Если психология животных имеет дело с теми формами поведения животных, которые развиваются в процессе их взаимодействия со средой, становится совершенно ясно, что полное понимание законов их поведения не может иметь место без знания основных форм жизни, которые составляют предмет биологии.
1. Нужно достаточно отчетливо представлять те различия, которые имеют место в существовании растений и животных, чтобы выделить то основное, что отличает всякий вид активного поведения, основанного на ориентировке в окружающей среде, от тех форм жизни, которые исчерпываются процессами обмена веществ и могут протекать вне условий активной ориентировки в действительности.
2. Нужно ясно представлять, что именно меняется в условиях жизни с переходом от существования одноклеточных в однородной водной среде к несравненно более сложным формам жизни многоклеточных. Особенно в условиях наземного существования, предъявляющего неизмеримо большие требования к активной ориентировке в окружающей среде, ориентировке, которая только и может обеспечить успешное получение пищи и избегание опасности.
3. Нужно хорошо усвоить различие в принципах существования живых существ:
• насекомых, у которых прочные врожденные программы, обеспечивающие успешное выживание в устойчивых условиях, и все же способных сохранить вид даже при меняющихся условиях;
• высших позвоночных с их немногочисленным потомством, которое может выжить только при развитии новых индивидуально — изменчивых форм поведения, обеспечивающих приспособление к меняющейся среде.
Без таких знаний общих биологических принципов приспособления никакое отчетливое понимание особенностей поведения животных не может быть обеспечено, и всякая попытка понять сложные формы психической деятельности человека потеряет свою биологическую основу.
Вот почему для научной психологии совершенно необходим учет основных законов биологии и таких ее новых разделов, как:
• экология (учение об условиях среды и ее влияний);
• этология (учение о врожденных формах поведения).
Естественно, что факты, составляющие предмет психологической науки, ни в какой мере не могут быть сведены к фактам биологии.
Второй наукой, с которой психология должна сохранять самую тесную связь, является физиология и, в частности, тот ее раздел, который посвящен высшей нервной деятельности.
Физиология занимается механизмами, осуществляющими те или иные функции организма, а физиология высшей нервной деятельности — механизмами работы нервной системы, осуществляющими «уравновешение» организма со средой.
Легко видеть, что знание той роли, которую в этом последнем процессе играют различные этажи нервной системы, тех законов, по которым протекает регуляция обменных процессов в организме, законов работы нервной ткани, осуществляющей процессы возбуждения и торможения, и тех сложных нервных образований, которые осуществляют процессы анализа и синтеза, замыкания нервных связей, обеспечивают процессы иррадиации и концентрации возбуждения, так же, как и знание основных форм работы нервных клеток, находящихся в нормальном или тормозном (фазовом) состоянии — все это совершенно необходимо для того, чтобы психолог, изучающий основные виды психической деятельности человека, не ограничивался их простым описанием, а представлял, на какие механизмы опираются эти сложнейшие формы деятельности, какими аппаратами они осуществляются, в каких системах они протекают. Игнорировать законы физиологии значило бы лишить психологию одного из важнейших источников научного знания.
Решающее значение для психологии имеет ее связь с общественными науками.
Основные формы психической деятельности человека возникают в условиях общественной истории, протекают в условиях сложившейся в истории предметной деятельности, опираются на те средства, которые сформировались в условиях труда, употребления орудий и языка. Человек, который был бы лишен общения с окружающими, развивался бы вне условий предметного мира, сложившегося в истории общества, не пользовался бы орудиями и языком, человек, который не усваивал бы опыта всего человечества, передаваемого с помощью языка, этого хранителя информации, не имел бы и небольшой доли тех возможностей, которыми располагает его фактическое поведение. Естественно, что формы деятельности человека осуществляются его мозгом и опираются на законы его высших нервных процессов, но никакая нервная система сама по себе не могла бы обеспечить формирования механизма употребления орудий и языка и объяснить возникновение сложнейших возникших в общественной истории форм человеческой деятельности.
Подлинное отношение психологии к физиологии заключается в том, что психология изучает те формы и способы деятельности, которые возникли в процессе общественной истории и которые определяют его поведение, а физиология высшей нервной деятельности — те естественные механизмы, которые осуществляют или реализуют это поведение.
Попытаться свести психологию человека к физиологии высшей нервной деятельности, как это одно время предлагалось механистически мыслящими учеными, было бы аналогично той ошибке, которую допустил бы архитектор, если бы он попытался свести происхождение и анализ стилей готики и барокко или ампира к законам сопротивления материалов, которые, конечно, должны учитываться архитектором, но которые ни в коей мере не могут объяснить происхождение архитектурных стилей.
Успех дальнейшего развития психологии во многом зависит от правильного понимания соотношения этих обеих наук, и как всякое игнорирование физиологии, так и попытки свести психологию к физиологии неизбежно задержат развитие психологической науки.
Только что сказанное делает ясным, какое огромное значение для психологии имеет ее связь с общественными науками. Если решающую роль в формировании поведения животного играют биологические условия существования, то такую же роль в формировании поведения человека играют условия общественной истории. Последние создают новые формы сложного, опосредствованного условиями труда отношения к действительности, которые являются источниками новых, специфически человеческих форм психической деятельности.
Мы еще подробно остановимся на том, что:
• первое применение орудия, первая форма общественного труда внесли коренную перестройку в основные биологические законы построения поведения;
• возникновение, а затем и использование языка, позволяющего хранить и передавать опыт поколений, привело к появлению новой, не существующей у животных формы развития — развития путем усвоения общественного опыта.
Современная психологическая наука, изучающая прежде всего специфически человеческие формы психической деятельности, не может сделать ни одного шага без учета тех данных, которые она получает от общественных наук — исторического материализма, обобщающего основные законы развития общества, языкознания, изучающего основные формы сложившегося в общественной истории языка.
Только тщательный учет общественных условий, формирующих психическую деятельность человека, позволяет психологии получить свою прочную научную основу. Мы встретимся с применением этого принципа на протяжении всех последующих страниц, при рассмотрении всех конкретных фактов психологической науки. Таково отношение научной психологии к тем смежным дисциплинам, в тесном контакте с которыми она развивается.
(обратно)Разделы психологии
Психология, которая еще недавно была одной нерасчлененной наукой, представляет сейчас широко разветвленную систему дисциплин, изучающих психическую деятельность человека в различных аспектах. После того что мы уже сказали выше, ясно, что некоторые из разделов психологии изучают естественные основы психических процессов и приближаются к биологии и физиологии, в то время как другие изучают общественные основы психической деятельности и приближаются к общественным наукам.
Основное место занимает общая психология, изучающая основные формы психической деятельности и составляющая стержень всей системы психологических дисциплин. В состав общей психологии, кроме теоретического эволюционного введения в науку о психической деятельности, входит рассмотрение ряда специальных разделов. К ним относятся:
• анализ познавательных процессов (начиная от ощущений и восприятий, кончая наиболее сложными формами мышления; этот раздел включает в свой состав анализ основных условий протекания психических процессов и анализ законов внимания, памяти, воображения и т. д.);
• анализ процессов аффективной жизни (потребностей человека, сложных форм переживаний);
• анализ психологического строения деятельности человека и регуляции его активности;
• и, наконец, — анализ психологии личности и индивидуальных различий.
Освещению этих разделов и будут посвящены дальнейшие страницы. Разработке общих проблем психологии были посвящены труды многих выдающихся ученых; к числу их относятся такие классики психологии, как В. Вундт в Германии, У. Джемс в США, А. Бинэ, П. Жанэ во Франции и современные ученые Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, А. А. Смирнов, Б. М. Теплое в СССР, А. Валлон, А. Пьерон, П. Фресс во Франции, Э. Толман, Дж. Миллер, Дж. Брунер в США, Д. Хэбб в Канаде, Д. Бродбенпг в Англии и др.
К общей психологии примыкает группа биологических разделов психологической науки. Все они рассматривают естественнонаучные основы психической деятельности человека.
Первой из этих дисциплин является сравнительная психология или психология животных. Эта дисциплина отличается тем, что:
• рассматривает особенности поведения животных на последовательных этапах эволюции;
• изучает те особенности поведения животных, которые зависят от условий их существования и от их анатомического строения;
• включает в свой состав описание того, как меняются формы поведения животного в зависимости от тех требований, которые предъявляет к ним среда, и от тех основных типов приспособления к условиям существования, которые носят очень различный характер при усложнении форм жизни.
Второй из дисциплин, относящихся к биологической группе психологических наук, является физиологическая психология, или психофизиология.
Основы этой науки были заложены еще во второй половине XIX в. теми учеными, которые ставили перед собой задачу исследовать психические процессы человека с применением разных физиологических методов и изучить физиологические механизмы психологических процессов. Именно эти ученые организовали первые психологические лаборатории и детально разработали такие разделы психологической науки, как:
• учение об ощущении, его измерении и основных механизмах;
• учение об основных законах памяти и внимания;
• учение о психофизиологических механизмах движения и т. д.
Естественно, что физиологическая психология сближается с физиологией, в частности, с физиологией органов чувств и физиологией высшей нервной деятельности. Отличие же состоит в том, что ученые, занимающиеся этой проблемой, делают своим предметом анализ конкретных форм психической деятельности, изучая ощущения и восприятия, внимание и память человека и строение его двигательных процессов, их изменения в процессе упражнения и утомления, и пытаются, пользуясь наиболее точными методиками, установить их физиологические механизмы и те законы, которые лежат в основе их протекания. Психофизиология, оставаясь специальной психологической дисциплиной, относится к физиологии так же, как биохимия к химии или биофизика к физике. Она ни на минуту не отвлекается от того, что изучаемые ею процессы входят в состав сложной психической деятельности человека, не забывает сложных особенностей их структуры и лишь пытается вскрыть лежащие в их основе физиологические механизмы.
Значительная часть знаний о законах протекания отдельных психических процессов была накоплена именно этим разделом психологической науки. Имена таких крупных ученых, как Г. Фехнер и Э. Вебер (впервые измерили ощущения), В. Вундт (впервые широко применил психофизиологические методы исследования психических процессов), Г. Эббингаус и Г. Мюллер (впервые подошли к точным методам измерения памяти и ее физиологических механизмов), так же как и имена А. Пьерона во Франции, Э. Титченера (США) и таких крупных современных психологов, как Д. Линдсли (США), Д. Бродбент (Англия), П. Фресс (Франция) и др. тесно связаны с развитием этой области психологической науки.
Этот раздел психологической науки получил огромную информацию из работ таких видных классиков физиологии, как:
• И. П: Павлов, разработавший учение о высшей нервной деятельности;
• Н. Е. Введенский, разработавший учение о патогенезе;
• А. А. Ухтомский, работы которого позволили внести новый раздел науки о поведении — учение о доминантах;
• Л. А. Орбели, сделавший важный вклад в эволюционную физиологию;
• П. К. Анохин, разработавший учение о функциональных системах;
• Н. А. Бернштейн, Г. В. Гершуни и С. В. Кравков, обогатившие науку данными о законах работ слуха и зрения, и др.
Третьей дисциплиной, входящей в состав биологической группы психологических наук, является нейропсихология.
Задачей этой дисциплины является изучение той роли, которую играют отдельные аппараты нервной системы в построении психических процессов.
Легко видеть, что роль подкорковых образований и древней коры в протекании психической деятельности совершенно иная, чем роль новой коры в больших полушариях мозга. Есть все основания полагать, что и роль отдельных зон мозговой коры в организации сложных психических процессов неодинакова и что лобные, височные, теменные и затылочные отделы мозга вносят в протекание психической деятельности свой совершенно особый вклад.
Эта новая область психологии:
• использует для своих исследований тщательный психологический анализ как раздражений, так и разрушений отдельных участков мозга;
• прослеживает те изменения в психических процессах, которые возникают при локальных поражениях мозга;
• делает из своих наблюдений выводы в отношении внутреннего строения психических процессов.
Данную область психологии представляют исследователи разных стран, к их числу относятся К. С. Лешли и К. Прибрал (США), А. Р. Лурия (СССР), Зангвилл (Англия), Б. Милнер (Канада) и др.
Рядом с нейрохирургией можно поставить и патопсихологию, которая изучает особенности психических процессов, наблюдаемых у больных с психическими заболеваниями, и позволяет ближе подойти как к научному изучению душевных болезней, так и к выявлению некоторых общих закономерностей психической деятельности, выявляющихся при патологических состояниях.
Патопсихология успешно разрабатывалась многими учеными — психиатрами (Е. Крепелин в Германии, П. Жанэ во Франции, В. М. Бехтерев в России) и современными психологами (Б. В. Зейгарник в СССР, Пиша во Франции и др.).
Специальный раздел, стоящий на границах психофизиологии и нейропсихологии, составляет исследование нейронных механизмов психической деятельности. Ученые, разрабатывающие эту область (Д. Хьюбел и Т. Визел в Англии, К. Юнг в Германии, Г. Джаспер в Канаде, Е. Н. Соколов и О. С. Виноградова в СССР), ставят перед собой задачу проследить формы работы отдельных групп нейронов и провести анализ тех наиболее элементарных нервных процессов, которые лежат в основе поведения. Важные открытия физиологических механизмов активации и привыкания были получены при исследовании простейших форм поведения на нейронном уровне.
Особое место в системе психологических наук занимает детская, или генетическая, психология.
Значение этого раздела психологических наук для общей психологии заключается в том, что детская, или генетическая, психология изучает формирование психической деятельности в процессе развития ребенка и позволяет проследить, как складываются сложные психические процессы и какие этапы они проходят в своем развитии.
Детская, или генетическая, психология позволяет подойти к высшим психическим процессам человека как к продукту развития, этим она дает возможность рассматривать сложные формы психической деятельности человека не как изначально существующие «свойства» психики или «способности», а как результат длительного формирования, отложившего свой отпечаток на строение психических процессов.
Именно поэтому детская психология, прослеживающая формирование (генезис) высших форм психической деятельности, получила решающее значение не только для такой практической области, как педагогика, но и для общей психологии. Именно благодаря ее успехам, связанным с тем вкладом, который внесли в исследование психического развития ребенка выдающиеся исследователи Ж. Пиаже и Л. С. Выготский, общая психология получила убедительные доказательства того, что основные формы психических процессов (восприятие и действие, запоминание и мышление) имеют сложное строение, которое формируется в процессе развития ребенка. Значение детской, или генетической, психологии позволило ей занять основное место в современной психологической науке.
Важное место занимает еще одна отрасль психологической науки, которую следует поставить рядом с генетической психологией и которую обычно называют дифференциальной психологией, или психологией индивидуальных различий.
Известно, что люди обладают не только общими чертами, изучаемыми общей психологией, но и обнаруживают индивидуальные различия. Такими различиями могут быть различия в свойствах нервной системы, в индивидуальных особенностях эмоциональной жизни и характера, особенности в познавательных процессах и одаренности.
Дифференциальная психология ставит перед собой задачу изучения этих индивидуальных различий, описание типов поведения и психической деятельности людей, отличающихся друг от друга характерными особенностями.
Дифференциальная психология имеет решающее значение для оценки уровня развития ребенка, индивидуальных форм овладения трудом и для анализа тех типологических особенностей, знание которых необходимо для решения практических проблем психологии.
Основы дифференциальной психологии были в свое время заложены немецким психологом В. Штерном (1871–1938); в наше время проблемами индивидуальных различий успешно занимались ученые Ч. Спирмен в Англии, Л. Терстон в США и Б. М. Теплое в СССР.
К только что отмеченным областям психологии примыкает и группа разделов, которые теснейшим образом связаны с общественными науками. В этих разделах рассматриваются те общественно — исторические условия, в которых сформировалась психическая деятельность человека, и те социальные формы, в которых она проявляется.
Существенное место в этой группе занимает этнопсихология, или наука о тех особенностях, которыми отличаются психические процессы в различных исторических формациях и укладах и в условиях различных культур.
На ранних этапах развития психологии были сделаны попытки создать «психологию народов» как особую форму социальной психологии и разработать науку, которая могла бы раскрыть психологические основы формирования языка, мифов, верований, права и т. п. Такая попытка, сделанная одним из основателей современной психологии В. Вундтом, опубликованная под названием «Психология народов», оказалась неудачной. Вундт пытался дать психологическое объяснение тем явлениям социальной жизни, которые имеют не психологические, а экономические или общественно — исторические основы, именно поэтому попытки «психологизировать историю» надолго задержали развитие этой важной области психологической науки, которая должна была проследить обратный процесс — формирующее влияние, которое оказывают общественно — исторические условия на развитие психологической деятельности человека.
Эта задача стала предметом исследований многих крупных ученых разных стран (Д. Фрезер и Б. Малиновский в Англии, П. Жанэ и Л. Леви — Брюль во Франция, Турнвальд в Германии, М. Мид в США), и именно их исследования заложили основу для современной этнопсихологии. В настоящее время исследование особенностей психической деятельности людей, принадлежащих к различным культурам, составляет один из важных разделов психологической науки.
Специальный раздел науки, выделившийся за последние десятилетия в самостоятельную отрасль науки, стоящий на границе психологии и лингвистики, составляет психолингвистика. Задача психолингвистики — проследить основные законы речевой деятельности как средства общения, процессов кодирования и декодирования речевой информации и тех психологических процессов, которые опираются на коды языка и воплощаются в речевой деятельности человека.
Важным, хотя еще недостаточно развитым разделом психологической науки является социальная психология. Эта дисциплина изучает психологические законы общения людей между собой, психологические особенности распространения информации средствами массового воздействия, такими как печать и кино, особенности поведения в процессе труда, соревнования и т. д. Предмет специальной отрасли социальной психологии составляет изучение человеческих взаимоотношений в условиях малых групп, анализ тех факторов, которые лежат в основе конкретных видов взаимодействия людей, формирования авторитета, выдвижения лидеров и т. п.
К этой группе дисциплин, сохраняющих свою близость к общественным наукам, относится и психология искусства, изучающая психологические основы художественного творчества и те психологические законы, которые лежат в основе художественных произведений, пользующихся различными приемами и обеспечивающими максимальное воздействие произведений на читателя и зрителя.
Мы познакомили лишь с основными ветвями психологической науки, но и они могут показать, какую разветвленную систему дисциплин представляет современная психология.
(обратно)Методы психологии
Наличие достаточно объективных, точных и надежных методов — одно из основных условий развития каждой науки.
Роль метода науки связана с тем, что сущность изучаемого процесса не совпадает с теми проявлениями, в которых он выступает; необходимы специальные приемы, которые позволяют проникать за пределы явлений, доступных непосредственному наблюдателю, в те внутренние законы, которые составляют сущность изучаемого процесса. Такой путь от явления к сущности, использующий целый ряд объективных приемов исследования, характерен для истинно научных исследований.
В чем состоят методы, которыми пользуется психология?
Существовал длительный период, когда психология определялась как наука о субъективном мире человека; определению содержания науки соответствовал и набор ее методов. Согласно идеалистической концепции, обособлявшей психику от всех остальных явлений природы и общества, предметом психологической науки являлось изучение субъективных состояний сознания. Эти процессы сознания отличались, по мнению психологов — идеалистов, от остальных процессов объективной действительности тем, что явление совпадало с сущностью: те формы сознания, которые человек мог наблюдатъ на самом себе (ясность или неясность сознания, переживание свободы волевого акта и т. д.), рассматривались этими психологами как основные свойства духа или как сущность субъективных психических процессов. Это совпадение явлений с сущностью составляло, по их мнению, основу психологии и определяло ее метод, т. е. основным и единственным считалось субъективное описание явлений сознания, получаемое в процессе самонаблюдения (интроспекция). Признание самонаблюдения основным методом психологии не только отделяло психологию от других наук, но и фактически закрывало все пути для развития психологии как подлинной науки. Оно исключало объективное, причинное объяснение психических процессов, а сводило психологию к субъективным описаниям форм душевной жизни и психических явлений.
Легко понять, что такая «наука», отказывающаяся от рассмотрения психических процессов как продуктов объективного развития, не ставящая вопросов об их происхождении и объективных механизмах, не могла существовать, и в течение длительного времени оставалась своеобразным разделом идеалистической философии, не включаясь в круг подлинных наук.
Поэтому с того периода, когда психологию стали понимать как науку об особой форме психической деятельности, позволяющей человеку ориентироваться в окружающей действительности, отражать ее, формировать программы поведения и контролировать их выполнение, отношение к основному методу психологической науки коренным образом изменилось.
Задача психологов заключалась в том, чтобы создать объективные методы изучения психических процессов человека, ни в коем случае не ограничиваясь методом самонаблюдения и относясь к нему лишь как к одному из подсобных приемов, который скорее имел эвристическое значение, позволял ставить вопросы, чем давал возможность причинно объяснять явления и находить лежащие в их основе законы. Коренной пересмотр самонаблюдения как метода научного познания был связан и с тем, что оно стало рассматриваться как сложный вид психической деятельности, являющийся продуктом длительного развития, использующий речевую формулировку наблюдаемых явлений и имеющий очень ограниченное применение, потому что далеко не все психические процессы протекают сознательно, а также потому, что само наблюдение за своими психическими процессами может внести значительные изменения в их протекание.
Основной задачей психологической науки стала разработка таких объективных методов исследования, которые пользовались бы обычными для всех остальных наук приемами наблюдения за протеканием того или иного вида деятельности и экспериментального изменения условий ее протекания и могли бы проникнуть за пределы ее внешнего описания к лежащим в ее основе закономерностям.
Основным приемом психологической науки стало наблюдение за поведением человека в естественных и экспериментальных условиях с анализом тех изменений, которые наступают при определенных, изменяемых экспериментатором условиях. На этом пути и были созданы три основных метода психологического исследования, условно названные как метод структурного анализа, экспериментально — генетический метод и экспериментально — патологический (или метод синдромного анализа).
Метод структурного анализа психологических процессов заключается в следующем: психолог, изучающий ту или иную форму психической деятельности, ставит перед испытуемым соответствующую задачу и прослеживает структурное строение техпроцессов (приемов, средств, форм поведения), с помощью которых испытуемый решает данную задачу.
Это означает, что психолог не только регистрирует конечный результат (запоминание предложенного материала, двигательную реакцию на сигнал, ответ на предложенную задачу), но и внимательно прослеживает процесс решения предложенной задачи, те вспомогательные средства, на которые он опирался, и т. д. Такое описание психологической структуры изучаемого процесса и анализ ее составных частей представляют значительные трудности и требуют ряда специальных вспомогательных приемов.
Эти приемы, позволяющие осуществить достаточно полный структурный анализ, могут носить прямой или косвенный характер.
К прямым приемам относятся:
• изменение структуры задачи, предлагаемой испытуемому (с постепенным усложнением, внесением в нее новых требований, делающих необходимым включение в решение задачи новых операций);
• предложение испытуемому ряда способов, помогающих решению (выбор внешних опор, вспомогательных приемов и т. д.).
Использование этих прямых приемов структурного анализа изменяет объективное протекание психологического процесса и дает возможность установить:
• какие из предложенных операций вызывают максимальные трудности;
• какие из использованных приемов приводят к максимальному эффекту.
Описанные формы структурного анализа применимы прежде всего к объективному исследованию таких смежных форм психической деятельности, как:
• усвоение или запоминание материала;
• решение задач;
• выполнение конструктивных или логических операций;
• изучение строения сложных форм осмысленных поступков.
К косвенным, или дополнительным, приемам исследования относится использование таких признаков, которые, не являясь элементами деятельности человека, могут быть показателями его общего состояния, испытываемых им напряжений и т. п. К таким приемам, например, относится использование методов регистрации физиологических процессов (электроэнцефалограммы, электромиограммы, кожно — гальванический рефлекс, плетизмограммы), которые сами не вскрывают особенностей протекания психической деятельности, но могут отражать общие физиологические условия, характерные для их протекания.
Естественно, что применение этих косвенных, или дополнительных, приемов может получить свой смысл лишь при четкой организации самой психической деятельности, которую изучает психолог.
Рядом со структурно — аналитическим методом, занимающим ведущее место в психологии, можно поставить экспериментально — генетический метод, имеющий особенно большое значение для детской (генетической) психологии.
Известно, что все высшие психологические процессы являются продуктом длительного развития. Поэтому для психолога особенно важно проследить, как шел этот процесс развития, какие этапы в него включены и какие факторы определяют возникновение высших психологических процессов.
Ответ на этот вопрос можно получить, не только прослеживая, как выполняются одни и те же задачи на последовательных ступенях развития ребенка (этот метод получил в психологии название генетических срезов), но и создавая экспериментальные условия, которые позволили бы выявить, как формируется та или иная психическая деятельность. Для этой цели испытуемого, которому предлагается решить ту или иную задачу, ставят в различные условия. В одних случаях требуют от него самостоятельного решения задачи, в других — оказывают ему помощь, используя различные средства внешних наглядно — действенных опор, с одной стороны, громкого проговаривания путей решения — с другой, и наблюдают, как он воспользуется этой помощью.
Применяя приемы, составляющие суть экспериментально — генетического метода, исследователь оказывается в состоянии не только выявить те условия, при использовании которых субъект может оптимально овладеть данной деятельностью, но и экспериментально сформировать сложные психические процессы, ближе подойти к их структуре. Экспериментально — генетический метод был широко использован в советской психологии в исследованиях Л. С. Выготского, А. В. Запорожца, Я. Я. Гальперина и дал много ценных фактов, прочно вошедших в психологическую науку.
Еще одним методом психологии, особенно важным для нейропсихологии и патопсихологии, является экспериментально — патологический, или метод синдромного анализа тех изменений в поведении, которые наступают при патологических состояниях мозга или при исключительном развитии какой — либо одной стороны психических процессов.
Этот метод применим в относительно редких случаях. Психолог, зная один фактор, заведомо изменяющий протекание психических процессов, может узнать, какое влияние этот фактор оказывает на протекание всей психической деятельности субъекта в целом.
В наиболее ясных формах этот метод выступает в нейропсихологических исследованиях. Он заключается в том, что психолог, тщательно изучающий людей, у которых очаговое поражение мозга вызывает перемещение или искажение одного из условий нормального протекания психических процессов (например, зрительного восприятия, слухоречевой памяти или прочного сохранения программы деятельности), подвергает детальному анализу протекание целого комплекса психических процессов и устанавливает, какие из них остаются сохранными и какие нарушаются. Подобный анализ дает возможность установить, какие именно психические процессы внутренне связаны с нарушенным (или исключенным) фактором и какие не зависят от него; он позволяет описать целый синдром (иначе говоря, комплекс изменений), возникающий при изменении одной какой — либо функции, и дает возможность выявить взаимную зависимость (корреляцию) отдельных психологических процессов.
Подобный же метод может быть применим в общей психологии или в психологии индивидуальных различий, в которых сверхразвитие какой — либо стороны психической жизни (например, яркой зрительной памяти) или какая — нибудь индивидуальная особенность нервных процессов (например, слабость или недостаточная подвижность нервных процессов) может вызвать перестройку всех психологических процессов и стать решающим фактором в возникновении целого комплекса индивидуальных особенностей личности.
Все описанные нами в общих чертах методы являются методами психологического исследования. Однако наряду с ними большое значение для психологии имеют краткие методы количественной и качественной оценки психических процессов (знаний, навыков, умений) и простые методы измерения уровня развития психических процессов.
Такие методы имеют широкое применение в психологии и известны под названием психологических тестов (проб). Психологические тесты (пробы) состоят из задач, которые предъявляются широкому кругу испытуемых для установления их знаний, навыков или умений. Для того чтобы эти тесты (пробы) могли дать объективные и измеримые данные, они предварительно проводятся на большом числе испытуемых (детях определенного возраста или людях одного образования). Из всех этих задач отбираются те, которые успешно решаются значительным числом (например, две трети) всех испытуемых, лишь после этого они предъявляются тем субъектам, знания, навыки или умения которых подлежат измерению. Результаты этих исследований оцениваются в условных баллах или в ранговых оценках (указывающих, какое место данный испытуемый мог бы занять по отношению к соответствующей группе испытуемых).
Применение психологических тестов (проб) может иметь известное значение для ориентировки в психологических особенностях больших популяций. Критическая оценка этого метода будет дана ниже при рассмотрении его значения для измерения индивидуальных различий испытуемых.
Легко видеть, что значение всех описанных методов неодинаково для тех различных разделов психологической науки, о которых было сказано выше, и если метод структурного анализа остается основным для всех разделов психологии, то экспериментально — генетический метод занимает ведущее место в детской, а метод синдромного анализа — в патологической или дифференциальной психологии.
(обратно)Практическое значение психологии
Психология имеет большое значение не только для решения ряда основных теоретических вопросов о психологической жизни и сознательной деятельности человека.
Она имеет также практическое значение, возрастающее по мере того, как основным вопросом общественной жизни становится управление поведением человека на научных основах и учет человеческого фактора в промышленности и общественных отношениях.
Психологическая наука имеет большое практическое значение для ряда областей, из которых мы упомянем лишь главнейшие.
Первой из этих областей является область промышленности и труда, а тот раздел прикладной психологии, который занимается связанными с этими областями вопросами, называется инженерная психология и психология труда.
Современная индустрия, включающая управление механизмами, транспортом, авиацией и т. п., предполагает сложное взаимодействие системы «человек — машина». Создаваемая техника должна быть приспособлена к возможностям человека; необходимо обеспечить такие условия, при которых управление системами протекало бы в оптимальном варианте и могло бы осуществляться с наименьшими затратами времени и с наименьшим числом ошибок. Эти требования относятся прежде всего к рациональному построению пультов управления, которые в современных механизмах состоят из большого числа индикаторов, требующих того, чтобы они были максимально обозримы и чтобы информация, которая ими дается, была бы максимально доступна. Естественно, что такие требования могут быть удовлетворены лишь при учете законов человеческого восприятия, объема человеческой памяти и тех способов их организации, которые могли бы наилучшим образом приспособить машину к возможностям человека. С другой стороны, современная индустрия ставит вопросы подбора людей, наиболее подходящих к условиям тех или иных форм работы, а перед организацией — создание условий, которые обеспечивали бы оптимальные условия сохранения внимания и минимального истощения человека. Она ставит вопрос о том, какие психологические факторы необходимо учесть для обеспечения максимальной надежности работы и минимальной аварийности.
Все эти вопросы разрабатываются инженерной психологией и психологией труда, которые становятся важной составной частью научной организации производства.
Второй сферой практического применения психологии является обучение и воспитание подрастающего поколения, иначе говоря, сфера педагогики.
Известно, что возрастающий объем знаний, которые должны быть усвоены в процессе школьного обучения, требует наиболее рациональной организации методов обучения. Это существенно зависит от психологических особенностей ребенка, возраста детей и их познавательных процессов при обучении в школе.
Педагогическая психология является той отраслью прикладной психологии, которая должна обеспечить научное обоснование программ и методов обучения, установить круг тех понятий, которые доступны детям соответствующего возраста, и те способы подачи материала, которые обеспечат его наилучшее усвоение. Развившийся за последнее время новый раздел педагогики — программированное обучение (или теория программированного, поэтапного усвоения знаний) вносит научную психологическую основу для разработки оптимальной последовательности предлагаемого материала и применения наиболее эффективных методов обучения. Такие вопросы, как степень развернутости процесса поэтапного усвоения знаний, соотношение наглядных и словесно — логических средств обучения, способы оптимальной формулировки правил, приемы, обеспечивающие адекватное усвоение понятий и перенос принципов, усвоенных в процессе обучения, составляют только часть тех вопросов, которые изучаются педагогической психологией, вносящей существенный вклад в научное обоснование педагогического процесса.
Другой стороной использования психологии для рационального построения обучения и воспитания является анализ тех психологических особенностей детей, которые мешают их успешному обучению.
Известно, что успешность обучения зависит не только от рационально организованных программ и методов, но и от состава учащихся. В каждом классе наряду с успевающими учениками имеются и такие, которые не могут успешно овладеть школьной программой и задерживают успешную работу всего класса.
Однако существенным является тот факт, что неуспеваемость, которую обнаруживают эти ученики, может иметь различную основу.
1. Одни ученики не успевают потому, что они являются умственно отсталыми, и органическое недоразвитие их мозга делает их неспособными воспринимать сколько — нибудь сложный материал. Эти дети должны быть выведены из массовой школы и переведены в специальную, вспомогательную школу.
2. Другие являются полностью нормальными детьми, но их неуспеваемость связана с тем, что они, пропустив известную часть программы, не могут успешно продвигаться дальше и усвоение нового материала не имеет в их знаниях нужной основы. Эти дети нуждаются в специальных дополнительных занятиях, которые могут ликвидировать их пробелы.
3. Третьи ученики обнаруживают трудности в обучении потому, что являются физически ослабленными, перенеся какое — нибудь заболевание. Они могут успешно сосредоточивать свое внимание лишь в течение ограниченного времени, быстро истощаются и не в состоянии овладеть соответствующим материалом; они должны учиться при соблюдении соответствующего режима и в этих условиях могут успешно справиться с программой.
4. Наконец, четвертая группа учеников испытывает трудности обучения не потому, что входящие в ее состав дети являются умственно отсталыми, а потому, что они имеют какие — либо частные дефекты, например, дефекты слуха, которые препятствуют своевременному и полноценному речевому общению и приводят к временной задержке развития. Такие дети должны быть переведены в школы для тугоухих, где специальные приемы и методы позволят компенсировать их дефекты.
Важнейшей задачей должно быть своевременное распознание тех причин, которые приводят к неуспеваемости различных групп детей, и диагностика различных форм неуспеваемости. Эта задача может быть выполнена лишь при ближайшем участии психологов, которые могут описать психологические особенности неуспевающих детей, выяснить основные причины задержки в их развитии и оказать существенную помощь в устранении описанных дефектов.
Третьей сферой практического применения психологии является медицина.
Известно, что протекание любой болезни зависит не только от болезнетворного агента и состояния организма, но и от того, как больной сам представляет свою болезнь, как относится к ней, как оценивает ее, иначе говоря, от того, что врачи — терапевты называют «внутренней картиной болезни». Однако само отношение к болезни связано с рядом психологических факторов, особенностями эмоционального строя личности, характера тех обобщений, которыми располагает личность. Изучение характерологических особенностей и строя личности, которым занимается психология, имеет поэтому важное значение в медицине, позволяет ближе подойти к научной основе практики психотерапии, психогигиены и психопрофилактики.
Особое место занимает психология в специальных отраслях медицины — неврологии и психиатрии.
Здесь она может оказать существенную помощь в решении двух важнейших вопросов — диагностики природы заболевания, с одной стороны, и восстановления нарушенных функций — с другой.
Известно, что очаговые поражения мозга лишь частично выражаются в таких симптомах классической неврологии, как изменение чувствительности, рефлексов, тонуса и движений. Значительная часть больших полушарий головного мозга не имеет прямого отношения ни к одному из упомянутых процессов, и поражение этих участков мозга не приводит к их заметным нарушениям. Эти части больших полушарий связаны с осуществлением высших форм психической деятельности — анализом поступающей информации, формированием планов и программ действий, контролем за протеканием сознательной деятельности. Именно поэтому поражение этих отделов мозга, не вызывая отчетливых физиологических симптомов, может привести к заметным нарушениям сложных форм психической деятельности.
За последние десятилетия возникла новая область психологической науки, о которой мы уже упоминали выше, — нейропсихология. Она позволила увидеть, какие факторы, входящие в состав сложных форм психической деятельности, связаны с определенными участками мозга и какие виды нарушений этих участков мозга не приводят к их заметным поражениям. Эти части больших полушарий связаны с осуществлением высших форм психической деятельности — анализом поступающей информации, формированием планов и программ действий, контролем над протеканием сознательной деятельности. Именно поэтому поражение отделов мозга, не вызывая отчетливых физиологических симптомов, может привести к заметным нарушениям сложных форм психической деятельности.
Не менее важное значение имеет психология и для уточнения диагностики психических заболеваний. Нарушения восприятия и действия, памяти и мышления носят совершенно различный характер при различных формах умственного недоразвития и при различных психических заболеваниях. Поэтому применение методов экспериментальной патопсихологии в психиатрической клинике позволяет существенно уточнить диагностику психических заболеваний и входит как существенная составная часть в общую психопатологию.
Большое практическое значение имеет психология в разработке научных основ восстановления функций, нарушенных при мозговых поражениях.
Еще сравнительно недавно считалось, что функции, нарушенные в результате локальных поражений мозга, не восстанавливаются, и поражение мозга (особенно его ведущего, доминирующего полушария) приводит к необратимым расстройствам и обрекает больного на полную инвалидность.
Однако учение о сложном системном построении высших психических процессов показало, что каждая сложная форма психической деятельности осуществляется с помощью целой системы совместно работающих зон мозга, и позволило коренным образом пересмотреть эти положения. Оно также показало, что функциональные системы, нарушающиеся при любом очаговом поражении мозга, могут быть перестроены на основе создания новых функциональных систем, опирающихся на неповрежденные отделы мозга. Таким образом, нарушенные функции могут быть восстановлены на новых основах.
Теория восстановления высших психических функций, нарушенных при локальных поражениях мозга, путем специального восстановительного обучения, разработанная в психологической науке, стала одной из важных составных частей современной медицины.
Следует, наконец, упомянуть и последнюю область практического применения психологии — судебную психологию. Следователь и судья постоянно имеют дело со сложными формами психической деятельности человека, с его мотивами и характерологическими чертами, с границами его восприятия и памяти, с особенностями его поведения. Поэтому учет психологических характеристик этих процессов должен быть обязательным компонентом в подготовке и деятельности судебно — следственных работников.
Психология разработала научный подход к двум важным разделам судебно — следственной практики: анализу свидетельских показаний и психологической диагностике причастия к преступлению.
Было доказано, что свидетельские показания обеспечивают достоверный материал лишь в известных пределах, и степень этой достоверности может быть установлена с помощью специального экспериментально — психологического исследования.
С другой стороны, современное преступление оставляет следы не только во внешней обстановке, но и в психике самого преступника, поэтому существуют объективные психологические методы, с помощью которых эти следы могут быть обнаружены.
Естественно, что включение психологии в решение этих вопросов позволяет сделать важный вклад в построение судебно — следственного дела на научной основе и составляет важный раздел практического приложения психологии.
Таким образом, психология является не только важным разделом науки, но она имеет широко разветвленные области практического применения, давая научную основу для важных областей практики.
(обратно) (обратно)Глава 2. Эволюция психики
Мы остановились на том, как современная наука понимает предмет психологии и какие практические приложения имеет эта область знания.
Теперь нам следует осветить одну из важнейших проблем — эволюцию психической деятельности.
Происхождение психики
Донаучная психология, которая развивалась в ранней идеалистической философии, считала психику одним из первичных свойств человека и рассматривала сознание как непосредственное проявление «духовной жизни». Поэтому вопрос о естественных корнях психики, о ее происхождении и о ступенях ее эволюции даже не ставился. Дуалистическая философия предполагала, что сознание так же вечно, как и материя, что оно всегда существовало параллельно с материей.
Научная психология исходит из совершенно иных положений и ставит перед собой задачу подойти к ответу на вопрос о происхождении психики, описать условия, в результате которых должна была появиться эта сложнейшая форма жизни.
Известно, что основным условием появления жизни является возникновение сложных белковых молекул, которые не могут существовать без постоянного обмена веществ со средой. Для своего выживания они должны усваивать (ассимилировать) из окружающей среды те вещества, которые являются предметом питания и необходимы для поддержания их жизни; одновременно они должны выделять во внешнюю среду продукты распада, усвоение которых может нарушить их нормальное существование. Оба эти процесса — ассимиляция и диссимиляция — входят в процесс обмена веществ и являются основным условием существования этих сложных белковых образований.
Естественно, что эти сложнейшие белковые молекулы (иногда их называют «коацерватами») вырабатывают особые свойства, отвечающие на воздействие полезных веществ или тех условий, которые содействуют усвоению этих веществ, и на вредные воздействия, грозящие их дальнейшему существованию. Так, эти молекулы положительно реагируют не только на питательные вещества, но и на такие условия, как свет, тепло, которые содействуют усвоению. Они отрицательно реагируют на сверхсильные механические или химические воздействия, которые мешают их нормальному существованию. На «нейтральные» воздействия, не входящие в процесс обмена веществ, они не реагируют.
Свойство коацерватов реагировать на воздействия, входящие в процесс обмена веществ (оставляя без ответа посторонние «индифферентные» воздействия), называется раздражимостью. Это основное свойство проявляется при переходе от неорганической материи к органической. К нему присоединяется и второе свойство — возможность сохранять высокоспециализированные свойства раздражимости к воздействиям, передавая соответствующие модификации белковых молекул от одного поколения к другому. Это последнее свойство, по — видимому связанное с модификацией некоторых фракций аминокислот (в частности, рибонуклеиновой кислоты, или РНК, составляющей молекулярную основу жизни), принято рассматривать как важный процесс, лежащий в основе биологической памяти.
Процессы раздражимости по отношению к жизненно важным «биотическим» воздействиям, выработка высокоспециализированных форм раздражимости и сохранение их с передачей последующим поколениям, характеризует ту стадию развития жизни, которую обычно обозначают как растительная жизнь.
Этими процессами характеризуется вся жизнь, начиная от простейших водорослей и кончая сложными формами растительной жизни. Ими же обусловлены и так называемые «движения растений», которые, по существу, являются лишь формами усиленного обмена или роста, направляемого раздражимостью по отношению к биотическим воздействиям (влажности, освещенности и т. п.). Такие явления как рост корня растения вглубь почвы, или неравномерный рост ствола в зависимости от освещенности, или поворот растения в направлении солнечных лучей — все это является лишь результатом явлений «раздражимости» к биотическим (небезразличным для жизни) воздействиям.
Существенным для растительной жизни является одно важное обстоятельство. Растение, реагирующее усиленным обменом на биотические воздействия, не реагирует на посторонние воздействия, которые входят в процесс непосредственного обмена веществ. Оно не ориентируется активно в окружающей среде и может, например, погибнуть от отсутствия света или влаги, даже если источники света и влаги существуют совсем близко, но не оказывают на него непосредственного воздействия.
От этой пассивной формы жизнедеятельности резко отличаются формы существования на следующем этапе эволюции — на стадии животной жизни.
Характерным для каждого животного организма, начиная с простейших, является тот основной факт, что животное реагирует не только на биотические воздействия, непосредственно входящие в процесс обмена веществ, но и на «нейтральные», небиотические воздействия, если только они сигнализируют о появлении жизненно важных («биотических») воздействий. Иначе говоря, животные (даже простейшие) активно ориентируются в условиях среды, ищут жизненно важные условия и реагируют на всякие изменения среды, которые являются сигналом появления таких условий. Чем интенсивнее протекает обмен веществ, чем большую потребность испытывает простейшее живое существо в получении пищи, тем более активны его движения, тем в более оживленных формах протекает его «ориентировочная», или «поисковая», деятельность.
Эта способность реагировать на нейтральные «абиотические» раздражения при условии, что они сигнализируют о появлении жизненно важных воздействий, появляющаяся на стадии перехода к животному миру, называется, в отличие от явлений раздражимости, чувствительностью. Появление чувствительности и может служить объективным биологическим признаком возникновения психики.
(обратно)Изменчивость поведения простейших
Чувствительность по отношению к «нейтральным» раздражителям, если они начинают сигнализировать о появлении жизненно важных воздействий, вызывает коренные изменения в формах жизни. Главное заключается в том, что живое существо начинает «ориентироваться» в окружающей среде, активно реагировать на каждое изменение, происходящее в ней, т. е. вырабатывать индивидуально изменчивые формы поведения, которые не существовали в растительном мире.
На первых порах выработка такого индивидуально меняющегося поведения происходит относительно медленно, однако его удается наблюдать даже в условиях эксперимента.
Приведем один из типичных экспериментов, проведенных немецким исследователем Брамштедтом.
Известно, что одноклеточные, па которых проводился этот эксперимент, чувствительны к теплоте (являющейся для них жизненно важным биотическим условием, необходимым для обмена веществ), но нечувствительны к свету. Поэтому, если поместить их в равномерно нагретую камеру, часть которой освещена, в то время как другая часть затемнена, они равномерно распределяются но всей камере. Если, наоборот, одну сторону равномерно освещенной камеры нагреть, они сосредоточиваются в нагретом конце камеры. Однако, если в течение длительного периода освещать нагретый конец камеры и затемнять ненагретый, положение дела меняется, и одноклеточные становятся чувствительными к свету, который сейчас приобретает для них значение сигнала к повышению температуры, и начинают сосредоточиваться в освещенном конце камеры, несмотря на разницы температур.
Характерно, что такая чувствительность к освещению формируется у одноклеточных постепенно и при длительном неподкреплении света теплотой может совсем исчезнуть.
Подобную же индивидуальную изменчивость поведения простейших можно вызвать на основе их оборонительных реакций, если изменять условия, вызывающие эти реакции. Примером может служить опыт известного польского исследователя Я. Дембовского.
Одноклеточные помещены в круглую пробирку с водой и обнаруживают характерные для них беспорядочные движения. Если поместить их в такую же трубку, но с четырехугольным сечением, они начинают ударяться о стенки этой пробирки, но скоро их движения приобретают измененный характер, обеспечивающий минимальные удары о стенки сосуда. Траектория этих движений, следовательно, начинает отражать конфигурацию сосуда. Выработанная у них траектория сохраняется даже тогда, когда они снова помещаются в пробирку круглой формы и некоторое время продолжают совершать те же движения по ромбической траектории.
Процесс изменчивости индивидуального поведения простейших, резко отличающий их от растений, происходит относительно медленно, и возникшие изменения так же медленно исчезают. Однако эти изменения настолько значительны, что возникшие новые формы поведения (приспособления к изменившимся условиям) позволяют осуществить нужные реакции приспособления к новым условиям на низшей ступени эволюционной лестницы.
Типичным примером этого может служить эксперимент, проведенный американским исследователем Смитом.
В узенькую пробирку с микроскопическим сечением помещалась туфелька (вид одноклеточных). Сечение трубки было так мало, что для того, чтобы выйти из трубки в направлении действия биотического агента (света), туфельке нужно было перевернуться, ударяясь о стенки трубки. В начале эксперимента на этот поворот у туфельки уходило 3–5 минут, однако если такие эксперименты повторялись много раз в течение 10–12 часов, поворот начинал выполняться много быстрее, и под конец на него требовалось всего 1–2 секунды. Таким образом, под влиянием новых условий вырабатывался новый «навык», который протекал в 180–200 раз быстрее, чем первоначальная реакция.
Как видим, формирование нового вида поведения, отвечающего измененным условиям, требует у простейших животных значительного времени. Характерно и то, что раз возникшее изменение поведения сохраняется у них достаточно долго, и нужно длительное время, чтобы оно исчезло.
Это можно наблюдать как у простейших одноклеточных, так и у относительно просто организованных многоклеточных.
Пример, показывающий такое медленное возникновение и столь же медленное исчезновение новой формы поведения, можно видеть в эксперименте, проведенном сначала бельгийским исследователем Блессом, а затем советским исследователем А. Н. Леонтьевым над плоским червем планарией (см.: Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики).
Мы еще не знаем биологических механизмов такого появления чувствительности к ранее нейтральному агенту. Возможно, что оно связано с постепенным изменением биохимических свойств плазмы. Однако факт прижизненного появления новых форм указывает на возникновение индивидуальной изменчивости в поведении простейших и дает основание говорить о возникновении на этой стадии эволюции подлинного, хотя и очень элементарного, поведения.
(обратно)Механизмы поведения простейших
Науке еще очень мало известно о физико — химических условиях поведения простейших и о тех причинах, которые вызывают положительные или отрицательные движения (движение по направлению к одним объектам и в направлении от других объектов соответственно).
Известно, что протоплазма, составляющая тело простейшего (одноклеточного) животного, состоит из внешнего, более плотного слоя (плазма — гель), и внутреннего, более жидкого слоя (плазма — золь). Известно также, что внешние слои протоплазмы одноклеточного более возбудимы, чем внутренние, и каждое внешнее действие вызывает усиленный обмен веществ, который постепенно распространяется от внешних слоев к внутренним, угасая по типу постепенно снижающегося градиента возбуждения. Эти градиенты возбуждения, по — видимому, и лежат в основе движений одноклеточного, возникающих, как только внешнее воздействие вызовет усиленный обмен веществ в соответствующей точке его поверхности или когда внутренние процессы приведут к необходимости активно искать вещества, необходимые для обеспечения такого обмена.
Некоторые авторы полагают, что адекватные воздействия умеренной силы вызывают положительную реакцию одноклеточного и приводят к движению по направлению к соответствующему воздействию, в то время как неадекватные (сверхсильные или вредные) воздействия вызывают отрицательное движение, направленное от воздействующего объекта. Положительное движение приводит к тому, что вызывающий раздражение объект сначала обволакивается струйками протоплазмы, которая у наиболее простейших одноклеточных (амеб) выпускается в место наиболее интенсивного обмена и замыкается вокруг этого объекта, включая его в состав тела одноклеточного. Если этот объект питателен, он усваивается телом одноклеточного, а продукт распада выделяется в среду. Если он не питателен, он таким же путем, как был захвачен, выбрасывается в окружающую среду.
Было бы, однако, неверно представлять, что все движения одноклеточных протекают по такой простой схеме. Особенностью поведения таких организмов является тот факт, что воздействия, доходящие до них, сами могут претерпевать сложнейшие изменения. Сама протоплазма одноклеточного никогда не находится в состоянии покоя, но характеризуется высоко дифференцированными, избирательными системами возбуждений, которые меняются в зависимости от протекающего в ней процесса обмена веществ и приводят к возникновению доминирующих форм возбуждения.
Как это было показано опытами Фоглера, механическое воздействие известной силы вызывает лишь относительно слабые реакции простейшего, а световое возбуждение может вообще не вызывать никаких реакций. Однако, если на простейшее воздействуют одновременно механическое раздражение данной силы и световое раздражение, оба эти воздействия суммируются и приводят к повышенным реакциям простейшего.
Известно, что реактивность голодной амебы более высока, чем реактивность сытой амебы, и у нее создается повышенная готовность реагировать на соответствующие полезные воздействия или на раздражения, которые сигнализируют об их появлении.
Наконец, одноклеточное может «привыкать» к соответствующим воздействиям, снижая реакции на них по мере их длительного повторного предъявления.
Механизмы, лежащие в основе этого явления, еще мало изучены, и лишь проведенные в последнее время наблюдения заставляют думать, что появление и сохранение этих воздействий является результатом известных модификаций и рибонуклеиновой кислоты, составляющей один из основных компонентов их плазмы.
Следует отметить, что тело простейших является относительно однородным и процесс наиболее интенсивного обмена может возникать у него в месте непосредственно возникающего возбуждения, образуя тем самым временный «головной» конец его тела.
Наиболее сложные одноклеточные имеют несравненно более сложную структуру. У них можно различить постоянные «органы» в виде чувствительных участков протоплазмы, которые образуют, например, «жгутики» у бактерий. Эти «жгутики» находятся в постоянном движении и несут наиболее существенные функции ориентировки во внешней среде; в них и возникают градиенты постоянного возбуждения, которые, распространяясь но остальному телу одноклеточного, приводят его в движение.
Богатство поведения одноклеточных очень велико и подлежит еще специальному изучению, так же, как и те механизмы, которые лежат в его основе. Однако то, что мы уже знаем о них, заставляет думать, что здесь заложены основы той сложной деятельности активной ориентировки в среде, которые в дальнейшем составят важнейшую черту психической деятельности.
(обратно)Происхождение нервной системы и ее простейшие формы
Описанные процессы раздражимости по отношению к биотическим воздействиям, чувствительности по отношению к нейтральным воздействиям, сигнализирующим о появлении жизненно важных воздействий, и элементарного сохранения следов достаточны для поддержания жизни одноклеточных животных.
Однако они становятся недостаточными с переходом к многоклеточным.
Переход к многоклеточным существенно усложняет условия существования. Питание путем прямой диффузии питательных веществ, занимавшее ведущее место на уровне простейших, здесь заменяется питанием дискретной (концентрированной) пищей; повышается роль активной ориентировки во внешней среде. Становится необходимым обеспечить гораздо более дифференцированные движения и гораздо более быструю проводимость возбуждения, чем та, которая была доступна путем постепенного распространения градиентов возбуждения по протоплазме одноклеточных. Это и приводит к значительному усложнению строения тела многоклеточного, к выделению клеток специализированной рецепции раздражений, доходящих до тела животного, и появлению первых сократительных клеток, несущих ту функцию, которую на дальнейших этапах эволюции возьмут на себя мышечные клетки. Это приводит, наконец, к тому, что в местах прежних градиентов возбуждения начинают откладываться дорожки наиболее возбудимой протоплазмы и образуют наиболее элементарную форму нервной системы, которая у этих животных носит характер диффузной, сетевидной нервной системы.
Все это с особенной отчетливостью можно видеть в строении тела относительно простых многоклеточных, относящихся к классу кишечнополостных, например в строении тела медузы, актинии или морской звезды.
Характерным для этой стадии развития многоклеточных является то, что проводимость возбуждения ускоряется благодаря появлению сетевидной нервной системы во много раз. Если проведение возбуждения по протоплазме не превышает скорости 1–2 микрон в секунду, то с появлением простейшей (сетевидной) нервной системы скорость проведения равна 0,5 метра в секунду (заметим, что при дальнейшем развитии нервной системы и переходе на следующие этапы ее усложнения скорость проведения возбуждения еще более возрастает, доходя у лягушки до 25 метров в секунду, а у высших позвоночных до 125 метров в секунду).
Однако значительные преимущества, которые возникают с явлением первичной диффузной (сетевидной) нервной системы, имеют и свои границы. Как и на описанных выше этапах эволюции, у животных с сетевидной нервной системой еще нет постоянного головного конца, управляющего их поведением. Возбуждение равномерно распространяется по сетевидной нервной системе на все тело животного, а место приложения внешнего раздражения становится временным ведущим пунктом. Только у наиболее сложных кишечнополостных одна часть тела (например, один луч у морской звезды), по своему строению не отличающаяся от других частей тела (лучей), может стать доминирующей, «ведущей» и берет на себя функцию наиболее активного органа при движении. Если у морской звезды отрезать (ампутировать) этот «ведущий» луч, то роль «ведущего» переходит к другому, расположенному рядом с ним лучу.
Естественно, что такое отсутствие постоянного ведущего органа, который мог бы не только воспринимать, но и перерабатывать, кодировать полученную информацию и создавать программы дифференцированного поведения, существенно ограничивает возможности поведения на этом уровне. Эти недостатки устраняются на дальнейших этапах эволюции, особенно с переходом к земному существованию и формированием более сложно построенной ганглионарной нервной системы.
(обратно)Ганглионарная нервная система и появление простейших программ поведения
Переход к наземному существованию связан со значительным усложнением условий жизни. Прямая диффузия питательных веществ из окружающей среды становится невозможной, наличие готовой плотной (дискретной) пищи — несравненно меньшим. Эта пища находится теперь в резко неоднородной среде, и ориентировка, необходимая для получения пищи, значительно усложняется.
Все это создает необходимость дальнейшего усложнения организма животных, и прежде всего дальнейшую эволюцию сложных органов рецепции и движений и формирования сложных и централизованных аппаратов переработки информации и регулирования движений. Именно этому и соответствует следующий этап в эволюции нервной системы, приводящий к возникновению цепочечной, или ганглионарной, нервной системы, которая впервые появляется у червей и приобретает максимальную сложность у высших беспозвоночных, и прежде всего у насекомых.
Как появление ганглионарной нервной системы, так и формирование поведения, которое осуществляется с ее помощью, знаменуют важнейший скачок в эволюции жизнедеятельности.
Уже у наиболее простых беспозвоночных (червей) можно проследить совсем новый принцип организации нервной системы по сравнению с предыдущей стадией. На переднем головном конце червя сосредоточиваются волокна, которые кончаются химическими и тактильными рецепторами, расположенными особенно густо. Эти аппараты воспринимают химические, термические, световые изменения, происходящие во внешней среде, а также изменения влажности. Сигналы этих изменений проводятся по волокнам и доходят до переднего узла или ганглия, где они сосредоточиваются в нервном «центре», впервые появляющемся на этой ступени эволюции. Здесь эти сигналы перерабатываются (кодируются), и возникающие «программы» поведения в виде двигательных импульсов распространяются по цепочке нервных ганглиев, каждый из которых соответствует отдельному сегменту тела червя. Доходящие до этих ганглиев импульсы вызывают соответствующие движения, направление которых программируется и регулируется передним ганглием.
Здесь возникает новый принцип — централизованность нервной системы, резко отличающейся от принципа построения диффузной (сетевидной) нервной системы. Головной конец червя, где сосредоточена особенно густая сеть хемо-, механо-, термо-, фото — и гигрорецепторов, приобретает ведущую роль, в то время как сегментарные ганглии сохраняют лишь относительную автономию. Это легко проследить, если разрезать тело червя на две половинки. В этом случае передняя половина будет закапываться в землю, сохранив свои организованные движения, в то время как задняя половина будет лишь беспорядочно извиваться, не проявляя никаких признаков организованного движения.
Усложнение строения нервной системы на стадии червей позволяет проследить у них более совершенные (хотя еще очень примитивные) виды формирования новых, индивидуально приобретенных видов поведения. Это было показано в свое время известным американским психологом Р. Йерксом. Он помещал дождевых червей в Т — образную трубку, простейший лабиринт. В левом конце этой трубки червь получал электрический удар, вызывавший оборонительную реакцию. При многократном повторении этого эксперимента у дождевого червя можно было выработать «навык» избегать электрического удара и двигаться направо. Насколько медленно шел этот процесс, видно из следующего: понадобилось свыше 150 проб, чтобы поведение червя приобретало организованный характер и в подавляющем числе проб он начинал двигаться направо, избегая электрического шока (табл. 1.1).
Таблица 1.1 — Формирование новых видов поведения у дождевых червей
Если повторить этот же опыт после длительной паузы, «обучение» начинает протекать вдвое быстрее, и число ошибок достигает минимального количества уже после 80 опытов. Характерно также, что эксперименты с «переучиванием» червя (в этих опытах червь начинал получать электрический шок уже не слева, а справа) протекали значительно медленнее, и некоторый эффект «переучивания» начинал обнаруживаться лишь после 200 проб.
Отсюда видно, что ганглионарная нервная система червя позволяет не только вырабатывать новые формы поведения, но и сохранять выработанные «навыки», иначе говоря, что дождевой червь обладает примитивной формой «памяти».
В последнее время были проведены эксперименты, которые позволяют убедиться в возможности передачи такого «навыка» и сделать некоторые шаги к выяснению биохимических механизмов, лежащих в основе элементарной памяти. В этих экспериментах американский исследователь Мак Коннэл «обучал» группу червей нужному поведению в простейшем лабиринте. После этого он измельчал тела этих червей, делал из них вытяжку и скармливал ее другим, никогда не обучавшимся червям. Как показал эксперимент, черви, усвоившие эту вытяжку, вместе с этим «усвоили» и навыки, приобретенные первой группой червей. Когда их впервые помещали в лабиринт, они сразу же делали значительно меньше ошибок, чем обычные необученные черви. Этот факт заставил Мак Коннэла предположить, что выработка «навыка» на этих этапах эволюции связана с глубокими биохимическими изменениями протоплазмы и выработанный «навык» может «передаваться» гуморальным путем.
Наука не располагает окончательной оценкой и интерпретацией данных, полученных в этом эксперименте, можно лишь полагать, что изменения, вызванные подобным «обучением», связаны с модификацией рибонуклеиновой кислоты (РНК). Это было показано экспериментами, в которых тела «обученных» червей предварительно опускались в раствор рибонуклеазы (фермент, растворяющий РНК). После этого вытяжка из задних половин тела «обученных» червей не вызывала нужного эффекта, в то время как вытяжка из передних половин «обученных» червей (включавшая вещество переднего ганглия) продолжала вызывать подобный же эффект. Эти эксперименты говорят как о значении для сохранения «навыка» рибонуклеиновой кислоты, так и о том значении, которое для хранения «памяти» червя имеет передний ганглий, клетки которого защищены от растворяющего действия рибонуклеазы.
В науке до сих пор продолжаются споры о том, говорят ли эти эксперименты о «передаче» информации гуморальным путем или лишь об общем «повышении возбудимости», возникающем при усвоении вещества тел обученных червей. Несмотря на то что окончательного ответа на этот вопрос нет, результаты экспериментов показывают — на этом этапе эволюции возможна выработка прочного «навыка», и в сохранении этого «навыка», по — видимому, принимают участие все клетки тела животного.
(обратно)Появление сложных форм наследственного программирования («инстинктивного») поведения
Дальнейшая эволюция поведения связана с появлением сложных дифференцированных аппаратов рецепции, позволяющих воспринимать высокоспециализированную информацию, приходящую от внешней среды. Она связана и с развитием сложнейших программ, которые позволяют животному приспособляться к сложным, хотя и постоянным, устойчивым условиям среды. Все это становится возможным на дальнейших этапах эволюции ганглионарной нервной системы и особенно отчетливо проявляется у членистоногих животных.
Усложненные условия существования делают необходимым формирование многообразных аппаратов чувствительности, позволяющих регистрировать разнообразные влияния внешней среды. Рассмотрим это на примере эволюции фоторецепторов. Сначала светочувствительные клетки были просто сосредоточены на передней поверхности тела. Это давало животному возможность воспринимать воздействие света, но еще не позволяло локализовать источник света в пространстве. На следующем этапе эволюции светочувствительные клетки сосредоточивались в двух светочувствительных пластинках, расположенных по обеим сторонам переднего конца тела. Это позволяло ориентироваться в пространственном положении источника света и поворачивать туловище в правую или левую сторону, но еще не давало возможности различать свойства действующего на организм предмета. Лишь на последнем этапе эволюции сверхчувствительные пластинки изгибались, принимая форму полого шара. Небольшое отверстие, которое затем заполнялось преломляющей средой (хрусталиком), позволяло падающему лучу преломляться, и воздействие светового объекта запечатлевалось на чувствительном слое этого полого шара. Возникал аппарат сложного светочувствительного рецептора — глаза, который впервые позволил не только реагировать на наличие света, но и отражать свойства воздействующего предмета.
Строение глаза — важнейшего световоспринимащего органа — у различных животных неодинаково. У насекомых оно носит характер «фасеточного глаза», построенного иногда из многих тысяч самостоятельных ячеек. У позвоночных принимает форму хорошо известного нам единого глаза, позволяющего воспринимать отражение предмета и менять четкость отражения с помощью саморегулирующейся системы преломляющего аппарата и мышц. Однако во всех случаях возникновение сложного аппарата, позволяющего на расстоянии ориентироваться в воздействующих предметах, остается одним из наиболее значительных достижений эволюции.
Насекомые располагают большим числом высокодифференцированных рецепторов. Наряду со сложным фоторецептором (глазом) они имеют:
• специальные тактильно — химические рецепторы (расположенные в усиках);
• вкусовые рецепторы (расположенные в полости рта, на ножках), которые улавливают тончайшие изменения вкуса;
• вибрационные рецепторы (расположенные в перепонках ножек), реагирующие на тончайшие ультразвуковые колебания, иногда до 600 тыс. вибраций в секунду.
Возможно, существует еще целый ряд неизвестных нам видов рецепторных аппаратов, специализация которых вырабатывалась у них в процессе миллионов поколений.
Возбуждения, вызванные воздействиями, падающими на эти рецепторные аппараты, распространяются по нервным волокнам и приходят в передний ганглий, который является прототипом головного мозга и аппаратом, объединяющим (кодирующим) доходящие до него импульсы и переводящим эти импульсы в сложнейшие системы врожденных программ поведения, которые лежат в основе приспособительных движений насекомого.
Передний ганглий высших насекомых, например пчелы, имеет очень сложное строение. Он состоит из скопления дифференцированных нервных клеток, к которым приходят импульсы от периферических рецепторов. В передней части этого ганглия распределены преимущественно зрительные клетки, в средней части — обонятельные клетки, в задней — чувствительные клетки ротовой полости. Характерно, что расположение этих клеток имеет организованный характер. В них уже можно наблюдать плоскостное «экранное» строение, позволяющее вызванным возбуждениям распространяться по нейронным структурам переднего ганглия в организованном порядке, обеспечивая тем самым отражение известных структурно организованных воздействий.
Характерно, как это было установлено последними исследованиями, что уже на этой ступени эволюции в состав переднего ганглия входят высокоспециализированные нейроны, которые реагируют на отдельные мельчайшие признаки доходящей до организма информации, разлагая ее на большое число составляющих элементов и позволяя в дальнейшем объединять их в целые структуры (о формах работы этих нейронов будет сказано ниже).
Все это делает передний ганглий высших насекомых сложнейшим центральным аппаратом, позволяющим улавливать многообразные воздействия среды и кодировать их в целые системы.
Коды возбуждений, возникающие при определенных раздражениях в переднем ганглии насекомых, передаются в виде сложных программ поведения на лежащий ниже грудной ганглий, где возникают импульсы сложных приспособительных движений насекомого, составляющие его поведение.
Сложнейшие программы поведения насекомых представляют не только большой интерес, но и требуют специального подробного рассмотрения.
Особенность сложнейших программ, которые составляют подавляющую часть поведения насекомых, состоит в том, что они являются врожденными и передаются по наследству, принимают широко известную форму инстинктивного поведения. Эти программы вырабатываются многими миллионами поколений и передаются наследственно, так же как особенности строения тела (формы крыльев, особенности хоботка, структура рецепторных органов) хорошо приспособлены к условиям существования насекомых.
Примеры врожденных программ поведения у насекомых очень многочисленны. Нередко они настолько сложны и целесообразны, что некоторые авторы считали их примером разумного поведения.
Известно, что личинка березового слоника разрезает березовый лист по идеальной геометрической форме, которая близка к оптимальной, математически рассчитанной структуре, чтобы затем свернуть его в трубочку и использовать для окукливания. Комар откладывает яички на поверхность воды и никогда не откладывает их на сушу, где они неизбежно высохнут. Оса сфекс откладывает яички в тело гусеницы, с тем чтобы появившиеся личинки не испытывали недостатка в пище. Для этого она предварительно прокалывает грудной ганглий гусеницы так, чтобы гусеница не погибла, а лишь была обездвижена, и делает это с удивительной точностью. Нужно ли говорить о врожденных программах поведения паука, ткущего удивительную по своей конструкции паутину, или о врожденных программах поведения пчелы, которая строит соты идеальной, с точки зрения экономии, формы, заполняет эти соты медом и запечатывает их воском, как только они оказываются достаточно наполненными.
Приведенные выше примеры сложнейшего целесообразного поведения и многие другие являются врожденными, им насекомое не должно учиться, оно рождается с этими формами поведения, так же как рождается с идеальной формой крыла или с удивительным по своей целесообразности строением органов чувств.
Все это давало основание многим авторам говорить о целесообразности инстинктов и сближать их с разумным поведением.
Лишь за последнее время исследования зоологов и, в частности, того направления науки, которое называется этологией (этос — поведение), внесли некоторую ясность в загадочную форму поведения и показали, что за этой формой деятельности, поражающей своей сложностью и видимой разумностью, скрыты элементарные механизмы. Эти исследования показали, что сложнейшие программы «инстинктивного» поведения на самом деле вызываются элементарными стимулами, которые пускают в ход врожденные циклы приспособительных актов.
Так, откладывание яичек комара на водной поверхности вызывается блеском воды; поэтому достаточно заменить воду блестящим зеркалом, чтобы комар начинал откладывать яички на его поверхности. Сложная врожденная программа деятельности паука, который бросается на муху, запутавшуюся в паутине, на самом деле вызывается вибрацией паутины, и если к паутине прикасается вибрирующий камертон, паук бросается на него так же, как он бросается на муху.
Описанные механизмы позволяют сделать существенный шаг в улучшении понимания процессов, лежащих в основе врожденного поведения, и перейти от простого описания к его объяснению, показать, насколько инстинктивное поведение отличается от разумного.
Приведем лишь один пример, показывающий, как сложно протекает такое исследование и к каким интересным результатам приводит.
Известно, что некоторые разновидности земляных червей, запасающих на зиму листья, втягивают их в свои норки за конец. Это считалось проявлением «рассудочной деятельности» червей, о которой в свое время говорил Ч. Дарвин, и заставляло предполагать, что червь воспринимает форму листа и «рассчитывает», каким концом лучше втянуть его в норку.
Это предположение существенно изменилось после того, как немецкий исследователь Ганели произвел следующий эксперимент. Он вырезал из листа кусочек, воспроизводящий форму этого листа, но обращенный острием книзу. В этом случае червь делал попытки втянуть лист в норку уже не острым, а тупым концом. Вопрос о том, почему он так делает, стал предметом исследования другого ученого — Мангольда. Этот исследователь предположил, что такое поведение червя диктуется не восприятием формы, а гораздо более элементарным химическим чувством. Для проверки этого он положил перед червем ряд одинаковых палочек, но смазывал один конец этих палочек вытяжкой из верхушек листа, а другой — вытяжкой из основания листа, или один конец вытяжкой из верхушки листа, а другой конец — вытяжкой из черенка. В качестве контрольных были проведены эксперименты, в которых один конец палочки смазывался вытяжкой из верхушки листа или черенка, а другой конец — нейтральным желатином. Результаты опыта показали, что в этих случаях частота, с которой червь втягивал палочку в норку за тот или другой конец, была неодинаковой, и что основным фактором, решающим дело, было различие в химическом отличии вершины листа от его черенка (табл. 1.2).
Таблица 1.2 — Результаты экспериментов Мангольда
Так, если один конец палочки был смазан вытяжкой из верха, другой — вытяжкой из основания листа, червь не оказывал какого — либо предпочтения тому или иному концу палочки. Если один конец палочки смазывался вытяжкой из верхушки листа, а другой — вытяжкой из черенка, червь вдвое чаще втягивал палочку концом, смазанным вытяжкой из верхушки листа. В контрольных экспериментах, где второй конец палочки смазывался нейтральным желатином, это предпочтение вытяжки из верхушки листа становилось еще отчетливее.
Таким образом, гипотеза, что червь реагирует на форму листа, была отброшена и показано, что решающую роль в протекании этой сложной формы деятельности играет гораздо более химическое чувство.
Все описанные наблюдения позволили убедиться в том, что, несмотря на очень сложные программы врожденного поведения, доминирующие у беспозвоночных (и особенно у насекомых), они могут запускаться в ход относительно простыми сигналами. Эти сигналы, запускающие сложнейшие врожденные механизмы, экологические (средовые) условия существования животного, и являются продуктами длительной эволюции.
Условия, которые пускают в ход врожденные программы поведения, особенно отчетливо выступили при анализе того, на какие признаки реагирует насекомое например пчела), когда она избирательно садится на те или иные виды медоносных цветов.
Оказалось, что такими признаками могут являться сложная форма цветка, а иногда его окраска.
Как было показано в исследовании известного немецкого зоолога К. Фриша, а затем экспериментами М. Герц, в которых пчела тренировалась в том, чтобы садиться на чашечки с сахарным раствором, прикрытые картинками с изображением различных геометрических форм, насекомое с трудом различает простые геометрические формы, такие как треугольник и квадрат, но легко различает такие сложные формы, как пятиугольная и шестиугольная звезда или крестообразные формы, расположенные под различным углом. Наконец, сколь легко пчела различала простой и изрезанный круг, не садясь на первый и избирательно реагируя на второй.
Эти исследования показывают, что фактором, позволяющим пчеле выделять соответствующие формы, является не их геометрическая простота, а их сходство с натуральными раздражителями — формой цветов.
Аналогичные результаты дали эксперименты с выделением пчелой различных окрасок. Они показали, что пчела с трудом различает чистые цвета, с гораздо большей легкостью различает смешанные цвета (красно — желтый, желто — зеленый, зелено — голубой и т. д.), которые воспроизводят окраску реальных цветов.
Все это показывает, что решающим фактором для выделения тех признаков, которые пускают в ход врожденные (инстинктивные) программы поведения, являются естественные условия существования (экологические условия), определяющие, какой именно признак выделяется животным.
Очень возможно, что эта высокая избирательность признаков, на которые реагирует насекомое, связана с появлением высокоспециализированных нейронов переднего ганглия, которые в процессе эволюции выработали способность избирательно реагировать на такие жизненно важные признаки, как смешанные цвета, звездчатость или изрезанность формы, расположение формы в пространстве и т. д.
Исследования, проведенные зоологами и психологами, позволили убедиться еще в одной важнейшей особенности врожденного «инстинктивного» поведения. Оказалось, что врожденные программы «инстинктивного» поведения являются целесообразными лишь в определенных, строго постоянных стандартных условиях, в соответствии с которыми в процессе эволюции сложились эти программы. Стоит, однако, немного изменить эти условия, чтобы врожденные программы переставали быть целесообразными и теряли свой «разумный» характер.
Это положение можно иллюстрировать двумя примерами. Известно, что у одной из пород ос сложилось очень «целесообразное» поведение. Подлетая с добычей к норе, в которую она помещает добычу, она оставляет эту добычу около норы, затем влезает в нору и после того, как она находит эту нору пустой, выходит наружу, втаскивает добычу в нору и улетает.
Дело, однако, существенно меняется, когда в специальном эксперименте добычу, лежащую перед входом, сдвигают на несколько сантиметров, проделывая это в тот период, когда оса производит свою разведку в норе. В этом случае оса выходит из норы, не находит добычу на прежнем месте, снова подтаскивает ее в исходное положение и… снова входит в нору, которую она только что обследовала. Поведение осы может повторяться много раз подряд, и каждый раз, когда добыча перемещается на несколько сантиметров, оса продолжает механически повторять обследование норы, потерявшее при этих условиях свою целесообразность.
Аналогичные наблюдения были проведены над пчелами. Известно, что пчела заполняет пустые соты медом и, отложив нужное количество меда, запечатывает соты. Однако, если в условиях социального опыта отрезается весь низ сот, и мед, который пчела кладет в соты, проваливается, пчела продолжает запечатывать пустые соты через определенный период времени, закрепленный в ее инстинктивной программе. И здесь поведение, которое было целесообразным в постоянных стандартных условиях жизни, теряет свою целесообразность, когда условия жизни меняются.
Все это показывает, что врожденные «инстинктивные» программы поведения, преобладающие в деятельности насекомых, являются косными, механическими, сохраняя свою кажущуюся «разумность» лишь в постоянных стандартных условиях, в соответствии с которыми они были выработаны в процессе эволюции.
Целесообразность такого преобладания видовых программ поведения соответствует основному биологическому принципу жизни насекомых. Как правило, они откладывают огромное число яичек, отличающееся большой избыточностью. Лишь небольшое число особей, которое появляется из этих яичек, выживает, однако это число особей является достаточным для сохранения вида. Поэтому, несмотря на то что большое число особей погибает, когда изменения условий делают врожденные программы поведения неадекватными, вид все же сохраняется, и врожденные программы «инстинктивного» поведения оказываются достаточными для сохранения вида.
Такой тип приспособления врожденных программ поведения с медленной и трудной изменчивостью является биологически целесообразным в условиях огромной избыточности воспроизведения, которая имеет место в мире насекомых. Однако он становится биологически недостаточным для другой ветви эволюции — позвоночных, у которых такая избыточность воспроизведения не имеет места, и создаются условия, делающие необходимым появление нового типа — индивидуально изменчивого поведения на более высоком уровне.
(обратно)Центральная нервная система и индивидуально изменчивое поведение позвоночных
Все, что мы знаем о способах жизни и поведении позвоночных, показывает, что как формы жизни, так и формы поведения их построены по совершенно иному принципу.
Только у низших позвоночных, живущих в водной среде, избыточность воспроизведения столь велика, что приближает их к классу насекомых, лишь сравнительно небольшое число особей, возникающих из оплодотворенной икры, выживает. Поэтому только у рыб преобладание мало изменчивых наследственно программированных форм поведения достаточно для сохранения вида.
Иное мы имеем с переходом позвоночных к наземному существованию. Условия питания становятся сложнее, среда — изменчивее, и требования к ориентировке в этой постоянно меняющейся среде неизмеримо возрастают. Одновременно изменяется и тип воспроизведения: каждая особь воспроизводит только 2–3, реже 5–6 себе подобных, и выживание отдельных индивидов становится условием для сохранения вида.
Все это создает биологическую необходимость для появления, наряду с врожденным и мало изменчивым «инстинктивным» (или видовым) поведением, нового — индивидуально изменчивого поведения. Эта новая форма поведения существует в зачатке у низших позвоночных, но на дальнейших ступенях эволюции начинает занимать все большее и большее место, чтобы у высших млекопитающих (обезьян), а затем у человека окончательно оттеснить низшие, врожденные («инстинктивные») формы поведения.
Необходимость усложнения форм ориентировки в окружающей действительности и выработки новых возможностей индивидуальной ориентировки в меняющихся условиях среды и формирование новых индивидуально изменчивых форм приспособления приводят в процессе эволюции к созданию принципиально новых нервных аппаратов, которые могли бы не только получать сигналы из среды и пускать в ход врожденные, наследственно передаваемые программы «инстинктивного» поведения, но которые могли бы анализировать поступающую информацию и замыкать новые связи, обеспечивая новые индивидуально изменчивые нормы поведения. Таким аппаратом является головной мозг, строение которого отражает длительный путь, пройденный эволюцией.
Головной мозг животного построен по типу ряда надстраиваемых друг над другом уровней или этажей.
Низшие уровни, расположенные в стволе мозга, обеспечивают процессы:
• регуляции внутреннего состояния организма — обмена веществ (гипофиз);
• дыхания и кровообращения (ствол);
• рефлекторных ответов на элементарные раздражители, доходящие до животного из внешней среды (четверохолмие).
Эти аппараты, построенные по типу нервно — секреторных агрегатов или нервных узлов (ганглиев), преобладают у низших позвоночных и позволяют им осуществлять более элементарные врожденные программы приспособительной деятельности, которые немногим отличаются от видов инстинктивной деятельности, описанных выше.
Типичным примером такого строения мозга является мозг лягушки, который состоит из образований верхнего ствола с развитым четверохолмием и лишь намеченными более высокими структурами и обеспечивает прежде всего выполнение сложившихся в процессе эволюции «инстинктивных» и мало изменчивых программ поведения. Эти программы поведения имеют строение, близкое к описанному выше. Лягушка, замечая мушку, делает прыжок, раскрывая челюсти, и захватывает ее липким языком. Это сложное поведение определяется относительно элементарным стимулом — зрительно воспринимаемым мельканием и вовсе не является ответом на предварительно проанализированный сигнал. Это легко видеть, если подвесить на тонком волосе небольшую бумажку и привести ее в движение вращением этого волоса. В этом случае мелькание бумажки пускает в ход врожденные программы поведения, и лягушка автоматически бросается на мелькающую бумажку, как она раньше бросалась на мушку.
Над аппаратом ствола надстраиваются более высокие образования, включающие сначала таламо — стриальную систему (подкорковые узлы) и древнюю (обонятельную, или лимбическую) кору, а затем, у высших позвоночных — образования новой коры больших полушарий, которые все больше и больше развиваются и постепенно начинают полностью доминировать над образованиями более низкого уровня.
Аппараты таламо — стриальной системы, которые начинают преобладать у пресмыкающихся и у птиц, а затем и аппараты древней коры обеспечивают более пластичные формы индивидуального поведения, чем те формы, которые имелись у низших позвоночных. Однако эти формы поведения, приобретающие уже черты индивидуальной изменчивости, еще тесно связаны с более элементарными врожденными формами поведения и носят черты тех видов приспособительной деятельности, с которыми животное рождается на свет и которые отражают особенности его экологии (т. е. устойчивых биологических форм его существования).
Ближайший анализ показывает, что эти иногда очень сложные врожденные программы поведения могут вызываться относительно простыми стимулами, отражающими формы жизни животного. Как показали наблюдения ряда авторов, в том числе советского физиолога А. Д. Слонима, сложные сосательные движения только что родившегося животного фактически вызываются разными сигналами, отражающими биологические условия его существования: у щенка сосательные движения вызываются мягкой шерстью (основным признаком кормящей матки), у ягненка — затемнением темени (отражающим биологический факт, что ягненок, начинающий сосать, прежде всего подходит под овцу и сосет закидывая голову). Такая же экологическая обусловленность избирательных реакций характерна для многих животных и больше зависит от способов их существования, чем от того зоологического класса, к которому они относятся.
Так, домашняя утка (питающаяся растительной пищей) безразлична к гнилостным запахам, но тонко реагирует на растительные, в то время как кобчик, питающийся падалью, тонко реагирует на гнилостные запахи и остается безразличным к растительным.
Характерно, что экологические особенности отражаются и на более сложных формах поведения животного. Хорошо известно, что при виде пищи у собаки начинает выделяться слюна. Однако, что менее известно, у лисы, которая предварительно должна добыть пищу, вид ее приводит к торможению, задержке слюны.
Все эти примеры показывают, что основные формы натурального поведения, осуществляемого аппаратами более высоких разделов головного мозга, сохраняют теснейшую связь с врожденными программами поведения, которые формируются под влиянием условий существования (экологии) животных.
На только что описанные аппараты надстраивается аппарат следующего, наиболее высокого уровня нервной системы больших полушарий, в частности новой коры головного мозга, вес которой, как показывают приведенные ниже данные, начинает занимать все большее место по отношению к весу тела (табл. 1.3).
Таблица 1.3 — Вес мозга по отношению к весу тела
Большие полушария мозга не только начинают приобретать в процессе эволюции высших позвоночных большой относительный вес, но и получают важное значение. Если у низших млекопитающих кора еще не имеет ведущей роли и регуляция процессов поведения может успешно осуществляться даже при ее разрушении, у высших млекопитающих она приобретает более ведущее значение, сколько — нибудь сложные процессы поведения уже не могут осуществляться при ее разрушении.
Факты, указывающие на большую зависимость функций от коры мозга, иначе говоря, на прогрессивную кортикализсщию функций, можно видеть из результатов наблюдений немецкого исследователя Шафера, показывающих, какие процессы восприятия и движения могут оставаться на разных этапах эволюции млекопитающих после удаления коры. Мы приводим данные этих наблюдений в сводной таблице (табл. 1.4).
Таблица 1.4 — Влияние экстирпации коры головного мозга на зрительные и двигательные процессы на последовательных ступенях эволюции (по Шаферу)
Все это показывает, что большие полушария не только начинают занимать большое место по отношению к остальному мозгу, но играют ведущую роль в регуляции сложных форм поведения животного.
Главная функция больших полушарий и их основной составной части — коры головного мозга — заключается в том, что она (кора) является аппаратом, который не только воспринимает сигналы и пускает в ход заложенные видовые программы поведения, но и позволяет анализировать информацию, поступающую из внешней среды, ориентироваться в ее изменениях, замыкать новые связи и формировать новые индивидуально изменчивые программы поведения, соответствующие этим изменениям.
Этой новой задаче отвечает строение коры больших полушарий головного мозга, толща которой состоит из огромного числа изолированных нервных клеток (нейронов), расположенных по шести основным слоям. Причем четвертый слой служит местом окончания волокон, несущих раздражение от органов чувств и воспринимающих поверхностей тела, и их переключения на другие нейроны. Пятый слой является местом, откуда двигательные импульсы направляются к мышцам, и, наконец, последняя группа слоев (второй и третий) сосредоточивает огромное число нейронов, перерабатывающих (перекодирующих) импульсы, которые поступают в кору головного мозга и замыкают новые связи, обеспечивающие формирование новых, индивидуально изменчивых программ поведения (детальное описание строения коры больших полушарий будет дано в гл. IV).
Характерная особенность коры больших полушарий состоит в том, что ее разные области заняты проекцией различных органов чувств (обоняния, зрения, слуха, тактильной, мышечно — суставной чувствительности). Экологический принцип построения работы центрального нервного аппарата сказывается и здесь, и чем большее значение в жизни животного имеет тот или иной вид чувствительности, тем важнее его место в коре головного мозга.
Так, в коре головного мозга ежа (животное ориентируется преимущественно обонянием) обонятельные отделы мозга занимают почти треть полушарий, в то время как у человека обонятельные отделы мозга резко редуцированы.
У обезьяны ведущее место имеет ориентировка во внешнем мире, поэтому зрительные отделы коры занимают большое место, в то время как у собаки (преимущественно обонятельного животного), гораздо меньшее место занимают области больших полушарий.
То же самое можно сказать об относительном месте, которое занимают в коре головного мозга проекции органов тела. Это было показано экспериментами английского физиолога Э. Эдриана, который с помощью специальной электрофизиологической методики установил, что территория, которую занимает проекция бедра в мозгу свиньи, очень невелика, в то время как проекция «пятачка» свиньи (который является для нес наиболее важным органом ощупывания, обнюхивания и т. д.) занимает огромную, непропорциональную его размерам территорию. Характерно, что такое же непропорционально большое место занимает в больших полушариях овцы проекция губ — основной орган ориентировки. Все это показывает, что кора больших полушарий головного мозга, мощно развивающаяся на позднейших этапах эволюции высших позвоночных, формируется под прямым воздействием экологических условий, и именно это делает ее основным аппаратом, обеспечивающим сложнейшие формы анализа и синтеза информации, поступающей из среды, и основным органом регуляции индивидуального изменчивого поведения.
(обратно)Механизмы индивидуально изменчивого поведения
Как показал американский исследователь Дэшналл, пробы, которые делает животное, помещенное в лабиринт, не случайны, они, как правило, всегда идут в общем направлении к цели, поэтому животное, которое хоть раз ориентировалось в лабиринте, создает общую систему направления, в котором оно бежит, и много раз чаще заходит в тупики лабиринта, расположенные по направлению данного пути, чем в тупики лабиринта, расположенные в направлении, обратном схеме движения.
Таким образом, можно наглядно видеть, что движения животного в лабиринте не носят случайный характер, а подчиняются одному направлению, которое другой американский исследователь, Креч, охарактеризовал как возникновение «двигательной гипотезы», руководящей общим направлением попыток, которые делают крысы, вырабатывающие «навык» в лабиринте. Подтверждением того, что попытки, которые делает животное при выработке новых программ поведения, не являются случайными, а есть результат активной ориентировки животного в условиях среды, являются экспериментами с так называемым «латентным обучением».
В этих экспериментах сравнивается быстрота выработки навыка у животных, которые сразу же помещаются в лабиринт с целью его прохождения, и у второй группы животных, которым разрешается просто бегать по лабиринту и, следовательно, дается возможность предварительно сориентироваться в условиях лабиринта.
Как показали данные эксперименты, проведенные американскими исследователями, вторая группа животных вырабатывала нужный навык значительно быстрее, чем первая. Характерно, что выработка успешного навыка была особенно велика, когда животному разрешалось активно ориентироваться в условиях лабиринта. Подобный эксперимент был поставлен американским исследователем Хелдом, который позволял животному активно двигаться по проблемному ящику, в то время как другое животное пассивно наблюдало этот ящик из коляски, которую возило первое животное. И в этом случае первое животное, активно ориентировавшееся в обстановке, значительно быстрее вырабатывало двигательный навык, чем второе. Этот факт показывает ту роль, которую играет в выработке новой программы действий предварительная ориентировка животного в условиях опыта.
Сложный динамический характер выработанного двигательного навыка, не являющегося простой цепью механически усвоенных, подтверждается, наконец, специальной серией экспериментов, которые показывают, что такой вновь выработанный «навык» может сохраняться даже и в тех случаях, когда для его выполнения нужен совсем новый набор движений.
Одно из таких исследований принадлежит американскому исследователю Хантеру. В этом эксперименте у крысы вырабатывался навык нахождения нужного пути в лабиринте. После того как такой навык был выработан, одна часть лабиринта выключалась, и на ее место ставился бассейн с водой. В этом случае крыса должна была переплывать бассейн, т. е. производить совершенно новые движения, но от этого выработанный навык не разрушался.
Аналогичные факты были получены американским исследователем Лешли другим путем. Выработав у крысы навык нахождения пути в лабиринте, он затем разрушал ее мозжечок. В результате этой операции у крысы, потерявшей равновесие, все прежние движения нарушались, передвигаясь кубарем (т. е. с помощью совершенно новых движений), она все же перемещалась в нужном направлении и достигала цели.
Все это показывает, что двигательные программы, вырабатываемые в условиях специальных задач, ни в какой мере не являются механической цепью рефлексов, и они скорее являются сложными динамическими схемами, формирующимися у животного в процессе его ориентировочной деятельности.
Две особенности характерны для выработки таких новых форм приспособительной деятельности у позвоночных.
Первая из них состоит в том, что процесс ориентировки поиска неотделим от активных движений и нахождение нужного решения не предшествует здесь выполнению двигательной программы, а формируется в процессе двигательных проб.
Вторая особенность заключается в том, что как характер ориентировочных действий животного, так и характер выработанных новых форм поведения в высшей степени зависит от натуральных форм поведения, сформированных в тесной связи с особенностью жизни (экологией) животного. У травоядных, и прежде всего у животных, питающихся готовой пищей (например, курица, овца, корова) ориентировочная деятельность носит пассивный, ограниченный характер, натуральные программы поведения преобладают, и выработка новых, индивидуально изменчивых форм деятельности протекает медленно. Наоборот, у хищников, которые в естественных условиях вынуждены разыскивать пищу, охотиться за жертвой (хищные птицы, лиса), ориентировочная деятельность протекает в виде активных поисков, новые формы поведения, которые соответствуют меняющейся обстановке, вырабатываются гораздо быстрее.
Существенно, что и характер выработанных форм нового, индивидуально изменчивого поведения сохраняет у этих животных связь с их врожденными («инстинктивными») формами деятельности, или «натуральными рефлексами». Так, морского льва, у которого ныряние, преследование жертвы входит во врожденные программы поведения, особенно легко обучить жонглированию мячом или ловле мяча. Енота или медведя, которые часто становятся на задние лапы, оставляя передние свободными, можно обучить движениям, имитирующим «стирку белья», и т. п.
Эта теснейшая связь врожденных программ поведения (или «натуральных рефлексов») с выработкой новых, индивидуально изменчивых форм деятельности остается характерной для поведения высших позвоночных на данном этапе развития.
(обратно)«Интеллектуальное» поведение животных
Описанные формы возникновения индивидуально изменчивого поведения не являются, однако, высшей границей эволюции поведения в животном мире.
У позвоночных, стоящих на вершине эволюционной лестницы, в частности у приматов, возникают новые формы индивидуально изменчивого поведения, которые с полным основанием могут быть обозначены как «интеллектуальное» поведение.
Особенность «интеллектуального» поведения животных заключается в том, что процесс ориентировки в условиях задачи не протекает в условиях двигательных проб, а начинает предшествовать им, выделяясь в особую форму предварительной ориентировочной деятельности, в процессе которой начинает вырабатываться схема (программа) дальнейшего решения задачи, в то время как движения становятся лишь исполнительным звеном в этой сложно построенной деятельности. Таким образом, на высших этапах эволюции начинают формироваться особенно сложные виды поведения, имеющего сложную расчлененную структуру, в которую входят:
• ориентировочно — исследовательская деятельность, приводящая к формированию схемы решения задачи;
• формирование пластически изменчивых программ движений, направленных на достижение цели;
• сличение выполненных действий с исходным намерением.
Характерным для такого строения сложной деятельности является ее саморегулирующийся характер:
• если действие приводит к нужному эффекту, оно прекращается;
• если оно не приводит к нужному эффекту, в мозг животного поступают сигналы о «рассогласованности» результатов действий с исходным намерением, и попытки решить задачу начинаются снова.
Такой механизм «акцептора действия» (П. К. Анохин), т. е. динамического контроля действия, является важнейшим составным звеном всякого индивидуально изменчивого поведения животного, но проявляется с отчетливостью в наиболее сложной фазе эволюции поведения — интеллектуальном поведении.
Два существенных явления, зачатки которых можно видеть уже на наиболее ранних ступенях эволюции позвоночных, предшествуют формированию этой наиболее высокой формы поведения животных. Первым из них является возникновение особой формы ориентировочной деятельности, названной советским исследователем Л. В. Крушинским «экстраполяционным рефлексом»; вторым является факт более усложнявшихся форм развития памяти у животных.
В наблюдениях, проведенных Л. В. Крушинским, установлено, что некоторые животные проявляют в своем поведении способность подчиняться не непосредственному восприятию предмета, но прослеживать его движения и ориентироваться на ожидаемое перемещение объекта. Известно, что собака, перебегающая улицу, не бежит прямо под движущуюся автомашину, а делает петлю, учитывая движение машины и даже развиваемую ею скорость. Этот рефлекс, «экстраполирующий» наблюдаемое движение и учитывающий перемещение, Л. В. Крушинский проследил в ряде экспериментов.
В этих экспериментах животное помещалось перед трубой, которая в середине имела разрыв. На глазах у животного к проволоке, проходящей через трубу, прикреплялась приманка, которая двигалась по трубе; она появлялась перед глазами животного в разрыве трубы и двигалась дальше, пока не появлялась в конце трубы. Животное помещалось перед разрывом трубы и наблюдало движение приманки.
Данные наблюдения показали, что животные, стоящие на более низкой ступени эволюции, и, в частности, животные, которым свойственно лишь собирать готовую пищу (например, курица), непосредственно реагировали на место, где появлялась приманка, и не отходили от него. В противовес этому животные, стоящие на более высокой ступени эволюции, и, в частности, животные, ведущие хищный образ жизни, прослеживающие добычу и преследующие ее (ворон, собака), следили за движением приманки и, «экстраполируя» ее движение (очевидно, направляя свое поведение движением глаз), обегали трубу и ожидали приманку в месте ее появления.
«Экстраполяционный рефлекс», который имеет особую форму — «предвосхищающего» поведения, является одним из важных источников для формирования наиболее высоких «интеллектуальных» видов индивидуально изменчивого поведения высших позвоночных.
Выше было отмечено, что вторым фактом, создающим существенные условия для формирования «интеллектуального» поведения высших позвоночных, является возрастающая сложность процесса восприятия и большая прочность памяти на последовательных ступенях эволюции животных.
Известно, что если низшие позвоночные реагируют лишь на определенные признаки воздействий, идущих, из внешней среды, то высшие позвоночные больше реагируют на целые комплексы знаков или на образы окружающих предметов. Эта реакция животных была детально изучена советским физиологом академиком И. С. Беритовым и составляет важнейшее условие для эволюции сложных форм поведения.
Одновременно с формированием образного восприятия на высших этапах эволюции позвоночных наблюдается возрастающая прочность образной памяти. Этот факт был детально прослежен в экспериментах с так называемыми «отсроченными реакциями» животных.
Эксперименты с отсроченными реакциями проводились многими американскими исследователями, советским психологом Н. Ю. Войтонисом и польским физиологом Ю. Конорским. Суть эксперимента заключалась в следующем. Животное помещалось перед герметически закрытым ящиком, в который на глазах животного клалась приманка.
Животное, привязанное к стойке, задерживалось па привязи в течение известного времени, после чего отпускалось. Если в памяти животного сохранялся след приманки, положенной в ящик, оно сразу же бежало к этому ящику, если этот след исчезал, животное к ящику не подбегало.
В более сложных экспериментах, которые ставили задачей проверить четкость сохранившегося у животного следа, положенная в ящик приманка незаметно подменялась другой. Если след первой приманки у животного сохранялся, то подбегая к ящику и находя другую приманку, — оно ее брало. Это было признаком того, что у животного сохранился избирательный образ той приманки, которую оно видело.
В других экспериментах животное помещалось между двумя ящиками, в один из которых на глазах у животного помещалась приманка. После истечения некоторого времени животное спускалось с привязи. Если след от приманки, положенный в один из ящиков, сохранялся, то животное бежало к этому ящику, если след не сохранялся, направленного движения у животного не было.
Эксперименты с отсроченными реакциями показали, что на последовательных ступенях эволюционного развития позвоночных длительность сохранения соответствующих образов возрастает (табл. 1.5).
Таблица 1.5 — Длительность сохранения следов однократно вызванной образной памяти у различных животных
Естественно, что длительное сохранение образов памяти увеличивается по мере усложнения мозговых структур и создает второе важное условие для возникновения высших «интеллектуальных» форм поведения животного.
Систематические исследования «интеллектуального» поведения высших животных (обезьян) были начаты в 20–х гг. прошлого века известным немецким психологом В. Кёлером. Для изучения этой формы поведения В. Кёлер ставил обезьян (шимпанзе) в условия, где непосредственное достижение цели было недоступно, и обезьяна должна была ориентироваться в сложных условиях, в которых дана цель, и либо использовать обходной путь, чтобы получить приманку, либо обратиться для этой цели к использованию специальных орудий.
Опишем три типичных ситуации, в которых В. Кёлер проводил свои исследования «интеллектуального» поведения обезьяны.
Первая ситуация требовала «обходного пути». Обезьяна помещалась в большую клетку, рядом с которой была положена приманка, находившаяся на таком расстоянии, что рука обезьяны не могла ее достать. Для достижения цели обезьяна должна была прекратить попытки непосредственно достигнуть цели и использовать обходной путь через дверь, расположенную в задней стене клетки.
Вторая ситуация была близка к только что описанной, т. е. обезьяна помещалась в закрытую клетку, которая на этот раз имела двери. Приманка располагалась также в отдалении, и обезьяна не могла достать ее рукой. Однако в отличие от первой ситуации перед клеткой на расстоянии вытянутой руки лежала палка. Обезьяна могла достать приманку, дотянувшись до палки, и при ее помощи достигнуть цели. В усложненных экспериментах приманка была расположена еще дальше, но в поле зрения обезьяны лежали палки: короткая — на расстоянии руки, и длинная — несколько дальше. Решение задачи заключалось в том, что обезьяна должна была осуществить более сложную программу поведения. Сначала дотянуться до ближайшей — короткой палки, затем с ее помощью достать длинную палку, расположенную дальше от нее, и уже с помощью этой палки достать приманку.
Наконец, в третьем варианте экспериментов приманка подвешивалась так, что обезьяна непосредственно не могла ее достать. Однако на этой же площадке были разбросаны ящики; обезьяна должна была подтащить ящики к приманке, поставить их один на другой и, взобравшись на эти ящики, достать приманку.
Исследования, проведенные В. Кёлером, позволили ему наблюдать следующую картину.
Сначала обезьяна безуспешно пыталась непосредственно достать приманку, тянулась к ней или прыгала. Эти безуспешные попытки могли продолжаться длительное время, пока обезьяна не истощалась и не бросала их.
Затем наступал второй период, который заключался в том, что обезьяна неподвижно сидела и лишь рассматривала ситуацию; ориентировка в ситуации переносилась здесь из развернутых двигательных проб в «зрительное поле» восприятия и осуществлялась с помощью соответствующих движений глаз.
После этого наступал решительный момент, который В. Кёлер описывал как неожиданное появление «переживания». Обезьяна либо сразу же направлялась к дверце, расположенной в задней стенке клетки и «обходным путем» доставала приманку, либо переставала непосредственно тянуться к приманке, подтягивала к себе палку и с ее помощью доставала, либо подтягивала одну палку, доставала ею вторую, более длинную и уже этой палкой доставала приманку; наконец, в последней ситуации обезьяна прекращала всякие попытки непосредственно достать приманку, оглядывалась вокруг, а затем сразу подтаскивала ящики, ставила их один на другой и, взобравшись на них, доставала приманку.
Характерным для всех этих экспериментов был тот факт, что решение задачи перемещалось из периода непосредственных проб в период предшествующего попытке наблюдения, и движения обезьяны становились лишь исполнительным актом для осуществления заранее выработанного «плана решения».
Именно это и дало основания В. Кёлеру рассматривать поведение обезьяны как пример «интеллектуального» поведения.
Если описание поведения обезьян в экспериментах В. Кёлера является исчерпывающим, то объяснение тех путей, которыми животное приходит к «интеллектуальному» решению задачи, представляет большие сложности, и этот процесс трактуется разными исследователями неодинаково.
Известный американский психолог Р. Йеркс, повторивший исследование В. Кёлера, считает возможным сблизить эти формы поведения обезьяны с человеческим интеллектом и антропоморфически рассматривает их как проявления «творческого озарения».
Австрийский психолог К. Бюлер привлекает для объяснения этого поведения прежний опыт животного и считает, что использование орудий обезьянами следует рассматривать как результат переноса прежнего опыта (обезьянам, живущим на деревьях, приходилось притягивать к себе плоды за ветки).
Сам В. Кёлер высказывает предположение, что в «интеллектуальном» поведении обезьян анализ ситуации перемещается из сферы движений в план восприятия, и обезьяна, рассматривая ситуацию, «сближает» входящие в нее предметы в «зрительном поле», замыкая их в известные «зрительные структуры». Последующее решение задачи есть, по мнению В. Кёлера, лишь осуществление «зрительных структур в реальных движениях». Подтверждение этой гипотезы В. Кёлер видит в том факте, что в случаях, когда палка и приманка (плод) или две палки, которые обезьяна должна последовательно достать, расположены так, что они не попадают в одно зрительное поле, задача становится неразрешимой для обезьяны.
Свою гипотезу В. Кёлер пытается подтвердить экспериментами, в которых обезьяна должна раньше приготовить орудие, которое она в дальнейшем использует, чтобы достать приманку, обезьяна должна вставить одну бамбуковую палку в другую, с тем чтобы, удлинив ее, достать плод. Эти действия оказываются для обезьяны гораздо труднее и могут быть выполнены только в случае, если концы обеих палок попадают в наглядное поле; такое совмещение обеих палок в одном зрительном поле, по мнению В. Кёлера, и может привести к нужному решению задачи.
Вопрос о механизмах, лежащих в основе возникновения «интеллектуального» поведения обезьяны, нельзя считать окончательно решенным, и если одни исследователи противопоставляют его более элементарным формам индивидуально изменчивого поведения животных, то другие (как например, И. П. Павлов, проводивший наблюдения над поведением обезьян) считают возможным не противопоставлять его более простым формам поведения и рассматривают «интеллектуальное» поведение обезьян как своего рода «ручное мышление», выполняемое в процессе проб и ошибок и приобретающее более богатый характер лишь в силу того, что руки обезьян, освободившиеся от функции ходьбы, начинают осуществлять наиболее сложные формы ориентировочной деятельности.
(обратно)Границы индивидуально изменчивого поведения животных
Мы отметили, что индивидуально изменчивое приспособительное поведение высших позвоночных может достигать очень сложных форм. Возникает естественный вопрос: каковы его характерные черты и те границы, за пределы которых поведение животных может выйти?
Анализ поведения животных позволяет наметить основные черты.
Первую из них составляет тот факт, что всякое, даже наиболее сложное, индивидуально изменчивое поведение животного сохраняет свою связь с биологическими мотивами и не может перейти за их границы. В основе всякого поведения животного лежат биологические влечения или потребности (потребность в пище, самосохранении или половая потребность). Лишь на наиболее высших этапах эволюции к этому присоединяется потребность ориентировки в окружающей среде, которую И. П. Павлов называл ориентировочным рефлексом и которая достигает значительного развития у обезьян. Никакая деятельность, не связанная ни с одной из этих биологических потребностей, невозможна для животного, поэтому поведение животного с полным основанием может рассматриваться как корково — подкорковое.
Вторая особенность, которая характеризует поведение всякого животного, заключается в том, что оно всегда определяется непосредственно воспринимаемыми стимулами («внешним полем») или следами прежнего опыта и не может протекать, отвлекаясь от них или тем более вступая в конфликт с ними.
Это положение хорошо иллюстрируется известным исследованием голландского психолога Ф. Бойтендайка, имеющим принципиальное значение.
Ф. Бойтендайк помещал перед животным ряд ящиков, в которые можно было класть приманку. В первом эксперименте приманка на глазах у животного клалась в первый ящик, и животному разрешалось брать ее. Во втором эксперименте приманка (также на глазах животного) перемещалась во второй; затем в третий ящик. Затем, в последующих экспериментах, приманка (уже незаметно для животного) начинала последовательно перемещаться в каждый следующий ящик, и животному каждый раз разрешалось свободно бежать к тому ящику, в котором оно предполагало найти приманку.
Исследование показало, что животное всегда бежит либо к тому ящику, куда на его глазах была положена приманка, либо к тому, где она лежала раньше. Никакое животное не может усвоить отвлеченный принцип «последовательного передвижения» и никогда не бежит с следующему ящику, в котором приманки еще не было, но в котором легко ожидать ее, если учесть абстрактный принцип.
Поведение животного всегда направляется непосредственным или прошлым опытом, и оно никогда не может затормозить реакцию на ранее подкрепляемое и направиться к ранее не подкрепленному месту. Опыт Ф. Бойтендайка, проведенный на животных разных групп, показывает, что животное, по выражению В. Кёлера, является «рабом своего зрительного поля», или «рабом своего прошлого опыта», и что его поведение никогда не освобождается от непосредственных влияний, не направляется абстракцией от них, иначе говоря, не становится свободным.
Третья особенность поведения животного заключается в ограниченности источников этого поведения.
Источником поведения животного могут быть программы, либо заложенные в его видовом опыте и передающиеся в наследственных кодах («инстинктивное» поведение), либо формируемые в непосредственном опыте данной особи (индивидуально изменчивое или условно — рефлекторное поведение). Никаких возможностей усвоения чужого опыта и передачи его, усвоенного одним индивидом, другому индивиду и тем более передачи опыта, сформированного в нескольких поколениях, у животных не имеется. Те явления, которые описываются как «подражание», у животных занимают в формировании их поведения относительно ограниченное место и являются скорее формой непосредственной практической передачи собственного опыта, чем передачей информации, которая накопилась в истории ряда поколений и сколько — нибудь напоминала бы то усвоение материального или духовного опыта прошлых поколений, которое характерно для общественной истории человека.
Эти три черты и составляют основные особенности поведения животного и коренным образом отличают его от сознательной деятельности человека.
(обратно) (обратно)Глава 3. Сознательная деятельность человека и ее общественно — исторические корни
Общие принципы
Сознательная деятельность человека по своим основным особенностям резко отличается от индивидуально изменчивого поведения животных.
Отличия сознательной деятельности человека сводятся к трем основным чертам, противоположным тем, которыми мы только что охарактеризовали поведение животного.
Первая из этих особенностей заключается в том, что сознательная деятельность человека не обязательно связана с биологическими мотивами. Более того, подавляющее число наших действий не имеет в своей основе каких — либо биологических влечений или потребностей. Как правило, деятельность человека направляется сложными потребностями, которые часто называют «высшими», или «духовными», к ним относятся познавательные потребности, толкающие человека на приобретение новых знаний, потребность в общении, Потребность быть полезным обществу, занимать в обществе определенное положение и т. п.
Нередко встречаются ситуации, при которых сознательная деятельность человека не только не подчиняется биологическим влияниям и потребностям, но входит в конфликт с ними и даже подавляет их. Широко известные случаи героизма, когда человек, движимый высшими мотивами патриотизма, прикрывает своим телом ствол орудия или бросается под танк и погибает, являются лишь примером независимости поведения человека от биологических мотивов.
Подобных форм «бескорыстного» поведения, в основе которых лежат не биологические мотивы, у животного нет.
Вторая отличительная черта сознательной деятельности человека заключается в том, что, в отличие от поведения животного, она вовсе не обязательно определяется наглядными впечатлениями, получаемыми от среды, или следами непосредственного индивидуального опыта.
Известно, что человек может отражать условия среды несравненно более глубоко, чем животное. Он может абстрагироваться от непосредственного впечатления, проникать в глубокие связи и отношения вещей, познавать причинную зависимость событий и, разобравшись в них, ориентироваться не на внешние впечатления, а на более глубокие закономерности. Так, выходя в ясный осенний день на прогулку, человек может взять с собой плащ, потому что, как он знает, осенняя погода неустойчива. Здесь он подчиняется глубокому знанию о закономерностях природы, а вовсе не непосредственному впечатлению от ясной солнечной погоды. Человек, которому будет сказано, что вода в колодце отравлена, никогда не будет пить ее, хотя бы он испытывал острую жажду; в этом случае он руководствуется в своем поведении не непосредственным впечатлением о воде, которая его привлекает, а более глубоким знанием ситуации, которое он имеет.
Сознательная деятельность человека может руководствоваться не непосредственным впечатлением от внешней ситуации, а более глубоким познанием стоящих за ней внутренних законов, поэтому есть все основания говорить, что поведение человека, основанное на познании необходимости, свободно.
Наконец, имеется и третья особенность, которая отличает сознательную деятельность человека от поведения животного. Поведение животного имеет лишь два источника:
1) заложенные в генотипе наследственные программы поведения;
2) результаты личного, индивидуального опыта.
Сознательная деятельность человека имеет еще и третий источник — подавляющее число знаний и умений человека формируется путем усвоения общечеловеческого опыта, накопленного в процессе общественной истории и передающегося в процессе обучения.
Ребенок уже с самого рождения формирует свое поведение под воздействием тех вещей, которые сложились в истории: он садится за стол, ест ложкой, пьет из чашки, а затем режет хлеб ножом. Он усваивает те навыки, которые были созданы общественной историей в течение тысячелетий. С помощью речи ему передают самые элементарные знания, а затем с помощью языка он усваивает в школе важнейшие приобретения человечества. Подавляющее число знаний, умений и приемов поведения, которыми располагает человек, не являются результатом его собственного опыта, но приобретаются путем усвоения общественно — исторического опыта поколений. Эта черта коренным образом отличает сознательную деятельность человека от поведения животного.
Философию и психологию давно занимал вопрос, чем можно объяснить только что перечисленные особенности сознательной деятельности человека?
В истории философии и науки можно выделить два совершенно различных пути решения этого вопроса.
Один из них — типичный для идеалистической философии — исходил из позиций дуализма. Основное положение этого направления сводилось не только к признанию резких принципиальных различий в поведении животных и сознании человека, но и в попытке объяснить эти различия тем, что сознание человека следует рассматривать как проявление особого духовного начала, которого нет у животного.
Положение, согласно которому животное следует рассматривать как сложную машину, поведение которой следует законам механики, а человека — как обладателя духовного начала со свободной волей, было в свое время высказано Р. Декартом и затем без значительного изменения повторялось идеалистической философией. Легко видеть, что, указывая на принципиальное различие в поведении животного и сознательной деятельности человека, это направление не дает никакого научного объяснения отмеченным фактам.
Второй путь решения вопроса о своеобразии сознательной деятельности характерен для естественнонаучного позитивизма. Согласно этой теории сознательная деятельность человека является прямым результатом эволюции животного мира, и все основы человеческого сознания можно наблюдать уже у животных. Первым ученым, сформулировавшим эти положения, был Ч. Дарвин, который в ряде своих трудов пытался показать, что у животных уже в зачаточной форме имеются все формы разумной деятельности, свойственной человеку, что четких и принципиальных границ между поведением животных и сознательной деятельностью человека нет.
Естественнонаучный подход, пытавшийся проследить линию развития сознания от животных до человека, в свое время сыграл свою положительную роль в борьбе с донаучными дуалистическими концепциями. Однако утверждения о том, что у животных имеются в зачатке все формы сознательной жизни человека, антропоморфический подход к «разуму» и к «переживаниям» животных, и нежелание признавать принципиальные отличия между поведением животных и сознательной деятельностью человека оставались слабой стороной естественнонаучного позитивизма. Вопрос о происхождении тех особенностей сознательной деятельности человека, которые были отмечены выше, оставался без ответа.
Научная психология, разработанная в Советском Союзе и исходящая из принципов марксизма, подходит к вопросу о происхождении сознательной деятельности человека совершенно с иных позиций.
Известно, что всякая психическая деятельность животных, создающая основу для ориентировки в окружающей среде, формируется в условиях тех форм жизни, которые характерны для данного вида животных.
Что же характерно для тех форм жизни, которые отличают сознательную деятельность человека от поведения животных и в которых нужно искать условия, формирующие эту сознательную деятельность?
Особенности высшей формы жизни, свойственной только человеку, надо искать в социально — исторической форме жизнедеятельности, которая связана с общественным трудом, употреблением орудий и возникновением языка. Таких форм жизни у животных нет, и переход от естественной истории животного к общественной теории человечества нужно считать важным скачком, так же как переход от неживой материи к живой или от растительной жизни к животной.
Поэтому корни возникновения сознания человека следует искать не в особенностях «души» и не в глубинах его организма, а в исторически сформировавшихся социальных условиях жизни.
Именно эти условия и приводят к тому, что с переходом к общественной истории коренным образом меняется структура поведения.
1. Наряду с биологическими мотивами поведения возникают высшие («духовные») мотивы и потребности, наряду с поведением, зависящим от непосредственного восприятия среды.
2. Возникают высшие формы поведения, основанные на абстракции от непосредственных влияний среды, и наряду с двумя источниками поведения — наследственно закрепленными программами поведения и влиянием прошлого опыта самого индивида, — возникает третий источник, формирующий деятельность, — передача и усвоение общечеловеческого опыта.
Остановимся подробнее на социально — исторических корнях сложной сознательной деятельности человека.
(обратно)Труд и формирование сознательной деятельности
Историческая наука выделяет два фактора, лежащие у истоков перехода от естественной истории животных к общественной истории человека. Одним из них является общественный труд и употребление орудий, другим — возникновение языка.
Рассмотрим ту роль, которую играют оба эти фактора в коренной перестройке форм психической деятельности и в возникновении сознания.
Известно, что в отличие от животного человек не только употребляет, но и изготовляет орудия. Остатки этих орудий, которые относятся к древнейшей эпохе истории человечества, показывают, что если наиболее примитивными орудиями являются просто необточенные осколки камня, то уже на последующем этапе возникают орудия (скребки, стрелы), специально изготовленные человеком. В таких орудиях можно выделить как острую часть, с помощью которой первобытный человек мог свежевать убитое животное или отсекать куски дерева, так и «ядрище» — округлую часть, которая приспособлена для того, чтобы было удобно держать в руке. Естественно, такое орудие требует специального изготовления, которое, по — видимому, выполнялось либо любыми членами первобытной группы, либо женщиной, которая оставалась дома, в то время как мужчина шел на охоту.
Изготовление орудий (иногда предполагавшее и естественное разделение труда) само по себе в корне меняло деятельность первобытного человека и отличало ее от поведения животных. Работа над изготовлением орудия уже не является простой деятельностью, определяемой непосредственным биологическим мотивом (потребность в пище). Сама по себе деятельность обработки камня бессмысленна и биологически никак не оправдана; она получает свой смысл только из дальнейшего использования изготовленного орудия на охоте, иначе говоря, требует наряду со знанием о выполняемой операции и знания о будущем применении орудия. Это — основное условие, возникающее при изготовлении орудия, и может быть названо первым возникновением сознания, иначе говоря, первой формой сознательной деятельности.
Такая деятельность по изготовлению орудия приводит к коренной перестройке всей структуры поведения.
Поведение животного всегда было непосредственно направлено на удовлетворение потребности. В отличие от этого у человека, изготовляющего орудие, поведение приобретает сложно построенный характер: из деятельности, направленной на непосредственное удовлетворение потребности, выделяется специальное действие, которое приобретает свой смысл лишь в дальнейшем, когда результат этого действия (изготовления орудия) применен для того, чтобы убить жертву и тем самым удовлетворить потребность в пище.
Выделение из общей деятельности специального «действия», не направляемого непосредственным биологическим мотивом и получающего свой смысл лишь при дальнейшем использовании его результатов, является важнейшим изменением в общем строении поведения, возникающим при переходе от естественной истории животного к общественной истории человека.
Легко видеть, что по мере дальнейшего усложнения общества и форм производства такие действия, не направляемые непосредственно биологическими мотивами, начинают занимать в сознательной деятельности человека все большее место.
Усложнение структуры деятельности при переходе к общественной истории человека не ограничивается, однако, только что указанной перестройкой.
Изготовление орудия требует ряда приемов и способов (обтесывания одного камня с помощью другого, трения двух кусков дерева для получения огня), иначе говоря, выделения ряда подсобных операций. Выделение этих «операций» и составляет дальнейшее усложнение строения деятельности.
Таким образом, выделение из общей биологической деятельности специальных «действий», каждое из которых не определяется непосредственным биологическим мотивом, но направляется сознательной целью и приобретает свой смысл лишь при соотнесении этого действия с конечным результатом, и появление ряда вспомогательных «операций», посредством которых выполняется это действие, и представляет собой коренную перестройку поведения, которое и составляет новую структуру сознательной деятельности. Сложная организация сознательных «действий», выделяющаяся из общей деятельности, приводит к тому, что появляются формы поведения, которые непосредственно не направляются биологическими мотивами, а иногда могут даже противоречить им.
Таким случаем является, например, охота в первобытном обществе, при которой одна группа охотников «отпугивает» и отгоняет жертву, которую надо поймать, в то время как другая группа охотников поджидает ее в засаде; здесь действия первой группы, казалось бы, противоречат естественным потребностям поймать дичь и получают свой смысл лишь из действий второй группы, в результате которых жертва попадает в руки охотников.
Становится ясным, что сознательная деятельность человека не является продутом естественного развития свойств, заложенных в организме, но является результатом новых общественно — исторических форм трудовой деятельности.
(обратно)Язык и сознание человека
Другим условием, которое приводит к формированию сложно построенной сознательной деятельности человека, является возникновение языка.
Под языком принято понимать систему кодов, с помощью которых обозначаются предметы внешнего мира, их действия, качества, отношения между ними.
Так, в языке слово «стул» обозначает вид мебели, на котором сидят, «хлеб» — предмет, который едят, в то время как слова «спит», «бежит» обозначают действия, «кислый», «плоский» — качества соответствующих вещей, а такие вспомогательные слова, как «над», «под», «вместе», «вследствие» — разные по сложности отношения между предметами.
Естественно, что слова, соединенные в фразы, являются основным средством общения, при помощи которого человек сохраняет и передает информацию и усваивает опыт, накопленный поколениями других людей. Такого языка нету животных, и он появляется только при переходе к человеческому обществу.
Животное обладает разными средствами выражения своих состояний, которые воспринимаются другими животными и могут оказать существенное влияние на их поведение. Вожак стаи журавлей, почувствовав опасность, испускает тревожные крики, на которые стая живо реагирует. В стаде обезьян можно наблюдать целый набор звуков, которые выражают удовлетворение, агрессию, страх перед опасностью и т. д. Очень сложную систему выразительных движений можно наблюдать в так называемых «танцах» пчел, которые меняют свой характер в зависимости от того, вернулась ли пчела из полета с удачным взятком или без него, и изменяются в зависимости от направления и дальности проделанного пути. Эти «танцы» передаются другим особям и могут различно ориентировать поведение пчел.
Однако «язык» животных никогда не обозначает предметов, не выделяет их действий или качеств, а следовательно, не является языком в подлинном смысле этого слова.
Вопрос о том, как произошел язык человека, являлся предметом многочисленных предположений и теорий.
Одни из них считали язык проявлением духовной жизни и, следуя за библией, указывали на его «божественное происхождение». Подобные теории были сформулированы в завуалированном виде, указывая, что язык является особой «символической формой существования», отличающей духовную жизнь от любого проявления материального мира.
Другие, следуя традициям естественнонаучного позитивизма, безуспешно старались вывести язык из эволюции животного мира и интерпретировали описанные выше явления «коммуникаций» у животных как ранние формы развития языка.
Однако научное решение вопроса о происхождении языка стало возможным лишь тогда, когда философия и наука прекратили попытки искать корни языка в глубинах организма и выводить его непосредственно из особенностей «духа» или мозга и пришли к мнению о том, что условия происхождения языка надо искать в тех общественно — трудовых отношениях, которые впервые появились с переходом к человеческой истории.
Наука не имеет методов, позволяющих непосредственно наблюдать условия, породившие язык, и для того раздела науки, названного «палеонтологией речи», остается лишь путь предположений, который получает косвенное подтверждение. Есть много оснований думать, что язык впервые возник из тех форм общения, в которое вступали люди в процессе труда.
Совместная форма практической деятельности неизбежно приводит к тому, что у человека возникает необходимость передать другому известную информацию, причем эта информация не может ограничиваться только выражением субъективных состояний (переживаний), но должна обозначать те предметы (вещи или орудия), которые включены в совместную трудовую деятельность. Согласно теориям, возникшим еще во второй половине XIX в., первые звуки, обозначающие предметы, возникли именно в процессе совместного труда.
Было бы, однако, неправильно думать, что звуки, которые постепенно стали играть роль передачи известной информации, были такими «словами», которые могли самостоятельно обозначать предметы, их качества, действия или отношения. Звуки, начинавшие указывать на определенные предметы, еще не имели самостоятельного существования. Они были вплетены в практическую деятельность, сопровождались жестами и выразительными интонациями, поэтому понять их значение можно было, зная лишь ту наглядную ситуацию, в которой они возникли. Больше того, в этом комплексе выразительных средств ведущее место, по — видимому, вначале занимали действия и жесты, которые, по мнению авторов, составляли основу своеобразного действенного, или «линейного», языка, и лишь гораздо позднее ведущая роль перешла к звукам, давшим основу для постепенного развития самостоятельного звукового языка. Однако этот язык длительное время сохранял теснейшую связь с жестом и действием, поэтому один и тот же звуковой комплекс (или «праслово») мог обозначать и предмет, на который указывала рука, и саму руку, и действие, производимое с этим предметом. Лишь через много тысячелетий звуковой язык стал отделяться от практического действия и получать свою самостоятельность. К этой эпохе и относится возникновение первых самостоятельных слов, которые обозначали предметы, а много позднее стали служить также для выделения действий и качеств предметов. Возник язык как система самостоятельных кодов, принявшая в течение дальнейшего длительного исторического развития ту форму, которой отличаются современные языки.
Язык как система кодов, обозначающих предметы, их действия, качества или отношения и служащий средством передачи информации, имел решительное значение для дальнейшей перестройки сознательной деятельности человека. Поэтому правы те ученые, которые утверждают, что наряду с трудом язык является основным фактором формирования сознания.
Возникновение языка вносит по крайней мере три наиболее существенных изменения в сознательную деятельность человека.
Первое из них состоит в том, что язык, обозначая предметы и события внешнего мира в отдельных словах или их сочетаниях, позволяет выделить эти предметы, направлять на них внимание и сохранять их в памяти. Следствием этого является тот факт, что человек оказывается в состоянии иметь дело с предметами внешнего мира даже в их отсутствие. Достаточно внешнего или внутреннего произнесения того или иного слова, чтобы возникло представление о соответствующем предмете и чтобы человек был в состоянии оперировать с этим образом. Поэтому можно сказать, что язык удваивает воспринимаемый мир, позволяет хранить полученную из внешнего мира информацию и создает мир внутренних образов. Легко видеть, какое значение имеет возникновение этого «внутреннего» мира образов, который появляется на основе языка и который человек может использовать в своей деятельности.
Второе изменение, подчеркивающее существенную роль языка в формировании сознания, заключается в том, что слова языка не только указывают на определенные вещи, но и абстрагируют их существенные свойства, относят воспринимаемые вещи к определенным категориям. Эта возможность обеспечить процесс отвлечения (абстракции) и обобщения является вторым важнейшим вкладом, который язык вносит в формирование сознания.
Например, слова «часы» или «стол» обозначают не только определенные предметы. Слово «часы» указывает на то, что этот предмет служит для измерения времени («час»); слово «стол» говорит о том, что данный предмет имеет отношение к настилу (корень «стл» — стлать, постилать). Более того, словами «часы» или «стол» обозначаются все виды этих предметов независимо от их внешнего вида, формы, размеров. Это означает, что слово, которое фактически выделяет (абстрагирует) соответствующие признаки предмета и обобщает предметы, разные по внешнему виду, но относящиеся к одной и той же категории, автоматически передает человеку опыт поколений и служит мощным средством для глубокого отражения мира, чем простое восприятие. Таким образом, слово совершает за человека ту грандиозную работу по анализу и классификации предметов, которая сформировалась в длительном процессе общественной истории. Это дает языку возможность стать не только средством общения, но и важнейшим орудием мышления, обеспечивающим переход отражения мира от чувственного к рациональному.
Сказанное дает основание для обозначения третьей существенной функции языка в формировании сознания. Язык служит основным средством для передачи информации, сложившейся в общественной истории человечества, иначе говоря, он создает третий источник развития психических процессов, которые на стадии человека прибавляются к тем двум источникам (наследственно передаваемые программы поведения и формы поведения, сложившиеся в результате опыта данной особи), которые имели место у животных.
Передавая сложнейшую информацию, отложившуюся в течение многих веков общественно — исторической практики, язык позволяет человеку усвоить этот опыт и овладеть с его помощью неизмеримым кругом знаний, умений и способов поведения, которые никак не могли бы быть результатом самостоятельной деятельности и изолированной личности. Это означает, что с появлением языка у человека возникает совершенно новый тип психического развития, который не имел места у животных, и что язык действительно является важнейшим средством развития сознания.
(обратно)Значение языка для формирования психических процессов
Значение языка для формирования сознания заключается в том, что он фактически проникает во все сферы сознательной деятельности человека, поднимает на новый уровень протекание его психических процессов. Поэтому анализ языка и речи (той формы передачи информации, которая использует средства языка) нельзя рассматривать только как специальную главу психологии, но следует рассматривать и как фактор построения всей сознательной жизни человека в целом. Именно поэтому роль языка или «второй сигнальной системы действительности», как его называл И. П. Павлов, должна быть рассмотрена как завершающий раздел эволюционного введения в психологию.
Язык существенно перестраивает процессы восприятия внешнего мира и создает новые законы этого восприятия. Известно, что в мире существует огромное количество предметов, форм, цветовых оттенков, однако число слов, обозначающих эти предметы, формы, оттенки, очень ограничено. Это приводит к тому, что называя предмет, форму или оттенок каким — нибудь словом («стол», «часы», или «круг», «треугольник», или «красная», «желтая»), мы фактически выделяем существенные признаки и обобщаем воспринимаемые предметы, формы, цвета в определенные группы или категории. Это придает восприятию человека черты, коренным образом отличающие его от восприятий животного. Восприятие человека становится более глубоким, связанным с выделением существенных признаков вещи, обобщенным и постоянным.
Язык существенно изменяет процессы внимания человека.
Если внимание животного носило непосредственный характер, определяясь силой, новизной или биологической значимостью предмета, автоматически (непроизвольно) направляя внимание животного, то с возникновением языка и на его основе человек оказывается в состоянии произвольно управлять своим вниманием.
Когда мать говорит ребенку, что «это чашка», она тем самым выделяет этот предмет из всех остальных и привлекает к нему внимание ребенка. Когда в дальнейшем ребенок сам овладевает речью (сначала внешней, а затем и внутренней), он в состоянии самостоятельно выделять называемые предметы, качества или действия, его внимание становится управляемым, произвольным.
Язык существенно изменяет и процессы памяти человека. Известно, что память животного в значительной мере зависит от непосредственной ориентировки в окружающей среде и биологических мотивов, служащих подкреплением того, что особенно успешно запоминается. На уровне человека память, опирающаяся на речевые процессы, впервые становится сознательной мнестической деятельностью, при которой человек ставит специальные цели помнить, организует запоминаемый материал и оказывается в состоянии не только неизмеримо расширить объем сохраняющейся в памяти информации, но и произвольно возвращаться к прошлому, выбирая из него в процессе припоминания то, что представляется ему на данном этапе наиболее существенным.
Язык человека позволяет ему впервые оторваться от непосредственного опыта и обеспечивает появление воображения — процесса, который не существует у животного и который лежит в основе направленного управляемого творчества, изучение которого является особым разделом психологической науки.
Нужно ли говорить о том, что только на основе языка и при его ближайшем участии формируются те сложные формы абстрактного и обобщенного мышления, появление которых составляет одно из важнейших приобретений человечества и обеспечивает переход от «чувственного к рациональному», оцениваемый философией диалектического материализма как скачок, по своему значению равный переходу от неживой материи к живой или переходу от растительной жизни к животной.
Не менее существенными являются те изменения, которые появление языка, поднимающего на новый уровень психические процессы, вносит в перестройку эмоционального переживания.
У животных мы знаем лишь выраженные аффективные реакции, которые протекают при ведущем участии подкорковых систем и оказываются непосредственно связанными с успехом или неуспехом деятельности и полностью сохраняют свою связь с биологическими потребностями. Эмоциональный мир человека не только несравненно богаче и обособлен от биологических мотивов, но и оценка соотношений реально выполняемых действий с исходными намерениями, возможность обобщенной формулировки характера и уровня своих удач и неудач приводит к тому, что наряду с аффективными разрядами у человека формируются переживания и длительные настроения, которые выходят далеко за пределы непосредственных аффективных реакций и неразрывно связаны с его мышлением, протекающим при ближайшем участии языка.
Нельзя, наконец, обойти и последнее положение, которое имеет особенно большое значение.
Известно, что новые формы индивидуально изменчивого поведения животного вырабатываются на основе его непосредственной ориентировки в окружающей среде, и выработка прочных форм такого поведения осуществляется на основе законов условных рефлексов, детально изученных в школе И. П. Павлова.
Хорошо известно, что выработка новых форм поведения требует относительно длительного подкрепления ответа на условный сигнал, многократного повторения совпадения условных сигналов с безусловным подкреплением. Такая связь вырабатывается постепенно, начинает угасать, как только исчезает такое подкрепление, и с относительным трудом переделывается в новую систему связей.
Ничего похожего мы не видим в формировании новых видов сознательного поведения человека. Новая форма сознательной деятельности может возникнуть у человека на основе речевой формулировки правила, которое человек устанавливает с помощью языка. Достаточно дать человеку инструкцию, в которой ему предлагается поднимать руку или нажимать на ключ в ответ на появление красного сигнала и не делать никакого движения при появлении синего, чтобы эта новая связь сразу же появилась и стала прочной. Появление любого действия, выполняемого на основе речевой инструкции, не требует никакого «безусловного» (или биологического) подкрепления. Его формирование не нуждается в длительной выработке и устанавливается сразу, это действие, устанавливаемое соответственно сформулированному в речи правилу, сразу же оказывается прочным, не требует постоянного повторения инструкции и не угасает, если эта инструкция не повторяется. Наконец, «переделка» такого действия на новое в норме не представляет никакого труда, и достаточно предложить субъекту новую инструкцию, например, сказав ему, что теперь он должен делать все наоборот: в ответ на синий сигнал — поднимать руку (или нажимать на ключ), а при появлении красного — ничего не делать, чтобы ранее сформированная связь сразу же изменилась на обратную.
Все это говорит об огромной пластичности и управляемости процессов сознательной деятельности человека, резко отличающей его поведение от поведения животного.
Детальный анализ форм этой сознательной деятельности, средств управления ею, законов, лежащих в основе ее развития, и форм ее нарушения при патологических состояниях и является одной из основных задач психологической науки.
(обратно) (обратно)Глава 4. Мозг и психические процессы
Чтобы лучше понять строение психических процессов человека и законов их протекания, следует прежде всего ознакомиться с тем, как построен основной орган психической деятельности — человеческий мозг и как относятся к нему психические процессы.
Проблема отношения психических процессов и мозга
Вопрос о том, как относятся психические процессы к мозгу и каковы принципы работы мозга как материального субстрата психической деятельности, в разные периоды развития науки решался по — разному. Характер решения этого вопроса во многом зависел от того, как понимались психические процессы человека и как подходили к их мозговым основам.
Еще в Средние века в философии и связанной с нею психологии сложилось представление, согласно которому психические процессы являются специальными формами существования духа или «способностями», которые несводимы к каким — нибудь более элементарным составным частям.
Установилось мнение, что можно выделить по крайней мере три основные «способности»:
1) способность восприятия или воображения;
2) способность рассуждения;
3) способность памяти.
Мыслители, искавшие их материальную основу, высказали предположение, что эти три «способности» локализованы в жидкости, заполняющей три «мозговых желудочка», и считали, что в переднем желудочке помещена «способность восприятия или воображения», в среднем — «способность рассуждения», а в заднем — «способность памяти».
Мысль о том, что психические процессы, являющиеся далее неделимыми «способностями», могут быть непосредственно «локализованы» в определенных образованиях мозга, сохранилась на многие столетия и осталась принципиально неизменной даже после того, как ученые перестали считать субстратом психики жидкость, заполняющую «мозговые желудочки», и пришли к мнению, что основу психической деятельности нужно искать в плотном веществе головного мозга и, в частности, в его коре.
Первая попытка такой «локализации психических способностей» была сделана в начале XIX в. Ф. А. Галлем. Он высказал предположение, что субстратом различных психических «способностей» являются небольшие участки нервной ткани коры головного мозга, которые разрастаются при развитии этих «способностей». Выделив большое число таких врожденных «способностей» (к которым, по его мнению, относились такие «способности», как «бережливость», «честность», «почитание родителей» и «любовь к детям»), Галль локализовал каждую из них в определенном участке мозга и считал, что усиленное разрастание того или иного участка мозга, приводящее к образованию выпуклости на черепе, указывает па особенное развитие этой «способности». Такое предположение и легло в основу специальной области «науки» — «френологии», которая, по мнению Галля, на основе изучения выпуклостей черепа могла делать выводы об индивидуальных способностях человека.
Несмотря на то, что «френология» Галля еще при его жизни оценивалась как фантастическая и не имеющая научного основания, мысль о прямой «локализации» отдельных психических функций в коре головного мозга сохранилась и в дальнейшем. Поэтому ученые, основным методом которых стало исследование изменений в психических процессах, наступающих при ограниченных (локальных) поражениях мозга, в течение долгого времени продолжали делать попытки прямой «локализации» психических функций в отдельных участках мозговой коры.
Обнаружив, что поражение задних отделов третьей лобной извилины левого полушария приводит к нарушению артикулируемой речи, французский анатом П. Брока (1861) высказал предположение, что в этой области «локализованы» моторные образы слова. Немецкий психиатр К. Вернике (1873) обнаружил, что поражение задней части верхней височной извилины левого полушария оставляет моторную речь сохранной, но вызывает нарушение понимания, и высказал предположение, что эта область коры является «центром сензорной речи».
Такие попытки прямой локализации психических функций в ограниченных участках мозга воодушевили исследователей (психиатров и неврологов). Начиная с 70–х гг. прошлого века изучение клинических наблюдений показало, что поражение ограниченных участков мозговой коры приводит к преимущественному выпадению вполне определенных «психических функций». Эти находки дали основание исследователям выделить в коре головного мозга такие участки, которые стали рассматриваться как «центры письма», «центры счета», «центры понятий» и т. п. Такие попытки и были сведены в систему немецким психиатром К. Клейстом (1934), который на основании наблюдений, проведенных над раненными в мозг во время Первой мировой войны, представил их в сводной «локализованной карте», в которой даже наиболее сложные психические «функции» были приурочены к ограниченным участкам коры головного мозга.
Несмотря на то что попытки прямой «локализации» сложных психических «функций» в ограниченных участках коры головного мозга в свое время были прогрессивными, так как отражали стремление материалистически подойти к психическим процессам и их мозговому субстрату, они уже очень скоро показали свою несостоятельность и перестали удовлетворять исследователей.
В основе этого лежали как теоретические соображения, так и противоречия фактического материала этим соображениям. С одной стороны, были высказаны справедливые сомнения в том, что такие сложные процессы, как речь, письмо, чтение, счет, не говоря уже об интеллектуальной деятельности, можно понимать как простые врожденные «способности» и искать их «локализации» в ограниченных участках мозговой коры.
С другой стороны, детальный анализ фактов клинических наблюдений показал, что прямое отнесение сложных психических процессов к ограниченным участкам мозговой коры не имеет оснований. Оказалось, что нарушения таких сложных психических процессов, как речь, письмо, чтение, счет, могут возникать при совершенно различных по местоположению поражениях коры головного мозга, что уже само по себе говорило против мысли об узкой «локализации» психических функций в изолированных участках коры головного мозга. Оказалось, что поражение ограниченных участков мозговой коры, как правило, приводит к нарушению целой группы психических процессов, которые при первом взгляде кажутся совершенно различными. Так, поражение левой височной доли вызывает нарушение понимания речи, расстройства письма, трудности нахождения слов и т. д., в то время как поражение теменно — затылочных отделов коры левого полушария вызывает нарушение ориентировки в пространстве, трудности счета, невозможность понимания сложных логико — грамматических отношений и ряд связанных с этим расстройств интеллектуальной деятельности.
Это создало кризис прежних представлений о прямой «локализации» психических процессов в ограниченных участках коры головного мозга и заставило ряд исследователей (к числу которых относились такие крупные психологи, как К. С. Лешли, и неврологи, как К. Голдштейн, К. Монахов и др.) высказать мысль, что психические процессы являются функцией всего мозга в целом и не могут быть «локализованы» в ограниченных участках мозговой окры.
Данная мысль, которая привела к возникновению направления в науке, известного под названием «антилокализационизма», являлась справедливой реакцией на упрощенные взгляды «узкого локализационизма». Однако оно очень скоро показало свою несостоятельность.
Как тонкие гистологические исследования, так и физические наблюдения показали, что кора головного мозга является весьма дифференцированным аппаратом, что различные области мозговой коры имеют неодинаковое строение и что нейроны, входящие в состав мозговой коры, часто оказываются настолько специализированными, что из их числа можно выделить такие, которые реагируют только на очень специальные раздражения или на очень специальные признаки (например, только на движения точки центра к периферии или от периферии к центру, только на плавные и округлые или только на острые, ломаные линии и т. д.). Эти данные, часть из которых является результатом находок, полученных в последнее время в результате физиологических исследований, проведенных на отдельных нейронах, сделали весьма маловероятными предположения об однородности всей массы мозга и утверждения, что мозг всегда работает как единое целое.
Создался новый кризис в учении о принципах функциональной организации мозга и учении о «локализации» психических процессов в мозговой коре.
Выход из этого кризиса был связан с коренным пересмотром понятия «психических функций» и с коренным изменением основных подходов к принципам их мозговой «локализации».
Понятие функции имеет в биологии два совершенно различных значения.
В узком смысле под функцией понимается отправление определенной ткани. Известно, что функцией печени является регуляция углеводного обмена, функцией поджелудочной железы — выделение инсулина, а функцией легочной альвеолы — диффузия кислорода и передача его эритроцитам крови.
Однако понятие функции имеет и другое, более широкое значение. Оно может означать приспособительную деятельность целого организма. В этом смысле говорят о функции дыхания, функции пищеварения, функции локомоции. Совершенно понятно, что в этом втором, более широком значении функция представляет собой сложную деятельность, осуществляющуюся совместной работой целой системы органов, каждый из которых входит в эту «функциональную систему» (термин П. К. Анохина) на своих собственных ролях, обеспечивая ту или иную сторону работы этой функциональной системы.
Так, «функция дыхания» осуществляется совместной работой целой группы мышц и альвеол легкого. Характерно, что мышцы, принимающие участие в акте дыхания, могут взаимно замещать друг друга, и если из функциональной системы выпадает участие одной группы мышц (например мышц диафрагмы), этот дефект компенсируется усиленной работой другой группы мышц (например межреберных).
Таким образом, функциональной система представляет собой сложное динамическое целое, в котором конечная постоянная («инвариантная») цель осуществляется изменчивой («вариантной») системой ее составных частей.
То же самое можно сказать и о «функции пищеварения», которая представляет собой сложнейшую функциональную систему место работающих пищеварительных органов, и о «функции движения» (локомоции), в которой конечная цель (передвижение с места на место, попадание в данную цель, удар молотка и т. п.) осуществляется сложной системой мышц, взаимоотношение которых меняется при изменении положения тела, в зависимости от напряжения, упроченности навыка и т. п.
Естественно, что такая сложная функциональная система не может быть «локализована» в определенном ограниченном участке нервной системы, и еще И. П. Павлов указал на то, что «если раньше дыхательный центр представлялся точкой величиной с булавочную головку в продолговатом мозге… то теперь он чрезвычайно расползся, поднялся в головной мозг и опустился в спинной, и сейчас его границы точно никто не укажет» (Павлов. И. П. Поли. собр. трудов, Т. III, с. 127).
Если такое широкое значение понятия «функция» относится к большому числу биологических приспособительных актов, то с большим основанием оно должно быть применено к сложным «психическим функциям».
Как показали психофизиологические и психологические исследования, даже относительно простые «функции», как произвольное движение, ходьба, попадание в цель, не говоря уже о таких функциях, как речь, письмо и счет, имеют сложнейшее строение, включая в свой состав значительное число составляющих звеньев.
Для того чтобы выполнить самое простое движение (например, попасть кончиком пальца в точку или сделать удар молотком), необходимо следующее:
• прежде всего сохранить глубокую проприоцептивную чувствительность движущейся руки, сигнализирующей о ее положении в пространстве и о степени растяжений работающих мышц. Без такой постоянной сигнализации о положении движущейся конечности, обеспечивающей нужную коррекцию направления и силы импульсов, никакое организованное движение невозможно;
• четкое отражение тех внешних пространственных координат, в пределах которых выполняется движение; при отсутствии такого отражения пространства, в пределах которого выполняется движение, движение потеряет свою точность и станет невозможным;
• плавная смена его элементов; даже для того, чтобы сделать два шага, необходимо сначала иннервировать одну систему мышц, а затем, переключив импульсы на другую систему мышц, денервировать первую и плавно перейти на следующее звено двигательного акта.
Все это показывает, что даже относительно простое произвольное движение является сложной функциональной системой, включающей в свой состав целый комплекс как чувствительных (афферентных), так и двигательных (эфферентных) импульсов.
Совершенно понятно, что такая сложная функциональная система не может быть «локализована» в одной ограниченной группе клеток коры головного мозга, а должна выполняться целым комплексом совместно работающих зон.
Еще более сложное строение имеют сформированные в процессе общественной истории виды психической деятельности: речь, письмо, чтение или счет.
Остановимся для примера на анализе того, как построен акт письма, и покажем, какие сложные звенья входят в эту функциональную систему.
Для того чтобы написать слово, мы прежде всего должны выделить входящие в его состав звуки, иначе говоря, произвести его акустический анализ, разложив непрерывный звуковой поток на составляющие звуковые единицы языка — фонемы (которые в каждом языке могут носить различный характер). Нередко выделение этих единиц звуковой речи (фонем) происходит не только «на слух», но и при ближайшем участии артикуляции, с помощью которой мы как бы «прощупываем» звуки и отличаем одни звуки от близких к ним других. Лишь после такой предварительной работы звуковой состав слова становится выделенным, и слово готово для записи. Здесь процесс письма переходит в следующую фазу: звуковые элементы (фонемы) должны быть перекодированы в зрительно — двигательные элементы письма (графемы). Для выполнения действия необходимо как иметь зрительно — двигательную схему графем или букв, так и сохранить их правильное расположение в пространстве. Однако на этом процесс письма не заканчивается. Письмо представляет собой сложную программу движений, в которых одно звено должно плавно переключаться на последующее. Выполнение этого условия требует включения совсем иных аппаратов, при исключении которых плавное письмо становится невозможным. Наконец, процесс письма всегда должен быть подчинен общей задаче (написать фразу, письмо, изложить мысль и т. д.), и только при прочном сохранении этой соответствующей программы нужная задача может быть выполнена.
Следует отметить, что в разных языках письмо может иметь неодинаковую структуру. Так, если в подавляющем числе языков (индоевропейских, тюркских) письмо имеет только что описанное строение, то существуют языки (например китайский), в которых письмо является процессом перевода единиц звуковой речи (фонем) в соответствующие буквы (графемы), но в которых пишущий непосредственно изображает понятия определенными условными знаками (иероглифами). Естественно, что для такого письма первая фаза (звуковой анализ слова) оказывается ненужной, а сам процесс письма приобретает совсем другой характер.
Сказанное достаточно убедительно показывает, что сама мысль о том, чтобы столь сложный процесс был «локализован» в определенном узко ограниченном участке мозга и выполнялся сравнительно незначительной группой клеток, должна быть отброшена. Поэтому задача «локализации» психологических функций в ограниченных участках мозга может быть заменена другой задачей — анализом той системы совместно работающих мозговых зон, которые осуществляют данную функциональную систему, иначе говоря, анализом того, как данная функциональная система размещена по аппаратам коры головного мозга по соответствующим мозговым структурам.
Только что сформулированный подход делает понятным и тот факт, что поражение определенного ограниченного участка мозга может привести к распаду целой функциональной системы, и при каждом ограниченном поражении мозга неизбежно будет страдать не одна «функция», но все функциональные системы, в осуществлении которых принимает участие данный пострадавший участок мозга. Становится понятным, что одно и то же поражение мозга может вызвать нарушение самых различных функциональных систем (если только в них входит известное общее звено или общий «фактор», работа которого непосредственно связана с пораженным участком), и что одна и та же функциональная система (например, акт письма или чтения) может пострадать при поражении различных участков мозга, которые обеспечивают те или иные звенья, входящие в состав данной функции.
Так, если произвольное движение включает в свой состав чувствительные (кинестетические), зрительно — пространственные элементы, создающие «афферентную» основу движения и собственно эфферентные импульсы, то совершенно естественно, что оно может пострадать как при поражении чувствительных и зрительно — пространственных, так и при поражении собственно двигательных отделов коры.
Если процесс письма включает в свой состав слуховой, кинестетический (артикулярный) анализ структуры буквы, осуществление соответствующей двигательной программы, естественно, будет нарушаться как при поражении слуховых, кинестетических или зрительных, так и при поражении двигательных отделов мозга, причем каждый раз он будет нарушаться по — разному.
Анализ характера нарушений сложных функциональных систем при ограниченных локальных поражениях мозга составляет предмет специальной отрасли психологической науки — нейропсихологии. Данные этой науки имеют большое значение как для практической области неврологии — уточнения локальной (топической) диагностики мозговых поражений, так и для более глубокого понимания физиологического строения сложных психологических процессов.
Чтобы понять мозговую организацию сложных психических процессов, нужно прежде всего четко представить современные данные о функциональной организации человеческого мозга.
(обратно)Принципы функциональной организации человеческого мозга
Как уже было сказано выше (гл. 2), мозг человека, являющийся продуктом длительной эволюции, представляет сложную иерархически построенную систему, которая отличается тем, что над аппаратами ствола и древней коры мозга, достаточно развитыми уже у высших позвоночных, надстраиваются большие полушария, которые у человека получают особенно мощное развитие.
Если аппараты ствола мозга и его верхних отделов являются теми частями мозга, которые включают в свой состав ядра (группы клеток, регулирующих процессы дыхания, кровообращения и биохимического обмена, осуществляющего важнейшие жизненные процессы), то аппараты четверохолмия и подкорковых узлов (зрительного бугра и стрио — палидарной системы) являются первыми инстанциями, обеспечивающими получение раздражений из внешнего мира, доходящих через высшие органы чувств (контактные и дистантные рецепторы), их переключение на двигательные аппараты (четверохолмие) и их первичную интеграцию с выполнением сложных синергии (таламо — стриальная система). Эти последние аппараты играют ведущую роль у низших позвоночных (земноводных, рыб, птиц), но постепенно оттесняются высшими отделами переднего мозга, большими полушариями, которые являются сложнейшими приборами, обеспечивающими:
а) анализ и синтез раздражений, поступающих из внешней среды;
б) усвоение и переработку получаемой информации;
в) замыкание новых связей;
г) выработку программ сложной деятельности и регуляции протекания высших форм поведения.
Высшими отделами центральной нервной системы являются большие полушария — кора головного мозга и подлежащее белое вещество, состоящее из проекционных волокон, связывающих ее с нижележащими подкорковыми образованиями, и ассоциационных волокон, связывающих отдельные области мозговой коры. Большие полушария начинают занимать ведущее место у высших позвоночных, у человека же становятся основным, важнейшим аппаратом его психической деятельности.
Исследования, проведенные за последние десятилетия, внесли известную ясность не только в морфологическую характеристику аппаратов головного мозга, но и в основные принципы его функциональной организации, и именно это представляет для психологии существенное значение.
(обратно)Три основных «блока» головного мозга
Как мы уже указывали, головной мозг человека, обеспечивающий прием и переработку информации и создание программ собственных действий и контроль за их успешным выполнением, всегда работает как единое целое. Однако головной мозг представляет собой сложный и высокодифференцированный аппарат, состоящий из ряда частей, и нарушение нормального функционирования каждой его части неизбежно сказывается на его работе.
В головном мозге человека можно выделить по крайней мере три основных «блока», каждый из которых играет свою особую роль в обеспечении психической деятельности.
Первый из них поддерживает нужный тонус коры, необходимый для того, чтобы как процессы получения и переработки информации, так и процессы формирования программ и контроля их выполнения протекали успешно.
Второй блок обеспечивает самый процесс приема, переработки и хранения информации, доходящей до человека из внешнего мира (от аппаратов его собственного тела).
Третий блок вырабатывает программы поведения, обеспечивает и регулирует их реализацию и участвует в контроле за их успешным выполнением.
Все три блока размещаются в отдельных аппаратах головного мозга, и лишь слаженная их работа приводит к успешной организации сознательной деятельности человека.
(обратно)Блок тонуса коры, или энергетический блок мозга
Чтобы человек мог нормально осуществлять прием, переработку и хранение информации и мог создавать и нормально выполнять сложные программы поведения, следить за успешностью выполняемых действий, осуществляя нужную саморегуляцию поведения, необходимо постоянное поддерживание оптимального тонуса коры. Только такой тонус может обеспечить успешный выбор существенных сигналов, сохранение их следов, выработку нужных программ поведения и постоянный контроль за их выполнением.
Физиологическая характеристика такого оптимального тонуса коры была в свое время дана И. П. Павловым, указавшим на то, что процессы, протекающие в нормальной коре, подчиняются «закону силы», согласно которому сильный (или наиболее значимый) раздражитель вызывает сильную реакцию, оставляющую наиболее устойчивый след, в то время как слабый (или менее значимый) раздражитель вызывает более слабую реакцию, след которой легче угасает или легче тормозится.
Наличие такого «закона силы», характеризующего оптимальную возбудимость коры, необходимо для осуществления любой организационной избирательной деятельности для создания доминирующих (наиболее важных) систем возбуждения, для сохранения организованных систем информации и стойких программ поведения. Хорошо известно, что при снижении тонуса коры она может перейти в тормозное, или «фазовое», состояние: слабые раздражители начинают вызывать такие же реакции, как и сильные раздражители («уравнительная фаза») или даже более сильные реакции, чем сильные раздражители («парадоксальная фаза»). Такая особенность работы возникает, например, в сонном или просоночном состоянии. Естественно, что в этих условиях организованная сознательная деятельность становится невозможной, и избирательное организованное течение мыслей заменяется бесконтрольным всплыванием «случайных» (побочных) ассоциаций.
Одно из важных открытий, сделанных физиологией за последние двадцать лет, заключается в том, что многочисленными наблюдениями и экспериментами, проведенными рядом выдающихся исследователей (X. Мэгун, Моруцци, Г. Джаспер и др.), было показано, что существенную роль в этом процессе играют образования верхних отделов ствола мозга, в частности образований гипоталамуса, зрительного бугра и системы сетевидных волокон («ретикулярной формации»), которая связывает эти образования двусторонней связью с корой головного мозга. Эти образования и входят как основные в состав «первого блока» человеческого мозга — блока, обеспечивающего общий тонус, или бодрственное состояние, коры.
К этим аппаратам следует присоединить и аппараты древней, или лимбической, коры, которая расположена на внутренних (медиальных) отделах больших полушарий и тесно связана с только что отмеченными аппаратами верхнего ствола. Они включают в свой состав такие древнейшие образования большого мозга, как:
а) гиппокамп;
б) ядра зрительного бугра;
в) перегородки;
г) мамиллярные тела.
Движение возбуждения по этой системе, получившей название «гиппокампова круга», или «круга Пейпеца», является одним из важнейших условий сохранения нужного тонуса мозговой коры, обеспечения нормального эмоционального состояния и создает условия для прочного удержания раз возникших следов.
Весь комплексный аппарат, входящий в состав блока, играет важную роль для нормальной работы мозговой коры, и на нем следует остановиться подробнее.
Поддержание постоянного тонуса коры имеет в основном два источника (к которым лишь позднее прибавляется третий, наиболее сложный).
1. С одной стороны, для сохранения бодрственного состояния коры нужен постоянный приток информации из внешнего мира; животное, лишенное такого притока внешних раздражений, засыпает; известно также, какой эффект вызывает «голод информации», который возникает у человека после длительного одиночного пребывания в темной и звуконепроницаемой камере. Наблюдения, проведенные за последние годы, показывают, что в этих случаях у человека легко начинают возникать галлюцинации, которые компенсируют этот недостаток постоянного притока внешних раздражений. Поэтому для сохранения оптимального тонуса коры решающее значение имеет сохранность аппаратов верхнего ствола и зрительного бугра, которые являются первой станцией приема притекающих извне раздражений. Перерезка путей, ведущих от верхнего отдела ствола к коре в составе «восходящей активирующей ретикулярной формации», неизбежно приводит к засыпанию, к этому же эффекту может привести и раздражение стенок третьего желудочка (включающих в свой состав аппараты зрительного бугра): раздражение стенок третьего желудочка во время мозговых операций, проведенных известным советским нейрохирургом Н. Н. Бурденко, нередко приводило к засыпанию больного.
Таким образом, первым источником для бодрственного состояния коры является постоянный приток раздражений с периферии, важнейшую роль в котором играют аппараты верхнего ствола восходящей ретикулярной формации.
2. Вторым, не менее важным источником для постоянного тонуса коры являются импульсы, доходящие до нее от внутренних обменных процессов организма, составляющих основу для биологических влечений. Известно, что состояние организма (например, уровень сахара в крови, являющийся показателем состояния голода или насыщенности), уровень кислорода в крови (который, опускаясь ниже нужного уровня, является показателем «кислородного голодания») регулируются аппаратами верхнего ствола и гипоталамуса. Известно также, что в состав верхнего ствола и древнего мозга входят и специальные аппараты, регулирующие такие процессы, как половые рефлексы, рефлексы агрессии и т. п.
Исследователи (Я. Миллер, Д. Олдс, П. Мак Лин, X. Дельгадо и др.), раздражая соответствующие отделы верхнего ствола и древнего мозга, вызывали у животного выраженные формы инстинктивного полового поведения, актов агрессии, непрекращающегося голода, жажды и т. п. Наличие в указанных зонах мозга нервных образований, регулирующих перечисленные влечения, было использовано некоторыми исследователями (Д. Олдс, X. Дельгадо) для того, чтобы вызывать у животного длительные реакции «самостимуляции». Замыкая ток, направляющийся к электродам, вживленным в эти области мозга, животное самостоятельно вызывало длительное время возбуждение этих аппаратов, которые эти авторы расценивали как своеобразные «центры», регулировавшие эмоциональное состояние животного.
Импульсы от этих образований гипоталамуса и зрительного бугра, передаваемые на кору посредством восходящей ретикулярной формации, и составляют второй источник для поддержания тонуса коры и ее бодрственного состояния. Поражение этих аппаратов гипоталамуса и ядер зрительного бугра у человека могло существенно изменить тонус коры. Примеры изменения тонуса можно видеть в случаях нарушения функций гипофиза, с одной стороны, и опухолей стенок третьего желудочка — с другой.
К аппаратам верхнего ствола ретикулярной формации, обеспечивающим поддержание нормального тонуса коры, нужно присоединить и аппараты древней («лимбической») коры, расположенные во внутренних (медиальных) отделах больших полушарий и участвующие в работе «энергетического» блока мозга.
Древняя «лимбическая» кора долгое время рассматривалась как существенная часть «обонятельного мозга». Это предположение основывалось на том, что она особенно развита у животных, у которых обоняние играет ведущую роль в поведении. Однако наличие этой области у животных, лишенных обоняния (дельфины), а также ряд физиологических наблюдений заставили изменить эту точку зрения. Стало принято считать область с входящим в ее состав гиппокампом аппаратом, имеющим гораздо более сложные функции, и расценивать древнюю кору и лимбическую область как «вегетативный мозг», принимающий существенное участие в регуляции протекания вегетативных и аффективных процессов, играющих важную роль в сохранении следов памяти.
Эти предположения были сформулированы крупными американскими исследователями Клювером и Бюси, которые после повреждения лимбической области (в частности, медиальных отделов сочной доли) наблюдали у животных резкое оживление эмоциональных реакций и нарушения памяти. Близкие данные были получены при последующих наблюдениях П. Мак Лина, Д. Олдса и других, которые могли видеть существенные изменения влечений и аффективных процессов, наступающие у животных в результате повреждения гиппокампа. Наконец, важные наблюдения, проведенные на людях с двусторонним поражением гиппокампа американскими исследователями В. Пенфилдом, В. Сковиллом и Б. Милнер, позволили показать, что в этих случаях существенно изменяется тонус коры и резко страдает память.
Объяснение этим явлениям было найдено тогда, когда физиологи, научившиеся отводить токи действия от отдельных нейронов (Т. Визель, Г. Джаспер и др.), нашли, что в гиппокампе существует большое число нейронов, не реагирующих на специфические (зрительные, слуховые или тактильные) раздражители, но тонко реагирующих на каждое изменение, возникающее в окружающей среде. Наличие этих нейронов, в функции которых входит сличение раздражителей с предшествующими следами и реакции на их «рассогласование», по — видимому, и объясняется та роль, которую играют образования древней коры в процессах ориентировочного рефлекса (ненаправленного внимания) и памяти.
3. Роль аппаратов первого блока в поддержании тонуса коры и состояния бодрствования обеспечивается его теснейшими связями с корой, осуществляемыми с помощью волокон активирующей ретикулярной формации. Следует отметить, что активирующая ретикулярная формация имеет как восходящие, так и нисходящие волокна. Посредством первых («восходящая активирующая ретикулярная формация») осуществляется возбуждение коры импульсами, приходящими из образований верхних отделов ствола мозга. Посредством вторых («нисходящая активирующая ретикулярная формация») осуществляются те влияния, которые высшие отделы мозга и, в частности, его кора, оказывают на нижележащие отделы мозгового ствола. Поэтому аппарат «нисходящей ретикулярной формации» играет существенную роль в придании аффективной окраски и обеспечении тонуса для тех программ поведения, которые возникают в коре в результате получаемой информации и тех высших форм замыслов и потребностей, которые формируются у человека при участии речи. Этот аппарат и обеспечивает третий источник поддержания бодрствования, о котором мы лишь упомянули выше и который связан со сложными замыслами и потребностями, возникающими у человека в результате его сознательной деятельности.
Таким образом, первый блок мозга, в состав которого входят аппараты верхнего ствола, ретикулярной формации и древней коры, обеспечивает общий тонус (бодрствование) коры и возможность длительное время сохранять следы возбуждения. Работа этого блока не связана специально с иными органами чувств и носит «модально — неспецифический» характер, обеспечивая общий тонус коры.
(обратно)Блок приема, переработки и хранения информации
Если первый только что описанный блок обеспечивает тонус коры, но сам еще не участвует ни в приеме и переработке информации, ни в выработке программ поведения, то второй блок непосредственно связан с работой по анализу и синтезу сигналов, приносимых органами чувств из внешнего мира, иначе говоря, с приемом, переработкой и хранением получаемой человеком информации.
Он включает в свой состав аппараты, расположенные в задних отделах головного мозга (теменной, височной и затылочной области) и в отличие от аппаратов первого блока имеет модально — специфический характер, являясь системой центральных приборов, которые воспринимают зрительную, слуховую и тактильную информацию, перерабатывают или «кодируют» ее и сохраняют в памяти следы полученного опыта.
Аппараты этого блока могут рассматриваться как центральные (корковые) концы воспринимающих систем (анализаторов), причем корковые концы зрительного анализатора расположены в затылочной, слуховые — в височной, тактильно — кинэстетические — в теменной области.
В этих отделах коры кончаются волокна, идущие от соответствующих воспринимающих (рецепторных) аппаратов, здесь выделяются и регистрируются отдельные признаки поступающей зрительной, слуховой и тактильной информации. В наиболее сложных отделах этих же зон они объединяются, синтезируются и в более сложные структуры. Этой задаче соответствует тонкое клеточное строение зон коры. Как и все другие области новой коры, эти зоны имеют шестислойное строение. Наиболее развит в этих зонах IV слой коры, куда приходят волокна, начинающиеся в периферических чувствующих аппаратах. Здесь они переключаются на другие нейроны. Некоторые волокна непосредственно спускаются в V слой коры, где заложены пирамидные (двигательные) клетки. Волокна от некоторых из этих клеток направляются на периферию, и таким, образом, замыкается дуга простейших сензорных рефлексов. Другие волокна, пришедшие от чувствующих органов в IV слой коры, переключаются там на нейроны с короткими аксонами, которые служат аппаратами переключения возбуждений на более сложные ассоциацион — ные клетки. Огромная часть ассоциационных клеток или клеток с короткими аксонами, имеющих форму малых пирамид или звездчатых клеток, расположены во II и III слоях коры, составляющих основной аппарат передачи возбуждений одних нейронов на другие. В тех зонах коры, куда непосредственно приходят волокна от периферических чувствующих органов (переключаясь лишь в подкорковых ядрах) и которые носят название первичных, или проекционных, зон, наибольшее место занимает IV, рецепторный, слой клеток. В тех зонах коры, которые примыкают к проекционным которые носят название вторичных, или проекционно — ассоциационных, зон — особенно мощно развиты II и III слои клеток. Оставшиеся без рассмотрения I и VI слои клеток имеют специальное значение:
• в I слое заложены горизонтальные и «транскортикальные» связи, соединяющие соседние участки коры;
• в VI слое заложены проекции вегетативных клеток, связывающих кору с глубокими отделами мозга.
Все лежащее под корой белое вещество состоит из длинных волокон, которые либо связывают кору с нижележащими образованиями (проекционные волокна), либо связывают отдельные области коры с другими корковыми областями (транскортикальные волокна). Оба полушария коры соединяются между собой особенно мощным пучком транскортикальных волокон, который носит название «мозолистого тела». Когда мозолистое тело перерезается, значительная часть больших полушарий теряет связь друг с другом и оба полушария начинают работать изолированно.
Принцип иерархического построения каждой зоны коры, входящей в состав разбираемого нами блока, является одним из наиболее важных принципов строения коры головного мозга. Как показали исследования, информация, поступающая от зрительного, слухового или кожного рецептора в первичные (проекционные) зоны коры, дробится там на огромное число составляющих ее признаков. Это осуществляется благодаря тому, что в этих проекционных зонах коры заложены высокоспециализированные нейроны, которые, как показали исследования некоторых физиологов, реагируют только на отдельные частные признаки раздражений.
Так, в проекционной зоне затылочной (зрительной) коры существуют нейроны, которые реагируют только на движение светящейся точки от центра к периферии или от периферии к центру, только на плавные изогнутые линии, только на острые ломаные линии и т. д. Такие же клетки с высочайшей специализацией существуют в височной (слуховой) и тактильной (теменной) коре. Это позволяет дробить возбуждение на отдельные мельчайшие элементы и превращает их в функциональную мозаику раздражений, доступную для дальнейшей организации.
Над каждой первичной, или проекционной, зоной коры надстроены вторичные, или проекшюнно — ассоциационные, зоны коры. Волокна, поступающие сюда, не приходят, как правило, непосредственно от периферического рецептора, они либо переключаются в соответственных подкорковых ядрах и уже несут обобщенные импульсы, либо приходят во вторичные зоны коры из первичных зон.
В отличие от первичных зон коры, эти зоны в основном состоят из мощно развитого II и III (ассоциационного) слоев клеток. Подавляющая часть нейронов, входящих в состав этих зон, не отличается такой тончайшей специализацией, как нейроны первичных (проекционных) зон. Они реагируют не на отдельные признаки, а чаще всего на целый комплекс модально — специфических (зрительных, слуховых, тактильных) раздражителей, а некоторые из них имеют даже мульти — модальный характер, реагируя на раздражения различных модальностей. Значение этих вторичных зон, по — видимому, состоит в том, чтобы объединять раздражения, приходящие к ним от нижележащих подкорковых ядер или от первичных зон коры, и кодировать их известные подвижные динамические структуры.
Этот факт доказывается рядом физиологических и психофизиологических экспериментов.
Как показали исследования М. Мак Кэллока, раздражение первичных зон стрихнином, которым смочена маленькая бумажка, вызывает эффект лишь в близлежащих отделах коры; наоборот, раздражение стрихнином вторичных зон коры вызывает возбуждение, распространяющееся далеко на соседние зоны. Это показывает, что вторичные зоны корковых отделов каждого анализатора действительно распространиют возбуждение на значительные площади и тем самым вовлекают в процесс возбуждения целые сложные системы нейронов, обеспечивая совместную работу больших участков коры.
Психологическое значение первичных и вторичных зон чувствительной коры стало ясным благодаря экспериментам, проведенным над больными, которые подверглись мозговым операциям. Известно, что кора головного мозга, этого высшего органа чувствительности, сама безболезненна, поэтому можно проводить мозговые операции без наркоза и, раздражая отдельные участки, наблюдать реакции больного. Это и позволило авторам (Ч. Ферстеру, Петцлю, В. Пенфилду) прийти к заключению о своеобразных функциях первичных и вторичных отделов коры.
Как показали исследования, раздражение зрительной или слуховой коры приводит к тому, что у субъекта появляются соответствующие ощущения (галлюцинации).
Однако характер этих галлюцинаций при раздражении первичных и вторичных зон коры оказывается совершенно различным.
Так, раздражения первичных зон зрительной коры (поле 17) вызывает у субъекта неоформленные зрительные ощущения (человек видит «окрашенный свет», «пламя», «светящиеся шары» и т. д.). В отличие от этого раздражение вторичных зон зрительной коры приводит к тому, что человек начинает видеть целые оформленные предметы (бабочек, зверей, лица знакомых и т. д.). Аналогичные результаты получаются и при раздражении слуховой коры: при раздражении первичных зон слуховой коры человек начинает слышать отдельные тоны или шумы, а при раздражении вторичных зоп этой коры — целые мелодии, речь и т. п.
Все это указывает, что первичные зоны чувствительной коры имеют функции выделения тех или иных модально — специфических (зрительных, слуховых, тактильных) признаков, иначе говоря, осуществляют функцию раздробления (анализа) поступающей информации на ее составные части, в то время как вторичные зоны этих же отделов коры несут функцию объединения (синтеза) или сложной переработки доходящей до субъекта информации.
Следует отметить еще одну важную особенность работы первичных (проекционных) и вторичных (проекционно — ассоциационных) зон коры.
Первичные зоны коры, куда приходят проекционные волокна от соответствующих периферических рецепторов, имеют строгое сомато — топическое строение. Это означает, что волокна, приходящие в кору этих отделов от воспринимающих областей, расположены не в случайном, а в строго организованном порядке, причем каждая точка воспринимающей поверхности представлена в совершенно определенной точке проекционной коры.
Так, волокна, идущие от кожных поверхностей нижних отделов тела, перекрещиваясь в стволе мозга, приходят к верхним отделам задней центральной извилины противоположного полушария, в то время как волокна, несущие импульсы кожной чувствительности рук, располагаются в средних, а волокна, приносящие чувствительные импульсы от кожи лица и головы, — в нижних отделах задней центральной извилины противоположного полушария, причем, что особенно важно, занимаемая проекцией тех или иных отделов тела, пропорциональна не размерам этих частей тела, а тому значению, которое эти области тела имеют в деятельности.
Территория, занимаемая проекцией бедра или голени в коре головного мозга, очень незначительна, в то время как проекция руки (особенно большого и указательного пальцев) и проекция рта, губ очень велика. Это обеспечивает наибольшую управляемость тех органов, которые должны особенно точно подчиняться центральной регуляции. Характерно, что разрушение определенных участков корковых отделов теменной (задне — центральной) области приводит к выпадению чувствительности в строго ограниченных отделах противоположной стороны тела, причем выпадение чувствительности в коже ноги, руки или лица дает основания для оценки того места в чувствительной коре или ее проводящих путях, которые были разрушены патологическим процессом. Наоборот, раздражение первичных (проекционных) зон коры проводит к появлению зрительных или слуховых ощущений, возникающих в отсутствие соответствующих внешних воздействий. Типичным для этих случаев является «аура» (начальная фаза) эпилептических припадков, в результате раздражающего влияния рубца, расположенного в соответствующей зоне мозговой коры. Так, рубец, расположенный в верхних отделах задне — централыюй извилины, вызывает «тока» или «мурашек» в нижней конечности противоположной стороны, рубец, расположенный в средних отделах згой области, — те же ощущения в противоположной руке, а нижних отделов коры области, — те же ощущения в противоположной половине лица.
Аналогичный принцип сомато — топической проекции имеет место и в других отделах корн. Так, волокна, идущие от отдельных участков сетчатки, представляющие отдельные част зрительного поля, проецируется в совершенно определенных участках зоны затылочной (зрительной) коры, вследствие чего разрушение определенных участков зрительной коры приводят к выпадению вполне определенных участков зрительного поля, а раздражение отдельных участков затылочной области к появлению зрительных ощущений («фосфен») в определенных участках зрительного поля. То же самое имеет место и в проекционных отделах височной (слуховой) коры: волокна, несущие возбуждение, соответствующее высоким тонам, проецируются на внутренних отделах первичной слуховой зоны коры, а волокна, несущие возбуждения, соответствующие низким тонам, — на латеральных отделах коры. Поэтому раздражение этих участков коры или их проводящих путей вызывает соответствующие слуховые ощущения, которые могут быть началом (аурой) эпилептического припадка.
Учет описанных фактов сомато — топического строения первичных (проекционных) зон коры имеет большое практическое значение, так как симптомы их поражения или раздражения служат важным диагностическим признаком для топической диагностики их поражений.
Этот принцип строгой сомато — топической проекции отдельных чувствительных (рецепторных) поверхностей в определенных участках проекционных корковых полей (позволяющий использовать симптомы выпадения чувствительности в определенных участках тела для топической диагностики поражений) характеризует функциональную организацию первичных корковых полей. Однако он совершенно не пригоден для оценки работы вторичных корковых полей.
Как уже было сказано выше, вторичные корковые поля разбираемого нами блока обеспечивают синтез возбуждений, поступающих в первичные поля, «кодируют» их; они заменяют принцип сомато — топической проекции другим принципом — функциональной организации соответствующих возбуждений. Поэтому разрушение этих зон не приводит к явлениям выпадений чувствительности, приуроченных к определенным областям тела или определенной части воспринимаемого поля, но вызывает общую дезинтеграцию в работе того или иного анализатора, проявляющуюся в затрудненной расшифровке доходящей до субъекта информации, иначе говоря, к нарушению сложных форм зрительного, слухового или тактильного восприятия, известного в клинике под названием «агнозии». К анализу этих явлений мы еще обратимся, разбирая процессы восприятия.
Первичные и вторичные зоны коры не исчерпывают корковых аппаратов разбираемого блока.
Над ними надстроены аппараты третичных зон коры (или перекрытия корковых концов отдельных анализаторов), которые имеют важное значение для обеспечения наиболее комплексной работы этого блока.
Третичные зоны коры головного мозга возникают на самых поздних этапах филогенетической лестницы и являются в значительной степени специфически человеческими образованиями; у хищников корковые зоны отдельных анализаторов непосредственно соприкасаются друг с другом; у высших — обезьян — эти зоны, только намечены, в то время как у человека они занимают значительную часть задних отделов коры.
Эти зоны коры головного мозга созревают лишь очень поздно, в онтогенезе. Как было в свое время показано немецким анатомом Флексигом, процесс обкладки волокон, возникающих в этих зонах, миэлином, делающим их готовыми к работе, заканчивается позднее, чем во всех других зонах. Все это показывает, что третичные зоны, или «зоны перекрытия», являются наиболее молодыми и наиболее поздно вступающими в работу отделами мозговой коры.
По своему гистологическому строению эти зоны относятся к числу тех, в которых II и III слой ассоциативных клеток полностью преобладают. Это говорит об их основных функциях, заключающихся в объединении информации, приходящей в кору головного мозга от различных анализаторов. Третичные зоны задних отделов мозговой коры расположены на границах теменной, затылочной и височной области и включает в свой состав поля 39,40,37–го нижнетеменных отделов коры. При их раздражении не возникает каких — либо чувствительных реакций или галлюцинаций, их поражение не приводит к выпадению зрительной, слуховой или тактильной чувствительности. Значение этих отделов коры для объединения информации, поступающей от отдельных анализаторов, можно видеть, анализируя поведение больных с поражением этих отделов мозговой коры. Как правило, у таких больных возникают трудности в наиболее сложной переработке получаемой информации, и прежде всего — в объединении доходящих до мозга последовательных раздражений в одновременные (симультанные) пространственные схемы. Различая зрительно воспринимаемые предметы и звуки, больные начинают испытывать затруднения при ориентировке в пространстве, путают направление, ire могут различить правую и левую стороны, разобраться в положении стрелок на часах, соотношении сторон света на географической карте. Они оказываются не в состоянии выполнить арифметические операции, требующие ориентировки в разрядном строении числа, в быстром выполнении вычитания и деления, и начинают испытывать серьезные затруднения в понимании сложных грамматических структур и в логических операциях, включающих сложные отношения.
Все это показывает, что третичные зоны коры являются важным аппаратом, необходимым для наиболее сложных форм переработки и кодирования получаемой информации.
(обратно)Блок программирования, регуляции и контроля деятельности
Третий блок головного мозга человека осуществляет программирование, регуляцию и контроль активной человеческой деятельности. В него входят аппараты, расположенные в передних отделах больших полушарий, ведущее место в нем занимают отделы большого мозга.
Сознательная деятельность человека только начинается с получения и переработки информации, она кончается формированием намерений, выработкой соответствующей программы действий и осуществлением этих программ во внешних (двигательных) или внутренних (умственных) актах. Для этого требуется специальный аппарат, который мог бы создавать и удерживать нужные намерения, вырабатывать соответствующие им программы действий, осуществлять их в нужных актах и, что очень существенно, постоянно следить за протекающими действиями, сличая эффект действия с исходными намерениями.
Все эти функции осуществляются передними отделами мозга и их лобными долями.
По характеру своего строения передние отделы коры существенно отличаются от задних. Если кора задних отделов мозга характеризуется поперечной исчерченностью, то кора передних отделов мозга отличается вертикальной исчерченностью, что говорит о моторном двигательном характере доминирующих в ней структур. Если в коре задних отделов мозга (и особенно в ее первичных зонах) преобладает IV (афферентный) слой клеток, в коре передних отделов мозга (особенно в ее первичной зоне) преобладает V эфферентный слой клеток с большими пирамидами, аксоны которых уносят сформированные импульсы на периферию, доводя их до руки и тем самым вызывая соответствующие движения, программы которых были подготовлены всей корой мозга и, в частности, лобной областью.
Как и задние отделы мозга, передние имеют теснейшие связи с нижележащими образованиями ретикулярной формации, причем, что важно, здесь особенно мощно представлены как восходящие, так и нисходящие волокна ретикулярной формации, которые производят импульсы, сформированные в лобных долях коры, и тем самым регулируют общее состояние активности организма, изменяя ее соответственно сформированным в коре намерениям.
Так же как и системы задних отделов коры, передние отделы коры имеют иерархическое строение, с тем только отличием, что первичные зоны двигательной коры являются не первыми (куда попадают доходящие до мозга раздражители), а последними по порядку своей работы: к ним подходят импульсы, подготовленные в более высоких отделах коры, и они направляют эти импульсы к периферии, вызывая соответствующие движения.
Для простоты изложения мы сохраним при рассмотрении первичных отделов коры головного мозга тот же порядок, который был принят нами при рассмотрении иерархически организованных структур задних отделов коры.
Первичной, или проекционной, зоной передних отделов мозга является передняя центральная извилина, или моторная область коры (4–е поле Бродмана), над ней надстроено вторичное премоторное поле (6–е поле Бродмана); еще выше расположены образования коры собственно лобной, или префронтальной области (9, 10, И, 46–е поля Бродмана).
Несмотря на то что все эти отделы коры характеризуются уже отмеченной выше «вертикальной исчерченностью», клеточное строение каждой из указанных зон сильно отличается от других.
Первичная, или проекционная, двигательная кора расположена длинной полоской в пределах передней центральной извилины, в ней преобладает V эфферентный слой, состоящий из гигантских пирамидных клеток, открытых в свое время русским анатомом В. А. Бецем. Эти гигантские пирамиды дают начало длинным аксонам, которые, переходя в стволе мозга на противоположную сторону, спускаются вниз, доходят до передних рогов спинного мозга и несут двигательные импульсы, приходящие в конечном счете к известным мышечным группам.
Как и другие проекционные зоны, первичные двигательные поля коры имеют четкое сомато — топическое строение: гигантские пирамидные клетки его верхних отделов несут двигательные импульсы к мышцам нижних конечностей противоположной стороны тела, гигантские пирамиды средних отделов — к мышцам верхних конечностей, пирамидные клетки нижних отделов этого поля — к мышцам шеи, головы, лица. Так же как и в сензорных проекционных зонах, территория первичного двигательного поля представляет соответствующие мышечные группы не по геометрическому, а по функциональному признаку: чем более управляемой должна быть соответствующая мышечная группа, тем большую территорию занимает ее проекция в первичной двигательной зоне коры.
Такая сомато — топическая организация передней центральной извилины и ее проводящих путей имеет важное значение для топической диагностики мозговых поражений:
• разрушение верхних отделов этой области мозга или ее проводящих путей приводит к параличу противоположной ноги;
• поражение средних отделов — к параличу противоположной руки;
• поражение нижних отделов — к параличу или парезу мышц противоположной стороны лица.
Соответственно этому рубцы, расположенные в этих отделах коры и раздражающие ее, вызывают подергивание или судороги соответствующих отделов тела, поэтому характер ауры (начального периода эпилептических припадков, возникающих в таких случаях), имеет большое диагностическое значение, указывая на местоположение рубца.
Над первичной двигательной зоной мозговой коры надстроена премоторная область, включающая в свой состав 6–е поле Бродмана. Эта область подготавливает пуск двигательных импульсов и создает ту «кинетическую мелодию», которая пускает в ход «клавиши» двигательной зоны коры.
В отличие от проекционной — двигательной зоны в ней преобладают малые пирамидные клетки II и III слоев коры, играющие проекционно — ассоциационную роль; принцип сомато — топической проекции здесь представлен несравненно меньше, чем в проекционной двигательной зоне. Поэтому поражение премоторной зоны не ведет к возникновению параличей в определенных мышечных группах. Значение премоторной зоны коры (или «экстрапирамидного двигательного поля») заключается в том, что она создает условия для систематической работы двигательного аппарата и, в частности, обеспечивает плавное переключение импульсов с одних звеньев движения на другие, обеспечивая тем самым выполнение сложных «двигательныхмелодий». Особенно большое значение премоторная зона коры приобретает для создания двигательных навыков, в которых одно двигательное звено должно плавно сменяться другим. Вот почему при раздражении премоторной зоны коры возникают подергивания отдельных мышечных групп, сложные комплексные движения (поворот глаз и головы, хватательные движения), а при поражении этой зоны — потеря плавного переключения с одного звена движения на другое, иначе говоря, нарушение «кинетических мелодий», или двигательных навыков.
Специальное место в премоторных отделах коры занимает 8–е поле Бродмана, которое является передним глазодвигательным центром, обеспечивающим плавные активные движения глаз. При его поражении рефлекторные движения глаз, следующих за движущимся предметом, сохраняются, в то время как быстрые и плавные активные движения глаз нарушаются.
Над премоторной зоной надстроены третичные отделы лобной коры, или кора префронтальной области. Они включают в свой состав 9,10,11,46–е поля Бродмана и имеют совершенно иное строение.
В отличие от двигательной и премоторной зоны эти отделы коры не включают в свой состав больших пирамидных клеток, и вся толща коры занята клетками с короткими аксонами и звездчатыми клетками, тела которых очень малы и представляют собой зерна или гранулы (поэтому префронтальная область иногда называется «лобной гранулярной корой»). Она только намечена у позвоночных, занимает относительно малое место у обезьян и мощно развивается у человека, составляя почти треть всей массы полушарий. Поэтому префронтальную кору можно расценивать как специфически человеческое образование. Аппараты префронтальной коры созревают в самую последнюю очередь онтогенеза, и на карте миелинизации Флексига они занимают по времени созревания одно из последних мест. Наконец, что особенно существенно, префронтальные области коры связаны как со всеми остальными отделами мозга, так и с нижележащими отделами ретикулярной формации. Эти связи особенно значительны у медиальных и базальных отделов лобных долей, причем, как это уже было сказано выше, в них наряду с восходящими волокнами ретикулярной формации особенно мощное развитие получают волокна нисходящей ретикулярной формации. Это дает лобным долям мозга возможность постоянно поддерживать тонус коры посредством нисходящих волокон, соединявших их с нижележащими стволовыми образованиями.
Значение лобных отделов мозговой коры для организации поведения очень велико, хотя долгое время оно не поддавалось четкому научному определению.
Это было связано с тем, что функции лобных долей мозга нельзя было выразить в классических понятиях рефлекторной дуги: поражение лобных долей мозга не приводило ни к каким нарушениям элементарных движений, не вызывало ни параличей, ни расстройств чувствительности, ни нарушения речи. Последнее давало основание некоторым авторам расценивать лобные отделы коры головного мозга как «немую зону» и считать, что она не имеет каких — либо специальных функций. Дело существенно изменилось, когда исследователи стали подходить к мозгу как к сложнейшей саморегулирующейся системе, которая создает сложные программы поведения, регулирует протекание двигательных актов и осуществляет контроль над ними. В свете этих представлений функции лобных долей мозга удалось определить гораздо отчетливее.
Лобные доли мозга, обладавшие мощными связями с восходящей и нисходящей ретикулярной формацией, оказались прежде всего аппаратом, обладающим мощной активирующей ролью. Как показали исследования, при каждом интеллектуальном напряжении (ожидании сигнала, сложном счете) в лобных долях мозга возникают особые медленные волны, распространяющиеся на другие отделы коры и названные английским физиологом Г. Уолтером «волнами ожидания». Когда же наступает прекращение ожидания сигнала, эти волны исчезают. Напряженная интеллектуальная работа, требующая повышенного тонуса коры, вызывает в лобных долях повышенное число синхронно возбуждающихся совместно работающих пунктов. Как показал советский ученый М. Н. Ливанов, эти синхронно работающие пункты сохраняются во все время сложной интеллектуальной работы и исчезают после ее прекращения.
Роль лобных долей в сохранении активного состояния, вызываемого речевой инструкцией или интеллектуальным заданием, была показана при анализе больных с локальными поражениями (опухолями или травмами) лобных долей мозга. Опыты, проведенные советским психологом Е. Д. Хомской, показали, что если речевая инструкция, вызывающая напряжение, приводит у нормальных субъектов к появлению длительных симптомов активации (выражающихся в сосудистых или электрофизиологических реакциях), то у больных с поражением лобных долей мозга (и особенно их медиальных и базальных отделов, обладающих особенно мощными связями с активирующей ретикулярной формацией) такого стойкого состояния повышенной активации не возникает или она очень быстро исчезает.
Поддерживая тонус коры, необходимый для осуществления поставленной задачи, лобные отделы мозга играют решающую роль в создании намерений и формирования программы действия, которые осуществляют эти намерения.
Нашими наблюдениями было показано, что двустороннее поражение лобных долей мозга приводит к тому, что больные оказываются не в состоянии:
• прочно удерживать намерения;
• сохранять сложные программы действий;
• тормозить не соответствующие программам импульсы;
• регулировать деятельность, подчиненную этим программам.
Они не могут устойчиво концентрировать свое внимание на поставленной перед ними задаче и легко отвлекаются от ее выполнения, заменяя нужные действия либо простыми ответами на побочные раздражители, либо инертным повторением раз возникших стереотипов, которые продолжают воспроизводиться независимо от поставленной задачи и мешают ее адекватному выполнению.
Естественно, что организованная интеллектуальная деятельность, направляемая поставленной задачей, существенно нарушается при поражении лобных долей мозга, и сложные планы решения задач заменяются здесь импульсивно возникшими фрагментарными ответами или инертным воспроизведением раз усвоенных стереотипов (А. Р. Лурия и Л. С. Цветкова).
Особенно важным является тот факт, что лобные доли мозга играют существенную роль в проведении постоянного контроля над протекающей деятельностью. Больные с поражением лобных долей мозга не могут сличать результаты своих действий с исходным намерением, теряют критическое отношение к своим собственным действиям и лишаются возможности осознавать свои собственные ошибки и исправлять их. Это дает основание считать, что лобные доли мозга человека входят существенной составной частью в тот механизм «акцептора действия» (П. К. Анохин), который играет важнейшую роль в обеспечении саморегулирующейся деятельности человека.
(обратно)Принцип латерализации в работе больших полушарий
Описание трех основных блоков, совместной работой которых обеспечивается деятельность головного мозга человека, не исчерпывает основных принципов его работы. Однако это описание должно быть дополнено еще одним принципом, который лежит в основе работы человеческого мозга.
Если у животных оба полушария являются равноценными, то у человека одно из них (как правило, левое полушарие) является доминирующим, а правое — подчиненным. Доминантность левого полушария человеческого мозга, по — видимому, возникла с появлением труда и выделением правой руки как играющей ведущую роль в трудовой деятельности. Поэтому левое полушарие играет доминирующую, ведущую роль у правшей, в то время как у левшей доминирующая роль либо стирается, либо переходит к правому полушарию.
Важнейшим признаком доминирующей роли левого полушария у правшей является тот факт, что его работа тесно связана с речевой деятельностью. Несмотря на то что морфологически оба полушария лишь очень незначительно отличаются друг от друга, только левое полушарие является мозговым аппаратом речи. При этом необходимо отметить следующее:
• нижние части задних отделов левого полушария (височной и теменной областей) связаны с рецепторной речью (различением речевых звуков, формированием речевых артикуляций и кодированием доходящей до субъекта речи в сложные логико — грамматические системы);
• нижние отделы премоторной зоны являются аппаратом, обеспечивающим превращение речевых движений в сложные речевые «кинетические мелодии» и в плавную активную речь.
Именно поэтому мы наблюдаем следующее:
• поражение задних отделов левой верхне — височной области приводит к нарушению способности различать сложные звуки речи и распаду понимания речи (так называемая «сензорная афазия»);
• поражение нижних отделов постцентральной области ведет к нарушению четких артикуляций («афферентная моторная афазия»);
• поражение задних отделов нижней лобной извилины (нижних отделов левой премоторной зоны) ведет к нарушению плавной экспрессивной речи («афферентная моторная афазия»).
Естественно, что поражение всех перечисленных отделов коры левого полушария неизбежно ведет и к нарушению сложных форм речевой деятельности, таких, как процессв нахождения нужных названий, организованная самостоятельная речь, письмо, а в некоторых случаях и к нарушению чтения, счета и т. п. Характерно, что поражение соответствующих зон правого (субдоминантного) полушария не приводит к таким расстройствам.
Доминирующий характер левого полушария (у правшей) проявляется не только в нормальном протекании речевых процессов. Как показали клинические наблюдения, сохранность левого полушария важна для нормального протекания всех форм сознательной деятельности, связанной с речью.
Так, поражение областей мозговой коры, прилегающих к речевым зонам и относящихся к «третичным» областям коры, приводит к нарушению сложных форм восприятия (агнозия), к распаду сложнейших форм логико — грамматических операций, лежащих в основе интеллектуальных процессов («семантическая афазия») и к нарушениям активных форм мышления («динамическая афазия»). В отличие от этого поражения аналогичных отделов правого (субдоминантного) полушария не ведут к подобным расстройствам познавательных процессов и сказываются в большей мере на нарушении наглядного восприятия и эмоциональной сферы человека,
Есть основания полагать, что в результате интимной связи речевых процессов с корой доминантного (левого) полушария его работа протекает более дифференцированно, в то время как функциональная организация подчиненного (правого) полушария носит менее дифференцированный характер (Тэйбер).
Рассмотрение той роли, которую играют отдельные системы больших полушарий в протекании различных психологических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), и того, как данные процессы нарушаются при локальных поражениях этих участков мозга, будет предметом следующих лекций.
(обратно) (обратно) (обратно)РАЗДЕЛ II. Психология познания
Часть 1. Психология познавательных процессов
Глава 1. Ощущения
Проблема
Основным источником наших знаний о внешнем мире и о собственном теле являются ощущения. Они составляют основные каналы, по которым информация о явлениях внешнего мира и состоянии организма доходит до мозга, давая человеку возможность ориентироваться в окружающей среде и в своем теле. Если бы эти каналы были закрыты и органы чувств не приносили нужной информации, никакая сознательная жизнь не была бы возможной.
Известны факты, говорящие о том, что человек, лишенный постоянного притока информации, впадает в сонное состояние. Такие случаи имеют место, когда человек внезапно лишается зрения, слуха, обоняния и когда осязательные ощущения его ограничиваются каким — либо патологическим процессом.
Близкий к этому результат достигается, когда человека на некоторое время помещают в свето — и звуконепроницаемую камеру, изолирующую его от внешних воздействий, и он сохраняет некоторое время одно и то же (лежачее) положение. Такое состояние сначала вызывало сон, а затем становилось трудно переносимым для испытуемых.
Многочисленные наблюдения показали, что нарушение притока информации в раннем детстве, связанное с глухотой и слепотой, вызывает резкие задержки психического развития. Если детей, рожденных слепо — глухими или лишенных слуха и зрения в раннем возрасте, не обучать специальным приемам, компенсирующим эти дефекты за счет осязания, их нормальное психическое развитие станет невозможным, и они не смогут самостоятельно развиваться.
(обратно)Ощущение как источник познания
Ощущения позволяют человеку воспринимать сигналы и отражать свойства и признаки вещей внешнего мира и состояний организма. Они связывают человека с внешним миром и являются как основным источником познания, так и основным условием его психического развития.
Однако несмотря на очевидность этого положения, в истории идеалистической философии неоднократно высказывались сомнения в этом основном утверждении.
Философы — идеалисты нередко высказывали мысль о том, что подлинным источником нашей сознательной жизни являются не ощущения, а внутреннее состояние сознания, способность разумного мышления, которые заложены от природы и независимы от притока информации, поступающей из внешнего мира.
Эти воззрения легли в основу философии «рационализма» (получившей свое четкое выражение у немецкого философа — рационалиста X. Вольфа). Суть этой философии заключалась в том, что психические процессы не являются продуктом сложного исторического развития, и ошибочно толковали сознание и разум не как результат сложной исторической эволюции, а как первичное, далее не объяснимое свойство человеческого «духа». Легко видеть, что все данные современной науки, о которых шла речь выше, в корне отвергают это положение.
Однако философы — идеалисты и психологи, разделяющие идеалистическую концепцию, нередко делали попытки отвергнуть, казалось бы, очевидное положение о том, что ощущения человека связывают его с внешним миром, и доказать обратное, парадоксальное положение, что ощущения отделяют человека от внешнего мира, являясь непреодолимой стеной между ним и внешним миром.
Это положение было выдвинуто философами — идеалистами как Д. Беркли, Д. Юм, Э. Маг и психологами, как И. Мюллер и Г. Гельмгольц, сформулировавшими теорию «специфической энергии органов чувств».
Согласно этой теории каждый из органов чувств (глаз, ухо, язык, кожа) не отражает воздействия внешнего мира, не дает информации о реальных процессах, протекающих в окружающей среде, а лишь получает от внешних воздействий толчки, возбуждающие их собственные процессы. Каждый орган чувств, согласно этой теории, обладает своей собственной «специфической энергией», которая возбуждается любым воздействием, доходящим из внешнего мира. Так, достаточно нажать на глаз, воздействовать на него электрическим током, чтобы получить ощущение света; достаточно механического или электрического раздражения уха, чтобы возникло ощущение звука. Значит, органы чувств не отражают внешних воздействий, а лишь возбуждаются от них, и человек воспринимает не объективные воздействия внешнего мира, а лишь свои собственные субъективные состояния, отражающие деятельность его органов чувств. Иначе говоря, это значит, что органы чувств не соединяют человека с внешним миром, а наоборот, отделяют человека от него.
Легко видеть, что эта теория приводила к утверждению: человек не может воспринимать объективный мир, и единственной реальностью являются субъективные процессы, отражающие деятельность его органов чувств, которые и создают субъективно воспринимаемые «элементы мира». Все эти положения и были положены в основу философии «субъективного идеализма», утверждавшей, что человек может познать только самого себя и у него нет никаких доказательств того, что кроме него самого существует что — нибудь иное. Эта идеалистическая теория получила название «солипсизма» (от латинского слова solus — один; ipse — сам «существую только один я сам»).
Теория субъективного идеализма, полностью противоположная материалистическим представлениям о возможности объективного отражения внешнего мира (в частности, ленинской «теории отражения»), была источником глубокого недоразумения, сущность которого становится все более очевидной с каждым достижением науки.
Внимательное изучение эволюции органов чувств убедительно показывает, что в процессе длительного исторического развития сформировались особые воспринимающие органы (органы чувств, или рецепторы), которые специализировались на отражении особых видов объективно существующих форм движения материи («энергии»), кожные рецепторы, отражающие механические воздействия, слуховые рецепторы, отражающие звуковые колебания, зрительные рецепторы, отражающие определенные диапазоны электромагнитных колебаний, и т. д.
Рассмотрим данные о высочайшей специализации воспринимающих приборов и о том, какие именно виды движения материи каждый из них воспринимает.
Сводные данные приводятся в табл. 2.1.
Таблица 2.1 — Характеристика объективных воздействий воспринимающих аппаратов и получаемых ощущений
Мы видим, что из всех возможных видов движения материи, расположенных в порядке уменьшения длины волны и увеличения числа колебаний в секунду, лишь некоторые отражаются высокоспециализированными приборами органов чувств. Так, механические волны определенного диапазона воспринимаются кожей, вызывая ощущение осязания или давления; звуковые колебания с длиной волны выше 12 мм и частотой ниже 20–30 Гц и с длиной волны ниже 12 мм и частотой колебаний выше 30 000 Гц не воспринимаются вовсе, в то время как звуковые колебания с длиной волны 12–13 мм и частотой от 20 до 20 000 Гц воспринимаются человеческим ухом и вызывают слуховые ощущения.
Электрические колебания с длиной волны до 0,1 мм и частотой 30 1014 Гц также не воспринимаются, хотя те же колебания с длиной волны от 0,1 до 0,004 мм и частотой 8 • 1014 Гц воспринимаются кожей как тепло. Особенно интересная картина возникает в отношении восприятия световых волн: сетчатка человеческого глаза воспринимает световые волны длиной 0,008–0,004 мм и частотой 4–8 • 1014 Гц, вызывая ощущения цвета и света. Однако она не воспринимает световых волн длиной от 0,004 до 0,00001 мм и частотой 8 — 50 • 1014 Гц. Рентгеновские волны также не имеют специализированных приемников и не вызывают ощущений у человека.
Внимательный анализ этих данных показывает, что наши воспринимающие приборы специализировались на выделении только некоторых воздействий и остаются невосприимчивыми к другим воздействиям. Это имеет свое биологическое основание. Так, если бы сетчатка глаза воспринимала воздействие ниже и выше указанного диапазона, человек воспринимал бы тепло своего собственного тела как зрительное ощущение и превращал бы в зрительные ощущения те воздействия, которые не имеют для него биологического значения. То же самое относится к работе слуховых анализаторов: если бы человек воспринимал ухом ультразвуковые колебания, к его слуховым восприятиям добавилось бы много лишних шумов, которые затруднили бы выделение существенных для него звуковых раздражений.
Характерно, что у животных иные лимиты ощущений; например, летучая мышь, совершая в темноте полет и реагируя на препятствия, осуществляет это с помощью отражения ультразвуковых волн, ее слуховой аппарат служит ей радаром, и отражение ультразвуковых колебаний, не воспринимаемых человеком, воспринимается летучей мышью.
Таким образом, в эволюции организмов возникли приборы, специализированные на восприятии различных видов движения материи (различных «энергий»), и на самом деле мы имеем не «специфические энергии самих органов чувств», а специфические органы, объективно отражающие различные виды энергии.
Тот факт, что при воздействии на глаз или ухо неадекватных этим органам раздражителей возникает «специфическое» (зрительное или слуховое) ощущение, говорит лишь о высокой специализированное™ этих воспринимающих приборов и о неспособности отражать воздействия, на приеме которых они не специализированы.
Как мы увидим ниже, высокая специализированность различных воспринимающих приборов имеет в своей основе не только особенности строения периферических «рецепторов» (органов чувств), но и высочайшую специализацию нейронов, входящих в состав центральных нервных аппаратов, до которых доходят сигналы, воспринимаемые периферическими органами чувств. На этом факте мы еще остановимся при обсуждении специальных видов ощущений.
(обратно)Рецепторная и рефлекторная теория ощущений
В классической психологии сложилось представление, согласно которому орган чувств (рецептор) пассивно отвечает на воздействующие раздражители, и этим пассивным ответом являются соответствующие ощущения. Эта концепция называлась рецепторной теорией ощущений, и, согласно ей, ощущение как пассивный процесс противопоставлялось движению, которое рассматривалось как активный процесс.
В настоящее время такая рецепторная теория ощущений признана несостоятельной и отвергается большинством исследователей, которые противопоставляют ей представление об ощущении как об активном процессе. Это представление и лежит в основе другой теории, которая носит название рефлекторной теории ощущений.
Рассматривая ощущения животных, мы уже отмечали тот факт, что они носят не пассивный, безразличный характер и что животные активно выделяют из воздействий внешнего мира только те, которые имеют для них биологически важное значение. Мы уже говорили, что пчела реагирует на смешанные цвета гораздо активнее, чем на чистые цвета; что кобчик реагирует на гнилостные запахи, игнорируя запахи трав и зерен, в то время как утка проявляет обратные особенности в своих реакциях; что кошка активно выделяет поскребывание мыши, не реагируя на индифферентные для нее звуки камертона. Этот факт указывает на активный, избирательный характер ощущений.
Дальнейшие факты показывают, что физиологически ощущение вовсе не является пассивным процессом, но всегда включает в свой состав двигательные компоненты.
Так, наблюдения, проведенные американским психологом Неффом еще более сорока лет назад, позволили убедиться, что если наблюдать под микроскопом за участком кожи, раздражаемым иглой, можно видеть, что момент возникновения ощущения сопровождается рефлекторными двигательными реакциями этого участка кожи. В дальнейшем многочисленными исследованиями было установлено, что в состав каждого ощущения входит движение иногда в виде вегетативной реакции (сужение сосудов, кожно — гальванический рефлекс), иногда в виде мышечных реакций (поворот глаз, напряжение мышц шеи, двигательные реакции руки и т. д.).
Было установлено, что сложные ощущения, требующие различения или узнавания предмета, вообще невозможны без активных движений. Так, чтобы различить с закрытыми глазами предмет, необходимо активно ощупать его; даже такие признаки, как гладкость и шероховатость предмета, его величина и т. д., воспринимаются, лишь если ощупывающая рука активно движется; ощущения, возникающие от предмета пассивной поверхностью кожи, являются крайне несовершенными.
То же самое было установлено и в отношении зрительного восприятия. Еще И. М. Сеченов указывал на то, что для зрительного восприятия предмета необходимо, чтобы глаз «ощупал» его. В последнее время было установлено, что каждое зрительное восприятие действительно осуществляется при активном участии движений глаз, которые иногда носят характер крупных «ощупывающих» движений, а иногда принимают вид микродвижений глаз. Мы еще специально остановимся на том факте, что и слуховое ощущение протекает при ближайшем участии двигательных компонентов как в самом слуховом аппарате, так и в связанном с ним голосовом аппарате. Известно, что для уточнения звука необходимо пропеть его, и только в этом случае звук будет достаточно четко отделен от близких к нему звучаний.
Все это показывает, что ощущения вовсе не являются пассивными процессами, что они носят активный характер и участие двигательных компонентов в ощущении может осуществляться на разном уровне, протекая иногда как элементарный рефлекторный процесс (например, при сокращении сосудов или мышечных напряжениях, возникающих в ответ на каждое ощущаемое раздражение), а иногда как сложный процесс активной рецепторной деятельности (например, при активном ощупывании предмета или разглядывании сложного изображения).
В указании на активный характер всех этих процессов и состоит рефлекторная теория ощущений.
Мы еще увидим, какое значение она имеет как для теории познавательных процессов человека, так и для анализа тех изменений в ощущении восприятии, которые наступают при патологических состояниях мозга.
(обратно)Классификация ощущений
Издавна принято различать пять основных видов (модальностей) ощущений, выделяя обоняние, вкус, осязание, слух и зрение.
Эта классификация ощущений по основным «модальностям» является правильной, хотя и не исчерпывающей.
Для достаточно полного ответа на вопрос об основных видах ощущений следует учесть, что их классификация может быть проведена по крайней мере по двум основным принципам: систематическому и генетическому, иначе говоря, по принципу модальности, с одной стороны, и по принципу сложности, или уровня их построения — с другой.
(обратно)Систематическая классификация ощущений
Выделяя наиболее крупные и существенные группы ощущений, мы можем разбить их на три основных типа:
1) интроцептивные;
2) проприоцептивные;
3) экстрацептивные.
Первые объединяют сигналы, доходящие до нас из внутренней среды организма, и обеспечивают регуляцию элементарных влечений.
Вторые обеспечивают информацию о положении тела в пространстве и положении опорно — двигательного аппарата, они обеспечивают регуляцию наших движений.
Наконец, третьи — самая большая группа — обеспечивают получение сигналов из внешнего мира и создают основу для нашего сознательного поведения.
Рассмотрим перечисленные три основных типа ощущений по отдельности.
Интероцептивные ощущения, сигнализирующие о состоянии внутренних процессов организма, доводят до мозга раздражения, исходящие из стенок желудка и кишечника, сердца, кровеносной системы и других висцеральных аппаратов. Эта группа составляет наиболее древнюю и наиболее элементарную группу ощущений. Рецепторные аппараты этих ощущений разбросаны в стенках только что указанных внутренних органов. Возникающие импульсы проводятся по волокнам, идущим частично в составе вегетативной системы, а частично в составе боковых столбов спинного мозга. Центральным аппаратом, принимающим интероцептивные импульсы, являются частично ядра подкорковых образований (медиальное ядро зрительного бугра), частично же аппараты древней (лимбической) коры головного мозга. Этим и обусловливается тот факт, что интероцептивные ощущения относятся к числу наименее осознаваемых и наиболее диффузных форм ощущений и всегда сохраняют свою близость к эмоциональным состояниям.
Элементарность и диффузность этого вида ощущений проявляется в том, что в психологии фактически не существует их четкой классификации. К интероцептивным ощущениям относится чувство голода, «чувство дискомфорта», которое может возникать как ранний симптом заболевания внутренних органов, «чувство напряжения», возникающее при неудовлетворенности какой — нибудь потребности, и «чувство успокоения», или «комфорта», сигнализирующее об удовлетворении потребностей или нормальном протекании висцеральных процессов.
Мы видим, что во всех этих случаях интероцептивные ощущения проявляются как нечто среднее между подлинными ощущениями и эмоциями. Несмотря на то что психология изучила субъективные проявления этих ощущений еще очень недостаточно, относя их к сфере «темных чувств», знание их необходимо в связи с тем, что их изменение может играть решающую роль для описания той «внутренней картины болезни», которая возникает при заболеваниях внутренних органов и которая играет значительную роль в диагностике внутренних заболеваний.
Эти неосознанные ощущения могут появляться очень рано, и их выражение может принимать своеобразные формы.
1. Они могут выступать в виде «предчувствий», которые человек не может сформулировать, проявляться в сновидениях, которые иногда как бы предваряют наступающее заболевание (а по существу лишь отражают рано наступившие и мало осознаваемые изменения в интероцептивных ощущениях, возникающие на ранних стадиях заболевания).
2. Также они проявляются в изменении настроения и эмоциональных реакциях, а у ребенка часто вызывают своеобразные проявления в поведении. Известно, например, заболевающий ребенок, который еще не осознает интероцептивных изменений, либо дает признаки общего изменения поведения, либо начинает нянчить и лечить «заболевшую» куклу, отражая тем самым изменения в собственных интероцептивных ощущениях.
Объективное значение интероцептивных ощущений очень велико: они являются основными в регуляции баланса внутренних процессов обмена или того, что называют гомеостазом (уравновешенностью) обменных процессов в организме. Интероцептивно возникающие сигналы вызывают поведение, направленное на удовлетворение влечений или устранение тех состояний напряжения («стресса»), которые могут появляться в результате факторов, нарушающих уравновешенную работу внутренних органов. Поэтому учет интероцептивных ощущений играет решающую роль в том разделе медицины, который изучает соотношение соматических и висцеральных процессов и психических состояний, называемых «психосоматикой».
Физиологические механизмы с участием интероцепции детально изучены К. М. Быковым и В. Н. Черниговским, описавшими механизмы условно — рефлекторной деятельности, возникающие на основе интероцептивных ощущений.
Вторую большую группу составляют проприоцептивные ощущения, обеспечивающие сигналы о положении тела в пространстве и в первую очередь о положении в пространстве опорно — двигательного аппарата. Они составляют афферентную основу движений человека и играют решающую роль в их регуляции.
Периферические рецепторы проприоцептивной, или глубокой, чувствительности находятся в мышцах и суставных поверхностях (сухожилиях, связках) и имеют форму особых нервных телец (тельца Паччини). Возбуждения, возникающие в этих тельцах, отражают изменения, происходящие при растяжении мышц и изменении положения суставов, проводятся по волокнам, идущим в составе задних столбов белого вещества спинного мозга. Возбуждения прерываются в нижних отделах в ядрах Голля и Бурдаха, переходя на другую сторону, идут дальше, доходя до подкорковых узлов (таламо — стриальной системы) и заканчиваясь в теменной области коры противоположного полушария (в частности, постцентральной области). Поэтому перерыв проводников проприоцептивной, или глубокой, чувствительности в любом месте этого пути (поражение задних столбов ядер Голля и Бурдаха, проводящих путей или коры постцентральной извилины), не нарушая поверхностной (осязательной) чувствительности, приводит к нарушениям проприоцептивной, или глубокой, чувствительности, симптомы которой хорошо известны невропатологам. Такой больной оказывается не в состоянии определить положение своей руки или ноги в пространстве, иногда испытывает признаки изменения «схемы тела» (размер конечностей или тела начинает казаться ему необычным, иногда несоразмерно большим). Естественно, что в результате нарушения или выпадения проприоцептивной (глубокой) чувствительности он начинает испытывать большие затруднения в движениях: импульсы, которые в норме доходят от мышечно — суставных рецепторов и составляют афферентную основу движений, в этих случаях нарушаются, и движения, лишенные чувственной опоры, становятся неуправляемыми.
В современной физиологии и психофизиологии роль проприоцепции как афферентной основы движений у животных была подробно изучена А. А. Орбели, П. К. Анохиным, а у человека — Н. А. Бернштейном.
Мы еще вернемся к анализу роли проприоцептивной чувствительности в построении движений, когда будем специально разбирать психофизиологию двигательных процессов.
В состав описываемой группы ощущений, дающих сигналы о положении тела в пространстве, входит специальный вид чувствительности, который называют ощущением равновесия, или статическим ощущением. Его периферические рецепторы заложены в полукружных каналах внутреннего уха, которые расположены в трех взаимно — перпендикулярных плоскостях; жидкость, заполняющая эти каналы, меняет свое положение в зависимости от положения тела и, в частности, головы, раздражает особые «волосковые» клетки, которые смещаются под влиянием тока этой жидкости (эндолимфы) и таким образом сигнализируют об изменениях положения головы в пространстве. Возбуждение, возникшее в результате таких раздражений, передается по волокнам, идущим в составе слухового нерва, как особая его часть (так называемый вестибулярный нерв) и направляется в теменно — височные отделы коры головного мозга и аппарата мозжечка.
В отличие от аппаратов кинестетической (глубокой) чувствительности, аппараты вестибулярной чувствительности тесно связаны со зрением, которое также участвует в процессе ориентировки в пространстве. Поэтому частое мелькание зрительных раздражений (например при поездке на автомобиле по дороге, вдоль густого леса) может вызвать ощущение нарушения равновесия и тошноту. Аналогичное ощущение (сопровождающееся изменением схемы тела) может быть вызвано также и в процессе полета при быстрых изменениях положения тела в пространстве. Такие же нарушения ощущения равновесия могут быть вызваны патологическими процессами (например опухолями), расположенными в теменно — височных отделах мозга или в мозжечке.
Последней в этом списке и самой большой группой ощущений являются экстероцептивные ощущения. Они доводят до человека информацию, поступающую из внешнего мира, и являются основной группой ощущений, связывающей человека с внешней средой. Именно к. ней относятся обоняние, вкус, осязание, слух и зрение.
Всю группу экстероцептивных ощущений принято условно разделять на две подгруппы: контактных и дистантных ощущений.
К контактным ощущениям относятся те, при которых воздействие, вызывающее ощущение, должно быть приложено непосредственно к поверхности тела и соответствующего воспринимаемого органа. Типичным примером контактного ощущения могут служить вкус и осязание. Совершенно понятно, что оба вида ощущений не могут быть вызваны воздействиями на расстоянии.
К дистантным ощущениям, наоборот, относятся те, при которых раздражитель вызывает ощущения, действующие на органы чувств с некоторой дистанции. К таким ощущениям относятся обоняние и особенно слух и зрение. Раздражитель, находящийся иногда на большом расстоянии от субъекта (например звон колокола, свет лампы) может вызывать ощущения, хотя их источник расположен на расстоянии и соответствующие воздействия (например звуковые или световые волны) должны пройти большую дистанцию, прежде чем воздействовать на соответствующие органы чувств.
Классификация всех видов ощущений представлена в следующей схеме:
Интероцептивные ощущения
Проприоцептивные ощущения
Экстероцептивные ощущения — контактные
(вкус, осязание)
дистантные
(обоняние, слух, зрение)
(обратно)Виды экстероцептивных ощущений
Как известно, к числу экстероцептивных ощущений относятся пять перечисленных выше «модальностей»: обоняние, вкус, осязание, слух и зрение. Это перечисление правильно, но не исчерпывает всех видов чувствительности.
Однако следует дополнить этот ряд двумя категориями: промежуточными, или интермодальными, ощущениями и неспецифическими видами ощущений.
Хорошо известно, что если осязание воспринимает сигналы от механических воздействий, а слух — от звуковых волн с частотой колебаний от 20–30 до 20–30 000 Гц, то человек имеет возможность воспринимать и колебания меньшей частоты, чем только что указанные звуковые волны. К таким колебаниям относятся вибрации, частота которых исчисляется примерно в 10–15 Гц. Такие вибрации воспринимаются не ухом, а костью (черепа или конечностей), а ощущения, улавливающие эти колебания, называются вибрационной чувствительностью. Типичным примером такой чувствительности является восприятие звуков глухими. Известно, что глухие могут воспринимать музыку, держа руки на крышке звучащего инструмента, иногда воспринимая звуки даже посредством вибраций пола или мебели. Таким образом, вибрационная чувствительность является примером интермодальных ощущений, занимающих среднее место между осязанием и зрением.
Другим примером интермодальной чуствительности является восприятие некоторых резких запахов или резких вкусовых ощущений, а также сверхсильных звуков или сверхсильного света; все эти воздействия вызывают смешанные ощущения, расположенные между обонятельными, слуховыми или зрительными и болевыми, распространяющиеся на неспецифические чувствительные волокна. В неврологии такие неспецифические компоненты этих видов чувствительности известны как «тригеми — нальные» — от тройничного нерва, возбуждение которого присоединяется в случае сверхсильных раздражений к основному ощущению.
Другим дополнением к обычной классификации экстероцептивных ощущений является наличие неспецифической формы чувствительности. Примером такой «неспецифической чувствительности» может служить фоточувствительность кожи — способность воспринимать цветовые оттенки кожей руки или кончиков пальцев.
Явления неспецифической фоточувствительности были описаны А. Н. Леонтьевым и др. Этот автор провел точное исследование, при котором на поверхность руки падал окрашенный свет (зеленый или красный), причем температура световых лучей была уравнена водным фильтром. После многих сотен сочетаний определенного цветового сигнала с болевым раздражителем было показано, что при условии активной ориентировки субъекта его можно было научить различать цветовые лучи кожей руки, хотя это различие оставалось неясным и диффузным.
Природа фоточувствительности кожи остается до сих пор неясной, хотя можно предполагать, что она связана с тем, что нервная система и кожа развились из одного зародышевого листка (эктодермы) и в коже могут находиться рассеянные и рудиментарные светочувствительные элементы, которые начинают успешно действовать при особых условиях (в частности, при повышенной раздражимости подкорковых, таламических систем).
Существуют еще недостаточно изученные формы чувствительности, к которым, например, относится «чувство расстояния» (или «шестое чувство») слепых, позволяющее им воспринимать на расстоянии возникающую перед ними преграду. Есть основания думать, что основой «шестого чувства» является либо восприятие тепловых волн кожей лица, либо отражение звуковых волн от находящейся на расстоянии преграды (действующих по типу радара). Однако эти формы чувствительности еще недостаточно изучены, и говорить об их физиологических механизмах еще трудно.
(обратно)Взаимодействие ощущений и явление синестезии
Отдельные органы чувств, которые мы только что описали, не всегда работают изолированно. Они могут взаимодействовать друг с другом, причем это взаимодействие может принимать две формы.
С одной стороны, отдельные ощущения могут влиять друг на друга, причем работа одного органа чувств может стимулировать или угнетать работу другого органа чувств. С другой стороны, существуют более глубокие формы взаимодействия, при которых органы чувств работают вместе, обусловливая новый, материнский вид чувствительности, который в психологии получил название синестезии.
Остановимся отдельно на каждой из этих форм взаимодействия. Исследования, проведенные психологами (в частности, советским психологом С. В. Кравковым), показали, что работа одного органа чувств не остается без влияния на протекание работы других органов чувств.
Так, оказалось, что звуковое раздражение (например свист) может обострить работу зрительного ощущения, повысив его чувствительность к световым раздражителям. Таким же образом влияют и некоторые запахи, повышая или понижая световую и слуховую чувствительность. Подобное влияние одних ощущений на другие ощущения, по — видимому, происходит на уровне верхних отделов ствола и зрительного бугра, где волокна, проводящие возбуждения от различных органов чувств, сближаются и передача возбуждений с одной системы на другую может осуществляться особенно успешно. Явления взаимной стимуляции и взаимного торможения работы органов чувств представляют большой практический интерес в ситуациях, где возникает необходимость искусственно стимулировать или подавлять их чувствительность (например в условиях полета в сумерках при отсутствии автоматического управления).
Другой формой взаимодействия органов чувств является их совместная работа, при которой качества ощущений одного вида (например слуховых) переносятся на другой вид ощущений (например зрительных). Это явление переноса качеств одной модальности на другую называется синестезией.
Психологии хорошо известны факты «окрашенного слуха», который включается у многих людей и особенно отчетливо проявляется у некоторых музыкантов (например у Скрябина). Так, широко известно, что высокие звуки мы расцениваем как «светлые», а низкие как «темные». То же самое относится и к запахам: известно, что одни запахи оцениваются как «светлые», а другие как «темные».
Эти факты не являются случайными или субъективными, их закономерность была показана немецким психологом Хорнбостелем, который предъявлял испытуемым ряд запахов и предлагал соотнести их с серией тонов и с серией световых оттенков. Результаты проявили большое постоянство, и, что самое интересное, запахи веществ, молекулы которых включали большее число атомов углерода, соотносились с более темными оттенками, а запахи веществ, молекулы которых включали мало атомов углерода, — со светлыми оттенками. Это показывает, что в основе синестезии лежат объективные (еще недостаточно изученные) свойства воздействующих на человека агентов.
Характерно, что явление синестезии распространено далеко не одинаково у всех людей. Оно особенно отчетливо проявляется у людей с повышенной возбудимостью подкорковых образований. Известно, что оно преобладает при истерии, может заметно повышаться в период беременности и может быть искусственно вызвано с помощью применения ряда фармакологических веществ (например мескалина).
В некоторых случаях явления синестезии проявляются с исключительной отчетливостью. Один из субъектов с исключительной выраженностью синестезии — известный мнемонист Ш. был подробно изучен советской психологией. Этот человек воспринимал вес голоса как окрашенные и нередко говорил, что голос обращающегося к нему человека «желтый и рассыпчатый». Тоны, которые он слышал, вызывали у него зрительные ощущения различных оттенков (от ярко — желтого до темно — серебряного или фиолетового). Воспринимаемые цвета ощущались им как «звонкие» или «глухие», «соленые» или хрустящие». Подобные явления в более стертых формах встречаются довольно часто в виде непосредственной тенденции «окрашивать» числа, дни недели, названия месяцев в разные цвета.
Явление синестезии представляет большой интерес для психопатологии, где его оценка может приобретать диагностическое значение.
Описанные формы взаимодействия ощущений являются наиболее элементарными и, по — видимому, протекают преимущественно на уровне верхнего ствола и подкорковых образований. Существуют, однако, и более сложные формы взаимодействия органов чувств или, как их называл И. П. Павлов, анализаторов. Известно, что мы почти никогда не воспринимаем осязательные, зрительные и слуховые раздражения изолированно: воспринимая предметы внешнего мира, мы видим их глазом, ощущаем прикосновением, иногда воспринимаем их запах, звучание и т. д. Естественно, что это требует взаимодействия органов чувств (или анализаторов) и обеспечивается их синтетической работой. Эта синтетическая работа органов чувств протекает при ближайшем участии коры головного мозга и прежде всего тех «третичных» зон («зон перекрытия»), в которых представлены нейроны, относящиеся к разным модальностям. Эти «зоны перекрытия» (о них мы говорили выше) и обеспечивают наиболее сложные формы совместной работы анализаторов, лежащие в основе предметного восприятия. К психологическому анализу основных форм их работы мы еще обратимся ниже.
(обратно)Уровни организации ощущений
Классификация ощущений не ограничивается отнесением отдельных ощущений к разным «модальностям». Рядом с систематической классификацией ощущений существует и структурно — генетическая классификация, иначе говоря, их отношение к различным уровням организации и выделение ощущений, возникших на различных этапах эволюции и имеющих неодинаковую сложность своего строения.
Выше, говоря об интероцептивных ощущениях, мы отмечали примитивность и диффузность, которые проявлялись в их близости к эмоциональным состояниям и в том, что их трудно распределить на отдельные четкие категории.
Переходя к экстероцептивным ощущениям, мы могли также отметить их неодинаковую сложность.
Так, обонятельные и вкусовые ощущения носят гораздо более субъективный характер и сохраняют гораздо большую связь с эмоциональными состояниями (чувством приятного и неприятного), чем зрительные ощущения (и частично слуховые), отражающие предметы внешнего мира, которые могут протекать, не вызывая обязательно эмоциональных переживаний, и носят гораздо более объективный и дифференцированный характер, отражая форму, размер и пространственное расположение действующих на человека предметов. Наконец, осязательные ощущения имеют двойственный характер, включая как примитивные компоненты, близкие к эмоциональным переживаниям (например ощущение тепла, холода, боли), так и сложные компоненты (ощущение размеров, формы, расположения действующих на кожу предметов).
Это заставило исследователей выделить две формы или два уровня ощущений и, по предложению английского невролога Хэда, говорить о примитивных — протопатическш и сложных — эпикритических ощущениях.
Под протопатическими (греч. протос — ранний, патос — переживание) ощущениями принято понимать те наиболее древние формы ощущений, которые еще не носят объективного дифференцированного характера. Эти ощущения неотделимы от эмоциональных состояний и не отражают с достаточной отчетливостью объективные предметы внешнего мира, они носят непосредственный характер, далеки от мышления, и их нельзя разделить на четкие категории, которые можно было бы обозначить определенными обобщенными терминами. Интероцептивные ощущения являются наиболее ярким примером такой протопатической чувствительности.
Под эпикритическими ощущениями (от греч. — высший, поверхностный, подвергающийся сложной переработке) понимаются наиболее высокие виды ощущений, которые не носят субъективного характера, отделены от эмоциональных состояний, имеют дифференцированную структуру, отражают объективные предметы внешнего мира и стоят значительно ближе к сложным интеллектуальным процессам.
Этот вид ощущений возник на более поздних этапах эволюции. Ярким примером этой категории являются зрительные ощущения.
Протопатическая и эпикритическая чувствительность имеют различную мозговую организацию. Их центральные нервные аппараты расположены на различных уровнях. Мозговые аппараты протопатической чувствительности расположены на уровне верхнего ствола, зрительного бугра и древней лимбической коры, в то время как аппараты эпикритической чувствительности представлены в соответственных отделах зрительной, слуховой и осязательной коры головного мозга с их сложной организацией и зонами перекрытия. Этот факт объясняет и то, что патологические изменения протопатической чувствительности (например, повышенный эмоциональный тон ощущений, их тесная связь с болевыми ощущениями) возникают при поражении зрительного бугра и стенок мозговых желудочков, в то время как нарушение эпикритической чувствительности появляется в результате очаговых поражений соответствующих разделов коры головного мозга.
Наблюдения показали, что в работе едва ли не каждого органа чувств есть элементы как протопатической, так и эпикритической чувствительности, хотя и в неодинаковых соотношениях. Так, в зрительных ощущениях протопатические компоненты представлены тем эмоциональным тоном, который имеют «холодные» и «теплые» цвета, а эпикритические компоненты — восприятием таких групп цветов, которые могут быть обозначены обобщающими понятиями «красный», «желтый», «зеленый», «синий» и т. д. Аналогичное имеет место и в слуховых ощущениях, где эмоциональный тон звука относится к протопатическим, а его предметный характер (звук колокола, часов и т. п.) к эпикритическим компонентам.
С особенной отчетливостью протопатические и эпикритические компоненты выступают в осязательных ощущениях. Протопатические компоненты выступают прежде всего в ощущениях холода и тепла, обычно имеющих характер приятных или неприятных, а также в болевых ощущениях, в которых элементы ощущений почти невозможно отделить от эмоциональных переживаний. Эпикритические компоненты выступают в отчетливой локализации кожного раздражения, в различении двух одновременных прикосновений, в оценке направления, в котором производится раздражение кожи (например в раздражении кожи в дистальном или проксимальном направлении) и, наконец, в сложной оценке формы штрихов, наносимых тактильно на кожу. Невропатологам хорошо известны все специальные приемы, позволявшие отличить состояние прогнатической и эпикритической чувствительности, и они с успехом пользуются их оценкой для выявления того уровня, на котором расположен патологический очаг.
Протопатическая и эпикритическая чувствительность не только описаны, но и экспериментально отделены друг от друга.
Классический опыт такого экспериментального отделения протопатической и эпикритической чувствительности был проведен английским неврологом Хэдом над собой. В целях эксперимента он перерезал на своей руке одну из веточек кожного чувствительного нерва и наблюдал за постепенным восстановлением чувствительности, которая наступала по мере прорастания центрального отрезка перерезанного нерва в футляре от его периферического отрезка. Этот опыт позволил Хэду установить известную последовательность восстановления чувствительности. В течение нескольких месяцев кожная чувствительность на соответствующем участке руки полностью отсутствовала. Затем появились неясные, трудно локализуемые ощущения, которые носили выраженный эмоциональный характер и стояли на границе между осязательными и болевыми ощущениями: это был период, когда примитивная протопатическая чувствительность уже начала восстанавливаться, а сложная эпикритическая чувствительность была способна локализовать раздражение в определенном месте кожи, различать направление этого раздражения и его формы. На этом более позднем этапе можно было говорить уже о восстановлении наиболее новой — эпикритической чувствительности.
Опыты Хэда имели большое теоретическое и практическое значение. Они показали, что ощущение включает в свой состав механизмы, построенные на разных уровнях, дали основу для генетической классификации ощущений и позволили установить ряд признаков нарушения чувствительности, имеющих большое значение для топической диагностики мозговых поражений.
(обратно)Измерение ощущений
Исследование абсолютных порогов ощущений
До сих пор мы останавливались на качественном анализе различных видов ощущений. Однако не менее важное значение имеет количественное исследование, иначе говоря, их измерение.
Известно, что человеческие органы чувств являются аппаратами, работающими с удивительной тонкостью. Так, человеческий глаз может различить световой сигнал в 1/1000 свечи на расстоянии километра. Энергия этого раздражения настолько мала, что потребовалось бы 60 тыс. лет, чтобы с ее помощью нагреть 1 куб. см воды на Г. Человеческий слух настолько тонок, что, если бы его чувствительность увеличилась вдвое, мы могли бы слышать броуновское движение частиц. Наше обоняние и вкус способны ощущать запах или вкус одной частички вещества при разведении в 1 млн раз.
Возникает, однако, проблема: как измерить остроту ощущений (абсолютных порогов чувствительности)? Какие методы можно применить для этой цели и в каких объективных единицах выразить тонкость ощущений?
Существуют два основных метода измерения ощущений: первым из них является прямой метод (метод субъективной оценки), вторым — косвенный метод (метод объективной оценки признаков, указывающих на наличие ощущения).
Прямой метод (метод словесных оценок раздражений) состоит в следующем: испытуемому предъявляется соответствующий раздражитель (кожное прикосновение, звук, свет), который сначала имеет минимальную интенсивность, а затем постепенно усиливается. Предлагается ответить, когда испытуемый впервые почувствовал соответствующее ощущение.
Для измерения кожной чувствительности применяется специальный прибор, называемый эстезиометром.
Острота слуховой чувствительности измеряется с помощью звукогенератора или аудиометра, позволяющего определять звуки различной интенсивности, или с помощью более простого прибора, в котором звук вызывается падением маленького шарика с различной высоты.
Зрительная чувствительность (ее абсолютные пороги) измеряется прибором, позволяющим наводить на глаз испытуемого, сидящего в темноте, луч света различной интенсивности, начиная с малой, еще не воспринимаемой и постепенно увеличивающейся.
Острота вкусовой и обонятельной чувствительности измеряется с помощью особых приборов, которые позволяют предъявить субъекту нарастающие вкусовые и обонятельные раздражения, начиная с минимальных разведений вкусового или пахнущего вещества с постепенным повышением концентрации этих разведений.
Простые варианты этих приборов широко используются в клинической практике.
Испытуемый, с которым проводится подобный опыт, должен отметить тот момент, когда раздражитель впервые начинает им восприниматься. Минимальное раздражение, впервые вызывающее ощущение, которое испытуемый отмечает в своем словесном отчете, называется нижним порогом ощущения.
Нижний порог ощущений осязательной чувствительности выражается в барах (единицы давления).
Нижний порог слуховой чувствительности — в децибелах (единицы интенсивности звука).
Нижний порог световой чувствительности — в люксах (единицы силы света) и т. д.
Чем острее чувствительность, тем ниже ее пороги, иначе говоря, острота чувствительности обратно пропорциональна показателям нижнего порога, выраженного в единицах интенсивности соответствующего раздражителя. Это отражено в следующей формуле:
где Е — абсолютная чувствительность, Р — величина нижнего порога ощущений.
Показатели нижних порогов тех или иных ощущений не представляют собой четко «очерченной» величины. Существует целая полоса минимальных воздействий, при которых испытуемый то замечает, то не замечает наличие соответствующего раздражителя, то, наконец, сомневается в том, имело ли это раздражение место. Поэтому за нижний порог ощущения принимается обычно величина, при которой число положительных ответов, указывающих на то, что у субъекта возникло соответствующее ощущение, превышает 50 %. Этот порог называется статистически достоверным нижним порогом ощущений.
Характерно, что нижние пороги ощущений не остаются постоянными, а меняются в зависимости от ряда факторов: привыкание к раздражителю, исходный фон и дополнительные условия, которые могут повышать или понижать чувствительность.
Рядом с нижними порогами ощущений можно выделить и их верхние пороги Под верхним порогом ощущения понимается та максимальная величина раздражителя, за пределами которой раздражитель либо не воспринимается, либо начинает принимать новую окраску, фактически заменяясь болевым ощущением.
Мы уже говорили, что человеческий слух может воспринимать звуковые колебания в диапазоне от 20 до 20 000 Гц, причем низкие частоты воспринимаются как низкие тоны, а высокие частоты — как высокие тоны. Если предъявлять субъекту звуки с частотами выше 20–30 000 Гц, т. е. ультразвуки, он их не будет воспринимать. Таким образом, звуки, расположенные за пределами верхних порогов, перестают вызывать ощущения.
По интенсивности звуки вызывают слуховые ощущения лишь в известных пределах. Звуки интенсивностью ниже 1 дБ могут не восприниматься и составляют нижний порог ощущений, в то время как звуки, которые по интенсивности превышают 130 дБ, начинают вызывать болевые ощущения и являются верхним порогом слуховых ощущений.
Измерение нижних и верхних порогов ощущений имеет большое практическое значение: оно позволяет выделить людей с пониженной чувствительностью того или иного анализатора, а симптом снижения чувствительности может быть использован для диагностики (периферического или центрального) поражения.
Так, нарушение осязательной чувствительности может быть симптомом поражения, расположенного в задней центральной извилине противоположного полушария или на одном из этапов его проводящих путей. Снижение зрительной чувствительности может указывать на поражение сетчатки, центральных отделов зрительного пути или затылочной области (снижение остроты зрения, связанное с застойными явлениями на глазном дне, часто является симптомом повышения внутричерепного давления, возникающего при опухолях мозга). Снижение слуховой чувствительности на одно ухо может указывать либо на поражение периферического слухового рецептора (внутреннего уха), либо же на патологический очаг в височной области противоположного полушария. Существенным при этом является факт (найденный Г. В. Гершуни, А. В. Бару и Т. А. Карасевой), что в случаях поражения височной доли у больного резко снижается чувствительность к коротким звукам (длительность которых от 1 до 5 миллисекунд), иначе говоря, повышаются пороги восприятия этих раздражений. Важность этого факта заключается в том, что нередко он является единственным симптомом, указывающим на поражение височной области головного мозга.
Не меньшее значение имеет и измерение верхних порогов ощущений.
Примером практического значения этих измерений является установление верхних порогов слуховых ощущений у тугоухих.
Известно, что тугоухие не воспринимают слабых звуков. Казалось бы, что для преодоления этого дефекта достаточно повысить интенсивность звуков с помощью известных усилительных приборов. Однако чрезмерное усиление звуков, доходящих до тугоухих, очень скоро начинает вызывать болевые ощущения, так что «зона комфорта» (т. е. диапазон, в пределах которого звуки начинают вызывать полноценные слуховые ощущения) у них очень сужена. Поэтому точное измерение нижних и верхних порогов ощущений дает возможность указать, в каких пределах должны быть усилены звуки, чтобы они сохранили нужное воздействие. Легко видеть, какое важное значение это имеет для конструирования звукоусиливающих приборов.
До сих пор мы рассматривали факты, полученные при измерении ощущений с помощью первого из указанных методов — метода субъективной оценки ощущений (или метода словесного отчета о появлении или исчезновении ощущений). Существует, однако, и второй путь измерения ощущений — с помощью объективных, или косвенных, методов, иначе говоря, с помощью оценки объективных признаков, указывающих на появление ощущений.
Этот путь является результатом исследований, проведенных за последние два десятилетия в ряде психофизиологических лабораторий и был особенно тщательно разработан советскими психологами (Г. В. Гершуни, Е. Н. Соколовым, О. С. Виноградовой и др.).
Как мы уже указывали выше, ощущения не представляют собой пассивный процесс, они всегда сопровождаются рядом изменений в вегетативных, электрофизиологических и дыхательных процессах и являются рефлекторными по своей природе. Этот факт и дает возможность использовать рефлекторные изменения, сопровождающие ощущения, как объективный показатель их появления.
Известно, что каждый раздражитель, приводящий к возникновению ощущений, вызывает такие рефлекторно возникающие процессы, как:
• сужение сосудов;
• появление кожно — гальванического рефлекса (изменение электрической сопротивляемости кожи);
• изменение частот электрической активности мозга (и прежде всего явление депрессии альфа — ритма);
• поворот глаз в сторону раздражителя, напряжение мышц шеи и т. п.
Все эти объективные симптомы появляются тогда, когда раздражитель доходит до субъекта и вызывает ощущения. Они и могут быть использованы как объективный показатель появления ощущений.
Опыты, проведенные исследователями, показали, что, если субъекту предъявить настолько слабый раздражитель, он не вызовет никакого ощущения, и описанные рефлекторные изменения не имеют места. Если интенсивность раздражителя повышается, переходит за пределы нижнего порога и начинает вызывать ощущения, появляются объективные изменения сосудистых, электрофизиологических и мышечных реакциях. Именно поэтому появление описанных измерений и может служить объективным показателем нижних порогов ощущения.
Обращает на себя внимание и тот факт, что чем интенсивнее раздражитель, тем более сильную сосудистую и электрофизиологическую реакцию он вызывает. Это дает основания использовать эти приемы для объективного измерения интенсивности ощущений, что было очень трудно при применении одних лишь субъективных методов.
Следует отметить, что сосудистые или электрофизиологические реакции на едва различимые («припороговые») раздражители могут быть значительно резко выражены, чем реакции на обычные, хорошо воспринимаемые раздражители. Этот факт объективно отражает те сомнения, которые испытывает субъект, когда ему даются едва заметные раздражения и тот эмоциональный фон, на котором протекают попытки четко выделить раздражитель из нейтральных шумов. Поэтому усиление объективных реакций на припороговые (едва заметные) раздражения может быть само использовано как важный дополнительный показатель припорогового диапазона ощущений.
Легко видеть, что описанные объективные методы измерения ощущений имеют особенно серьезное значение в тех случаях, когда получение данных путем прямого опроса испытуемых почему — либо невозможно или затруднено (у маленьких детей, у некоторых душевнобольных или при намеренной симуляции).
Однако возникает естественный вопрос: как относятся данные, полученные путем прямого опроса, к данным, полученным путем изучения объективных физиологических показателей? От ответа на этот вопрос зависит то, можем ли мы с достаточной достоверностью использовать объективные показатели как надежные симптомы появления субъективных ощущений.
Исследования, проведенные советским психофизиологом Г. В. Гершуни, показали, что в норме объективные показатели порогов ощущений точно соответствуют субъективным порогам, иначе говоря, что описанные изменения в сосудистых, кожно — гальванических и электроэнцефалографических реакциях появляются именно тогда, когда у испытуемого впервые появляются субъективные ощущения. Расхождения между субъективными и объективными показателями возникают лишь в некоторых специальных случаях, например, при тормозных состояниях коры. Это имеет место, например, в случаях так называемого постконтузионного снижения слуха или постконтузионной глухоты, наступающей в результате удара воздушной волны.
У испытуемых этой группы, слуховая кора которых находится в состоянии патологического торможения, предъявление звуковых раздражителей не вызывает никаких субъективных ощущений, однако приводит к возникновению указанных выше объективных физиологических изменений в сосудистых, кожно — гальванических и электро — энцефалографических реакций. У этих испытуемых предъявление звука (который больной не ощущает) вызывает отчетливый улитково — зрачковый рефлекс (сужение зрачка в ответ на звуковое раздражение). Такое расхождение между объективными и субъективными реакциями на слуховые раздражения позволило Г. В. Гершуни выдвинуть положение о наличии у человека особого субсензорного диапазона, который указывает на неосознаваемые физиологические реакции и на неощущаемые раздражители. По мере обратного развития заболевания пороги субъективных ощущений постепенно снижаются и в конце концов начинают совпадать.
Исследования субсензорного диапазона, проведенные Г. В. Гершуни, имеют большое теоретическое и практическое значение для диагностики некоторых форм тормозного состояния коры.
Исследование относительной (разностной) чувствительности
До сих пор мы останавливались на измерении абсолютной чувствительности наших органов чувств — нижних и верхних порогов ощущений. Существует, однако, и относительная (разностная) чувствительность, которую также можно измерять, хотя измерение представляет собой большие трудности.
Если мы находимся в темной комнате, освещенной одной горящей свечой, то прибавление другой такой же свечи будет легко замечено нами, в этом случае освещенность увеличивается вдвое, и разница в освещенности будет восприниматься без труда. Другое дело, если мы находимся в ярко освещенном зале, где горит много ламп, в этом случае не только прибавление одной свечи, но и прибавление одной лампочки в 100 свечей не будет нами восприниматься (в последнем случае освещенность увеличится на 1/1000, и ее изменение останется незаметным).
То же самое можно сказать о слухе: в полной тишине мы хорошо различаем малейший звук; в обстановке шума этот звук остается незаметным.
Это означает, что относительная (или разностная) чувствительность может выражаться в других мерах, чем абсолютная чувствительность. Если абсолютная чувствительность выражается в интенсивности минимального раздражения, которое впервые вызывает ощущение, то относительная (или разностная) чувствительность выражается в той относительной прибавке к исходному фону, которая достаточна для того, чтобы испытуемый заметил его изменение.
Существенно, что такая относительная прибавка, которая впервые оказывается различимой, выражается для разных органов чувств в неодинаковых цифрах: для зрительных ощущений нужно добавить 1/100 прежней освещенности, чтобы ее изменение стало различимым; для слуха эта относительная прибавка должна превышать 1/10 исходного звукового фона; для осязания достаточно усиления силы исходного прикосновения на 1/30.
Исследователи пытались выразить этот закон в единой математической формуле; она и была найдена исследователями (немецкими психофизиологами Э. Вебером и Г. Фехнером) и выражена формулой 1:
где Е — показатель разностной чувствительности, Р — исходный фон, а ΔР — величина добавления к этой исходной чувствительности, достаточная для появления ощущения изменения. Характерно, что величина этого прибавления (ΔР) различна для разных модальностей и выражается формулой 2:
Возможность измерить относительную (разностную) чувствительность расценивается психологами как очень крупное достижение науки: ведь такие, казалось бы, очень субъективные переживания, как появление различий в исходном фоне ощущений, оказалось доступным для количественного анализа. Вот почему немецкий психофизиолог Г. Фехнер предположил, что только что отмеченный, едва различимый прирост раздражения (или разностный порог ощущения) следует оценивать как единицу ощущения. В своих дальнейших исследованиях он пришел к выводу, что этот относительный (или разностный) порог может быть выражен в математической формуле, согласно которой величина ощущения пропорциональна логарифму интенсивности действующего раздраженная:
Эта формула, получившая название закона Фехнера, и была одним из первых точных законов, сформулированных в психологической науке.
Правило Вебера — Фехнера (формулы 1 и 2) пригодно, однако, лишь в средней, хотя и достаточно широкой зоне раздражений. В тех случаях, когда интенсивность раздражителя очень низка (и приближается к пороговой) или очень высока, относительная чувствительность оказывается значительно грубее. Этот факт указывает на известную биологическую обусловленность относительных (разностных) порогов и еще требует дополнительного объяснения.
(обратно)Изменчивость чувствительности (адаптация и сенсибилизация)
Было бы неправильно думать, что как абсолютная, так и относительная чувствительность наших органов чувств остается неизменной и ее пороги выражаются в постоянных числах.
Как показали исследования, чувствительность наших органов чувств может меняться, и в очень больших пределах. Эта изменчивость чувствительности зависит как от условий внешней среды, так и от ряда внутренних (физиологических и психологических) условий, химических воздействий, установок субъекта и т. п.
Различают две основные формы изменения чувствительности, из которых одна зависит от условий среды и называется адаптацией, а другая — от условий состояния организма и называется сенсибилизацией.
Остановимся отдельно на каждой форме изменения чувствительности.
1. Адаптация. Известно, что в темноте наше зрение обостряется, а при сильном освещении его чувствительность снижается. Это можно наблюдать, когда из темной комнаты переходишь на свет или из ярко освещенного помещения в темное. В первом случае глаза человека начинают испытывать резь, человек временно «слепнет», требуется некоторое время, чтобы глаза приспособились к яркому освещению. Во втором случае имеет место обратное явление. Человек, который перешел из ярко освещенного помещения или открытого места с солнечным светом в темную комнату, сначала ничего не видит и необходимо 20–30 минут, чтобы он стал достаточно хорошо ориентироваться в темноте.
Это говорит о том, что в зависимости от окружающей обстановки (освещенности) зрительная чувствительность человека резко меняется. Как показали исследования, это изменение очень велико, и чувствительность глаза при переходе из яркой освещенности в темноту обостряется в 200 тыс. раз!
Физиология хорошо знает механизмы, лежащие в основе такого огромного изменения чувствительности. В работе глаза к ним относится ряд специальных механизмов. Одни из них сводятся к тому, что различная освещенность меняет просвет зрачка (зрачок расширяется в темноте и сужается на свету и может менять свой просвет в 17 раз), регулируя, таким образом, общий приток света. Другой механизм состоит в том, что в сетчатке глаза происходит передвижение пигмента, составляющего как бы заслон, обороняющий от излишнего проникновения световых лучей в чувствительный слой. Столь же важное значение для повышения чувствительности сетчатки глаза в темноте имеет процесс восстановления зрительного пурпура — важнейшего светочувствительного вещества, входящего в состав светочувствительных клеток сетчатки. Как показали специальные исследования (77. Г. Снякин), сетчатка глаза имеет и специальный механизм «мобилизовать» максимальное число действующих светочувствительных элементов в темноте и «демобилизовать», или выключить, значительное число активных светочувствительных элементов на свету, поэтому чувствительность сетчатки в разное время дня и ночи и даже в разное время года меняется. Наконец, в сетчатке глаза происходят существенные функциональные перестройки, сводящиеся к тому, что в условиях освещенности (днем) в действие включаются менее чувствительные светочувствительные аппараты — «колбочки», которые, однако, способны различать цвета, в то время как в сумерках они выключаются. Активными остаются другие аппараты сетчатки — палочки, которые обладают большей чувствительностью, но зато не могут различать цветовые оттенки; тот факт, что в сумерках человек перестает различать цвета, хотя зрение его обостряется, объясняется именно этим фактом.
Наряду с описанными периферическими механизмами изменения чувствительности существуют и центральные механизмы, позволяющие регулировать остроту чувствительности в зависимости от окружающих условий. К ним относятся механизмы, изменяющие тонус коры под влиянием импульсов, идущих в нее через волокна ретикулярной формации.
Описанные изменения чувствительности, зависящие от условий среды и носящие название адаптации органов чувств к окружающим условиям, существуют и в слуховой сфере (изменение слуховой чувствительности в условиях тишины и шума), в сфере обоняния, осязания и вкуса.
Изменение чувствительности, происходящее по типу адаптации, не происходит сразу, оно требует известного времени и имеет свои временные характеристики.
Существенно, что эти временные характеристики различны для разных органов чувств. Так, мы хорошо знаем, что для того чтобы зрение в темной комнате приобрело нужную чувствительность, должно пройти около 30 мин, и лишь после этого человек приобретает способность хорошо ориентироваться в темноте. Процесс адаптации слуховых органов идет гораздо быстрее. Слух человека адаптируется к окружающему фону уже через 15 с. Так же быстро происходит изменение чувствительности в осязании (слабое прикосновение к коже перестает восприниматься уже через несколько секунд).
Хорошо известны явления тепловой адаптации (привыкание к изменению температуры), однако эти явления выражены отчетливо лишь в среднем диапазоне, и привыкание к сильному холоду или сильной жаре, так же как и к болевым раздражениям, почти не имеет места. Известны и явления адаптации к запахам. Изменение чувствительности в этих случаях происходит медленнее, например, запах камфары перестает ощущаться через 1–2 минуты; характерно, что адаптация к резким запахам, вызывающим болевые раздражения (включающим тригеминальный компонент) не происходит вовсе.
Адаптация является одним из важнейших видов изменения чувствительности, указывающим на большую пластичность организма в его приспособлении к условиям среды.
2. Сенсибилизация. Процесс сенсибилизации отличается от процесса адаптации в двух отношениях. С одной стороны, если в процессе адаптации чувствительность меняется в обе стороны, повышая и понижая свою остроту, то в процессе сенсибилизации меняется только в сторону повышения остроты. С другой стороны, если изменения чувствительности при адаптации зависят от условий окружающей среды, то при сенсибилизации они зависят преимущественно от изменений самого организма — физиологических или психологических.
Различают две основные стороны повышения чувствительности по типу сенсибилизации:
а) одна из них носит длительный, постоянный характер и зависит преимущественно от устойчивых изменений, происходящих в организме;
б) вторая из них носит временный характер и зависит от экстренных воздействий на состояние субъекта — физиологических или психологических.
К первой группе условий, меняющих чувствительность, относятся возраст, типологические условия, эндокринные сдвиги и общее состояние субъекта, связанное с утомлением.
Возраст субъекта отчетливо связан с изменением чувствительности. Исследования показали, что острота чувствительности органов чувств нарастает с возрастом, достигая своего максимума к 20–30 годам, с тем чтобы в дальнейшем постепенно снижаться. Этот процесс отражает общую динамику работы нервной системы организма.
Существенные особенности работы органов чувств зависят от типа нервной системы субъекта. Известно, что люди, обладающие сильной нервной системой, обнаруживают большую выносливость и устойчивость, в то время как люди, обладающие слабой нервной системой, при меньшей выносливости обладают большей чувствительностью (Б. М. Теплое).
Очень большое значение для чувствительности имеет эндокринный баланс организма. Известно, что при беременности обонятельная чувствительность может резко обостряться, в то время как острота зрительной и слуховой чувствительности падает.
Следует, конечно, упомянуть те существенные явления обострения чувствительности, которые имеют место при некоторых эндокринных расстройствах, например при гиперфункции щитовидной железы.
Заметные изменения чувствительности могут, наконец, наступать в состояниях утомления. Утомление, вызывающее тормозные (фазовые) состояния коры, может сначала вызвать обострение чувствительности, с тем чтобы при его дальнейшем развитии перейти к снижению чувствительности.
Надо указать и на то, что длительные и стационарные изменения чувствительности могут наступать при астеническом состоянии нервной системы, известном как «раздражительная слабость», с одной стороны, и при классических явлениях истерии, с другой.
От этих стационарных изменений чувствительности отличается вторая группа — те формы изменения (обострения) чувствительности, которые вызываются экстренными факторами и носят, как правило, относительно кратковременный характер.
К числу факторов, вызывающих экстренную сенсибилизацию, относятся прежде всего фармакологические воздействия. Известно, что существуют вещества, вызывающие отчетливое обострение чувствительности. К таким факторам относится, например, адреналин, применение которого вызывает возбуждение вегетативной нервной системы и через посредство ретикулярной формации может вызвать отчетливое обострение чувствительности. Аналогичное действие, обостряющее чувствительность рецепторов, могут иметь фенамин (бенгидрин) и ряд других веществ. Наоборот, существуют вещества, применение которых приводит к отчетливому снижению чувствительности, к таким веществам относится, например, пилокарпин.
За последние десятилетия применение фармакологических средств как путей для регуляции работы нервной системы и, в частности, изменения чувствительности накопило очень большой опыт, и можно назвать ряд новых препаратов, оказывающих существенное влияние на регуляцию работы органов чувств.
Фармакологическое воздействие не является единственным способом вызвать экстренную сенсибилизацию ощущений. Другим способом является взаимодействие ощущений.
Мы уже упоминали о том, что воздействие на один из воспринимающих органов может вызвать повышение чувствительности другого органа. Так, академик П. П. Лазарев показал, что если в аудитории звучит длительный тон, то включение света приводит к тому, что звучание тона начинает казаться интенсивнее. Наоборот, при воздействие сильного шума световая чувствительность может снижаться. Сенсибилизирующей способностью изменять чувствительность могут обладать и достаточно слабые раздражители того же анализатора. Так, если засвет периферии сетчатки слабым светом может повышать чувствительность других отделов сетчатки, то засвет одного глаза повышает чувствительность другого глаза. Наконец, в ряде опытов было показано, что звуковое раздражение, а иногда и раздражение кожи могут вызвать повышение зрительной чувствительности.
Все эти опыты не только показывают тесное взаимодействие отдельных форм ощущений, но и открывают путь для более сложного условнорефлекторного повышения чувствительности.
Ряд опытов, показывающих такую возможность, был проведен известным советским физиологом А. О. Долиным.
Оказалось, что если сначала давать испытуемому звук метронома, он не оказывает существенного влияния на изменение световой чувствительности, однако если несколько раз подряд сочетать этот звук с засветом глаза, то через некоторое время одно только применение этого звука вызовет снижение чувствительности.
Характерно, что подобные же изменения чувствительности могут быть вызваны, если в качестве условного раздражителя применять какое — либо слово. Особенно ясно выступает такой эффект, если перед пробой чувствительности глаза произносить слово, которое в прошлом опыте испытуемого приняло значение света. В опытах А. О. Долина было показано, что подобное же изменение чувствительности наступало в том случае, когда перед измерением чувствительности исследуемый произносил слово «пламя», однако такой эффект не наступал, если исследующий произносил близкое по звучанию слово, но имеющее иное значение, например слово «племя».
Все эти опыты показывают, насколько велики те возможности, при помощи которых можно вызывать изменения чувствительности, применяя физиологические (в том числе условнорефлекторные) приемы.
Значительные изменения чувствительности могут вызываться, однако, и последним — психологическим путем, с помощью изменения интересов или «установок субъекта».
Мы уже знаем, что животное особенно чувствительно к биологически значимым существенным воздействиям. То же явление можно проследить и у человека, если, не меняя физических особенностей действующих на него раздражений, с помощью речевой инструкции менять их значимость.
Можно привести лишь несколько примеров того, как изменение значимости раздражителя может существенно повысить чувствительность (или понизить абсолютные пороги восприятия раздражения).
Показательным примером могут служить опыты, проведенные в лаборатории известного советского психофизиолога Г. В. Гершуни. В этих опытах испытуемому предлагалось два освещенных квадрата, между которыми была расположена слабая (не воспринимаемая) световая точка. В обычных условиях испытуемый не воспринимал эту точку. Когда же эта световая точка подкреплялась болевым раздражителем, в то время как другое сочетание двух освещенных квадратов, между которыми не было слабой световой точки, не подкреплялось никаким раздражителем и, следовательно, подпороговые по интенсивности световые раздражения становились единственным признаком, по которому можно было различить сочетание, сопровождающееся болью, от индифферентного сочетания, та слабая световая точка начинала восприниматься испытуемым. Легко видеть, что этот опыт наглядно показывает возможность обострить чувствительность путем придания слабому нодиороговому раздражению сигнального значения.
Аналогичного повышения чувствительности можно, однако, достигнуть и с помощью простой речевой инструкции, при которой слабо различимому признаку придается важное «сигнальное» значение. Показательный опыт был проведен советскими психологами А. В. Запорожцем и Т. В. Епдовицкой. Опыт, проводившийся над детьми дошкольного возраста, был посвящен исследованиям того, как придание значимости известному раздражителю повышало остроту зрительного восприятия. В качестве методов оценки остроты зрительного восприятия были использованы незамкнутые кольца, в которых разрыв находится то вверху, то внизу (так называемые кольца Ландольдта, применяемые в практике врачей — окулистов).
В одном опыте детей просили оценить положение разрыва, нажимая одну кнопку, если разрыв находился внизу, и другую, если он находился вверху. В другом оценка положения этого разрыва включалась в игру: круг Ландольдта был помещен над воротами, из которых при правильном определении положения разрыва выезжал игрушечный автомобиль.
Опыт показал, что если речевая инструкция, придававшая положению разрыва значение сигнала, у маленьких детей еще не влияла на остроту зрительной чувствительности, то у детей 5–6 лет и старше она оказывала существенное влияние. Дети, которые в условиях индифферентного опыта различали положение разрыва кольца Ландольдта только на расстоянии 200–300 см, после придания этому положению значения соответствующего сигнала улавливали положение этого разрыва на расстоянии 310–320 см.
Эти опыты, показывающие, насколько придание сигнального значения раздражителю может обострить чувствительность, имеют большое психологическое значение, являясь примером той исключительной пластичности в работе наших органов чувств, меняющейся в зависимости от значения раздражителя.
Повышение остроты чувствительности под влиянием значения воспринимаемого признака может иметь место не только в абсолютной, но и в относительной чувствительности.
Так, хорошо известно, что различение оттенков цвета, незначительных изменений тона или минимальных вкусовых изменений может резко обостряться в результате профессиональной деятельности. Установлено, что красильщики могут различать до 50–60 оттенков черного цвета; сталевары различают тончайшие оттенки раскаленного потока металла, которые указывают на малейшее изменение посторонних примесей, различение которых остается недоступным для постороннего наблюдателя. Известно, какой тонкости может достигнуть различение вкусовых нюансов у дегустаторов, способных определить сорт вина или табака по малейшим оттенкам дегустации, а иногда даже сказать, на какой стороне ущелья рос виноград, из которого изготовлено данное вино. Известно, наконец, какой тонкости может достигнуть различительная чувствительность к звукам у музыкантов, которые становятся способными улавливать различия в тонах, совершенно не воспринимаемых обычным слушателем.
Все эти факты показывают, что в условиях развития сложных форм сознательной деятельности острота абсолютной и разностной чувствительности может существенно изменяться и что включение того или иного признака в сознательную деятельность человека может в значительных пределах изменить остроту этой чувствительности.
(обратно) (обратно)Глава 2. Восприятие
Воспринимающая деятельность человека. Ее общая характеристика
До сих пор мы рассматривали наиболее элементарные формы отражения действительности — процессы, посредством которых человек отражает отдельные признаки внешнего мира или сигналы, указывающие на состояние его организма.
Мы установили, что эти процессы, являющиеся основными источниками той информации, которую человек получает от внешней и внутренней среды, выполняются органами чувств, относящимися к разным модальностям. Причем эти воспринимающие органы относятся к группам интеро-, проприо-, и экстерорецепторов, а последняя группа, в свою очередь, распадается на две подгруппы:
• контактные рецепторы (осязание, вкус);
• дистантные рецепторы (обоняние, зрение, слух).
Мы определили также, что процессы восприятия признаков внешнего мира и внутренней среды могут располагаться на разных уровнях и иметь различную сложность. К наиболее элементарной по своему строению протопатической форме чувствительности относятся прежде всего обоняние и вкус, а также самые простые формы осязательной чувствительности, в то время как к наиболее сложной по своему строению эпикритической форме чувствительности — зрение, слух и наиболее сложные виды осязательной чувствительности.
Мы видели, наконец, что процессы отражения отдельных признаков, воздействующих на человека из внешней или внутренней среды, или процессы ощущений, могут быть объективно измерены, и ознакомились со способами измерения абсолютной и относительной чувствительности и явлениями изменчивости этой чувствительности.
Все, о чем шла речь в предшествующей главе, не выходило за границы изучения наиболее элементарных форм отражения или за рамки изучения отдельных элементов процесса отражения внешнего или внутреннего мира. Однако реальные процессы отражения внешнего мира выходят далеко за пределы наиболее элементарных форм. Человек живет не в мире изолированных световых или цветовых пятен, звуков или прикосновений. Он живет в мире вещей, предметов и форм, в мире сложных ситуаций. Воспринимает ли человек окружающие его вещи дома, на улице, деревья и травы в лесу, людей, с которыми общается, картины, которые рассматривает, книги, которые читает, он неизменно имеет дело не с отдельными ощущениями, а с целыми образами. Отражение этих образов выходит за пределы изолированных ощущений, оно опирается на совместную работу органов чувств, на синтез отдельных ощущений в сложные комплексные системы. Этот синтез может протекать как в пределах одной модальности (рассматривая картину, мы объединяем отдельные зрительные впечатления в целый образ), так и в пределах нескольких модальностей (воспринимая апельсин, мы фактически объединяем зрительные, осязательные, вкусовые впечатления, присоединяем сюда наши знания о нем). Лишь в результате такого объединения мы превращаем изолированные ощущения в целостное восприятие, переходим от отражения отдельных признаков к отражению целых предметов или ситуаций.
Было бы глубоко ошибочным думать, что такой процесс перехода от сравнительно простых ощущений к сложным восприятиям является простым процессом суммирования отдельных ощущений или, как часто говорили психологи, результатом простых «ассоциаций» отдельных признаков.
На самом деле процесс восприятия (или отражения целых предметов или ситуаций) гораздо сложнее:
а) он требует выделения из комплекса воздействующих признаков (цвет, форма, осязательные свойства, вес, вкус и т. п.) основных ведущих признаков с одновременным отвлечением (абстракцией) от несущественных признаков;
б) он требует объединения группы основных существенных признаков и сопоставления воспринятого комплекса признаков с прежними знаниями о предмете. Если в процессе такого сопоставления гипотеза о предлагаемом предмете совпадает с поступающей информацией, возникает узнавание предмета, и процесс восприятия предмета завершается. Если в результате сопоставления согласованности гипотезы с реально доходящей до субъекта информацией не возникает, поиски нужного решения продолжаются до тех пор, пока субъект не придет к нужному решению, иначе говоря, пока он не узнает предмет или не отнесет его к определенной категории.
При восприятии знакомых предметов (стакана, бутылки, стола) этот процесс узнавания предмета происходит очень быстро, и человеку достаточно объединить два — три воспринимаемых признака, чтобы прийти к нужному решению. При восприятии новых или незнакомых предметов процесс их узнавания оказывается гораздо сложнее и протекает в гораздо более развернутых формах.
Представим себе, что человек рассматривает незнакомый ему гистологический прибор для получения тончайших срезов ткани — микротом. Сначала он воспринимает какую — то сложную конструкцию, стоящую на тяжелой чугунной подставке, потом он выделяет отдельные металлические части, и у него может мелькнуть мысль о том, не весы ли это. Однако он не находит необходимых для весов чашек или шкалы с обозначением веса. Он продолжает дальше рассматривать эту незнакомую вещь, пока его взгляд не выделяет гладкую поверхность аппарата с примыкающим к этой поверхности остро отточенным ножом. Тогда он может вспомнить, что нечто в этом роде он видел в гастрономическом магазине и что этот прибор применялся для того, чтобы резать на тонкие куски ветчину или колбасу. Лишь после этого острый нож, примыкающий к гладкой металлической поверхности, становится ведущим признаком, и у субъекта начинает формироваться представление о том, что воспринимаемый предмет имеет отношение к режущим приборам, микрометрические винты которого, по — видимому, обеспечивают точную регуляцию толщины срезов. Таким образом, полное восприятие предмета возникает как результат сложной аналитико — синтетической работы, выделяющей одни существенные и тормозящей другие несущественные признаки, и комбинирующей воспринимаемые детали в одно осмысленное целое.
Этот сложный процесс отражения целых вещей или ситуаций и называется в психологии восприятием.
Легко видеть, что восприятие является сложным и активным процессом, требующим иногда значительной аналитико — синтетической работы.
Вот почему восприятие в еще меньшей степени, чем ощущение, можно считать пассивным отражением действительности, пассивной регистрацией доходящей до организма информации.
Сложный активный характер восприятия проявляется в целом ряде признаков, требующих специального рассмотрения.
1. Прежде всего, процесс информации ни в какой мере не является результатом простого раздражения органов чувств и доведения до коры головного мозга тех возбуждений, которые возникают в периферических воспринимающих приборах (кожа, глаза, ухо). В процесс восприятия всегда включены двигательные компоненты в виде ощупывания предмета, движения глаз, выделяющих наиболее информативные точки, пропевания или проговаривания соответствующих звуков, играющих существенную роль в том, чтобы установить наиболее существенные особенности звукового потока. Мы еще встретимся с этим исходным положением при анализе различных частных видов восприятия. Поэтому процесс восприятия правильнее всего обозначать как воспринимающую (перцепторную) деятельность субъекта.
2. Далее, процесс восприятия тесно связан со следующим:
а) оживлением следов прежнего опыта;
б) сличением доходящей до субъекта информации с ранее сложившимися представлениями;
в) сравнением актуальных воздействий со сложившимися в прошлом представлениями;
г) выделением существенных признаков;
д) созданием гипотез о предполагаемом значении доходящей до него информации;
е) синтезом воспринимаемых признаков в целые комплексы и «принятием решения» о том, к какой категории относится воспринимаемый предмет.
Иначе говоря, воспринимающая (перцепторная) деятельность субъекта близка к процессам наглядного мышления, причем эта близость тем больше, чем новее и сложнее воспринимаемый предмет. Естественно поэтому, что воспринимающая деятельность почти никогда не ограничивается пределом одной модальности, но включает в свой состав результат совместной работы нескольких органов чувств (анализаторов), в процессе которой сложились представления, сформировавшиеся у субъекта.
3. Наконец, существенным является то обстоятельство, что процесс восприятия предмета никогда не осуществляется на элементарном уровне, и в его состав всегда входит высший уровень психической деятельности, в частности речь. Человек не просто смотрит на предметы и пассивно регистрирует их признаки. Выделяя и объединяя существенные признаки, он всегда обозначает воспринимаемые предметы словом, называет их и тем самым глубже познает их свойства и относит их к определенным категориям. Воспринимая часы и внутренне называя их этим именем, он отвлекается от таких несущественных признаков, как их цвет, размер, форма, и выделяет основной признак, обозначаемый в названии «часы», — функцию указания времени (часа); одновременно он относит воспринимаемый предмет к определенной категории, отделяет его от других близких по внешнему виду предметов, но относящихся к другим категориям (например от телефона, который имеет также «циферблат» с соответствующими цифрами, но имеет совсем иную функцию). Все это еще раз подтверждает то положение, что воспринимающая деятельность субъекта по своему психологическому строению может приближаться к наглядному мышлению.
Сложный и активный характер воспринимающей деятельности человека приводит к ряду особенностей человеческого восприятия, в одинаковой степени относящихся ко всем его формам.
Первая особенность восприятия состоит в его активном опосредованном характере. Как мы уже упомянули, восприятие человека опосредовано его прежними знаниями, сложившимися из прежнего опыта и представляет собой сложную аналитико — синтетическую деятельность, включающую создание гипотезы о характере воспринимаемого предмета и принятие решения о том, соответствует ли реально воспринимаемый предмет этой гипотезе.
Вторая особенность восприятия человека состоит в его предметном и обобщенном характере. Как мы уже указывали, человек воспринимает не только комплекс доходящих до него признаков, но и оценивает этот комплекс как определенный предмет, не ограничиваясь установлением индивидуальных особенностей этого предмета, но всегда относя этот предмет к определенной категории, воспринимая его как «часы», «стол», «здание», «животное» и т. п. Этот обобщенный характер восприятия развивается с возрастом и умственным развитием, делаясь все отчетливее и отражая воспринимаемый предмет все более глубоко, со все большим числом тех существенных признаков, которые характеризуют предмет, и тех связей и отношений, в которые этот предмет входит.
Третья особенность человеческого восприятия состоит в его постоянстве (константности) и правильности (ортоскопичности). Из нашего опыта с предметом мы получаем достаточно точную информацию о его основных свойствах; мы знаем, что тарелка круглая, коробка спичек прямоугольная, что лилия белая, что мышь маленькая, а лошадь большая.
Это прежнее знание о предмете присоединяется к его наглядному восприятию и делает это восприятие более постоянным (константным) и более правильным (ортоскопичным); оно включает известную поправку к тем особенностям, которые может приобрести восприятие предмета при меняющихся условиях.
Хорошо известно, что, если мы будем вращать тарелку, на которую смотрит субъект, ее отпечаток на сетчатке глаза будет меняться, постепенно принимая характер овала и даже удлиненного прямоугольника, однако мы еще долго продолжаем воспринимать форму изменяющей положение тарелки как круглую, делая соответствующую поправку на реальное знание формы этого предмета.
Аналогичное имеет место и в восприятии цвета. Известно, что кусок угля, помещенный в ярко освещенную среду, отражает лучей больше, чем кусок белой бумаги в сумерках. Однако мы продолжаем воспринимать его как черный, делая и тут коррекцию к непосредственному впечатлению, меняющемуся в зависимости от ситуации.
Четвертая особенность человеческого восприятия состоит в его подвижности и управляемости.
Процесс воспринимающей деятельности всегда определяется той задачей, которая стоит перед субъектом:
• рассматривая картину с целью определить способ работы художника, человек игнорирует ее содержание и выделяет то, как положены мазки на картине;
• ставя задачу определить время, к которому относится написание картины, он выделяет манеру письма, одежду изображенных на картине лиц, архитектуру зданий;
• пытаясь рассмотреть общий сюжет картины или изображенное на ней событие, он расширяет круг доходящей до него информации, рассматривая всю картину в целом;
• наоборот, поставив перед собой задачу уловить мимику изображенных на картине лиц, он как бы сужает объем своего восприятия и сосредоточивается на отдельных деталях картины.
Естественно, что такаядетерминированность восприятия задачей, которая ставится перед человеком или его установкой, делает восприятие человека подвижным и управляемым, а эти особенности человеческого восприятия в высокой степени зависят от той роли, которую играет в воспринимающей деятельности практический опыт субъекта и его внутренняя речь, позволяющая формулировать задачи и изменять их.
Совершенно понятно, что все это существенно отличает воспринимающую деятельность человека от восприятия животного, которое при всей его подвижности лишено тех качеств управляемости и произвольности, которые характеризуют сознательную воспринимающую деятельность человека.
Все описанные особенности активной воспринимающей деятельности человека позволяют лучше понять те условия, от которых она зависит.
Естественно, что правильное восприятие сложных предметов зависит не только от того, с какой четкостью работают наши органы чувств, но и от ряда других существенных условий. К ним относятся:
1) прежний опыт субъекта, широта и глубина его представлений;
2) задача, которую он ставит, рассматривая данный предмет;
3) активный, последовательный и критический характер его перцепторной деятельности;
4) сохранность тех активных движений, которые входят в состав воспринимающей деятельности;
5) умение вовремя затормозить догадки о значении воспринимаемого предмета, если они не соответствуют поступающей информации.
Сложность активной воспринимающей деятельности дает возможность объяснить и недостатки, которые имеются в восприятии ребенка на ранних этапах его развития, а также те особенности нарушения восприятия, которые могут появляться при патологических состояниях мозга. Эти особенности могут приобретать разный характер в зависимости от того, какое звено воспринимающей деятельности будет недоразвито или нарушено.
Так, недостаточная острота чувствительности (зрительной или слуховой) может повлечь за собой ошибки в восприятии, которые, однако, могут быть успешно компенсированы при опоре на усиливающие чувствительность приборы или при концентрации внимания субъекта.
Недостатки, связанные с нарушением синтеза воспринимаемых признаков (имеющие место при поражении третичных, синтетических, зон коры головного мозга), могут привести к тому, что отдельные признаки видимого предмета могут продолжать хорошо восприниматься, в то время как субъект оказывается не в состоянии воспринять весь предмет в целом и принужден делать мучительные догадки о том, что бы могла означать комбинация воспринимаемых им признаков.
Совершенно иной характер приобретают дефекты восприятия при нарушении активной воспринимающей деятельности. В этих случаях весь сложный процесс выделения существенных признаков предмета и сличение возникшего предположения (гипотезы) с реально поступающей информацией может быть нарушен, и человек может ограничиваться тем, что импульсивно высказывает предположения о значении воспринимаемого предмета на основании его отдельных признаков, иногда на основании наиболее ярких или наиболее бросающихся в глаза деталей, не сличая свою гипотезу с реально поступающей информацией и не исправляя своих неверных догадок.
Наконец, снова иной характер могут получать дефекты восприятия в тех случаях, когда установка, возникшая у человека, приобретет патологическую инертность и когда человек начинает воспринимать не столько то, что соответствует воздействующим на него особенностям воспринимаемого предмета, сколько то, что он ожидает увидеть и что соответствует его предвзятым инертным установкам. Некоторые формы обманов восприятия, имеющихся у определенных групп больных с патологическим состоянием мозга, принимают именно такой характер.
Мы остановились на самых общих положениях психологии воспринимающей деятельности человека и теперь можем обратиться к рассмотрению отдельных, частных форм человеческого восприятия.
(обратно)Осязательное восприятие
Простые формы осязательного восприятия
Как уже было сказано выше, осязание является сложной формой чувствительности, включающей в свой состав как элементарные (протопатические), так и сложные (эпикритические) компоненты.
К первым относятся ощущение холода и тепла и ощущение боли, ко вторым — собственно осязательные ощущения (прикосновения и давления) и те виды глубокой, или кинестетической, чувствительности, которые входят в состав проприо — цептивных ощущений.
Периферическими аппаратами ощущения тепла и холода являются маленькие «луковички», разбросанные в толще кожи.
Аппаратом болевых ощущений являются свободные окончания тонких нервных волокон, воспринимающих болевые сигналы, периферическим аппаратом ощущений прикосновения и давления — своеобразные нервные образования, известные как тельца Мейснера, тельца Фатер — Паччини, также расположенные в толще кожи.
Рецепторами глубокой (проприоцептивной) чувствительности являются те же аппараты, расположенные на поверхности суставов, связок и в глубине мышц.
Только что перечисленные рецепторные аппараты распределены по поверхности кожи неравномерно. Причем густота их расположения имеет биологическое основание: чем более тонкая чувствительность требуется от работы того или иного органа, тем более густо расположены на его поверхности соответствующие рецепторные компоненты и тем более низки пороги различения тех сигналов, которые до них доходят, иначе говоря, тем более высока их чувствительность.
В табл. 2.2 дана сводка средней частоты, с которой на 1 кв. мм кожи данной области тела встречаются соответствующие рецепторы. Мы видим, что на кончиках пальцев имеется максимальная частота и относительно большое число болевых рецепторов. В то же время аппаратов, воспринимающих холод и тепло, там совсем нет. Иная картина наблюдается в коже предплечья, которая, как известно, не принимает участия в активном ощупывании: здесь число осязательных элементов на 1 кв. мм снижается, а число рецепторов боли, тепла и холода повышается. То же самое можно сказать о коже спины.
Таблица 2.2 — Число различных рецепторов кожной чувствительности на 1 кв. мм разных участков кожи (по Б. Г. Ананьеву)
Характерно, что если число периферических приборов на 1 кв. мм кожи кончиков пальцев равно 120, то на 1 кв. мм кожи тыла кисти их только 14, кожи ладони — 15, груди — 29, лба — 50, а кончика носа — 100. Легко видеть биологическое значение такого распределения осязательных элементов в различных участках кожи.
Тонкость чувствительности различных поверхностей тела обеспечена не только густотой распределения периферических рецепторов в соответствующих участках кожи, но и относительной площадью тех областей постцентральных отделов коры головного мозга, куда приходят волокна от соответствующих участков периферии. Мы уже говорили выше, что чем более тонкую функцию выполняет тот или иной участок кожи, тем большую площадь занимает его проекция в коре головного мозга.
Только что описанные факты показывают, что кожная чувствительность представляет собой специальную систему, приспособленную для осязательного и кинестетического анализа сигналов, приходящих из внешнего мира и от собственного тела. Напомним, что в то время как осязательные импульсы, приходящие от кожных рецепторов, поступают в задние рога спинного мозга, идут в составе его боковых столбов и, переключаясь в субкортикальных узлах, кончаются в коре задней центральной извилины, импульсы, проводящие сигналы глубокой (проприоцептивной) чувствительности, поступая сначала в задние рога спинного мозга, идут далее по задним столбам и, прерываясь в ядрах Голля и Бурдаха, приходят в кору задней центральной извилины и ее вторичных областей.
Следует отметить, что расхождением проводящих путей поверхностной чувствительности, с одной стороны, и глубокой (кинестетической) чувствительности — с другой объясняется тот факт, что при поражении задних столбов, или ядер Голля и Бурдаха, поверхностная чувствительность сохраняется, в то время как глубокая нарушается. Именно такой случай имеет место при спинной сухотке (Tabes dorsalis), при которой поражение захватывает системы глубокой чувствительности, не отражаясь на системе поверхностной чувствительности. Следует отметить и второе существенное расхождение, учет которого имеет большое клиническое значение.
Это приводит к возможности диссоциации между осязательной и болевой чувствительностью, возникающей в случаях поражения серого вещества, расположенного вокруг спинномозгового канала (сирингомиэлла). В этих случаях волокна, несущие импульсы осязательной чувствительности, могут доходить до коры, в то время как волокна, несущие импульсы болевой чувствительности и переходящие на другую сторону, прерываются.
В результате этого поверхностная (осязательная) чувствительность больного сохраняется, в то время как болевая чувствительность исчезает и больной не воспринимает те ожоги, которые возникают у него при прикосновении к горячим предметам, хотя продолжает ощущать прикосновение к ним.
Следует, наконец, отметить, что импульсы осязательной чувствительности, проводимые по толстым чувствительным волокнам, воспринимаются быстрее, чем болевые сигналы, проводящиеся по более тонким волокнам. Внимательное наблюдение за последовательностью осязательных и болевых ощущений, которые мы получаем, прикасаясь к горячей плите, хорошо иллюстрирует это положение.
Как уже упоминалось выше, осязательная чувствительность имеет неоднородное строение; к ней относятся:
• наиболее простые формы поверхностной чувствительности (ощущение прикосновения и давления);
• наиболее сложные формы осязательной чувствительности — ощущение локализации прикосновения, различительная чувствительность (ощущение расстояния между двумя прикосновениями к близким участкам кожи);
• ощущение направления натяжения кожи (если кожу предплечья ведут к кисти или от нее);
• ощущение формы, которая наносится прикосновением острия, делающего на коже фигуру круга, треугольника или изображение цифры или буквы (последнее нередко называется в неврологии чувством Ферстера).
К сложным формам относится и глубокая (кинестетическая) чувствительность, позволяющая опознать, в каком положении находится пассивно сгибаемая рука, или придать руке то положение, которое пассивно придается левой руке (или наоборот). Легко видеть, что последние виды чувствительности имеют особенно сложный характер, и в их осуществлении принимают участие сложные вторичные зоны постцентральных отделов коры. Поэтому, если выпадение элементарных форм осязательной чувствительности может иметь место при поражении любых участков осязательного пути противоположной стороны мозга, нарушение высших форм осязательной чувствительности при сохранении ее элементарных форм может служить признаком поражения более сложных вторичных отделов постцентральной коры мозга. Вот почему раздельное исследование различных форм осязательной чувствительности имеет большое значение для топической диагностики мозгового поражения.
Для исследования различных видов осязательной, или проприоцептивной, чувствительности используются простые приемы, которые прочно вошли в неврологическое обследование больных.
Для исследования простой осязательной чувствительности к определенному участку кожи прикасаются острым или тупым концом булавки или карандаша и предлагают субъекту ответить, ощущает ли он прикосновение, какой характер оно носит, в каком месте укол ощущается больным. При точном исследовании применяют эстезиометр или набор волосков различной длины.
Для исследования локализаций иного чувства прикасаются острием к разным местам предплечья и предлагают субъекту указать то место, к которому исследующий прикасался.
Для исследования различительной чувствительности применяют эстезиометр Э. Вебера, ножки которого раздвигаются на разные расстояния. Показателем тонкости различительной чувствительности является минимальное расстояние, при котором субъект различает не единое прикосновение, а два отдельных прикосновения.
Очень важным приемом является опыт Тэйбера, при котором исследующий одновременно прикасается к двум симметричным точкам груди или лица. Поражение одного из полушарий выявляется в том, что больной, хорошо улавливающий каждое отдельное прикосновение, игнорирует одно из прикосновений к симметричным точкам, если оба прикосновения даются одновременно. При этом обычно выпадает ощущение прикосновения к точке, противоположной пораженному полушарию. Наконец, серьезное значение имеет исследование кожно — кинестетического чувства (для анализа которого кожу предплечья ведут по направлению к кисти или от нее, и испытуемый должен определить направление пассивного перемещения кожи и исследование глубокой (кинестетической) чувствительности, при этом исследуемый либо пассивно сгибает (или разгибает) руку (пальцы) испытуемого, предлагая ему определить, в каком направлении было произведено сгибание, либо ставит одну руку в определенное положение, предлагая испытуемому придать это же положение другой руке. Нарушение глубокой чувствительности в той или другой руке указывает на поражение сложных кинестетических отделов коры противоположного полушария.
Наконец, исследование «двумерно — пространственного чувства» (или чувства Ферстера) производится следующим образом: исследующий рисует острием иглы или спичкой определенную фигуру (или цифру) на коже предплечья и предлагает определить, какая именно фигура (цифра) была нарисована. Невозможность выполнить эту задачу при наличии активных попыток субъекта указывает на поражение вторичных отделов теменной коры противоположного полушария.
Сложные формы осязательного восприятия
До сих пор мы рассматривали относительно простые формы кожной и кинестетической чувствительности, отражавшие лишь сравнительно элементарные признаки (давление, прикосновение, положение конечностей в пространстве).
Однако существуют и более сложные формы осязательного восприятия, при котором человек на ощупь может определить форму предмета, а иногда и узнать сам предмет. Эта форма осязательного восприятия представляет для психологии большой интерес.
Мы уже указали выше, что покоящаяся рука может уловить лишь отдельные признаки воздействующего на нее неподвижного предмета (его температуру, размер, реже особенности его поверхности), но не может уловить ни его формы, ни той суммы признаков, которой он отличается. Естественно, что в этих условиях ни о каком сложном восприятии предмета не может быть и речи. Чтобы перейти от оценки отдельных признаков к осязательному восприятию целого предмета, необходимо, чтобы рука находилась в движении, т. е. пассивное осязательное восприятие заменялось активным ощупыванием предмета.
Вот почему исследование того, как протекает процесс ощупывания предмета и как в процессе ощупывания человек постепенно переходит от оценки отдельных признаков к узнаванию ощупываемого предмета, является одним из наиболее существенных вопросов психологии осязательного восприятия.
Наиболее интересным в осязательном восприятии предмета является факт постепенного превращения последовательно (сукцессивно) поступающей информации об отдельных признаках предмета в его целостный (симультанный) образ.
Представим себе, что мы ощупываем с закрытыми глазами какой — нибудь предмет, например ключ. Сначала мы получаем впечатление о том, что мы имеем дело с чем то холодным, гладким и длинным. На этой фазе у нас может возникнуть предположение, что мы ощупываем металлический стержень, или трубку, или металлический карандаш. Затем наша рука перемещается и начинает ощупывать кольцо ключа; первая группа предположений сразу же отбрасывается, но новой гипотезы еще не возникает. Ощупывание продолжается, и ощупывающий палец перемещается к бородке ключа с характерной для нее изрезанностью. Тут происходит выделение наиболее информационных точек, объединение всех последовательно воспринимавшихся признаков и возникает последняя гипотеза: «Это ключ!», которая и подтверждается последующей проверкой.
Легко видеть, что тот процесс узнавания образа предмета, который в зрении происходит сразу, в осязании носит развернутый характер и происходит путем последовательной (сукцессивной) цепи проб с выделением отдельных признаков, созданием и образованием ряда альтернатив и формированием окончательной гипотезы.
Поэтому процесс осязательного (активного) восприятия, возникающего в процессе ощупывания, может служить нам моделью любого восприятия, отдельные звенья которого здесь развернуты и особенно доступны для анализа.
Процесс осязательного восприятия был подробно изучен советскими психологами Б. Г. Ананьевым, Б. Ф. Ломовым, Л. М. Веккером. Исследования этих авторов показали ряд существенных фактов.
Прежде всего, они подтвердили, что восприятие формы предмета без его активного последовательного ощупывания остается совершенно недоступным.
Исследование показало далее, что рука испытуемого должна активно ощупывать предмет, пытаясь выделить его наиболее информативные точки и объединить их в один образ. Пассивное проведение предметом по руке или руки по предмету, исключающее активные поисковые движения, не приводит к нужному результату, давая возможность лишь частичного и потому неверного отражения предмета.
Таким образом, активное ощупывание действительно необходимо для того, чтобы ориентироваться в признаках предмета и объединить их в единый образ. Дальнейшее исследование показало и тот факт, что активное ощупывание предмета является сложным процессом.
Как правило, оно производится при участии обеих рук, причем каждая рука участвует в процессе ощупывания на своих ролях. У правши левая рука играет обычно более пассивную роль, поддерживая предмет и давая наиболее грубую информацию, в то время как правая рука является активной, и ощупывающие движения ее пальцев выделяют детали предмета.
Тонкое строение ощупывающих движений позволило ближе ознакомиться с их протеканием. Оказалось, что ощупывающие движения осуществляются при ведущей роли большого пальца, который в процессе эволюции только у человека начинает противопоставляться другим пальцам, и указательного пальца, приобретающего у человека особую подвижность. Далее ощупывающие движения перемежаются с остановками, причем время, уходящее на движение, в полтора раза больше, чем время, уходящее на задержки или остановки. Эти факты заставляют думать, что во время этих остановок и выделяются наиболее мелкие составные части, или «кванты», тактильной информации (Б. Г. Ананьев).
Характерно, что ощупывающие движения при тактильном восприятии предмета оказываются неоднородными, и в них можно различить мелкие перемещения пальцев (от 2 до 100 мм), обычно останавливающиеся на «критических» (наиболее информативных) точках, во время которых субъект, по — видимому, получает дробную информацию о признаках предмета, и крупные движения, которые, очевидно, объединяют отдельные признаки и несут функцию проверки возникших предположений.
Существенно, что этот характер движений сохраняется даже и в тех случаях, когда субъект производит ощупывание не пальцем, а с помощью стержня (например, карандашом) или в тех случаях, когда в результате ампутации руки ощупывание производится другими отделами руки, например, расщепленным предплечьем (так называемая «клешня Крукенберга»).
По мере упражнения описанный процесс ощупывания, необходимый для тактильного узнавания предмета, может постепенно сокращаться, и если на первых его этапах для узнавания было необходимо сличение многих выделенных признаков, то при повторном ощупывании число признаков, необходимых для опознания предмета, все больше и больше сокращается, так что под конец одного наиболее информативного признака оказывается достаточно, чтобы предмет мог быть опознан. Интересно, что этот процесс последовательного сокращения числа проб, при которых выделяются нужные информативные признаки, происходит относительно медленнее у маленьких детей и начинает становиться более выраженным у детей в 6–7–летнем возрасте. У взрослого такое сокращение, или «свертывание», поисковых движений, нужных для тактильного опознания предмета, протекает особенно быстро. В табл. 2.3 мы приводим данные о постепенном сокращении ориентировочных проб при осязательном восприятии предмета, полученные советскими психологами В. П. Зинченко и Б. Ф. Ломовым при исследовании детей различных возрастов.
Таблица 2.3 — Число проб, необходимых для осязательного опознания предмета у детей разных возрастов
Осязательное (тактильное) восприятие, начатое в опытах с ощупыванием предметов, было продолжено в специальной серии опытов и исследований, предложенных советским психологом Е. Н. Соколовым. Это исследование ставило перед собой задачу изучения вероятностного строения процесса восприятия и заключалось в следующем. Испытуемому предлагалось ощупывать пальцем букву, выложенную из отдельных изолированных элементов, например пуговиц. Как правило, это были буквы, очертания которых отличались только положением одного или двух элементов.
Испытуемому предлагалось последовательно ощупывать пальцем данную ему структуру и сказать, к которой из двух букв она относится. Опыт показал, что сначала ощупывание носило развернутый характер, затем процесс постепенно свертывался, и, наконец, испытуемый сразу же направлял свое внимание на наиболее информативные точки, прикосновение к которым тут же давало ему либо положительную информацию (наличие элемента, отличающего одну букву от другой), либо отрицательную информацию (отсутствие нужного элемента), позволяющую прийти к нужному решению.
Описанная методика позволила по — новому подойти к процессу восприятия и внести в его исследование количественный, вероятностный подход. Вместе с тем оно показало, что маленькие дети оказываются не в состоянии выделить точки, несущие максимальную информацию, и сосредоточить процесс тактильного анализа именно на этих точках.
Характерно, что поражение определенных отделов мозга приводило к своеобразным нарушениям описанного процесса тактильного узнавания. Больные с поражением нижнетеменных отделов мозга и нарушением возможности синтезировать элементы в одно целое оказались не в состоянии использовать полученную ими информацию и мысленно создать целый образ фигуры из отдельных воспринятых ими элементов. Больные с поражением лобных долей мозга проявили несостоятельность в самом процессе собирания нужной информации: планомерная ориентировочная фаза действия либо выпадала, либо в значительной мере нарушалась у них, и они нередко начинали давать импульсивные заключения о том, какую букву они ощупывают, не доведя свой поиск до конца и не выделив нужных опорных признаков (О. К. Тихомиров).
Сложное психофизиологическое строение процесса осязательного (тактильного) опознания предмета приводит к широко известному в клинике явлению астереогноза, которое некоторые авторы называют явлением аморфосинтеза (нарушение трехмерного тактильного восприятия предмета на ощупь или нарушение процесса синтеза целого образа предмета из отдельных элементов). Это явление заключается в том, что больной, сохраняющий элементарную осязательную чувствительность, оказывается не в состоянии узнать предмет, который он ощупывает, и синтезировать отдельные признаки в одно единое целое.
Классическая картина астереогноза возникает при поражении вторичных и третичных отделов теменной области коры и связано с нарушением возможности объединить отдельные тактильные сигналы в единую структуру. Она проявляется, как правило, в одной руке, противоположной стороне очага. Во всех случаях классического астереогноза больной активно ощупывает данный ему предмет, пытается синтезировать его признаки, но оказывается не в состоянии сделать это и опознать предмет. От классической картины астереогноза существенно отличаются затруднения в опознании на ощупь данного предмета, возникающие при поражениях лобных долей мозга. В этих случаях, приводящих, как правило, к резкому снижению активности больного и к невозможности сличать эффект своего действия с исходным намерением, природа затруднения в осязательном восприятии предмета носит иной характер. В такой ситуации больной либо не делает попыток активно ощупывать предмет, либо не производит достаточно систематических попыток сделать это, обрывая процесс ориентировки на ранней фазе и преждевременно высказывая гипотезу на основании лишь одного фрагментарно выделенного признака. Внимательные наблюдения позволяют увидеть, в каком именно звене нарушен процесс осязательного опознания предмета, и сделать из этого наблюдения диагностические выводы.
(обратно)Зрительное восприятие
Зрительная система характеризуется с первого взгляда чертами, во многом противоположными осязательной системе.
Если в осязательном восприятии человек улавливает лишь отдельные признаки предмета и лишь затем объединяет их в целый образ, то посредством зрения человек сразу воспринимает целый образ предмета; если осязание есть процесс развернутого, сукцессивного улавливания признаков с их последующим синтезом, то зрение располагает аппаратом, который приспособлен к тому, чтобы сразу (симультанно) воспринять сложные формы предмета.
Эта, казалось бы, очевидная характеристика зрительного восприятия вызвала появление той теории, которая господствовала в течение очень длительного времени. Согласно ей зрение работает как относительно пассивная рецепторная система, в которой образ внешних форм и вещей отпечатывается на сетчатке, а затем без всяких изменений передается сначала в подкорковые зрительные образования (наружное коленчатое тело), а затем в затылочные отделы коры головного мозга. Однако несмотря на кажущуюся самоочевидность, такая теория не могла ответить на ряд существенных вопросов.
1. Оставалось неясным, какую роль в зрительном восприятии играют миллионы нейронов, которыми располагает наружное коленчатое тело (подкорковый аппарат зрения), и особенно зрительная затылочная кора больших полушарий.
2. Оставалось неясным, какую роль играет многократное воспроизведение образа, который раньше отражается на сетчатке, а потом без изменения повторяется в подкорковых образованиях и в зрительной коре.
3. Наконец, оставалось неясным, каким путем осуществляется процесс отбора нужных компонентов зрительного восприятия и та подвижность воспринимаемого образа, которая позволяет выделить одни элементы, отвлечься от других и приспособить отражаемый образ к той задаче, которую субъект ставит перед своим восприятием.
Для того чтобы лучше понять внутренние механизмы зрительного восприятия и выделить то место, которое занимает в нем целостное отображение форм и предметов, с одной стороны, и возможность выделять мельчайшие признаки и перекодировать их в подвижные синтетические картины — с другой нам нужно сначала остановиться подробнее на строении зрительной системы (зрительного «анализатора»), а затем перейти к описанию основных форм ее работы.
Строение зрительной системы
Зрительная система имеет сложное, иерархическое строение, которое во многом отличает ее от описанной выше системы осязательной (кожной) чувствительности.
Если периферические отделы осязательной (кожной) чувствительности представляют простые окончания чувствительных нервов и относительно несложные рецепторные тельца или клубочки, то периферический отдел зрительного восприятия — глаз — представляет сложнейший аппарат, который сам распадается на ряд составляющих его частей. В аппарате глаза можно выделить его светочувствительную часть (сетчатку) и ряд вспомогательных приборов двигательного характера, из которых одни (радужная оболочка, хрусталик) обеспечивают приток световых лучей, доходящих до сетчатки, фокусирование изображения и охрану прибора от посторонних влияний (роговая оболочка) и дают возможность осуществлять движение этого сложного прибора (мышцы глаза).
Остановимся на перечисленных частях глаза подробнее.
Сетчатая оболочка представляет очень сложный прибор, который в отличие от периферических окончаний осязательной системы вовсе не носит характер простых окончаний чувствительных клеток, но сам представляет сложнейший аппарат, включающий как специальные светочувствительные, так и сложные нервные элементы. По справедливой характеристике некоторых авторов, сетчатка глаза представляет частичку мозговой коры, вынесенную наружу и способную самостоятельно осуществлять достаточно сложные функции.
Наиболее существенной составной частью сетчатки является слой специальных светочувствительных клеток — палочек и колбочек, которые представляют собой сложные фотохимические приборы, способные разлагать светочувствительное вещество (зрительный пурпур) и превращать световую энергию в нервную энергию.
Палочки отличаются тем, что они значительно более чувствительны, чем колбочки, но зато не могут раздельно реагировать на световые волны разной длины, обеспечивая, таким образом, цветовое (хроматическое) зрение. Число палочек в сетчатке очень велико, их насчитывается до 130 млн, и они расположены на всей площади сетчатки, особенно на ее периферии. Они обеспечивают ночное (сумеречное) зрение, которое не может отражать цвета и является «ахроматическим» зрением.
Колбочек гораздо меньше (до 7 млн). Они расположены в центральной части сетчатки, которая обеспечивает цветовое (хроматическое) зрение.
Хорошо известно в клинике явление «куриной слепоты» («гемералопии») — нарушение возможности видеть в сумерках. Это объясняется нарушением работы аппарата палочек, связанным с недостатком витамина А, препятствующим восстановлению в них зрительного пурпура. Наоборот, нарушение способности различать некоторые цвета (дальтонизм) объясняется дефектами в работе аппарата колбочек.
Характерно, что скопление светочувствительных элементов (особенно колбочек) в центральной части сетчатки делает эту часть («желтое пятно», или «макулу») особенно чувствительной, и наоборот, та часть сетчатки, где выходит зрительный нерв и где она лишена светочувствительных элементов, не происходит способности воспринимать свет и называется «слепым пятном».
Нервный процесс, возникающий в палочках и колбочках под влиянием света, передается на сложнейшую систему нервных слеток, из которых состоят внутренние части сетчатки. Толща сетчатки, так же как и толща коры головного мозга, распадается на ряд слоев, включающих в свой состав нервные элементы различного типа. К ним относятся:
1) биполярные клетки, которые способны улавливать возбуждения, возникшие в отдельных светочувствительных элементах, и переводить их в более глубокие слои;
2) дендриты, которые расположены в горизонтальной плоскости и способны объединять возбуждение, возникшее в группе светочувствительных элементов;
3) ганглионарные клетки, расположенные во внутреннем слое сетчатки и способные собирать возбуждение и передавать его на зрительный нерв, являющийся началом проводниковой части зрительной системы.
Особенное место в сетчатке занимают «амакринные клетки», которые отличаются тем, что имеют расположение дендритов и аксонов обратное, чем у всех перечисленных клеток: их дендриты расположены по направлению к внутренней, а аксоны — по направлению к внешней (светочувствительной) части сетчатки. Есть основания думать, что они представляют собой эфферентный аппарат сетчатки, обеспечивая доведение до светочувствительных элементов сетчатки тех возбуждений, которые возникли в центре и, таким образом, позволяя регулировать чувствительность рецепторных приборов соответственно внутренним установкам субъекта.
Раздражение сетчатки светом вызывает в ней устойчивые явления возбуждения, которые могут быть зарегистрированы в виде колебания электрических потенциалов (электроретинограммы), которые отражают каждое световое раздражение, доходящее до сетчатки. Характерно, что при учащении раздражений наблюдается ритмическое учащение электрических ответов сетчатки. Электроретинограмма может быть с успехом использована для диагноза патологических изменений в сетчатке.
Описанный аппарат сетчатки является первым и основным светочувствительным прибором, входящим в состав периферической части зрительного рецептора. Однако для нормального функционирования необходим второй, дополнительный аппарат глаза, который регулирует приток светового раздражения, доходящего до светочувствительных элементов сетчатки, и обеспечивает движения глаза, которые могли бы давать максимальное четкое изображение на сетчатке и позволяли бы глазу прослеживать воспринимаемые объекты.
Аппарат, регулирующий поступление световых лучей, включает в свой состав радужную оболочку глаза, которая благодаря расположенным в ней мышцам может сужать или расширять зрачок. Хорошо известно, что при сильном освещении зрачок сужается, а при слабом — расширяется, регулируя таким образом поступление света во внутреннюю камеру глаза. Известно, что аппараты, регулирующие сужение и расширение зрачка, расположены в четверохолмии, поэтому нарушение сужения зрачка на свет может служить симптомом поражения этого отдела центральной нервной системы. К аппаратам, регулирующим приток света к светочувствительным элементам сетчатки, относится также движение пигмента, который при ярком освещении переходит в наружную часть сетчатки, образуя как бы световой заслон, а при слабом освещении перемещается во внутренние слои сетчатки, делая светочувствительные элементы доступными для непосредственного воздействия света.
Важной частью дополнительного аппарата глаза является хрусталик, представляющий подвижную линзу, преломляющую световые лучи. В зависимости от расстояния до предмета, который рассматривает субъект, кривизна хрусталика может меняться, так что изображение, падающее на сетчатку, становится четким. Процесс изменения кривизны хрусталика, обеспечивающий наибольшую четкость изображения на сетчатке, называется аккомодацией. К старости регуляция изменений кривизны хрусталика нарушается и требуется применение дополнительных линз, чтобы обеспечить правильную аккомодацию глаза.
Описанные аппараты обеспечивают возможность отражения на сетчатке глаза целых образов. Этот факт легко проверить, если рассмотреть глаз только что убитого животного. В этом случае на сетчатке глаза отчетливо выступают контуры того предмета, который глаз воспринимал непосредственно перед смертью. Прием анализа такого изображения, оставшегося на сетчатке только что погибшего человека, с успехом применяется в криминалистике.
Третьим дополнительным (двигательным) аппаратом глаза является система глазодвигательных мышц (прямые и косые мышцы глаза). С их помощью обеспечиваются движения глазного яблока, которые позволяют осуществлять координированные движения (конвергенцию) обоих глаз. Благодаря этому изображение, получаемое на обеих сетчатках, падает на одну точку (если эти координированные движения глаз нарушаются, как это имеет место при поражении верхних отделов ствола, возникает феномен «двоения»); с их же помощью становятся возможными и движения взора, позволяющие глазу перемещаться с одного объекта на другой. На центральных механизмах, регулирующих движения взора, и на роли движения глаз в зрительном восприятии мы остановимся ниже.
Сетчатка глаза и его дополнительный (двигательный) аппарат являются периферическими приборами зрительной системы или началом иерархически построенного зрительного пути, обеспечивающими как доведение полученных сигналов до центральных нервных приборов (и тем самым кодирование зрительных сигналов), так и регуляцию движений глаз, обеспечивающих правильное направление взора.
Следует еще раз напомнить, что волокна, исходящие из различных участков сетчатки, кончаются в строго определенных участках проекционного зрительного поля, так что поражение одной небольшой части этого поля приводит к выпадению вполне определенного участка поля зрения, такое выпадение поля зрения называется скотомой. Как и в других анализаторах, волокна, несущие импульсы от нижних участков поля зрения, кончаются в верхних участках первичного (проекционного) зрительного поля, а волокна, несущие импульсы от верхних участков, в нижних частях проекционной зрительной коры. Поэтому поражение верхних участков проекционной зрительной коры вызывает выпадение нижней части поля зрения (нижнюю квадратную гемианопсию), а поражение ее нижних участков — выпадение верхних частей поля зрения (верхнюю квадратную гемианопсию).
Легко видеть, какое значение эти симптомы имеют для точной диагностики места (топики) мозгового поражения.
Как мы уже указывали выше, нейроны, входящие как в состав наружного коленчатого тела, так и в состав проекционных отделов зрительной коры, отличаются высочайшей специализацией:
• одни из них реагируют только на плавные, другие — только на острые линии;
• одни из них — только на движения объекта от центра к периферии, другие — только на движения объекта от периферии к центру и т. д.
Такой характер нейронов зрительной коры позволяет дробить восприятие на мельчайшие признаки, которые на дальнейших этапах зрительной системы могут объединяться в любые подвижные структуры. Процесс зрительного восприятия не заканчивается, однако, на том, что соответствующие сигналы поступают в проекционное зрительное поле. Оттуда возбуждения передаются на вторичные зрительные поля (поле 18 и 19–е Бродмана), где преобладают сложные ассоциационные нейроны второго и третьего слоев и полученные дробные импульсы могут объединяться и кодироваться соответственно задачам, стоящим перед субъектом. Выше мы уже дали функциональную характеристику этих полей и показали, что явления, которые возникают при их раздражении, так и те нарушения зрительного восприятия, которые появляются при их поражении, хорошо известны в клинике как явления зрительной агнозии. Эти явления заключаются в том, что больной с поражением вторичных зрительных полей не теряет остроты зрения, хорошо различает отдельные детали предмета, но оказывается не в состоянии синтезировать их в единое целое, испытывая те же затруднения, которые испытывает больной с поражением вторичных отделов чувствительной коры и с явлениями астереогноза, возникающими у него при ощупывании предмета.
Пути зрительной системы не исчерпываются теми этапами организации зрительного восприятия, которые мы только что описали. Периферический аппарат зрения включает в свой состав как основные (собственно зрительные), так и дополнительные (оптико — моторные) приборы, и последние также имеют свою совершенно определенную функциональную организацию.
Известно, что волокна нервов, управляющих как сужением и расширением зрачка, так и процессом конвергенции, соединяют мышцы глаза с центральными аппаратами верхних отделов ствола, при поражении которых возникают явления нарушения реакций зрачка на свет и явления «двоения» в глазах.
Волокна аппарата, управляющего организованными движениями взора, включены в гораздо более сложную систему и кончаются в коре головного мозга. Наибольший интерес представляет тот факт, что в коре головного мозга имеется не один «глазодвигательный центр», а два особых «центра», управляющие движениями взора.
1. Задний из них расположен в теменно — затылочных отделах мозговой коры и, по — видимому, служит для рефлекторной регуляции движений взора, обеспечивая акт фиксации и прослеживания движущейся точки.
2. Передний глазодвигательный центр расположен в средних отделах премо — торной зоны (поле 8–е Бродмана) и, по всем данным, является аппаратом, регулирующим произвольный перевод глаз и активные поисковые движения взора.
Этот факт подтверждается тем, что у больных с поражением задних, теменно — затылочных отделов коры нарушается акт фиксации взором неподвижной точки и рефлекторного прослеживания движущейся точки, в то время как активное передвижение глаз остается значительно более сохранным. Наоборот, у больных с поражением переднего глазодвигательного центра как акт фиксации, так и акт прослеживания движущейся точки остается относительно сохранным, но грубо нарушается произвольное передвижение глаза по словесной команде и сильно страдают активные поисковые движения глаз.
Восприятие структур
Мы описали морфологическое строение зрительной системы и теперь можем обратиться к анализу основных закономерностей зрительного восприятия.
Выше мы уже указывали, что живем не в мире отдельно зрительно воспринимаемых точек или цветовых пятен, а в мире геометрических фигур, предметов и ситуаций.
Каковы же те законы, по которым происходит их восприятие?
Мы уже видели, что как строение сетчатки с ее плоскостным послойным расположением светочувствительных и нервных элементов, так и плоскостное расположение слоев нервных клеток в проекционной зрительной коре обеспечивает не только восприятие отдельных признаков, но и восприятие целых геометрических форм или структур.
Законы этого восприятия были в свое время детально прослежены группой немецких психологов, создавших специальное направление, известное под названием гештальт — психологии, или психологии образов. Согласно основным положениям направления, зрительное восприятие является не процессом ассоциации отдельных элементов, а целостным структурно организованным процессом. Один из основателей этого направления, В. Келер, видел в этом целостном характере процесса общее свойство, которое объединяет зрительное восприятие с физическими процессами. Если мы бросим камень на спокойную гладь озера, мы увидим, как на поверхности воды появятся правильные круги, которые постепенно расходятся, не теряя своей правильной формы. Такой правильной организованной структурой отличаются и магнитные поля.
Аналогичную структурную организацию можно наблюдать и в зрительном восприятии. Это целостное восприятие геометрических фигур в равной степени имеет место как у человека, так и животных.
Это было многократно описано в литературе, и прежде всего в известных опытах американских психологов Лейиш и Клювера.
Исследователи тренировали животное (крысу или обезьяну) положительно реагировать на фигуру черного треугольника на белом фоне. Оказывалось, что после тренировки животное сразу же положительно реагирует на белый треугольник на черном фоне, на треугольник, намеченный штрихами или точками, и даже на линии, образующие острый угол.
Совершенно очевидно, что животное схватывает не отдельные признаки фигуры, а ее целую структуру, и целостный характер восприятия составляет здесь основную черту перцепторной деятельности животного.
Аналогичный опыт был проведен и ученицей В. Келера — М. Герц. В этом опыте на площадку ставился ряд баночек и под одну из них клался орех. Птица тренировалась подлетать к банкам, опрокидывать их крылом и брать орех. Если банки стояли в беспорядке, опрокидывание банок шло в случайном порядке, если же банки стояли в порядке круга, причем одна из них стояла отдельно, птица неизменно сшибала сразу же эту отдельную банку, очевидно, воспринимая все остальные как замкнутую структуру.
Такой же целостный характер имело и восприятие цвета. В известном опыте В. Келера курица тренировалась клевать зерна со светло — серого фона, в то время как зерна на темно — сером фоне были приклеены. Если же курице давался контрольный опыт, где темно — серый квадрат (которой раньше подкреплялся отрицательно) помещался рядом с черным квадратом, она сразу же начинала клевать зерна на этом темно — сером квадрате. Совершенно очевидно, что курица воспринимала цветовые оттенки не изолированно, а в определенных отношениях друг к другу, иначе говоря, в определенной структуре.
Представители гештальт — психологии описали ряд законов, которым подчиняется восприятие формы.
Первым из них является закон четкости структуры, согласно которому наше восприятие выделяет прежде всего наиболее четкие по своим геометрическим свойствам структуры.
Так, если субъекту предъявляется сложная геометрическая структура, он прежде всего выделяет из нее наиболее четкие изображения. Закон четкости зрительного восприятия сыграл большую роль в оборонной технике, когда для маскировки сложной фигуры достаточно было скрыть ее в более сильных структурах.
Вторым законом зрительного восприятия форм, сформулированным представителями гештальт — психологии, был закон дополнения до структурного целого (закон «амплификации»). Согласно этому закону четкие, но не законченные структуры всегда дополнялись до четкого геометрического целого.
Оба эти закона позволили объяснить и процесс объединения ряда явлений зрительного восприятия, которые оставались трудно объяснимыми.
Одним из таких явлений может служить факт объединения отдельных геометрических фигур друг с другом.
Структурный характер зрительного восприятия объясняет тот факт, что если одни структуры воспринимаются нами как расположенные на плоскости, то другие — воспринимаются трехмерно, как выходящие за плоскость листа.
Структурный характер восприятия объясняет и то явление, которое называется двойственным изображением.
Наконец, законами целостного структурного восприятия объясняются и некоторые из так называемых оптико — геометрических иллюзий.
Все эти особенности геометрических иллюзий объясняются тем, что наше геометрическое восприятие не состоит из изолированных элементов, а имеет все черты целостного, структурно организованного восприятия.
Теория структурной психологии (гештальт — психологии) внесла много нового и ценного в анализ целостного восприятия форм. Однако она имеет и свою ограниченность. Представляя законы восприятия структур естественным отражением целостных законов физиологических и даже физических процессов, она отвлекается от того, что все явления человеческого восприятия, которые она описывает, сложились в определенных исторических условиях и не могут быть до конца поняты без их учета. Вот почему, как показали факты, те законы «четкости восприятия», «заканчивания до целого», которые представлялись сторонниками гештальт — психологии естественными законами каждого восприятия, в действительности оказываются полностью пригодными лишь для восприятия человека, сложившегося в условиях определенной культуры, и не подтверждаются при изучении восприятия людей тех исторических формаций, в которых восприятие геометрических форм не носит того отвлеченного характера, которым оно отличается у нас. Сравнительно — исторические исследования, проведенные за последние десятилетия, существенно ограничили описанные в гештальт — психологии законы и дали возможность убедиться в том, что на разных этапах исторического развития и общественной практики процессы восприятия могут подчиняться неодинаковым законам. Примером этого может служить тот факт, что в известных культурах незамкнутый круг воспринимается не как неоконченный круг, а как «браслет», а незамкнутый треугольник — не как неоконченный треугольник, а как «амулет», или «мерка для керосина», и т. д.
Исследование того, как строится восприятие геометрических фигур в условиях наглядного предметного мышления, несомненно, еще внесет свои существенные поправки в законы структурного восприятия, установленные представителями гештальт — психологии.
Восприятие предметов и ситуаций
Как мы только что видели, зрительное восприятие простых форм происходит мгновенно и не требует длительных, развернутых поисков с выделением опознавательных признаков и их дальнейшим синтезом в одну целую структуру.
Иное имеет место при восприятии сложных предметов, их изображений или целых ситуаций.
В этих случаях лишь наиболее простые и хорошо знакомые предметы воспринимаются сразу (симультанно). При восприятии сложных, малознакомых предметов или целых ситуаций становится необходимым процесс выделения опознавательных признаков с их дальнейшим синтезом и сличением исходной гипотезы с реально поступающей информацией. Чем сложнее предъявленное изображение, тем более развернутый характер носит этот процесс предварительной ориентировки в воспринимаемом предмете или ситуации и тем больше он приближается к тому последовательному (сукцессивному) процессу опознания, который мы описывали, наблюдая процесс осязательного (тактильного) восприятия ощупываемого предмета.
Процесс зрительного восприятия сложных объектов представляет сложную и активную перцепторную деятельность, и хотя он протекает несравненно более сокращенно, чем процесс опознания предмета на ощупь, он все же требует участия двигательных компонентов, приближаясь тем самым к осязательному восприятию.
Этот факт предвидел И. М. Сеченов, когда указывал, что глаз, рассматривающий предмет, производит принципиально такие же ощупывающие движения, как и рука; но только в последнее время стало ясно, почему движения глаз при рассмотрении предмета так необходимы.
Дело заключается в том, что, как показал известный советский психофизиолог А. Л. Ярбус, неподвижный глаз может удерживать воспринимаемый образ только очень короткое время, после которого изображение перестает восприниматься, и человек начинает видеть «пустое поле». Чтобы доказать это, исследователь прикреплял к роговице глаза присоску, на которой была укреплена светящаяся петля. Легко видеть, что эта петля двигалась вместе с движением глаза, иначе говоря, оставалась неподвижной по отношению к глазу, и ее изображение всегда падало на один и тот же участок сетчатки. Результаты, которые получил А. Л. Ярбус, заключались в том, что испытуемый отчетливо воспринимал изображение светящейся петли лишь в течение очень короткого срока (1–2 с), после чего оно исчезало, и испытуемый начинал воспринимать «пустое поле».
Есть основания думать, что этот эффект связан с тем, что длительное раздражение одного и того же участка сетчатки вызывает запредельное (парабиотическое) возбуждение в этом участке и ведет к его функциональному отключению.
Следовательно, для того чтобы обеспечить возможность длительного сохранения образа, нужны движения глаза, перемещающие изображение с одних пунктов сетчатки на другие. Такой же эффект может быть достигнут, если неподвижный предмет начинает восприниматься при быстром чередовании разно окрашенного света (В. П. Зинченко). В этом случае движения глаза заменяются прерывистым раздражением сетчатки различными по длине волнами.
Опыт А. Л. Ярбуса показывает, что для длительного восприятия объекта действительно нужны мелкие движения глаз, перемещающие изображение на близко отстоящие друг от друга участки сетчатки, и такие движения глаза, рассматривавшего объект, действительно были установлены в специальном исследовании.
Метод, предложеный А. Л. Ярбусом, обладал большой точностью, однако, неудобен тем, что требует предварительного обезболивания глаза раствором новокаина, и испытуемый может удерживать прикрепленное к склере зеркальце лишь очень небольшой срок (3–4 мин). Поэтому в практике психологического исследования были предложены другие методы регистрации движений глаза.
Один из них заключается в том, что движения глаза субъекта, рассматривающего изображение, снимаются на киноленту и последовательные кадры анализируются. Неудобство этого метода состоит в том, что обработка полученных результатов (перенос положения глаза на отдельных кадрах на одну кривую требует длительной работы).
Этого неудобства избегают два других метода, прочно вошедших в литературу.
Первый из них заключается в том, что к мышцам глаза прикрепляются электроды, закрепляемые на височном, носовом, верхнем и нижнем участках кожи; изменения в токах действия, которые возникают при последовательных движениях глаз, регистрируются на соответствующей записи. Этот метод может обладать достаточной точностью, хотя и полученные таким образом кривые могут регистрироваться сравнительно недлительное время и требуют коррекции.
Второй метод, предложенный А. Д. Владимировым, заключается в следующем: на глаз испытуемого наводятся лучи, проходящие через инфракрасный фильтр; глаз не воспринимает слепящего действия этих лучей, а только ощущает тепло. Разница между отражением света от темного зрачка и отражением света от световой радужки превращается в разницу потенциалов, и смещение точки, отделяющей зрачок от радужки, регистрируется на записи. Преимущество этого метода состоит в том, что он не требует никакой фиксации присоски на склере глаза, сразу же дает запись траектории движений глаза и регистрация может продолжаться длительное время.
Опыты с регистрацией движения глаза При рассматривании сложных объектов позволили убедиться, что в процессе внимательного рассматривания объекта имеют место по крайней мере два вида движений глаз.
Первым из них являются микродвижения глаз, перемещающих изображение на соседние точки сетчатки; эти движения можно видеть даже при фиксации глазом неподвижной точки. Их значение для сохранения устойчивого образа ясно из приведенного выше опыта, показывающего, что неподвижное по отношению к глазу изображение сохраняется на сетчатке лишь очень непродолжительное время.
Второй вид движения имеет совсем другой характер и иное функциональное значение: он состоит из крупных движений глаза, перемещающих глаз с одной точки на другую, и включает в свой состав как скачкообразные (саккадические), так и плавные (дрейфовые) движения глаза. Есть основания считать, что эти движения обеспечивают последовательную функцию глаза на отдельных точках воспринимаемого объекта и дают возможность последовательно выделять наиболее информативные точки (признаки предмета), сличать их друг сдругом и синтезировать окончательный комплекс признаков, необходимых для опознания предмета.
Изучение движений глаз, с помощью которых субъект ориентируется в рассматриваемом предмете, стало одним из существенных методов исследования восприятия сложных объектов и изображений.
Факты показали, что глаз, рассматривающий сложный объект, никогда не движется по нему равномерно, а всегда ищет и выделяет наиболее информативные точки, привлекающие внимание рассматривающего.
Особенный интерес представляет изучение с помощью этой методики процесса рассматривания сложных сюжетных картин. Полученные таким образом данные показывают, что субъект, рассматривающий сложную сюжетную картину, не только выделяет в ней важные существенные детали, но и меняет направление своего взора и выделение отдельных деталей в зависимости от поставленной перед ним задачи.
Внимательный анализ показывает, как отчетливо меняются движения глаз рассматривающего картину при различных инструкциях, как глаз начинает «ощупывать» обстановку в одних, одежду в других случаях и какие интенсивные движения глаза, осуществляющие зрительное сравнение отдельных фигур, возникают при последней инструкции.
Все это делает понятным, какую большую работу проделывает глаз в процессе восприятия и насколько эта работа зависит от сложности задачи.
Последнее становится особенно отчетливо заметно в тех случаях, когда субъекту дается задача выполнить в уме сложную работу, например оценить на глаз, сколько раз величина данного отрезка размещается в определенной фигуре. В таких опытах, проведенных Ю. Б. Гиппенрейтер, было показано, что движения глаз как бы откладывают заданную мерку на плоскости рассматриваемого объекта, тем самым делая возможным осуществление соответствующей задачи.
Факторы, определяющие восприятие сложных объектов
Мы описали процесс зрительного восприятия сложных объектов и ситуаций, видели то значение, которое в этом процессе имеют активные поисковые движения глаз.
Возникает вопрос: от чего зависит характер восприятия сложных зрительных образов?
Какие факторы определяют осмысленное восприятие предметов и ситуаций?
Первым и самым существенным фактором, определяющим восприятие сложных объектов, является задача, которая ставится перед субъектом, и та практическая деятельность, которую он выполняет с этим объектом.
Влияние этого фактора можно показать на простом опыте, проведенном известным советским психологом А. В. Запорожцем. Одной группе испытуемых давалась задача начертить циркулем круг, а затем изобразить этот циркуль. Второй группе испытуемых циркуль давался в разобранном виде; они должны были сначала собрать циркуль и лишь затем начертить им круг; только после этого им предлагалось изобразить циркуль на рисунке. Результаты опытов с обеими группами испытуемых были совершенно различными.
Существенное значение для восприятия сложного изображения имеет сюжетное осмысление ситуации, в которую оно включено.
Аналогичные факты были прослежены психологами, проводившими эксперименты с исследованием процесса восприятия в условиях разных культур. Оказалось, что известная иллюзия, при которой из двух Т — образных линий, одинаковых по размеру, вертикальная всегда кажется длиннее, чем горизонтальная, имеет место лишь у людей, живущих в условиях вертикально расположенных строений, и не выступает у людей, живущих в круглых хижинах и не имеющих опыта, накопленного в процессе жизни в вертикально ориентированных постройках.
Существенное значение для восприятия предмета и его формы имеет значимость отдельных признаков. Так, исследованиями А. И. Богословского, проведенными во время Отечественной войны, было показано, что точность восприятия форм существенно повышалась, если рассматриваемой фигуре придавалось значение «своего» или «вражеского» самолета.
Легко видеть, что признаки, имеющие существенное значение для профессиональной работы человека (например, оттенки раскаленной стали, сигнализирующие о наличии нежелательных примесей), воспринимаются специалистом несравненно лучше, чем человеком, для которого этот признак не имеет значения.
Огромное значение для восприятия имеет прежний опыт человека и предметное восприятие соответствующих изображений.
Первая группа фактов, показывающих это положение, была получена в опытах известного советского психолога Д. И. Узнадзе и его сотрудников.
Если давать испытуемому длительное время ощупывать левой рукой большой шар, а правой — маленький, и после 10–15 таких опытов положить в обе руки одинаковые шары, то шар, находящийся в правой руке, будет казаться больше по контрасту с маленьким шаром. Аналогичный эффект можно получить, если зрительно предъявлять испытуемому две окружности, слева большего, а справа — меньшего диаметра и затем, после 10–15 таких экспозиций, предъявить две одинаковые по размеру окружности. В этом случае левая окружность, по контрасту с предшествующим опытом, будет казаться меньше. Опыты с влиянием предшествующего опыта на последующее восприятие могут быть поставлены и в более прямой форме. Так, если дать испытуемому читать латинский текст, а затем предъявить ему слово, составленное из нейтральных букв (одинаковых в русском и латинском шрифтах), например слово РАМКА, он прочтет его соответственно латинской транскрипции; если же до этого дать ему читать русский текст, то данное слово будет прочитано соответственно русской транскрипции.
То же самое можно получить, если предъявить испытуемому рисунок, который имеет двойную интерпретацию: восприятие этого рисунка будет зависеть от установки, созданной предшествующим опытом. Например, после быстрой экспозиции картины «Парусные лодки» испытуемым показывалась картина «Цветы лотоса». Как правило, они воспринимали ее тоже как лодку; в иных условиях такая иллюзия не возникала.
Явление, которое мы упомянули, хорошо известно в психологии под названием апперцепции, его можно проследить на очень многих примерах. Так, надпись «НЕ РАЗГОРИВАТЬ», повешенную в аудитории, люди, как правило, прочитают как «не разговаривать». Известен случай, когда человек, испытывающий чувство голода и ищущий в чужом городе столовую, прочел вывеску «обувь» как «обеды». Большое число ошибок восприятия, встречающихся при повышенной готовности и пониженной критике субъекта, имеют аналогичный характер.
На факторе влияния на восприятие сложившегося практического опыта основаны известные исследования австрийского психолога И. Колера с перестройкой пространственной организации восприятия. Этот исследователь надевал на глаза испытуемого призматические очки, которые перевертывали воспринимаемое изображение «вверх ногами» или справа налево. Сначала испытуемые совершенно не могли ориентироваться в окружающей среде, оставаясь полностью беспомощными, однако при длительном и постоянном ношении таких очков они настолько адаптировались к ним, что извращение, полученное с помощью очков, переставало влиять на их движения и они переставали воспринимать неправильность воспринимаемой их глазом картины.
Влияние устойчивого прежнего опыта на восприятие может привести к ярко выраженным иллюзиям.
Типичным примером могут служить известные опыты американского психолога Эймса (Ames). Этот исследователь предъявлял испытуемому макет комнаты, в которой реальные отношения стен были изменены так, что их проекция совпадала с проекцией близких и далеких частей комнаты — на сетчатке. Прочный опыт — представление о реальных соотношениях стен в комнате настолько доминировал, что извращенные соотношения стен на макете не воспринимались, и человек, который помещался у дальней стены комнаты, начинал казаться значительно меньше, чем человек, помещенный у ее передней стены. Влияние прежнего опыта может, однако, приводить не только к иллюзиям, но, как было указано в начале этой главы, обеспечивать повышение устойчивости (константности) и правильности (ортоскопичности)восприятия.
Выше мы уже приводили пример того, как знание формы предмета (например круглой формы тарелки) повышало постоянство (константность) восприятия формы и делало человека более устойчивым к правильному восприятию формы при изменении положения предмета.
То же влияние прежнего опыта может проявиться и в существенном повышений постоянства (константности) восприятия его величины. Примером такого влияния прошлого опыта и предметного восприятия на константность величины может служить опыт, проведенный советским психологом Э. С. Бейн. Известно, что по мере удаления предмета образ его на сетчатке глаза уменьшается пропорционально его расстоянию. Это можно установить, если предложить испытуемому, отдаляя от него неопределенное изображение (например чернильное пятно), приравнивать его к пятнам различного размера, лежащим перед испытуемым. Если, однако, заменить неопределенное изображение предметным изображением, например фигурой кошки, испытуемый будет продолжать оценивать его размер гораздо устойчивее, чем размер бессмысленного пятна. В этом случае прочное представление о величине предмета, сложившееся в предшествующем опыте, вносит коррекцию в постепенно уменьшающееся отражение этого предмета на сетчатке и дает возможность сохранять более постоянную оценку величины, приближающуюся к подлинной величине предмета.
Существенным фактором, влияющим на восприятие, могут быть и индивидуальные различия людей.
Еще в начале этого века известный французский психолог А. Бинэ дал двум группам испытуемых задачу описать показанную им папиросу. Если одни испытуемые описывали папиросу в объективных терминах («это длинная бумажная трубка, с одной ее стороны сквозь тонкую бумажку просвечивает шероховатая коричневая масса, размер этой трубки 10–12 см» и т. д.), то вторая группа включает в описание много субъективных эмоциональных компонентов («это душистая папироса, наверное, ею очень приятно затянуться, когда устанешь, приятно вдыхать ее аромат» и т. д.). Эти данные позволили Бинэ говорить об объективном и субъективном типах восприятия, свойственных различным людям. Не меньшее значение имеют и другие индивидуальные различия в восприятии — преобладание аналитического восприятия с выделением многих деталей у одних и синтетического целостного восприятия у других.
Такие различия в восприятии могут отчетливо выступать при рассматривании бессмысленных чернильных пятен. Этот метод, предложенный в свое время швейцарским психологом Роршахом (широко известный под названием «пятен Роршаха»), позволил показать, что если одни испытуемые оказываются склонны к выделению мелких деталей и, как правило, игнорируют целое, то другие испытуемые оценивают в пятнах Роршаха лишь общие контуры, не выделяя отдельные детали и не останавливаясь на них.
Метод восприятия чернильных пятен Роршаха получил широкое распространение в диагностической практике, проявляя существенные особенности косного и детализированного восприятия эпилептиков, эмоционального и подвижного восприятия истериков и т. д.
Естественно, что на процесс восприятия очень серьезное влияние оказывает умственный уровень субъекта.
Хорошо известно, что нормальный субъект воспринимает предложенный ему предмет, выделяя в нем множество признаков, включая его в различные ситуации и обобщая его в одну категорию с внешне различными, но по существу близкими предметами. Этого нет в восприятии умственно отсталых. Как показал известный советский психолог И. М. Соловьев, умственно отсталые испытуемые выделяют в рассматриваемом предмете значительно меньшее число признаков, с трудом включают воспринимаемый предмет в различные контексты, и их восприятие поэтому оказывается гораздо более бедным и косным, чем восприятие нормального испытуемого.
Методы исследования ложного зрительного восприятия
Исследование восприятия и особенно процессов выделения изображения из окружающего фона, устойчивости и обобщенности воспринимаемого образа может иметь большое значение:
• для оценки общего психического развития ребенка;
• для установления психических особенностей, важных для некоторых видов профессиональной деятельности;
• для диагностики некоторых патологических состояний мозга.
Особенное значение для этой цели имеет исследование различных форм предметного восприятия, восприятия пространственных отношений и восприятия сложных сюжетных картин.
Психология разработала ряд приемов такого исследования.
1. Основные приемы исследования предметного восприятия сводятся к тому, что испытуемому предъявляются изображения предметов, иногда сделанные реалистически, иногда схематично или только намеченные основными штрихами. В последнем случае применяются картины, в которых определенный предмет изображен с последовательно возрастающей полнотой, и испытуемому предлагается узнать предложенное изображение. Даже небольшие отклонения в полноценном процессе восприятия легко обнаруживаются в том, что испытуемые, без труда воспринимающие реалистические изображения, оказываются не в состоянии узнать предмет, если его изображение дано в схематической или неполной форме
2. Второй прием исследования предметного восприятия заключается в том, что испытуемому предъявляются контурные изображения предметов, перечеркнутые посторонними линиями либо же наложенные друг на друга (так называемые «фигуры Поппельрейтера»).
3. Наконец, успешно применяемые приемы для исследования четкости предметного восприятия заключаются в том, что изображение предмета дается в условиях «шума», иначе говоря, в условиях, где его трудно отличить от окружающего фона.
Иногда даже незначительные нарушения предметного восприятия, незаметные в обычных условиях, легко проявляются при применении таких опытов.
Исследование пространственного восприятия ставит перед собой задачу установить:
1) насколько испытуемый оказывается в состоянии ориентироваться в условиях «асимметричного пространства», не путая правую и левую стороны;
2) как испытуемый может мысленно представить пространственное соотношение частей в сложном целом.
Для первой задачи испытуемому предъявляется схема часов без изображенных на ней цифр и предлагается оценить время, которое показано стрелками. В усложненных пробах ему предлагается оценить два изображения — часов и географической карты, на одной из которых даны правильные, а на другой зеркальные изображения. Испытуемый, у которого имеются нарушения пространственного восприятия, легко смешивает оба изображения и начинает испытывать затруднения в оценке этих изображений.
Уровень пространственного восприятия может оцениваться как числом допущенных ошибок, так и тем временем, которое испытуемый тратит на решение определенного числа задач.
Возможность мысленно представить соотношение частей в пространстве успешно исследуется с помощью пробы, в которой испытуемому предъявляется схематическое изображение фигуры, построенной из кубиков, и предлагается назвать общее число кубиков, включенных в эту фигуру (проба Йеркса).
Большое значение для исследования восприятия и уровня его развития имеют опыты с оценкой сюжетных картин. Эти опыты ставят своей задачей дать анализ того, какие связи устанавливает испытуемый между отдельными элементами сложной наглядной ситуации, как он ищет наиболее информативные детали, создает гипотезы, сличает эти гипотезы с реальным изображением и приходит к соответствующему решению. По своему содержанию это исследование восприятия приближается к исследованию наглядного мышления.
Для этой цели в психологии используются два приема:
а) прием анализа сложной сюжетной картины;
б) прием анализа серии картин.
Для успешного применения первого приема используются такие сюжетные картины, смысл которых не может быть воспринят сразу, однозначно, и для правильного понимания которых нужно внимательно рассматривать отдельные детали, сопоставлять их между собой, выделять наиболее существенные и создавать соответствующие предположения об общем смысле картины, которые впоследствии должны быть сведены к реальному содержанию картины.
Преждевременная, не основанная на тщательном анализе оценка содержания картины может привести к неадекватным догадкам. Анализ подобных картин может дать важный материал для оценки общего уровня умственного развития ребенка. Указанием на это может служить ограничение деятельности одним лишь называнием отдельных предметов или отдельных действий, имеющее место на ранних этапах развития и сохраняющееся в более позднем возрасте при умственной отсталости.
Полезным приемом исследования сложных форм восприятия, стоящих на границе с наглядным мышлением, является анализ серии картинок, в которых этапы одного последовательного сюжета изображаются серией отдельных картинок. Отклонения в умственном развитии, а также нарушение наглядного мышления легко проявляется в том, что каждая из этих картинок начинает оцениваться по отдельности, и испытуемый оказывается не в состоянии описать целый развертывающийся сюжет, включая в него не изображенные на отдельных картинках звенья.
Исследование оценки сюжетных картин и их серий широко применяется в практике и клинической психологии.
(обратно)Развитие предметного восприятия
Было бы неправильным думать, что восприятие с самого начала обладает такими законами, какие мы наблюдаем у взрослого человека.
Как показали исследования, восприятие проделывает длинный путь прижизненного развития. Суть этого развития заключается не столько в количественном обогащении, сколько в глубокой качественной перестройке, в результате которой непосредственные элементарные формы восприятия заменяются сложной перцепторной деятельностью, в состав которой включаются как практическая деятельность по ознакомлению с предметом, так и анализ его существенных свойств, выполняемый при ближайшем участии речи.
Известно, что восприятие младенца очень диффузно и он воспринимает не столько выделенные предметы, сколько их отдельные диффузные признаки (оттенки, выразительные черты и т. д.). Поэтому реакции младенца на мир в высокой степени зависят от улыбки, позы, от того, как мать одета, и т. п. Есть основания думать, что первые прочные восприятия предметов начинают формироваться у ребенка в процессе акта хватания, манипуляции вещами и т. п. Однако еще довольно длительное время следы ранней диффузной стадии развития восприятий продолжают сохраняться.
Как показали исследования советского психолога Г. Л. Розенгардт — Пупко, еще маленький ребенок 1,5–2 лет продолжает выделять в предмете отдельные признаки, не проявляя того постоянства (константности) восприятия предмета, которое свойственно восприятию взрослых. На предложение принести игрушку, такую же, как показанный ребенку плюшевый мишка, он может принести мягкую плюшевую тряпку, реагируя на мягкость, ворсистость, цвет, а не на предмет в целом. На предложение принести показанную фарфоровую утку, он может принести любую фарфоровую фигурку или шарик с острым кончиком («клювом») и т. д. Только после того, как предмет начинает обозначаться словом («мишка», «утка»), восприятие ребенка приобретает прочный предметный характер, и он перестает делать описанные ошибки.
Опыты, проведенные советским психологом А. А. Люблинской, показали, что присоединение слова в корне перестраивает процесс восприятия, позволяет более отчетливо различать изображения, опираясь не на отдельные признаки, а на их комплексный предметный характер (ребенок, овладевший словесным обозначением предмета, перестает делать ошибки восприятия, вырабатывает гораздо более четкую, быструю и устойчивую дифференцировку). Следовательно, под влиянием языка восприятие ребенка радикально перестраивается в сложное и конкретное предметное восприятие.
Дальнейшие исследования показали, что наряду с речью в формировании сложного восприятия принимают участие и движения руки, ощупывающей предмет, и движения глаз, выделяющих существенные информативные признаки предмета и объединяющие (синтезирующие) их. Эти движения сначала носят широко развернутый, хаотический характер и лишь постепенно становятся организованными и все более и более сокращенными.
Таким образом, развитие восприятия по существу является развитием действий, направленных на обнаружение существенных свойств предмета и на опознание предметов. Быстрое одновременное (симультанное) схватывание зрительно воспринимаемых предметов на самом деле является результатом постепенного свертывания развернутой ориентировочной исследовательской деятельности и превращения ее во внутреннее «перцептивное действие».
Аналогичный процесс сокращения анализирующих и опознающих движений глаз, выявляющийся в процессе развития, можно видеть и при исследовании процесса рассматривания сложных сюжетных картин.
Не менее существенные данные были получены и при исследовании развития более сложных форм перцепторной деятельности у детей. Как показали опыты А. В. Запорожца и его сотрудников, такие акты, как оценка величины, формы и даже цвета объектов, не являются простыми врожденными функциями, но формируются путем ориентировочно — исследовательской деятельности, которая «отщепляется» от практической и постепенно начинает опираться на применение известных, вырабатываемых ребенком «мерок», или «эталонов», причем применение этих «эталонов» начинает носить все более сокращенный, «свернутый» характер.
Все это показывает, что предметное восприятие человека складывается в процессе развернутой перцепторной деятельности, а само предметное восприятие является «свернутым» продуктом этой деятельности.
Изучая развитие восприятия в детском возрасте, нельзя не упомянуть один важный эпизод в истории этого вопроса.
В своей книге по детской психологии известный немецкий психолог В. Штерн высказал предположение, что восприятие картин и ситуаций у ребенка обнаруживает четыре основные стадии:
• на первой из них ребенок воспринимает только отдельные предметы;
• на второй — действия;
• на третьей — качества вещи;
• на четвертой — сложные отношения между вещами.
Такое представление о путях развития восприятия сохранялось в психологии в течение длительного времени. Однако в середине 20–х гг. этого века выдающийся советский психолог Л. С. Выготский показал, что эта гипотеза противоречит тому, что маленький ребенок сначала воспринимает целые ситуации и лишь затем оказывается в состоянии выделить из них отдельные составляющие элементы, и доказал это, предложив детям не рассказать, а действенно сыграть сюжет предъявленной им картины.
Ребенок, который на словах мог обозначить лишь отдельные предметы, легко мог понять и «сыграть» изображенный на картине сюжет.
Это заставило Л. С. Выготского высказать предположение, что описанные В. Штерном стадии на самом деле являются не стадиями развития восприятия, а стадиями развития детскойречм, в которой, как известно, сначала преобладают существительные и лишь позднее выделяются слова, обозначающие действия, качества и отношения.
Этот факт (к анализу которого мы вернемся ниже) указывает на ту большую роль, которую в восприятии ребенка играет язык, и представляет один из самых существенных фактов современной психологии.
(обратно)Патология предметного восприятия
Если восприятие человека имеет столь сложную структуру и проделывает такой сложный путь функционального развития, то совершенно понятно, что при патологических состояниях оно может нарушаться по — разному.
При различных патологических состояниях мозга этот процесс может нарушаться в различных звеньях:
• в одних случаях он нарушается в результате того, что сензорная информация не доходит до коры или вызывает недостаточно прочные и недостаточно ограниченные возбуждения;
• в других — возбуждения, дошедшие до коры, перестают нужным образом объединяться в системы и кодироваться;
• в третьих случаях нарушается активное звено перцепторной деятельности, и больной либо вообще не начинает активной поисковой деятельности, направленной на выделение наиболее информативных точек, либо же не задерживает окончательного «принятия решения» о том, какой объект перед ним, и принимает преждевременное решение исходя лишь из частного фрагмента воспринимаемой картины.
• наконец, могут иметь место и такие формы патологии, при которых больной оказывается не в состоянии отделить посторонние влияния от основных свойств рассматриваемого объекта и начинает делать ошибки, принимая ожидаемое за реальное или случайные раздражения за подлинные объекты.
Такую патологию восприятия можно наблюдать как при локальных поражениях мозга, так и в клинике психических заболеваний.
Приведем лишь самые основные данные, позволяющие ответить на этот вопрос.
Поражение затылочных отделов мозга (первичных отделов зрительной коры) устраняет возможность воспринимать зрительный объект, так как возбуждения, идущие от сетчатки глаза, не доходят в этом случае до коры головного мозга. Если это поражение носит частичный характер и приводит к выпадению ограниченного участка поля зрения, испытуемый может компенсировать этот дефект путем активного движения глаз. Известны случаи, когда больной с очень большим сужением зрительного поля мог успешно справляться с работой архивариуса, разбирая рукопись и последовательно разбирая сложные рисунки.
Значительно тяжелые нарушения восприятия сложных предметов и изображений возникают при нарушении вторичных отделов коры (поля 18, 19–е Бродмана). В этих случаях больной продолжает хорошо воспринимать отдельные детали предмета или его изображения, но оказывается не в состоянии синтезировать их в одно единое целое, поэтому он не воспринимает всего предмета и принужден догадываться о значении изображения по отдельным признакам. Так, подобные больные, рассматривая изображение очков, могут говорить: «…что же это? …кружок и еще кружок… и перекладина… наверное, велосипед? Э…» или, рассматривая изображение петуха, говорить: «…ну что же это такое? …вот яркое… красное …зеленое… наверное, языки пламени?» Активные движения глаз, включаемые этими больными в процесс рассматривания, часто не помогают им опознать сложное изображение именно вследствие того, что синтез отдельных признаков в целый образ здесь нарушен.
Своеобразная форма нарушения зрительного восприятия возникает при поражении теменно — затылочных отделов мозга, приводящем к явлениям так называемой «симультанной агнозии» (А. Р. Лурия). В этих случаях больной оказывается в состоянии хорошо узнавать отдельные предметы или их изображения, однако объем зрительного восприятия вследствие патологического состояния зрительной коры настолько сужается, что больной оказывается в состоянии одновременно иметь дело только с одним возбужденным пунктом, в то время как остальные оказываются как бы заторможенными. Поэтому такие больные могут воспринимать лишь одну из двух показанных им одновременно фигур и после ряда быстрых показов (например, треугольника и круга) заявляют: «Ведь я знаю, что здесь две фигуры — треугольник и круг, но вижу каждый раз только одну…» Характерно, что в этих случаях размер воспринимаемой фигуры не имеет значения для ее восприятия, и больной может с одинаковым успехом воспринимать иголку или лошадь, но оказывается не в состоянии воспринимать сразу два или несколько изображений. Естественно, что такой больной не может попасть карандашом в центр круга, так как он одновременно видит либо кончик карандаша, либо круг и поэтому делает характерные ошибки. По этой же причине он не может обвести данный ему контур или не выходить за пределы строки при письме. Движения глаз у такого больного носят дезорганизованный характер и, легко прослеживая движущуюся точку, он не может перевести глаз с одной точки на другую. Этот факт понятен: чтобы перевести глаз с одной точки на другую, необходимо сохранить способность сразу воспринимать две точки: одну, на которую человек смотрит, и другую, которая находится на периферии зрительного поля и на которую глаз должен быть переведен. При сужении зрительного восприятия и ограничении его одним доступным очагом возбуждения это условие устраняется, и организованный перевод глаз с одного объекта на другой становится невозможным.
Естественно, что рассмотрение сложных сюжетных картин у этих больных резко затрудняется. Они перестают «схватывать» всю картину, воспринимают лишь ее отдельные фрагменты и оказываются принуждены «догадываться» о ее содержании там, где нормальный человек воспринимает ее.
Специальная форма нарушения зрительного восприятия возникает при одностороннем (чаще всего правом) поражении затылочно — теменных отделов мозга. В этих случаях можно наблюдать своеобразное явление, получившее в клинике название «односторонней оптической агнозии». Оно заключается в том, что больной перестает воспринимать одну (обычно левую) сторону предъявленного ему рисунка или сложного изображения. Особенности этой формы заключаются в том, что в отличие от одностороннего нарушения первичного зрительного поля, вызывающего гемианопсию, эти больные, не получая сигналов от соответствующей стороны воспринимаемого поля, просто игнорируют ее; поэтому они не могут сосчитать числа, изображенные на картине фигуры, а в наиболее тяжелых случаях даже игнорируют левую сторону одного объекта. Характерно, что соответственно этому и в движениях глаз таких больных проявляются различные нарушения: фиксируя правую сторону рассматриваемого объекта и делая полноценное движение глаза в отношении его правой стороны, такие больные не забегают глазом на левую сторону картины, что указывает на своеобразную «деафферентацию» левой половины зрения у этих больных.
Совсем иная картина нарушения возникает у больных с массивными поражениями лобных долей мозга. Само восприятие отдельных деталей и целых изображений остается у этих больных сохранным. Однако активные движения глаз, осуществляющие поиск наиболее информативных деталей, здесь грубо нарушаются, иногда полностью выпадают; больной перестает рассматривать картину, не пытается ориентироваться в ней; он может высказать гипотезу о ее содержании, не проверяя ее, не сличая отдельные детали картины, и ошибки его восприятия связаны не с дефектами зрительного синтеза, а с дефектами его активной поисковой деятельности. Все это отражается в том, что его движения глаз носят пассивный, хаотический характер, и в том, что различные инструкции, даваемые больному, не меняют направление и характер этих движений глаз.
Одним из существенных факторов, лежащих в основе патологии зрительного восприятия у больных с поражением лобных долей мозга, является патологическая инертность, проявляющейся как в оценке зрительных объектов, так и в движении глаз этих больных.
Другим источником нарушения зрительного восприятия сложных объектов у больных с поражением лобных долей мозга является нарушение процесса сличения реальной информации с гипотезой, которая была фрагментом воспринимаемого материала. Причиной нарушения восприятия в этих случаях является дефектное протекание перцептивной деятельности и глубокое нарушение механизма «акцептора действия».
Нарушения зрительного восприятия могут иметь место и при патологических состояниях деятельности, вызванных общим поражением коры головного мозга или теми функциональными сдвигами, которые связаны с общей патологией в строении психической деятельности.
Так, у больных с умственной отсталостью и органической деменцией можно наблюдать недоразвитие или распад анализа сложной ситуации с деградацией зрительного восприятия сюжетной картины до перечисления отдельных предметов; поэтому опыт с анализом сюжетной картины стал одним из наиболее важных опорных пунктов в диагностике умственной отсталости.
Существенные нарушения можно наблюдать и в клинике психозов, в частности при шизофрении.
Типичные особенности восприятия заключаются в том, что влияние прежнего опыта на анализ многозначной картины здесь может существенно нарушаться, и если у нормального человека анализ картины протекает при регулирующем влиянии прежнего опыта, благодаря которому маловероятные связи отбрасываются, а высоковероятные связи определяют оценку смысла картины, то у больного с шизофренией это влияние выпадает, больной может оценивать смысл картины по непосредственным деталям, оказываясь не в состоянии контролировать всплывающие у него маловероятные гипотезы.
Психологическое исследование нарушения восприятия при патологических состояниях мозга имеет очень большое значение как для практической диагностики мозговых поражений, так и для ближайшего изучения структуры перцепторной деятельности нормального человека.
(обратно)Восприятие пространства
Восприятие пространства во многом отличается от восприятия формы и предмета. Его отличие заключается в том, что оно опирается на другие системы совместно работающих анализаторов и может протекать на разных уровнях.
В течение длительного времени в философии обсуждался вопрос о том, является ли восприятие пространства врожденным (как это считали представители направления, известного под названием «нативизм») или результатом обучения (так считали представители другого направления — эмпиризма).
Сейчас стало совершенно ясным, что, хотя восприятие пространства имеет в своей основе ряд специальных аппаратов, его строение очень сложно и развитые формы восприятия пространства могут протекать на различных уровнях.
В основе восприятия трехмерного пространства лежит функция специального аппарата — полукружных каналов (вестибулярного аппарата), расположенных во внутреннем ухе. Этот аппарат имеет характер трех изогнутых полукружных трубок, расположенных в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях, заполненных жидкостью. Когда человек меняет положение головы, жидкость, заполняющая каналы, меняет свое положение, и заключенный в каналах отолитовый аппарат (перепончатые мешочки, включающие мельчайшие кристаллы) также меняет свое положение, вызывая раздражение волосковых клеток, и их возбуждение приводит к возникновению изменений в ощущении устойчивости тела («статические ощущения»). Этот аппарат, тонко реагирующий на отражение трех основных плоскостей пространства, является его специфическим рецептором.
Он тесно связан с аппаратом глазодвигательных мышц, каждое изменение в вестибулярном аппарате вызывает рефлекторные изменения в положении глаз; при быстрых и продолжительных изменениях положения тела в пространстве наступают пульсирующие движения глаз, называемые нистагмом, а при продолжительной ритмической смене зрительных раздражений (например, возникающих при езде на автомобиле по аллее с постоянно мелькающими деревьями или при длительном взгляде на вращающийся барабан с частыми поперечными полосами) возникает состояние неустойчивости, сопровождающееся тошнотой. Такая тесная взаимная связь между вестибулярным глазодвигательным аппаратом, вызывающая оптико — вестибулярные рефлексы, входит в качестве существенного компонента в систему, обеспечивающую восприятие пространства.
Другим существенным аппаратом, обеспечивающим восприятие пространства, и прежде всего глубины, является аппарат бинокулярного зрительного восприятия и ощущения мышечных усилий от конвергенции глаз.
Хорошо известно, что глубина (отдаленность) предметов особенно успешно воспринимается при наблюдении за предметом обоими глазами. Чтобы воспринять предметы достаточно отчетливо, нужно, чтобы изображение от рассматриваемого предмета падало на соответствующие (корреспондирующие) точки сетчатки, а для обеспечения этого необходима конвергенция обоих глаз. Если при конвергенции глаз возникает незначительная диспаратность изображений, появляется ощущение удаленности предмета, или стереоскопический эффект; при большей диспаратности точек сетчатки обоих глаз, на которые падает изображение, возникает двоение предмета. Таким образом, импульсы от относительного напряжения мышц глаз, обеспечивающих конвергенцию и смещение изображения на обеих сетчатках, является вторым важным компонентом для восприятия пространства.
Еще одним важным компонентом восприятия пространства являются те законы структурного восприятия, которые мы уже описывали выше, и при известных условиях они сами по себе достаточны для того, чтобы вызвать восприятие глубины. К ним присоединяется и последнее условие — хорошо закрепленный прежний опыт, который может существенно влиять на восприятие глубины, а в некоторых случаях, как уже было сказано раньше, приводить к возникновению иллюзий.
Восприятие пространства не ограничивается, однако, восприятием глубины. Его существенную часть составляет восприятие расположений предметов по отношению друг к другу, и это требует специального рассмотрения.
Воспринимаемое нами пространство никогда не носит симметричного характера; оно всегда в большей или меньшей степени асимметрично. Одни предметы расположены от нас вверху, другие внизу; одни дальше, другие ближе; одни справа, другие слева. Различные пространственные расположения предметов в этом асимметричном пространстве имеют часто решающее значение. Примером этого могут служить ситуации, когда нам нужно ориентироваться в расположении комнат, сохранить план пути и т. д.
В условиях, когда мы можем опираться на дополнительные зрительные сигналы (расстановка вещей в коридорах, различный вид зданий на улицах), такая ориентировка в пространстве осуществляется легко. Когда эта дополнительная зрительная опора устраняется (это имеет место, например, в совершенно одинаковых коридорах, на станциях метро, где имеются два ничем по виду не отличающихся противоположных выхода), такая ориентировка резко затрудняется. Каждый хорошо знает, как легко теряется ориентировка в пространственном расположении у засыпающего в полной темноте человека.
Ориентировка в таком асимметричном пространстве настолько сложна, что одних описанных выше механизмов недостаточно. Для ее обеспечения нужны добавочные механизмы, прежде всего выделение «ведущей» правойруки, опираясь на которую человек и осуществляет сложный анализ внешнего пространства, и системы абстрактных пространственных обозначений (правое — левое), которое, как показали психологические наблюдения, имеет социально — историческое происхождение.
Совершенно естественно, что на определенном этапе онтогенеза, когда ведущая правая рука еще не выделена, и система пространственных понятий не усвоена, симметричные стороны пространства долгое время продолжают путаться. Такие явления, характерные для ранних стадий каждого нормального развития, проявляются в так называемом «зеркальном письме», которое выступает у многих детей 3–4 лет и затягивается, если ведущая (правая) рука почему — либо не выделяется.
Тот сложный комплекс приборов, который лежит в основе восприятия пространства, требует, естественно, столь же сложной организации аппаратов, осуществляющих центральную регуляцию пространственного восприятия. Таким центральным аппаратом являются третичные зоны коры головного мозга, или «зоны перекрытия», которые объединяют работу зрительного, тактильно — кинестетического и вестибулярного анализаторов. Именно поэтому поражение нижнетеменных отделов мозговой коры, не затрагивающее нормального восприятия форм предметов и их глубины (удаленности), приводит, как правило, к глубокому нарушению высших форм организации пространственного восприятия.
Больные с поражением нижнетеменных отделов мозга не испытывают заметных затруднений в зрительном восприятии фигур и предметов; они продолжают различать удаленность и не проявляют затруднений в оценке перспективы. Однако они проявляют отчетливые затруднения в ориентировке в пространстве, не могут отличить правую и левую стороны предметов, путаются при нахождении правильного пути и идут направо, когда им нужно идти налево; они делают ошибки при оценке положения стрелок на часах, не различая симметрично расположенных цифр (например, путают стрелки в положениях «3 часа» и «9 часов»); они теряют возможность ориентироваться в географической карте и в оценке симметрично расположенных римских цифр (например, XI и IX); они теряют способность правильно ориентироваться в «символическом пространстве», необходимом для операций с разрядным строением числа и со счетом. Как мы увидим ниже, они испытывают известные затруднения в логико — грамматических операциях, требующих ориентировки в сложном «асимметричном» пространстве.
Таким образом, исследование того, как меняются сложные формы ориентировки в пространстве у больных с поражением нижнетеменных отделов мозга, не только позволяет проникнуть глубже в физиологические основы этой формы восприятия, но и дает возможность установить, какие формы сознательных психических процессов протекают при его участии.
Специальными формами нарушения пространственного восприятия являются нарушения схемы тела. Они возникают при патологическом раздражении проприоцептивных отделов нижнетеменной коры и выражаются в своеобразном изменении ощущений собственного тела: больные с таким поражением могут испытывать ощущения, что одна сторона тела стала у них необычайно большой, что голова «разбухла», стала «больше всего тела» и т. п. Нарушение схемы тела представляет важный опорный признак при диагностике патологических очагов в нижнетеменных отделах коры и соответствующих подкорковых образованиях.
(обратно)Слуховое восприятие
Слуховое восприятие коренным образом отличается как от осязательного, так и от зрительного восприятия.
Если осязательное и зрительное восприятие отражает мир предметов, расположенных в пространстве, то слуховое восприятие имеет дело с последовательностью раздражений, протекающих во времени.
Это коренное различие отметил в свое время великий русский физиолог И. М. Сеченов, указавший, что двумя основными видами синтетической деятельности, которыми обладает человек, является:
• с одной стороны, объединение отдельных раздражений в симультанные, и прежде всего пространственные, группы;
• с другой — объединение поступающих в мозг раздражений в последовательные (сукцессивные) серии, или ряды.
Слуховое восприятие прежде всего имеет дело со вторым видом синтеза, и в этом состоит его основное значение.
Физиологические и морфологические основы слуха
Наш слух воспринимает тоны и шумы. Тоны представляют собой правильные ритмические колебания воздуха, причем частота этих колебаний определяет высоту тона (чем выше частота, тем выше тон), а амплитуда этих колебаний — интенсивность звука (его субъективную громкость). Шумы являются результатом комплекса накладывающихся друг на друга колебаний, причем частота этих колебаний находится в случайных, некратных отношениях между собой. Шум, состоящий из большого числа различных колебаний одинаковой интенсивности (где ни один компонент не преобладает), называется «белым шумом» (по аналогии с белым цветом, который, как известно, является результатом смешения разных цветов).
Следует отметить, что только такие тоны, как тон камертона, состоят из одной серии колебаний и называются чистыми тонами. Тоны голоса или любых инструментов отличаются тем, что колебания носят здесь сложный характер. Причем составные части этих колебаний находятся в кратных отношениях друг к другу, при этом высота тона определяется частотой тех колебаний, которые имеют максимальную амплитуду, а общее число включенных колебаний (гармоник) определяет тембр данного тона. Высота тона выражается обычно в герцах (число колебаний в секунду), его сила — в децибелах (децибел = 1/10 бела; под «белом» понимается увеличение минимального давления волны в 10 раз; так как бел слишком крупная величина, практически пользуются децибелами).
Как уже было сказано, человек способен различать звуки в диапазоне от 20 до 20 тыс. герц, а диапазон интенсивности звуков, воспринимаемых человеком, составляет шкалу от 1 дБ (пороговые звуки) до 130 дБ.
Периферический аппарат слуха состоит из сложного комплекса приборов.
Воздействующие на человека тоны и шумы попадают через слуховой проход на барабанную перепонку — эластичную пленку, которая обладает способностью колебаться в ритм со звуком. Эти колебания через систему косточек, находящихся в среднем ухе (наковальня, молоточек, стремячко), передаются через овальное окно в аппарат внутреннего уха, где расположен периферический аппарат слуховой рецепции — улитка, заполненная жидкостью (эндолимфой). Колебания, передаваемые только что описанным аппаратом среднего уха, приводят в движение жидкость улитки и вызывают соответственные колебания в этой замкнутой системе. На основной мембране улитки расположен специальный прибор, превращающий колебания жидкости в нервные возбуждения, — Кортиев орган — замечательный прибор, обладающий свойством переводить последовательные колебания в возбуждение отдельных пространственно расположенных нервных клеток. Это «кодирование» совершается благодаря тому, что Кортиев орган состоит из системы волосковых нервных клеток, каждая из которых связана с поперечным волокном определенной длины, включенным в трубку улитки. Эти волокна и резонируют различные по частоте колебания жидкости, а так как этих волокон в улитке имеется до 24 тыс., возникает возможность воспринимать тоны в указанном выше частотном диапазоне.
Таким образом, каждый звук, дошедший до аппарата слухового рецептора, вызывает колебание одной или нескольких рядом лежащих струн, а эти колебания возбуждают соответствующие волосковые клетки и вызывают нервные возбуждения. При этом высокие звуки вызывают колебания более коротких, а низкие звуки — более длинных струн, а возникшие в результате нервные возбуждения проводятся по соответствующим волокнам слухового нерва.
Изложенная «резонансная теория слуха», которая в свое время была предложена знаменитым немецким физиологом Г. Гельмгольцем, принимается большинством исследователей; лишь в последнее время в нее были внесены поправки известным физиологом слуха Бекеши, который указал на то, что основная мембрана улитки не натянута и прикрепленные к ней струны реагируют на колебания жидкости по гидродинамическим законам.
Тот факт, что основной процесс, протекающий в периферическом отрезке слухового рецептора, действительно является превращением механических колебаний в сложные нервные (электрические) явления, доказывается так называемым телефоническим (микрофонным) эффектом, описанным американскими физиологами Уивером и Бреем. Если отвести токи действия от слухового нерва кошки и, усилив их, подавать на микрофон, расположенный в соседней комнате, а затем произнести над ухом кошки слово, можно услышать это слово в микрофоне. Этот опыт показывает, что слуховой рецептор работает по принципу микрофона, переводящего механические колебания звука в электрические колебания.
Волокна звукового нерва, начинающиеся от Кортиева органа, входят в состав «слухового пути». При этом волокна, идущие от обоих слуховых нервов, отдавая веточку, идущую к нижнему четверохолмию, направляются в составе «внутренней петли» к центральным аппаратам обоих полушарий. Они прерываются во внутреннем коленчатом теле (подкорковый аппарат слуха) и оттуда направляются к поперечной извилине височной области (извилина Гешля), которая и является первичной (проекционной) слуховой зоной коры. Как и в других проекционных зонах, волокна, несущие импульсы различных частот, располагаются в этой проекционной зоне в строгом порядке: во внутренних (медиальных) отделах извилины Гешля оканчиваются волокна, несущие импульсы от высоких, а в наружных (латеральных) отделах извилины Гешля — волокна, несущие импульсы от низких тонов.
Как правило, поражение извилины Гешля одного полушария ведет лишь к частичному снижению слуха на противоположное ухо (ведь, как было упомянуто, волокна от обоих периферических рецепторов слуха приходят как в правое, так и в левое полушария).
Существенным является тот факт, открытый советским психологом Г. В. Гершуни, что поражение коры височной области, не сказываясь отчетливо на порогах восприятия длительных тонов, приводит к отчетливому повышению порогов (или снижению чувствительности) к ультракоротким звукам (от 1 до 5 м/сек), проявляющемуся на противоположном ухе. Этот факт заставляет думать, что роль слуховой коры заключается не только в том, чтобы принимать звуковые сигналы, доходящие до периферического рецептора, но и в том, чтобы стабилизировать эти сигналы, позволяя человеку учитывать и их более дробные, более короткие компоненты.
Возбуждения, дошедшие до извилины Гешля, передаются дальше на аппараты внешних (конвекситальных) отделов височной коры (поле 22 Бродмана), которые являются вторичной слуховой зоной. Преобладание нейронов II и III слоев, которым отличается эта зона, а также ее интимные связи с другими (двигательными) отделами коры делают из вторичной слуховой зоны важнейший аппарат, позволяющий выделять существенные элементы звуковой информации, синтезировать ее признаки и кодировать звуки в сложные системы, иначе говоря, осуществлять процессы сложного звукового восприятия.
Психологическая организация слухового восприятия
Говоря об организации осязательной и зрительной чувствительности, мы уже отмечали, что факторами, организующими их в известные системы, являются формы и предметы внешнего мира. Отражение их и приводит к тому, что осязательные и зрительные процессы кодируются в известные системы и превращаются в организованное осязательное и зрительное восприятие.
Какие же факторы приводят к организации слуховых процессов в сложной системе слухового восприятия?
Известно, что слух животных организован определенными врожденными программами, позволяющими выделять им биологически существенные компоненты звуков и объединять их в биологически важные системы, которые животное легко выделяет из остальных шумов (примером может служить поскребывание мыши или мяуканье котенка, которые легко выделяются кошкой из всех остальных шумов). В отличие от этого мир звуковых раздражений человека определяется другими факторами, которые имеют не биологическое, а социально — историческое происхождение.
Можно различить две объективные системы, которые сложились в процессе социальной истории человечества и оказывают существенное влияние на кодирование слуховых ощущений человека в сложные системы слухового восприятия.
Первой из них является ритмико — мелодическая (музыкальная) система кодов, второй — фонемотическая система кодов (система звуковых кодов языка). Оба эти фактора и организуют воспринимаемые человеком звуки в сложные системы слухового восприятия. Решающая роль этих факторов приводит к тому, что если ухо животного иногда обладает гораздо более тонкой звуковой чувствительностью, чем ухо человека, слух человека характеризуется гораздо большей сложностью, большим богатством и большей подвижностью звуковых кодов.
Известно, что система ритмико — мелодических (музыкальных) кодов, определяющая музыкальный слух, состоит из двух основных компонентов.
Одним из них являются звуковысотные отношения, позволяющие складывать звуки в консонирующие аккорды и формировать последовательные ряды этих звуковых соотношений, входящие в состав мелодий.
Другим компонентом являются ритмические (или прозодические) отношения правильных чередований длительностей и интервалов отдельных звуков. Эти отношения могут создать сложные ритмические узоры даже из звуков одной частоты (дробь барабана может служить примером таких ритмически организованных звуков).
Основной функцией музыкального слуха является выделение существенных звуковысотных и прозодических (ритмических) отношений, синтез их в мелодические структуры, создание соответственных звуковых моделей, выражающих известное эмоциональное состояние, и сохранение этих ритмико — мелодических систем. Легко видеть, что если на ранних этапах развития музыкального слуха такой процесс кодирования звуковых систем носит развернутый характер, то по мере упражнения этот процесс сокращается, у человека вырабатываются более крупные единицы музыкального слуха и он становится способен выделять и удерживать целые обширные системы музыкальных мелодий.
Второй объективной системой, которая определяет процесс звукового восприятия и обеспечивает кодирование его отдельных элементов в сложные формы звукового восприятия, является система звукового языка.
Человеческий язык располагает целой системой звуковых кодов, на основе которых строятся его значащие элементы — слова. Для выделения звуков речи, или фонем, недостаточно иметь острый слух; для их восприятия нужно произвести сложную работу, заключающуюся в выделении существенных признаков речевого звука и отвлечении от посторонних признаков, не существенных для его различения.
Каждый исторически сложившийся этап обладает сложным кодом существенных признаков, позволяющих различать смысл произносимого слова в русском языке. Такими признаками являются, например, признаки звонкости или глухости согласных (очень близкие звуки, отличающиеся только одним этим признаком, например, «б» и «п» или «д» и «т»), которые позволяют изменять смысл слова. Примером может служить различение таких слов, как:
• «бочка» и «почка»;
• «балка» и «палка»;
• «дочка» и «точка».
Эти звуковые признаки, имеющие смыслоразличительное значение, называются фонематическими, и сущность речевого слуха заключается в том, чтобы выделить их из речевого потока, сделать доминирующими, одновременно отвлекаясь оттого, каким тембром произносятся слова, и от того, какой высотой тона отличается голос произносящего их человека.
Овладение объективной фонематической системой (различной в разных языках) и является условием, организующим слух человека и обеспечивающим восприятие звуковой речи. Без овладения этой фонематической системой слух остается неорганизованным, и поэтому человек, не овладевший фонематической системой чужого языка, не только «не понимает» его, но и не выделяет существенных для него фонематических признаков, иначе говоря, «не слышит» составляющих его звуков.
Мы подробнее остановимся на фонематических кодах языка при рассмотрении психологии речи, а здесь ограничимся лишь краткими сведениями.
Кодирование звуков в соответствующие системы музыкального или речевого слуха не являются пассивным процессом.
Так же как и система осязательного или зрительного восприятия предмета, сложное слуховое восприятие представляет собой активный процесс, включающий в свой состав моторные компоненты. Отличие слухового восприятия от осязательного и зрительного лишь в том, что если в осязательном и зрительном двигательные компоненты включены в ту же систему анализаторов (ощупывающие движения руки, поисковые движения глаз), то в слуховом восприятии они отделены от слуховой системы и выделены в особую систему пропевания голосом для музыкального слуха и проговаривания для речевого слуха.
Работа советских психологов А. Н. Леонтьева, О. В. Овчинниковой, так же как опыт педагогов — музыкантов и обучающих иностранному языку, показывает, что именно пропевание нужных тонов составляет условие, позволяющее выделить и уточнить нужную высоту тона, а проговаривание речевых звуков — важное условие, позволяющее уточнить его звуковой состав, в каждом случае абстрагируясь от посторонних звуковых компонентов.
Хорошим доказательством этого являются опыты А. Н. Леонтьева, при которых испытуемому предлагается оценить высоту тонов, предъявляемых ему в дополнительном тембре звуков «и» и «у». Опыт показал, что одинаковые по высоте тоны, предъявляемые с такими тембровыми различиями, обычно воспринимаются как разные по высоте, причем тон, предъявляемый в тембре «и», оценивался как более высокий, а тон, предъявляемый в тембре «у», как более низкий.
Нужно было включить в процесс анализа высоты тона собственное пропевание испытуемого, чтобы он становился способным отвлечься от побочных тембровых признаков и чтобы его чувствительность к высоте тона резко повысилась.
Характерно, что такие явления снижения звуковысотного слуха под влиянием тембра отмечались у людей, говорящих на «тембральных» языках (русском, английском, французском), и не отмечались у людей, говорящих на «тональных» языках (вьетнамский), у которых не тембр, а высота тона является смыслоразличительным признаком.
Описанное наблюдение показывает, таким образом, какое значение для остроты слуха имеет включение его в систему языка и какую роль в абстракции от этих посторонних признаков играет двигательный компонент — «пропевание» тона.
Аналогичную роль играет двигательный компонент в уточнении фонематического слуха, с той лишь разницей, что на место пропевания становится здесь проговаривание звуков речи. Люди, имеющие дело с обучением иностранному языку, хорошо знают, что именно активное проговаривание позволяет выделять нужные фонематические признаки, овладевать объективной фонематической системой языка и тем самым существенно уточнять речевой фонематический слух.
Патология слухового восприятия
Нарушение слуховых процессов может возникнуть при поражении разных звеньев слухового пути и носит неодинаковый характер.
При поражении периферического отдела слухового пути — внутреннего уха возникает глухота или снижение слуха на одно ухо, нередко это бывает связано с расстройством вестибулярной чувствительности, так как оба периферических аппарата — улитка и полукружные каналы — сосредоточены во внутреннем ухе.
Поражение периферического отдела слухового пути, связанное с воспалительными явлениями в слуховом нерве, вызывает не только снижение слуха, но и значительное ограничение полезного диапазона слуха. Пораженный аппарат очень быстро начинает реагировать на повышение интенсивности звука болевыми ощущениями, (это явление получило название «рекруитмента»).
Поражение четверохолмия, куда доходит веточка слухового нерва, не вызывает заметных нарушений слуха, но приводит к нарушению элементарных связей слуховой и зрительной системы и к выпадению «улитково — зрачкового рефлекса» (сужение зрачка в ответ на внезапное слуховое раздражение). Выпадение этого рефлекса служит важным объективным показателем нарушения слуховой функции там, где другие пути и методы установления его патологии недоступны.
Поражение первичных (проекционных) отделов слуховой коры приводит к отчетливому нарушению слуха (так называемой «центральной глухоте») только в тех редчайших случаях, когда одновременно поражаются проекционные зоны обоих полушарий. В случае одностороннего поражения проекционных отделов слуховой коры слух грубо не страдает, и только при тщательном экспериментальном исследовании удается констатировать некоторое повышение порогов (или, иначе говоря, понижение слуховой чувствительности) на очень короткие сигналы (Г. В. Гершуни).
Отчетливые нарушения сложных форм слухового восприятия возникают при поражении вторичных отделов слуховой коры, однако, эти нарушения носят совершенно различный характер при поражении височной области левого (доминантного) и правого (субдоминантного) полушария.
Поражение задних отделов верхней височной извилины левого (доминатного) полушария не нарушает, как правило, сложного музыкального слуха, но приводит к нарушению возможности различать близкие речевые звуки (фонемы). Больные с таким поражением оказываются не в состоянии отличать такие близкие звуки, как «б» и «п» или «д» и «т», «з» и «с», а потому испытывают затруднения в понимании обращенной к ним речи. Это явление, известное в клинике как «сензорная афазия», не сопровождается ни понижением общей слуховой чувствительности, ни невозможностью различать звуки предметов (тиканье часов, звуки посуды, шум автомобиля). Данный факт говорит о том, что вторичные отделы слуховой коры левого полушария тесно связаны с системой речевой деятельности. Были описаны случаи, когда музыканты и композиторы, испытавшие тяжелое поражение этой области, сохраняли возможность не только воспринимать музыку, но и продолжали свою музыкальную и композиторскую деятельность.
Существенным симптомом центрального поражения слуха этого типа является невозможность схватывать и воспроизводить сложные ритмы (например!!***!!*** или *!* *!*). Эти нарушения, наряду с нарушением схватывания и воспроизведения звуковысотных отношений, являются важными признаками поражения слуховой коры.
Неврологии еще мало известно о тех мозговых аппаратах, которые обеспечивают нормальный музыкальный слух. Некоторые данные указывают на то, что в мозговой организации музыкального слуха принимает участие правая (субдоминантная) височная область, а возможно, и передние участки височной области.
Следует отметить, что раннее поражение слуха любого происхождения может создать существенные препятствия для общего интеллектуального развития ребенка. Дети, у которых в раннем возрасте понизился слух, начинают испытывать заметные затруднения в восприятии обращенной к ним речи, в результате речевое общение этих детей затрудняется и нарушается формирование собственной речи, а вместе с ним и общее интеллектуальное развитие. Вот почему детей с ранней тугоухостью и вторичным недоразвитием речи нередко смешивают с умственно отсталыми детьми. Дифференциальная диагностика вторичного недоразвития у тугоухих детей с первичной умственной отсталостью представляет значительные трудности и требует специальных приемов.
Особые формы нарушения слуха могут возникать при одностороннем поражении теменно — височных отделов коры. В этих случаях звуки от обоих периферических рецепторов начинают доходить до коры неравномерно, в результате чего нарушается «бинауральный эффект», дающий возможность четкой локализации звуков в пространстве.
Описанные симптомы являются признаками выпадения или снижения функции того или иного звена слухового анализатора. Не меньшее значение имеют, однако, симптомы раздражения этих аппаратов.
Эти симптомы, сопровождающие раздражение как проводниковой, так и центральной части слухового пути, проявляются в явлениях слуховых галлюцинаций — возникновении ощущений тонов, шумов, звучания музыки или речи при отсутствии реально вызывающих их причин. Такие явления могут быть вызваны экспериментально. Как показали наблюдения неврологов (Ч. Ферстера, В. Пенфилда), раздражение первичных (проекционных) отделов слуховой коры может вызывать ощущение шумов или тонов, а раздражение вторичных отделов слуховой коры — слышание музыки, речи и т. д. Подобные же явления могут вызываться и патологическими причинами, например рубцами, раздражающими эти отделы мозга, в таких случаях слуховые галлюцинации появляются как предвестники эпилептического припадка и называются в клинике «слуховой аурой».
Стойкие слуховые галлюцинации могут вызываться и застойными очагами возбуждения в этой области и входить в картину психических заболеваний. Нередко в случаях интоксикации алкоголем или вредными химическими веществами у больных возникает патологическое состояние коры, при котором малосущественные посторонние раздражители начинают вызывать бесконтрольно всплывающие образы. Последние больной смешивает с реальностью; иногда такие яркие образы могут вплетаться в бредовые состояния больного.
Раздел о происхождении и формах галлюцинаций является одним из важных отделов общей психопатологии.
(обратно)Восприятие времени
Если после обсуждения основных законов осязательного и зрительного восприятия мы должны были остановиться на психологических законах восприятия пространства, то после обсуждения основных законов слухового (и двигательного) восприятия мы должны кратко остановиться на психологии восприятия времени. Несмотря на важное значение этого раздела психологии, он разработан гораздо меньше, чем вопрос о восприятии пространства.
Можно указать, что восприятие времени имеет различные аспекты и осуществляется на разных уровнях. Наиболее элементарными формами являются процессы восприятия длительности последовательности, в основе которых лежат элементарные ритмические явления, которые известны под названием биологических часов. К ним относятся ритмические процессы, протекающие в нейронах коры и подкорковых образований. Смена процессов возбуждения и торможения, возникающая при длительной нервной деятельности, воспринимается как волнообразно чередующиеся усиления и ослабления звука при длительном вслушивании. Сюда же относятся такие циклические явления, как биение сердца, ритм дыхания, а для более длительных интервалов — ритмика смены сна и бодрствования, появление голода и т. п.
Все перечисленные условия лежат в основе наиболее простых, непосредственных оценок времени.
Они могут проявляться у животных в выработке «рефлексов на время» или «запаздывающих рефлексов», и их можно изменять путем фармакологических воздействий, влияющих на вегетативную нервную систему. Последние воздействия могут быть проверены и на человеке. Так, было показано, что одни препараты (например амфетамин, закись азота) существенно укорачивают оценку небольших отрезков времени, в то время как другие препараты (например ЛСД) удлиняют оценку небольших интервалов времени.
От элементарных непосредственных форм ощущения времени следует отличать сложные формы восприятия времени, которые опираются на вырабатываемые человеком «эталоны» оценки времени. К таким эталонам, опосредствующим опенку времени, относятся такие меры времени, как секунды, минуты, а также ряд эталонов, формирующихся в практике восприятия музыки. Именно в силу этого точность такого опосредствованного восприятия времени может заметно повышаться, причем, как показали наблюдения над музыкантами (Б. М. Теплов), парашютистами и летчиками, она может заметно обостряться в процессе упражнения, при котором человек начинает сравнивать едва заметные промежутки времени. По некоторым данным, таким путем можно довести точность восприятия коротких интервалов времени до удивительной точности, например, вырабатывая у людей способность различать интервалы в 1/18 с от интервалов 1/20 с (С. Г. Геллерштейн).
От оценки коротких интервалов следует отличать оценку длинных интервалов (время дня, время года и т. п.), иначе говоря, ориентировку в длительных отрезках времени. Эта форма оценки времени является особенно сложной по своему строению и приближается к явлениям интеллектуального кодирования времени.
Интересно, что нарушение оценки времени в виде грубых дефектов в оценке времени дня и нарушения ориентировки во времени года, датах и т. п. могут возникать при поражениях некоторых отделов мозга (например при поражениях глубоких отделов височной доли и подкорковых образований, связанных с регуляцией вегетативных процессов) и могут служить опорными симптомами для диагностики этих поражений.
Специальные формы нарушения восприятия времени могут возникать при психологических состояниях, при которых, по мнению некоторых авторов, они являются показателем нарушения глубоких витальных функций.
(обратно) (обратно)Глава 3. Внимание
До человека доходит огромное число раздражителей, однако он отбирает самые важные из них и игнорирует остальные. Он потенциально может сделать большое число возможных движений, но выделяет немногие целесообразные движения, входящие в состав его действий, и тормозит остальные. У него возникает большое число ассоциаций, однако он сохраняет лишь немногие, существенные для его деятельности, и абстрагируется от других, мешающих целенаправленному протеканию его мышления.
Осуществление отбора нужной информации, обеспечение избирательных программ действий и сохранение постоянного контроля над их протеканием и принято называть вниманием.
Избирательный характер сознательной деятельности, который является функцией внимания, в равной мере проявляется и в нашем восприятии, и в двигательных процессах, и в мышлении.
Если бы такой избирательности не было, количество неотобранной информации было бы так неорганизованно и велико, что никакая деятельность не была бы возможна. Если бы не было торможения всех бесконтрольно всплывающих ассоциаций, организованное мышление, направленное на решение поставленных перед человеком задач, было бы недоступно.
Во всех видах сознательной деятельности должны иметь место:
1) процесс выбора основных, доминирующих процессов, составляющих предмет, на который человек обращает внимание;
2) наличие «фона», состоящего из тех процессов, доступ которых в сознание задержан, но они в любой момент, если появляется соответствующая задача, могут перейти в центр его внимания и стать доминирующими.
Именно в связи с этим принято различать объем внимания, его устойчивость и его колебания.
Под объемом внимания принято понимать то число поступающих сигналов или протекающих ассоциаций, которые могут сохраняться в центре ясного сознания, приобретая доминирующий характер.
Под устойчивостью внимания принято понимать ту длительность, с которой эти выделенные вниманием процессы могут сохранять свой доминирующий характер.
Под колебаниями внимания принято понимать тот циклический характер процесса, при котором определенные содержания сознательной деятельности то приобретают доминирующий характер, то теряют его.
Факторы, определяющие внимание
Какими факторами определяется внимание человека? Можно выделить по крайней мере две группы факторов, которые обеспечивают избирательный характер психических процессов, определяя как направление, так и объем и устойчивость сознательной деятельности.
К первой группе относятся факторы, характеризующие структуру внешних раздражителей, доходящих до человека (структуру внешнего поля).
Ко второй — факторы, относящиеся к деятельности самого субъекта (структура внутреннего поля).
Остановимся на каждой группе отдельно.
1. Первую группу составляют факторы внешне воспринимаемых субъектом раздражителей; они определяют направление, объем и устойчивость внимания, сближаются с факторами структуры восприятия.
Одним из факторов, входящих в эту группу, является интенсивность (сила) раздражителя. Если субъекту предъявляется группа одинаковых или разных раздражителей, один из которых выделяется своей интенсивностью (величиной, окраской и т. п.), внимание субъекта привлекается именно этим раздражителем. Естественно, что, когда субъект входит в слабо освещенную комнату, его внимание сразу же привлекается внезапно загоревшейся лампочкой. Характерно, что в тех случаях, когда в воспринимаемом поле выступают два равных по силе раздражителя и когда отношения между ними настолько уравновешены, что ни один из них не доминирует, внимание человека приобретает неустойчивый характер, и возникают колебания внимания, при которых то один, то другой раздражитель становится доминирующим. Выше, разбирая законы структурного восприятия, мы уже приводили примеры таких «неустойчивых структур».
Другим внешним фактором, определяющим направление внимания, является новизна раздражителя, или его отличие от других раздражителей.
Если среди хорошо знакомых раздражителей появляется такой, который резко отличается от остальных или является необычным, новым, он сразу же начинает привлекать к себе внимание и вызывает специальный ориентировочный рефлекс.
Приведем пример эксперимента.
В первой его части среди одинаковых кружков дается единственный крест, резко отличающийся от остальных фигур; во второй дается несколько рядов одинаковых линий, причем в одной из этих рядов имеется пропуск, отличающий это место от остальных, в третьей — среди одинаковых крупных точек дается одна отличающаяся от них слабая точка.
Легко увидеть, что во всех случаях внимание направляется на отличающийся, «новый» элемент, который иногда сохраняет ту же физическую силу, как и другие, привычные раздражители, а иногда по своей интенсивности может быть даже слабее их. Нетрудно вспомнить, что если привычный, монотонно повторяющийся звук (например, рокот мотора) внезапно прекращается, отсутствие раздражителя может стать фактором, привлекающим внимание.
Оба упомянутых условия определяют направление внимания. Однако существуют внешние факторы, которые определяют и его объем.
Мы уже говорили выше, что восприятие доходящих до человека раздражителей внешней среды зависит от их структурной организации. Легко видеть, что мы не можем успешно воспринять большое число беспорядочно разбросанных раздражителей, однако мы легко можем сделать это, если они организованы в определенные структуры.
Структурная организация воспринимаемого поля является одним из наиболее мощных средств управления нашим восприятием и одним из наиболее важных факторов расширения его объема, и психологически обоснованная, рациональная организация структуры воспринимаемого поля является одной из важнейших задач инженерной психологии. Нетрудно видеть, какое значение приобретает обеспечение наиболее рациональных форм организации потока информации, доходящей до летчика, управляющего приборами скоростных или сверхскоростных самолетов.
Все перечисленные факторы, определяющие направление и объем внимания, относятся к особенностям воздействующих на субъекта внешних раздражителей, иначе говоря, к структуре поступающей из внешней среды информации.
Легко понять, насколько важно учитывать эти факторы для того, чтобы научиться на научных основах управлять вниманием человека.
2. Вторая группа факторов, определяющих направление внимания, — те, которые связаны не столько с внешней средой, сколько с самим субъектом и со структурой его деятельности.
В эту группу факторов относится прежде всего то влияние, которое оказывают потребности, интересы и «установки» субъекта на его восприятие и на протекание его деятельности.
Разбирая проблемы биологической эволюции поведения животных, мы уже видели решающую роль, которую играет в поведении животных биологическая важность сигналов.
Мы указали на то, что утка выделяет растительные, а кобчик — гнилостные запахи, являющиеся для них жизненно существенными, что пчела реагирует на сложные формы, являющиеся признаками цветов, оставляя без внимания простые геометрические формы, лишенные для нее биологического значения, что кошка, живо реагируя на поскребывание мыши, не обращает внимание на звуки перелистывания книги или шуршание газеты. Тот факт, что внимание животных привлекается жизненно важными сигналами, достаточно хорошо известен.
Все это в равной мере относится и к человеку, с той только разницей, что те потребности и интересы, которые характеризуют человека, в подавляющей части носят не характер биологических инстинктов и влечений, а характер сложных побуждающих факторов, сформированных в общественной истории. Например, человек, интересующийся спортом, выделяет из всей доходящей до него информации ту, которая относится к футбольному матчу, а человек, интересующийся новостями радиотехники, обратит внимание на те стоящие на полке книги, которые относятся именно к этому предмету.
Легко убедиться в том, что сильный интерес человека, делающий одни сигналы доминирующими, одновременно тормозит все побочные, не относящиеся к сфере его интересов сигналы. Хорошо известные факты, говорящие о том, что ученые, погруженные в решение сложной задачи, перестают воспринимать все побочные раздражения, отчетливо указывают на это.
Существенное значение для понимания факторов, направляющих внимание человека, имеет структурная организация человеческой деятельности.
Известно, что деятельность человека определяется потребностью или мотивом и всегда направлена на определенную цель. Если мотив в некоторых случаях может оставаться неосознанным, цель и предмет его деятельности всегда осознаются. Известно, наконец, что именно этим цель действия отличается от тех средств и тех операций, которыми она достигается.
Пока отдельные операции не автоматизированы, выполнение каждой из них составляет цель данного отрезка деятельности и привлекает к себе внимание; достаточно вспомнить, как напрягается внимание неопытного стрелка к спуску курка или напрягается внимание начинающего писать па пишущей машинке к каждому удару на клавишу. Когда деятельность автоматизируется, отдельные операции, входящие в ее состав, перестают привлекать внимание и начинают протекать без осознания, в то время как основная цель продолжает осознаваться. Достаточно внимательно проанализировать процесс стрельбы у хорошо обученного стрелка или процесс письма на пишущей машинке у опытной машинистки, чтобы видеть это.
Все это показывает, что направление внимания определяется психологической структурой деятельности и существенно зависит от степени ее автоматизации. Общая задача, направляющая деятельность человека, выделяет как предмет его внимания ту систему сигналов или связей, которые входят в состав вызванной деятельности человека, которая вызвана этой задачей. Конкретная цель, которую ставит перед собой человек, решающий задачу, делает относящиеся к ней сигналы или действия центром внимания. Процесс автоматизации деятельности приводит к тому, что отдельные действия, привлекавшие внимание, становятся автоматическими операциями, и внимание человека начинает смещаться на конечные цели, переставая привлекаться хорошо упроченными привычными операциями. Едва ли не наиболее важным является тот факт, что направление внимания находится в прямой зависимости от успеха или неуспеха деятельности.
Успешное завершение деятельности сразу же устраняет то напряжение, которое сохранялось у человека все время, пока он пробовал решать задачу. Например, человек, опустивший письмо в почтовый ящик, тут же забывает о выполненном намерении, оно перестает беспокоить его. Наоборот, незаконченная деятельность или неуспешно выполненное задание продолжают вызывать напряжение и привлекать внимание, сохраняя его, пока задача не будет успешно выполнена.
Внимание входит как контрольный механизм в аппарат «акцептора действия»: оно обеспечивает сигналы, указывающие на то, что задача еще не выполнена, действие не завершено, и именно эти «обратные сигналы» побуждают субъекта к активной деятельности.
Таким образом, внимание человека определяется структурой его деятельности, отражает ее протекание и служит механизмом ее контроля.
Все это делает внимание одной из наиболее существенных сторон деятельности человека.
(обратно)Физиологические основы внимания
В течение длительного времени психологи и физиологи пытались описать механизмы, которые определяют избирательное протекание процессов возбуждения и лежат в основе внимания. Однако эти попытки долго ограничивались лишь указанием на тот или иной фактор и скорее носили описательный характер, чем характер подлинного выделения физиологических механизмов внимания.
Некоторые психологи считали, что направление и объем внимания целиком определяются законами структурного восприятия, поэтому излишне выделять исследование внимания в специальную главу психологии и знания таких законов, как законы «четкости», «структурности» восприятия, достаточно, чтобы исчерпывающе судить о протекании внимания. Такую позицию занимали представители гештальт — психологии, один из которых посвятил этому даже специальную статью, пытаясь доказать тезис о том, что внимания как особой категории психических процессов, отдельных от восприятия, не существует.
Другая группа психологов придерживалась позиций «эмоциональной» теории внимания. Эти психологи полагали, что направление внимания целиком определяется влечениями, потребностями и эмоциями, исчерпываясь законами, и что внимание не должно выделяться в особую категорию психических процессов. Многие американские психологи — бихевиористы практически занимают эту позицию.
Наконец, третья группа психологов, подходящих к проблеме с позиции «моторной теории внимания», видит во внимании проявление тех моторных установок, которые лежат в основе каждого волевого акта, и считают, что механизмом внимания являются сигналы мышечных усилий, которыми характеризуется всякое напряжение, вызванное определенной, направленной на известную цель деятельностью.
Легко видеть, что каждая из этих теорий выделяет определенный компонент, входящий в состав внимания, но фактически даже не пытается подойти к вопросу об общих физиологических механизмах, лежащих в основе внимания.
Значительные трудности возникали перед физиологами, которые выдвигали гипотезы об общих физиологических основах внимания.
В течение длительного времени эти попытки носили слишком общий характер и заключались скорее в описании общих условий избирательного протекания возбуждения, чем выделении специальных физиологических механизмов внимания.
Одной из наиболее ранних попыток была гипотеза известного английского физиолога Ч. Шеррингтона, которая в дальнейшем получила широко известное название «теории общего двигательного ноля», или «воронки Шеррингтона». Наблюдая факт, что сенсорных нейронов в задних рогах спинного мозга значительно больше, чем двигательных нейронов, Ч. Шеррингтон высказал положение, что не каждый двигательный импульс может дойти до своего двигательного конца, и большое число сенсорных возбуждений имеют свое «общее двигательное поле», что отношение сенсорных и моторных процессов можно уподобить воронке, в широкое отверстие которой входят сенсорные импульсы, а из узкого отверстия выходят двигательные иннервации. Легко видеть, что среди сенсорных импульсов возникает «борьба за общее двигательное поле», в которой побеждают наиболее сильные, наиболее подготовленные или входящие в известную биологическую систему импульсы. Несмотря на то, что Ч. Шерриштон был одним из первых физиологов, исследовавшим иитегративную деятельность мозга и сформулировавшим положение о системном строении физиологических процессов, теория «борьбы за общее двигательное поле» лишь в самых общих чертах приближается к указанию на физиологические механизмы, лежащие в основе внимания.
Такой же общий и скорее метафорический характер имеют и ранние высказывания И. П. Павлова, который уподоблял внимание (и ясное сознание) очагу оптимального возбуждения, движущегося по коре головного мозга наподобие «перемещающегося светового пятна». Идея очага оптимального возбуждения как основы внимания оказалась в дальнейшем очень важной и подводила к некоторым существенным физиологическим механизмам внимания, но, конечно, была слишком общей, чтобы удовлетворительно объяснять эти процессы.
Значительный вклад в анализ физиологических механизмов внимания внес замечательный русский физиолог Л. А. Ухтомский. Согласно его представлениям, возбуждение распределяется по нервной системе неравномерно, и каждая инстинктивная деятельность (как и условно — рефлекторные процессы) может создавать в нервной системе очаги оптимального возбуждения, которые приобретают доминирующий характер. Эти очаги, которые А. А. Ухтомский обозначил термином доминанты, не только господствуют над другими и тормозят существующие наряду с ними другие очаги, но приобретают даже способность усиливаться под влиянием действия посторонних возбуждений.
Так, лягушка, у которой в определенный период создается доминанта обхватывающего рефлекса передних лапок, реагирует на раздражение задних лапок усилением доминирующих обхватывающих движений передних лапок. Эта способность доминанты тормозить побочные рефлексы и даже усиливаться под влиянием посторонних раздражителей была оценена А. А. Ухтомским как процесс, напоминающий внимание, и именно это дало ему основание расценивать доминанту как физиологический механизм внимания.
Вклад теории «доминанты» в анализ физиологических механизмов избирательного протекания возбуждений несомненен. Однако оставалось еще найти те конкретные пути, на которых строятся отдельные виды избирательной деятельности животных и человека и те нейрофизиологические системы, которые лежат в ее основе. Эта работа и была проделана нейрофизиологами за последние 20 лет[1].
(обратно)Нейрофизиологические механизмы активации. Активирующая ретикулярная система
Исходным для современного исследования нейрофизиологических механизмов внимания является тот факт, что избирательный характер протекания психических процессов, характерных для внимания, может быть обеспечен лишь бодрственным состоянием коры, для которого типичен оптимальный уровень возбудимости. Этот бодрственный уровень коры может быть обеспечен только механизмами, поддерживающими нужный тонус коры, а эти механизмы связаны с сохранением нормальных отношений верхнего ствола с корой головного мозга, и прежде всего с работой той восходящей активирующей ретикулярной формации, роль которой мы уже описывали выше.
Именно эта восходящая активирующая ретикулярная формация доносит до коры:
• те импульсы, которые исходят от обменных процессов организма, реализуются влечениями и сохраняют кору в состоянии бодрствования;
• те возбуждения, которые исходят из работы экстеро — рецепторов, доводящих информацию, приходящую из внешнего мира, сначала в верхйие отделы ствола и ядра зрительного бугра, а затем и в кору головного мозга.
Как уже указывалось выше, отделение ретикулярной формации ствола от коры головного мозга приводит к снижению тонуса коры и вызывает сон.
Обеспечение оптимального тонуса и бодрственного состояния коры осуществляется, однако, не только восходящей активирующей ретикулярной формацией. С ней тесно связан и аппарат нисходящей ретикулярной системы, волокна которой начинаются в коре головного мозга (и прежде всего в медиальных и медиобазаль — ных отделах лобных и височных долей) и направляются как к ядрам ствола, так и к двигательным ядрам спинного мозга. Работа нисходящей ретикулярной формации очень важна тем, что с ее помощью до ядер мозгового ствола доводятся те избирательные системы возбуждения, которые первоначально возникают в коре головного мозга и являются продуктом высших форм сознательной деятельности человека с ее сложными познавательными процессами и сложными программами прижизненно формируемых действий.
Взаимодействие обеих составных частей активирующей ретикулярной системы и обеспечивает сложнейшие формы саморегуляции активных состояний мозга, меняя их под воздействием как элементарных (биологических), так и сложных (социальных по происхождению) форм стимуляции.
Решающее значение этой системы в обеспечении процессов активации (arousal) было проверено большой серией экспериментальных фактов, которые были получены выдающимися нейрофизиологами (Мэгун, Моруцци, Г. Джаспер, Д. Линдели, П. К. Анохин и др.).
Опыты Бремера показали, что перерезка нижних отделов ствола не приводит к изменению бодрствования, в то время как перерезка верхних отделов ствола вызывает сон с характерным для него появлением медленных электрических потенциалов. Как показал Д. Линдсли, в этих случаях сигналы, вызываемые сензорными раздражителями, продолжают доходить до коры, но электрические ответы коры на эти сигналы становятся лишь кратковременными и не вызывают длительных стойких изменений. Этот факт показывает, что для возникновения стойких процессов возбуждения, характеризующих состояние бодрствования, одного притока сензорных импульсов недостаточно, и необходимо поддерживающее влияние активирующей ретикулярной системы.
Обратные опыты, при которых исследователи не выключали, а раздражали восходящую ретикулярную формацию имплантированными в нее электродами, показали, что такое раздражение ретикулярной формации приводит к пробуждению животного, а дальнейшее усиление этих раздражений — к возникновению выраженных эффективных реакций животного.
Если только что приведенные опыты показывают, как влияет раздражение восходящей ретикулярной формации на поведение животного, то дальнейшие опыты, проведенные теми же авторами, дали возможность ближе познакомиться с физиологическими механизмами этих активирующих влияний.
Оказалось, что раздражение стволовой ретикулярной формации вызывало появление быстрых электрических колебаний в коре головного мозга и тех явлений «десин — хронизации», которые характерны для активного, бодрствующего состояния коры. В результате раздражения ядер восходящей ретикулярной формации в верхних отделах мозгового ствола сензорные раздражения начинали вызывать продолженные изменения в электрической активности коры, что показывало на усиливающее и фиксирующее действие ретикулярной формации на сензорные корковые узлы.
Наконец, что особенно важно, раздражение ядер восходящей активирующей ретикулярной формации вызывало повышение подвижности нервных процессов в коре головного мозга.
Так, если в обычных условиях два быстро следующих друг за другом стимула вызывали лишь одну электрическую реакцию коры, которая «не успевала» реагировать на стимулы по отдельности, то после раздражения стволовых ядер восходящей активирующей ретикулярной формации каждый из этих стимулов начинает вызывать изолированный ответ, что говорило о существенном повышении подвижности протекающих в коре процессов возбуждения.
Эти электрофизиологические явления соответствуют и фактам, полученным в психологических опытах Д. Линдсли, показавшего, что раздражение стволовых ядер восходящей активирующей ретикулярной формации существенно понижает порош чувствительности (иначе говоря, обостряет чувствительность) животного и позволяет тонкие дифференцировки (например дифференцировку изображения конуса от изображения треугольника), которые ранее были недоступны животному.
Дальнейшие исследования, проведенные некоторыми авторами (Доти, Эрпандес Пеон и др.), показали, что если перерезка путей восходящей ретикулярной формации приводит к исчезновению выработанных ранее условных рефлексов, то при раздражении ядер ретикулярной формации становится возможной выработка условных рефлексов даже на подпороговые раздражения, на которые условные рефлексы ранее не вырабатывались.
Все это отчетливо говорит об активирующем влиянии восходящей ретикулярной формации на кору головного мозга и указывает на то, что она обеспечивает оптимальное состояние мозговой коры, которое необходимо для бодрствования.
Возникает, однако, вопрос: обеспечивает ли восходящая ретикулярная формация только общее активирующее влияние на кору головного мозга или же ее активирующее влияние имеет специфические избирательные черты?
До последнего времени исследователи были склонны рассматривать активирующее влияние восходящей ретикулярной формации как модально — неспецифическое: оно одинаково сказывалось на всех сензорных системах и не обнаруживало какого — либо избирательного влияния на одну из них (зрение, слух и т. д.).
В последнее время были получены данные, указывающие на то, что активирующие влияния восходящей ретикулярной формации носят также специфический избирательный характер. Однако эта специфичность влияний активирующей ретикулярной формации другого рода: она обеспечивает не столько избирательную активацию отдельных сензорных процессов, сколько избирательную активацию отдельных биологических систем — системы пищевых, оборонительных, ориентационных рефлексов. На это указал известный советский физиолог П. К. Анохин, доказавший, что существуют отдельные части восходящей ретикулярной формации, которые активируют разные биологические системы и чувствительны к различным фармакологическим агентам.
Было показано, что уретан вызывает блокаду бодрствования и ведет к возникновению сна, но не вызывает блокаду оборонительных рефлексов на боль, и наоборот, аминазин не вызывает блокады бодрствования, но приводит к блокаде болевых оборонительных рефлексов.
Эти данные дают основания думать, что и в активирующем влиянии восходящей ретикулярной формации имеется известная избирательность, но эта избирательность соответствует всем основным биологическим системам, которые побуждают организм к активной деятельности.
Не меньший интерес для психологии представляют избирательные активирующие импульсы, обеспечивающиеся нисходящей активирующей ретикулярной формацией, волокна которой начинаются в коре головного мозга (особенно в медиальных отделах лобной и височной областей) и оттуда направляются к аппаратам верхних отделов ствола.
Есть основания предполагать, что именно эта система играет существенную роль в обеспечении избирательного активирующего влияния на те виды и составные элементы деятельности, которые формируются при ближайшем участии коры головного мозга, и что именно эти влияния имеют самое близкое отношение к физиологическим механизмам высших форм внимания.
Анатомические данные показывают, что нисходящие волокна ретикулярной формации практически начинаются во всех областях коры головного мозга, но в особенности от медиальных и медиобазальных отделов лобной доли и ее лимбической области. Их началом могут служить как нейроны глубоких отделов многих зон мозговой коры, так и особые группы нейронов, которые в большем числе находятся в лимбических зонах мозга (гипокампе) и базальных узлах (хвостатом теле). Эти нейроны существенно отличаются от тех специфических нейронов, которые реагируют на отдельные дробные свойства зрительных или звуковых раздражителей. В отличие от них, эти нейроны не реагируют на какие — либо специфические (зрительные или слуховые) раздражения: достаточно небольшого числа повторений таких раздражителей, чтобы они «привыкли» к ним и перестали отвечать на их предъявления какими — либо разрядами. Однако стоит только появиться любому изменению раздражителя, как нейроны отвечают на это изменение разрядами. Характерным является тот факт, что разряды могут Еюзникать в данной группе нейронов в одинаковой мере при изменении любых раздражителей (осязательных, зрительных, слуховых) и не только усиление, но даже ослабление раздражителей или отсутствие ожидаемого раздражителя (как например, при пропуске одного из ритмического ряда раздражителей) может вызывать активное действие этих нейронов.
В силу этих особенностей некоторые авторы, например известный канадский нейрофизиолог Г. Джаспер, предложили называть их «нейронами новизны», или «клетками внимания». Характерно, что в период, когда животное ожидает сигналы или ищет выход из лабиринта, именно в этих областях коры (где до 60 % всех нейронов относится к только что описанной группе) возникают активные разряды, которые прекращаются при устранении состояния активного ожидания.
Это говорит о том, что данные области коры и находящиеся в них неспецифические нейроны, которые реагируют на каждое изменение ситуации, являются важным аппаратом, модифицирующим состояние активности коры и регулирующим ее готовность к действию.
Если у животного наиболее существенной частью большого мозга, играющей важную роль в регуляции состояния готовности, имеют медиальные отделы лим — бической области и базальных узлов, то у человека с его высоко развитыми сложнейшими формами деятельности таким ведущим аппаратом, регулирующим состояние активности, становятся лобные отделы мозга.
В своих исследованиях известный английский физиолог Грей Уолтер показал, что каждое состояние активного ожидания (например ожидание третьего или пятого сигнала, в ответ на которые испытуемый должен был нажать кнопку) вызывает появление в лобных долях мозга особых медленных электрических колебаний, которые он назвал «волнами ожидания». Эти волны резко усиливаются, когда вероятность скорого появления ожидаемого сигнала возрастает, ослабляются, когда вероятность сигнала снижается, и полностью исчезают, когда инструкция ожидать появления сигнала отменяется.
Вторым доказательством той роли, которую играет кора лобных долей мозга в регуляции состояний активности, являются опыты, проведенные известным советским физиологом М. Н. Ливановым.
Отводя токи действия от большого числа пунктов черепа, соответствующих разным отделам коры, М. Н. Ливанов показал, что каждое интеллектуальное напряжение (например возникающее при решении сложных арифметических примеров, таких как умножение двузначного числа на двузначное) вызывает появление в лобных долях мозга большого числа синхронно работающих точек, это явление продолжается, пока напряжение остается, и исчезает после решения задачи. Особенно интересно, что число таких синхронно работающих пунктов в лобной коре особенно велико при тех патологических состояниях мозга, которые характеризуются стойким повышенным напряженным состоянием (как это, например, имеет место у больных с параноидной шизофренией), и исчезает после применения фармакологических воздействий, снимающих такое напряжение.
Все это говорит о том, что лобные доли мозга имеют решающее значение в возникновении возбуждений, отражающих изменение состояний активности человека.
Состояние повышенного «неспецифического» возбуждения в коре лимбической области животного и лобных долей человеческого мозга является источником тех импульсов, которые опускаются далее по волокнам нисходящей ретикулярной формации к верхним отделам ствола и оказывают существенное влияние на их работу.
Как показали наблюдения видных нейрофизиологов (Френча, Наута, Лагурепа и др.), раздражение отделов мозговой коры вызывает ряд изменений в электрической деятельности ядер ствола и ведет к оживлению ориентировочного рефлекса.
Так, при раздражении затылочных отделов коры головного мозга могут существенно изменяться электрические ответы с глубоких отделов зрительной системы (С. Н. Нарикашвили). Раздражение сензомоторной коры приводит либо к облегчению вызванных ответов в подкорковых отделах двигательной системы, либо к их задержке. Больше того, раздражение отдельных систем может привести к появлению ряда поведенческих реакций, входящих в состав ориентировочного рефлекса.
К подобным же явлениям приводят и сложные формы деятельности животного, вызывающие в коре очаги повышенного возбуждения, влияние которого через нисходящую ретикулярную формацию распространяется и на стволовые образования. Такие же факты были описаны известным мексиканским физиологом Э. Пеоном, который наблюдал, что активные электрические разряды ядер слухового нерва, возникающие у кошки в ответ на звуковые щелчки, исчезали, когда кошке показывали мышь или когда она ощущала запах рыбы. Эти факты показывают, что очаги возбуждения, возникающие в коре головного мозга, могут либо повышать, либо блокировать работу нижележащих образований мозгового ствола, иначе говоря, регулировать те состояния активности, которые возникают при их участии.
Аналогичное участие коры на работу нижележащих образований можно наблюдать в случаях, когда активирующее влияние коры головного мозга исчезает.
Так, разрушение (экстирпация) лимбической коры у животных приводит к отчетливым изменениям в электрической деятельности стволовых отделов мозга и к заметным нарушениям в их поведении. Разрушение коры или снижение ее влияния приводит к возникновению патологического оживления ориентировочного рефлекса и утере его избирательного характера, что в современной науке оценивается как устранение тормозящих влияний мозговой коры на механизмы подкорковой структуры ствола мозга.
Все это показывает, что восходящая и нисходящая ретикулярная система, связывающая кору головного мозга со стволовыми образованиями двусторонними связями, имеет не только общее, но и избирательное активирующее влияние. Причем если восходящая ретикулярная система, доводящая импульсы до коры головного мозга, лежит в основе биологически обусловленных форм активации (связанной как с обменными процессами и элементарными влечениями организма, так и с общим активирующим влиянием притока возбуждений), то нисходящая ретикулярная система вызывает активирующее влияние импульсов, возникающих в коре головного мозга на нижележащие образования, и тем самым обеспечивает высшие формы избирательной активации организма по отношению к конкретным задачам, возникающим перед человеком, и к сложнейшим формам его сознательной деятельности.
(обратно)Ориентировочный рефлекс как основа внимания
Активирующая ретикулярная система с ее восходящими и нисходящими волокнами является нейрофизиологическим аппаратом, обеспечивающим одну из наиболее важных форм рефлекторной деятельности, известную под названием ориентировочного (или ориентировочно — исследовательского) рефлекса. Его значение для понимания физиологических основ внимания настолько велико, что на нем следует остановиться специально.
Каждый безусловный рефлекс, имеющий в своей основе какое — либо биологически важное для животного воздействие (пищевое, болевое, половое), вызывает избирательную систему ответов на эти раздражители с одновременным торможением всех реакций на побочные. Такой же избирательный характер носят и условные рефлексы. При них одна система реакций, подкрепляемая безусловным раздражителем, доминирует, в то время как все остальные побочные реакции тормозятся. Можно сказать, что как безусловные, так и сформированные на их основе условные рефлексы создают известный доминирующий очаг возбуждения, протекание которого подчиняется доминанте.
Среди всех видов рефлекторной деятельности нужно, однако, выделить один, при котором поведение животного не возбуждается ни одним из перечисленных выше мотивов поведения и который не является ни пищевым, ни оборонительным, ни половым рефлексом. Основой этой деятельности является активная реакция животного на каждое изменение обстановки, которое и вызывает у животного общее оживление и ряд избирательных реакций, направленных на ознакомление с этими изменениями в ситуации. И. П. Павлов назвал этот вид рефлексов «ориентировочными рефлексами», или «рефлексами «что такое?»».
Ориентировочный рефлекс выражается в ряде отчетливых электрофизиологических, сосудистых и двигательных реакций, появляющихся каждый раз, когда в обстановке, окружающей животное, возникает что — нибудь необычное или существенное. К этим реакциям относятся:
• поворот глаз и головы в сторону нового объекта;
• реакция настораживания или прислушивания.
А у человека — появление кожно — гальванической реакции (изменение сопротивляемости кожи к электрическому току или появление собственных электрических потенциалов кожи), сосудистые реакции (сужение сосудов руки с расширением сосудов головы), изменение дыхания, наконец, возникновение явлений «десинхронизации» в биоэлектрических реакциях мозга, выражающихся в депрессии «альфа ритма» (электрических колебаний 10–12 в сек, характерных для работы мозговой коры в спокойном состоянии). Все эти явления можно наблюдать каждый раз, когда возникает реакция настораживания, или ориентировочный рефлекс, вызываемый появлением нового или существенного для субъекта раздражителя.
Среди ученых нет еще единодушного ответа на вопрос, является ли ориентировочный рефлекс безусловной или условной реакцией.
По своему врожденному характеру ориентировочный рефлекс можно отнести к числу безусловных. Животное отвечает реакцией настораживания на любые новые или существенные раздражители без всякого обучения; по этому признаку ориентировочный рефлекс относится к числу безусловных, врожденных реакций организма. Наличие особых нейронов, которые отвечают разрядами на каждое изменение ситуации, указывает на то, что в его основе лежит действие определенных нервных приборов.
С другой стороны, ориентировочный рефлекс обнаруживает ряд признаков, существенно отличающих его от обычных безусловных рефлексов: при неоднократном повторении одного и того же раздражителя явления ориентировочного рефлекса скоро угасают, организм привыкает к этому раздражителю, и его предъявления перестают вызывать описанные реакции. Это исчезновение ориентировочных реакций на повторяющиеся раздражители называется привыканием (habituation).
Следует отметить, что это исчезновение ориентировочного рефлекса по мере привыкания может быть временным явлением, и достаточно небольшого изменения в раздражителе, чтобы ориентировочная реакция снова возникла. Это явление возникновения ориентировочного рефлекса при малейшем изменении раздражения иногда называется реакцией «пробуждения» (или arousal). Характерно, что такое появление ориентировочного рефлекса, как мы уже отмечали выше, может иметь место не только при усилении, но и при ослаблении привычного раздражителя и даже при его полном исчезновении. Так, достаточно сначала «угасить» ориентировочные рефлексы на ритмически предъявляемые раздражители, а затем, после того как ориентировочные реакции на каждое раздражение угасли в результате привыкания, пропустить один из ритмически предъявляемых раздражителей. В этом случае отсутствие ожидаемого раздражителя вызовет появление ориентировочного рефлекса.
Всеми этими признаками своей динамики ориентировочный рефлекс существенно отличается от безусловного рефлекса. Следует отметить и тот факт, что ориентировочный рефлекс может быть вызван и условным раздражителем: его можно получить, если предъявлять животному условный сигнал, который будет говорить о появлении какого — либо изменения в окружающей обстановке. У человека таким сигналом может быть слово, которое легко вызывает у него явления подготовки, настораживания, ожидания появления сигнала и т. п.
Было бы неверным думать, что ориентировочный рефлекс носит характер общей, генерализированной активации организма. На самом деле он может иметь дифференцированный, избирательный характер, причем эта избирательность может проявляться как по отношению к возникающим сигналам, так и по характеру той готовности эффекторных двигательных аппаратов, которые вызываются «настороженностью».
Это легко видеть, если длительно предъявлять испытуемому какой — нибудь один сигнал, например звук определенной высоты, тогда в силу привыкания все реакции на этот звук будут угашены, однако это «привыкание» будет носить избирательный характер, и стоит только минимально изменить высоту звука, чтобы весь комплекс ориентировочных реакций снова появился. Такой прием позволил советскому исследователю Е. Н. Соколову объективно оценить ту избирательность, которой характеризуются ориентировочные реакции («реакции пробуждения») в отношении дифференцированных сигналов, и говорить о «нервной модели стимула», которая обнаруживается с помощью этого приема.
(обратно)Установка и внимание
Высокая избирательность ориентировочного рефлекса может появиться и в отношении его эффекторной, двигательной части.
Исследования показали, что если человек ожидает вспышки света, то у него возникает изменение электрических ответов («вызванных потенциалов») в зрительных (затылочных) областях коры, а если он ожидает болевого раздражения — изменение электрических ответов («вызванных потенциалов») в сензомоторной области коры.
Если субъект предупреждается, что в ответ на сигнал он должен реагировать движением правой руки, то ожидание этого сигнала вызывает изменение электрических явлений (электромиограммы) в мышцах правой руки, не вызывая таких же явлений в мышцах левой руки. Обратное имеет место, если субъект предупреждается, что в ответ на сигнал он должен произвести движение левой рукой. Такое состояние готовности к определенному движению называется установкой на движение, и его объективные признаки носят строго избирательный характер.
Эти факты также показывают, что реакция активации, включенная в систему ориентировочного рефлекса, может носить строго избирательный характер.
Избирательный характер установки, вызываемый у человека готовностью к какой — либо деятельности, был детально изучен выдающимся советским психологом Д. Н. Узнадзе в его широко известных опытах с фиксированной установкой.
Если после того, как испытуемому предлагалось несколько раз ощупывать правой рукой маленький шар, у него оставалась «фиксированная установка» — готовность к тому, что в правую руку будет даваться шар, большой по объему. Поэтому, когда неожиданно для испытуемого в обе руки давались одинаковые шары, этот раздражитель вступал в конфликт с ожидаемой неравномерностью шаров, и шар, даваемый в правую руку, по контрасту с ожидаемым оценивался как меньший, чем шар, даваемый в левую руку.
Эта установка, проявляющаяся в только что описанной «контрастной иллюзии», сохранялась некоторое время, а потом постепенно угасала, причем у различных субъектов этот процесс угасания фиксированной установки мог носить различный характер: у одних созданная установка угасала постепенно и обнаруживала колебания (контрастная иллюзия то появлялась, то исчезала, с тем чтобы наконец полностью угаснуть); у других она длилась лишь очень короткое время и исчезала сразу.
Индивидуальные различия в созданной установке обнаруживались и в степени ее избирательности. У одних испытуемых установка на различную величину шаров, вызванная описанным экспериментом, ограничивалась лишь двигательной сферой и проявлялась только в описанных опытах с ощупыванием шаров и, следовательно, носила концентрированный характер. У других она распространялась и на другие сферы, и после того как описанная иллюзия была вызвана в двигательной сфере (ощупывание шаров разных размеров правой и левой рукой), она проявлялась и в зрительной сфере — в иллюзии того, что из двух одинаковых по диаметру окружностей правая (соответствующая правой руке) меньше, чем левая; это явление указывает на иррадиированный характер вызванной установки.
Опыты с установкой, являющиеся специальным приемом исследования явлений активации, указывают, насколько избирательный характер могут носить эти явления у человека. Они открывают новые перспективы для исследования процессов активации у человека и для анализа тех факторов, которые ее регулируют.
Явления «ориентировочного рефлекса» и «активации» могут вызываться любым изменением в обстановке или ожиданием нового или существенного стимула. Они постепенно угасают в результате «привыкания» и снова появляются при изменении привычного характера действующих на субъекта раздражителей.
Все эти явления носят естественный характер и лежат в основе непроизвольного внимания.
Однако человек располагает возможностью изменить естественные законы протекания ориентировочного рефлекса, сделать состояние активации более устойчивым и вызвать стойкие, длительно не угасающие состояния напряженного внимания даже в тех условиях, когда в привычном характере раздражителя внешне ничего не изменяется, когда они физически остаются теми же самыми, и когда, в силу естественных законов, явления ориентировочного рефлекса должны были давно исчезнуть.
Такая возможность продлить состояние длительной активации и выйти за пределы естественных законов его угасания может быть достигнута у человека с помощью речевой инструкции.
Для этого достаточно предложить испытуемому длительно считать предъявляемые раздражители или, дав ему задачу, следить за изменением. В этих случаях физически раздражители остаются теми же самыми, и реакции на них должны были бы давно угаснуть, однако речевая инструкция, ставящая перед субъектом известную задачу, поддерживает постоянное состояние активности. В первом случае (когда испытуемый считает порядок раздражителей) каждый из них физически остается старым и хорошо знакомым, а психологически, приобретая известный номер, становится новым, и это мобилизует внимание субъекта, поддерживает состояние повышенного тонуса. Во втором случае задача ожидать, когда появится какое — либо изменение в раздражителе, превращает наблюдение за ним в деятельность активного прослеживания, в силу этого реакция активации сохраняется длительное время, даже несмотря на то что фактически раздражители не меняются.
Характерно, что устранение описанной речевой инструкции быстро приводит к тому, что ранее сохранившиеся признаки стойкого ориентировочного рефлекса быстро исчезают.
Действие речевой инструкции может вызвать сильное и вместе с тем строго избирательное влияние, создавая стойкий доминирующий очаг возбуждения и изменяя обычные силовые отношения в действии раздражителя.
Известно, что сильный раздражитель вызывает повышенную, а более слабый раздражитель — ослабленную реакцию. Однако эти естественные отношения по интенсивности раздражителей могут меняться в результате речевой инструкции, вызывающей у человека избирательное внимание к определенному раздражителю. Этот факт иллюстрируется записью объективных симптомов ориентировочного рефлекса к различным по силе раздражителям.
Если в обычном состоянии, когда сильный посторонний раздражитель вызывает повышенные ориентировочные реакции (сужение сосудов руки), в то время как слабые звуковые сигналы (тихие звуковые тоны) не вызывают реакций, при инструкции считать число таких звуковых сигналов они продолжают стойкие сосудистые ответы (признак ориентировочной реакции), в то время как посторонний сильный шум не отвлекает испытуемого от выполняемой задачи и не вызывает какой — либо заметной ориентировочной реакции.
Возможность регулировать процессы активации посредством речевой инструкции является одним из важнейших фактов психофизиологии человека. Она составляет физиологическую основу высших специфически человеческих форм внимания, а регистрация влияния речевой инструкции на протекание объективных симптомов ориентировочного рефлекса — одним из наиболее важных психофизиологических методов изучения внимания человека.
(обратно)Виды внимания
В психологии различают два основных вида внимания — непроизвольное и произвольное.
О непроизвольном внимании говорят в тех случаях, когда внимание человека непосредственно привлекается либо сильным, либо новым, либо интересным (соответствующим потребности) раздражителем. Именно с таким видом внимания мы имеем дело, когда помимо желания поворачиваем голову, если в комнате внезапно раздается стук, настораживаемся, когда слышим непонятные шумы или когда наше внимание привлекается каким — либо новым, неожиданным изменением обстановки.
Механизмы непроизвольного внимания у нас с животными общие. Мы уже говорили во вводной части главы о факторах этого вида внимания и о его нейрофизиологических основах, когда разбирали механизмы ориентировочного рефлекса.
Легко видеть, что этот вид внимания имеет место уже у маленького ребенка, и следует лишь отметить, что на первых этапах оно носит неустойчивый и относительно узкий по объему характер (ребенок раннего и дошкольного возраста очень быстро теряет внимание к возникшему новому раздражителю, ориентировочный рефлекс у него быстро угасает или тормозится появлением любого другого раздражителя), объем его внимания относительно узок, и он не может распределить свое внимание между несколькими раздражителями, возвращаясь к предшествующему и не упуская из поля своего внимания предыдущий.
Произвольное внимание свойственно лишь человеку. Оно долгое время оставалось загадкой для психологии, и на нем следует остановиться особо.
Основной факт, указывающий на наличие у человека особого типа внимания, не свойственного животным, состоит в том, что человек произвольно может сосредоточивать свое внимание то на одном, то на другом объекте, даже в тех случаях, когда в окружающей его обстановке ничего не меняется.
Наиболее известный пример произвольного внимания был дан французским психологом Рево д'Аллонном, он стал основой для его идеалистической философии.
Если мы предложим человеку внимательно разглядывать шахматную доску, клетки которой сохраняют неизменный характер, то он соответственно нашей или собственной инструкции легко сможет выделить в этом однородном фоне самые разнообразные фигуры. В однородном и неменяющемся поле оказывается скрыто много разнообразных структур, и человек по своему желанию может выделить любые новые структуры из этого неизменного поля. Иногда эта возможность произвольно выделять нужную структуру из поля появляется еще отчетливее, и соответственно своему желанию человек может выделять менее четкую структуру из более четких, преодолевая те законы структурного восприятия, которые мы описали выше.
Таким образом, становится ясно, что человек может выходить за пределы естественных законов восприятия, не подчиняясь действию однородного фона или сильных перцепторных структур, а выделяя нужные ему структуры и меняя их по своему желанию.
Все эти факты дали Рево д'Аллонну основание для обоснования идеалистического представления о психических процессах человека, указывая, что если поведение животного подчиняется прямому воздействию среды, то поведение человека располагает возможностью произвольно распознавать любые схемы и подчинять свое поведение этой свободной «схематизации», которую он считал основным свойством человеческого духа.
Аналогичные явления можно было наблюдать и в организации движений человека: достаточно человеку решить, что он поднимет руку, чтобы его рука как бы автоматически поднялась; это явление известный психолог У. Джемс обозначил латинским термином «fiat!» (Да будет!), видя в нем самое простое доказательство существования свободной воли, которая не подчинялась законам природы, но сама определяла поведение человека.
Дальнейшие наблюдения показали, что даже простая мысль о предстоящем движении руки вызывает в ней отчетливое напряжение, которое можно зарегистрировать в изменении электромиограммы руки. Эти явления получили в психологии название «идеомоторных актов» и нередко приводились как иллюстрации влияний представления на движение.
Наконец, такие же явления произвольного внимания можно наблюдать и в интеллектуальной деятельности, когда человек сам ставит перед собой соответствующую задачу и эта задача определяет дальнейшее избирательное течение его ассоциаций.
Вот почему факты произвольного внимания относились в классических руководствах по психологии к разделу «Воля» и использовались для иллюстрации положения психики о том, что человек не подчиняется объективным законам природы, но зависит от влияний, исходящих из свободного духа.
Легко видеть, что все эти наблюдения описывали реально существующие факты, но объяснение этих фактов в рамках традиционной естественнонаучной психологии оказывалось невозможным, и именно это широко раскрывало двери для ненаучных идеалистических гипотез о влиянии «свободной воли» на протекание психических процессов человека.
Тупик, в который пришли попытки объяснить явления произвольного внимания в классической естественнонаучной психологии, можно преодолеть, если изменить традиционные представления о сознательных процессах, перестать рассматривать их как первичные, всегда существующие особенности духовной жизни и рассматривать их как продукт сложного общественно — исторического развития. Только сделав этот шаг и рассмотрев вопрос о генезе произвольного внимания, можно увидеть подлинные корни и подойти к его научному объяснению.
Как мы уже указали выше (ч. I, гл. III), ребенок живет в окружении взрослых и развивается в процессе живого общения с ними.
Это общение, осуществляемое с помощью речи, действий и жестов взрослого, существенно влияет на организацию его психических процессов.
Ребенок раннего возраста рассматривает окружающую его привычную обстановку, и его взор блуждает по окружающим предметам, не останавливаясь ни на одном из них и не выделяя того или иного предмета из остальных. Мать говорит ребенку: «Это чашка!» и указывает на нее пальцем. Слово и указательный жест матери сразу же выделяют этот предмет из остальных, и ребенок фиксирует взглядом указанную чашку и тянется к ней рукой. В этом случае внимание ребенка продолжает носить непроизвольный внешне детерминированный характер, с той только разницей, что к естественным факторам внешней среды присоединяются факторы общественной организации его поведения, управление вниманием ребенка посредством указательного жеста и слова. В этом случае организация внимания разделена между двумя людьми: мать направляет внимание, ребенок подчиняется ее указательному жесту и слову.
Однако это является лишь первым этапом формирования произвольного внимания: внешним по источнику и социальным по природе. В процессе своего дальнейшего развития ребенок овладевает речью и оказывается в состоянии самостоятельно указывать на предметы и называть их. Развитие речи ребенка вносит коренную перестройку в управление его вниманием. Сейчас он уже оказывается в состоянии самостоятельно перемещать свое внимание, указывая на тот или иной предмет жестом или называя его соответствующим словом. Организация внимания, которая раньше была разделена между двумя людьми, матерью и ребенком, становится теперь новой формой внутренней организации внимания, социальной по своему происхождению, но внутренне опосредованной по своей структуре. Этот этап и следует считать этапом рождения новой формы произвольного внимания, которое оказывается не изначально присущей человеку формой проявления «свободного духа», а продуктом сложного социально — исторического развития.
На дальнейших этапах речь ребенка развивается: создаются все более сложные и подвижные внутренние речевые (интеллектуальные) структуры и внимание человека приобретает новые черты, становится управляемым внутренними интеллектуальными схемами, которые сами являются продуктом сложного социального формирования психических процессов.
Все это показывает:
• что произвольное внимание человека с его подвижным и независимым от непосредственных внешних воздействий характером действительно существует;
• имеет объяснимый детерминированный характер, является социальным по происхождению и опосредованным внутренними речевыми процессами по своему строению.
По мере дальнейшего развития внутренние речевые и интеллектуальные процессы ребенка становятся настолько сложными и автоматизированными, что перевод внимания с одного объекта на другой перестает требовать специальных усилий и приобретает характер той легкости и, казалось бы, «непроизвольности», которую ощущаем все мы, когда в нашем мышлении легко переходим с одного объекта на другой или когда оказываемся в состоянии длительно сохранять напряженное внимание по отношению к интересующей нас деятельности.
Мы еще рассмотрим механизмы высших видов внимания, после того как осветим вопросы формирования сложных интеллектуальных процессов.
(обратно)Методы исследования внимания
Психологические исследования внимания, как правило, ставят своей задачей исследование произвольного внимания — его объема, устойчивости и распределения. Исследование наиболее сложных форм внимания представляет больший интерес, чем изучение непроизвольного внимания, которое в значительной степени выявляется с помощью описанных выше приемов изучения ориентировочного рефлекса и которое может существенно нарушаться только при массивных поражениях мозга, приводящих к общему снижению активности.
Исследование объема внимания обычно производится путем анализа числа одновременно предъявляемых элементов, которые могут быть с ясностью восприняты субъектом. Для этих целей используется прибор, позволяющий предъявлять определенное число раздражителей за такое короткое время, за которое испытуемый не может перевести глаза с одного объекта на другой, исключая движение глаз, а также измерить число единиц, доступных для одновременного (симультанного) восприятия.
Прибор, применяемый для этой цели, называется тахистоскопом (от греч. тахисто — быстрый, скопио — смотрю). Он состоит обычно из окошечка, отделенного от рассматриваемого объекта падающим экраном, прорезь которого может произвольно изменяться, так что рассматриваемый объект появляется на очень короткий промежуток времени от 10 до 50–100 мсек.
Иногда для быстрой экспозиции объекта применяется вспышка, дающая возможность рассматривать объект в течение очень краткого времени (1–5 мсек).
Число ясно воспринятых предметов и является показателем объема внимания. Если предъявляемые фигуры достаточно просты и разбросаны по демонстрируемому полю в беспорядке, объем внимания обычно не превышает 5–7 одновременно ясно воспринимаемых объектов.
Для того чтобы избежать влияния последовательного образа, краткую экспозицию предъявляемых объектов обычно сопровождают «стирающим образом», для чего на темном экране, который остается видимым, испытуемому рисуется беспорядочный набор линий, без изменения сохраняющихся после всех предъявлений и как бы «стирающих» последовательный образ предъявляемых объектов.
В последнее время были сделаны попытки выразить объем внимания в числах, принятых в теории связи для измерения «пропускной способности каналов» путем использования теории информации, однако эти попытки измерения объема внимания в «битах» (единицах теории информации) имеют ограниченное значение и применимы лишь в тех случаях, когда испытуемый имеет дело с хорошо известным ему конечным числом возможных фигур, из них лишь некоторые предъявляются ему на короткий срок.
Понятие «объем внимания» очень близко к понятию «объем восприятия», и широко применяемые в литературе понятия «поле ясного внимания» и «поле неясного внимания» очень близки к понятиям «центр» и «периферия» зрительного восприятия, в отношении которого они были подробно разработаны.
Наряду с исследованием объема внимания большое значение имеет исследование устойчивости внимания, оно ставит перед собой задачу установить:
• насколько прочно и устойчиво сохраняется внимание к определенной задаче в течение длительного времени;
• отмечаются ли при этом известные колебания в устойчивости внимания;
• когда возникают явления утомления, при которых внимание субъекта начинает отвлекаться побочными раздражителями.
Для измерения устойчивости внимания обычно используются таблицы Бурдона, состоящие из беспорядочного чередования отдельных букв, причем каждая буква повторяется в каждой строке одно и то же число раз. Испытуемому предлагается в течение длительного времени (3, 5, 10 мин) вычеркивать заданные буквы (в простых случаях одну или две буквы, в сложных — заданную букву лишь в том случае, если она стоит перед другой, например гласной буквой). Экспериментатор отмечает число букв, вычеркнутых в течение каждой минуты, и число обнаруженных пропусков. Колебания внимания выражаются в уменьшении продуктивности работы и в увеличении числа пропусков.
Аналогичное значение имеют таблицы Е. Крепелина, состоящие из столбиков цифр, которые испытуемый должен складывать в течение длительного времени. Продуктивность работы и число допускаемых ошибок могут служить показателем колебаний внимания.
Для того чтобы повысить требования к произвольной организации внимания, проведение описанных проб осложняется выделением отвлекающих факторов. Так, испытуемому дается задание вычеркивать определенные буквы не в бессмысленном наборе букв, даваемом в таблицах Бурдона, а в интересном по содержанию тексте. В этом случае отвлекающее влияние интересного текста может привести к повышению числа пропусков и снижению продуктивности работы, и наоборот, устойчивость произвольного внимания выражается в том, что выполнение требуемой задачи остается неизменным даже в условиях введения отвлекающих внимание влияний.
Большое значение имеет исследование распределения внимания. Еще ранними экспериментами В. Вундта было доказано, что человек не может сосредоточить внимание на двух одновременно предъявляемых раздражителях и что так называемое «распределение внимания» между двумя раздражителями фактически является сменой внимания, быстро переходящего от одного раздражителя к другому. Это было показано с помощью так называемого компликационного аппарата, который давал возможность предъявлять зрительный раздражитель (например, стрелку в положении «1») одновременно со звуковым раздражителем — звонком.
Опыты показали, что, если испытуемые обращают внимание на движущуюся стрелку, им кажется, что звонок, сопровождающий ее прохождение мимо соответствующей отметки, запаздывает и появляется на несколько делений позже; если же они обращали внимание на звонок, то восприятие движущейся стрелки запаздывало, и испытуемый относил появление звонка к более раннему моменту.
Большое практическое значение имеет исследование распределения внимания в длительной работе; для этой цели используются так называемые «таблицы Шульте». На этих таблицах дается два ряда беспорядочно разбросанных красных и черных цифр. Испытуемый должен в последовательном порядке указывать на серию цифр, чередуя каждый раз красную и черную цифру, или при осложненных условиях указывать на красные цифры в прямом, а черные в обратном порядке.
Возможность длительно распределять свое внимание выражается в кривой, отмечающей время, затрачиваемое на нахождение каждой из цифр, входящих в оба ряда.
Как показали исследования, столь же отчетливо выступают индивидуальные различия у отдельных испытуемых; эти различия могут надежно отражать некоторые реакции в силе и подвижности нервных процессов и могут с успехом быть использованы в диагностических целях.
(обратно)Развитие внимания
Признаки развития устойчивого непроизвольного внимания отчетливо проявляются уже в самые первые недели жизни ребенка. Их можно наблюдать в ранних симптомах проявления ориентировочного рефлекса — фиксации взором предмета и остановки сосательных движений при первом разглядывании предметов или манипуляции ими. Можно с полным основанием утверждать, что и первые условные рефлексы начинают вырабатываться у младенца на основе ориентировочного рефлекса, иначе говоря, только если он обращает внимание на раздражитель, выделяет его, сосредоточивается на нем.
Сначала непроизвольное внимание ребенка первых месяцев жизни носит характер простого ориентировочного рефлекса на сильные или новые раздражители, прослеживания их глазом, «рефлекса сосредоточения» на них. Лишь позднее непроизвольное внимание ребенка приобретает более сложные формы и на его основе начинает складываться ориентировочно — исследовательская деятельность в виде манипулирования предметами, однако на первых порах эта ориентировочно — исследовательская деятельность очень неустойчива, и стоит появиться другому предмету, как манипуляция первым предметом прекращается. Это показывает, что уже в первый год жизни ребенка ориентировочно — исследовательский рефлекс здесь носит быстро истощающийся характер, легко тормозится посторонними воздействиями и вместе с тем обнаруживает уже известные нам черты «привыкания» и при длительном повторении угасает. Однако наиболее существенная проблема заключается в высших, произвольно регулируемых формах внимания. Эти формы внимания проявляются прежде всего в подчинении поведения речевым инструкциям взрослого, и затем, гораздо позднее, в формировании устойчивых видов саморегулирующегося произвольного внимания ребенка.
Было бы неверно думать, что такое направляющее внимание, регулирующее влияние речи, возникает у ребенка сразу. Факты показывают, что речевая инструкция «дай лялю» вызывает у ребенка лишь общую ориентировочную реакцию и воздействует на ребенка, если она сопровождается реальным действием взрослого. Характерно, что на первых порах речь взрослого, называющего предмет, привлекает внимание ребенка, если название предмета совпадает с его непосредственным восприятием. В тех случаях, когда называемого предмета нет в непосредственном поле зрения ребенка, речь вызывает у него лишь общую ориентировочную реакцию, которая быстро угасает.
Лишь к концу первого и началу второго года жизни называние предмета или речевой приказ начинают получать влияние; ребенок направляет свой взор на названный предмет, выделяя его из остальных, или ищет его, если предмета нет перед ним. Однако на этом этапе влияние речи взрослого, направляющей внимание ребенка, еще очень неустойчиво, и вызванная ею ориентировочная реакция очень быстро уступает место непосредственной ориентировочной реакции на более яркий, новый или интересный для ребенка предмет. Это можно отчетливо проследить, если дать ребенку этого возраста инструкцию достать предмет, расположенный на некотором отдалении от него. В этом случае взгляд ребенка направляется к этому предмету, но быстро соскальзывает на другие, ближе расположенные предметы, и ребенок начинает тянуться рукой не к названному, а к ближе расположенному или более яркому раздражителю.
К середине второго года жизни выполнение речевой инструкции взрослого, направляющей избирательное внимание ребенка, становится более прочным, однако и здесь сравнительно небольшое усложнение опыта легко срывает ее влияние. Так, достаточно на небольшой промежуток времени (иногда на 15–30 сек) отсрочить выполнение речевой инструкции, чтобы она теряла свое направляющее влияние, и ребенок, который без труда выполнял ее сразу, начинал тянуться к посторонним, непосредственно привлекающим его предметам. Такого же срыва в выполнении речевой инструкции можно достигнуть и другим путем. Если несколько раз подряд предлагать ребенку, перед которым находятся два предмета (например чашка и рюмка), инструкцию «дай чашку!», а затем, закрепив ее, заменить ее на другую и тем же тоном сказать ребенку «дай рюмку!», ребенок, деятельность которого характеризуется значительной инертностью, подчиняется этому инертному стереотипу и продолжает тянуться к чашке, повторяя свои прежние движения.
Только в середине второго года жизни речевая инструкция взрослого приобретает достаточно прочную способность организовать внимание ребенка, однако и на этом этапе она легко теряет свое регулирующее значение. Так, ребенок этого возраста без труда выполняет инструкцию «монетка под чашкой, дай монетку», если монетка пряталась под чашкой на его глазах, однако если это не имело места и монетка пряталась под один из предметов незаметно от ребенка, направляющее внимание инструкции легко срывается непосредственным ориентировочным рефлексом, и ребенок начинает тянуться к расположенным перед ним предметам, действуя независимо от речевой инструкции.
Таким образом, действие речевой инструкции, направляющей внимание ребенка, обеспечивается на ранних этапах только в тех случаях, когда она совпадает с непосредственным восприятием ребенка.
Ребенок полутора — двухлетнего возраста может легко начать выполнять речевую инструкцию «нажми мячик», если резиновый баллон находится у него в руке. Однако движения нажима на баллон, вызванные речевым приказом, не прекращаются, и ребенок продолжает много раз подряд нажимать на баллон даже после того, как ему дополнительно дается приказ: «Не надо нажимать!»
Речевая инструкция пускает в ход движение, но не может затормозить его, и вызванные ею двигательные реакции продолжают инертно выполняться независимо от ее влияния.
Границы направляющего влияния речевой инструкции выступают особенно отчетливо при усложнении речевой инструкции. Так, рассматривая поведение маленького ребенка, которому дается речевая инструкция: «Когда будет огонек, ты нажмешь на мячик», требующая установления связи двух элементов сформулированного условия, можно легко увидеть, что она не сразу приобретает у него организующее влияние. Ребенок, воспринимающий каждую часть этой инструкции, дает непосредственную двигательную реакцию и, услышав фрагмент: «Когда будет огонек…», начинает искать этот огонек, а услышав фрагмент: «Ты нажмешь на мячик», сразу же начинает нажимать на баллон.
Таким образом, если к возрасту 2–2,5 года простая речевая инструкция может направить внимание ребенка и привести к достаточно четкому выполнению двигательного акта, сложная речевая инструкция, требующая предварительного синтеза включенных в нее элементов, еще не может вызвать нужного организующего влияния.
Лишь в процессе дальнейшего развития в течение второго и третьего года жизни речевая инструкция взрослого, дополненная в дальнейшем участием собственной речи ребенка, становиться фактором, устойчиво направляющим его внимание. Однако это устойчивое влияние речевой инструкции, направляющей внимание ребенка, складывается при его собственной активной деятельности. Поэтому для того, чтобы организовать свое устойчивое внимание, ребенок должен не только выслушать речевую инструкцию взрослого, но и сам практически выделить нужные признаки, закрепив их в своем практическом действии.
Этот факт был показан многими советскими психологами. Так, в опытах А. Г. Рузской детям раннего дошкольного возраста предлагалась словесная инструкция, требующая реагировать движением при появлении треугольника и воздерживаться от реакции при появлении квадрата. Сначала ребенок, усвоивший эту задачу, делал много ошибок, реагируя на признак «угловатости», имеющийся в обеих фигурах; только после того, как дети младшего дошкольного возраста практически знакомились с этими фигурами, манипулировали ими и «обыгрывали» их, реакции на фигуры приобретали избирательный характер, и дети начинали согласно инструкции отвечать движением только на появление квадрата, воздерживаясь от движения при появлении треугольника. На следующем этапе у 4–5–летних детей практическое выделение признаков фигур можно было заменить развернутым речевым объяснением («вот это окошечко, когда оно появится, надо нажимать, а это колпачок, на него нажимать не надо»), после такого развернутого объяснения речевая инструкция начинала устойчиво направлять внимание, приобретая прочное регулирующее влияние.
Аналогичные факты были получены в опытах В. Я. Василевской. В них детям давался ряд картин, каждая изображала ситуацию, в которой участвовала собака. Предлагалось отобрать картины, где «собака заботится о своих щенках», или картины, где «собака служит человеку». Такая инструкция не оказывала никакого направляющего влияния на поведение детей двухлетнего возраста. Картина возбуждала у них поток ассоциаций, дети просто начинали рассказывать все, что они раньше видели. У детей 2,5–3 лет избирательное внимание к данной задаче можно было обеспечить только в том случае, если ребенку разрешалось практически проигрывать изображенную ситуацию, повторяя задание. Для детей 3,5–4 лет устойчивое внимание к выполнению нужной задачи было возможно лишь при громком повторении задания и развернутом анализе ситуации, и только ребенок 4,5–5 лет оказывался в состоянии устойчиво направлять свою деятельность инструкцией, сохраняя избирательное направление внимания на те признаки, которые были в ней обозначены.
Развитие произвольного внимания в детском возрасте было прослежено еще в ранних опытах Л. С. Выготского, а затем А. Н. Леонтьева, которые показали, что и на дальнейших ступенях развития можно наблюдать описанный выше путь формирования произвольного внимания путем опоры на развернутые внешние вспомогательные средства с их последующим сокращением и постепенным переходом к высшим формам свернутой внутренней организации внимания.
В опытах Л. С. Выготского в некоторые банки прятался орех, и ребенок должен был достать его; для ориентировки к банкам, в которых был спрятан орех, прикреплялись маленькие серые бумажки. Обычно ребенок 3–4 лет не обращал внимания на них и не выделял избирательно нужные банки, однако после того, как орех клался в банки на его глазах и ему указывали на серую бумажку, она приобретала характер знака, говорящего о скрытой цели и направляла внимание ребенка. У детей более позднего возраста указательный жест заменялся словом, ребенок начинал самостоятельно пользоваться указательным знаком, опираясь на который он мог организовать свое внимание.
Аналогичные факты наблюдал и А. Н. Леонтьев, предлагая детям выполнить трудную задачу такой игры: «Да или нет не говорите, черный, белый не берите», к которой присоединялось еще более трудное условие, запрещающее дважды повторять название одного и того же цвета. Такая задача оказалась недоступной даже для детей школьного возраста, и ребенок раннего школьного возраста овладевал ею, только откладывая соответствующие окрашенные карточки, и поддерживал свое избирательное внимание с помощью внешних опосредствованных опор. Ребенок старшего школьного возраста переставал испытывать необходимость во внешних опорах и оказывался в состоянии организовать свое избирательное внимание. Сначала путем внешнего развернутого проговаривания как инструкции, так и дальнейших «запрещенных» ответов, и лишь на самых последних этапах ограничивался внутренним нро — говариванием (умственным запечатлением) условий, направляющих его избирательную деятельность.
Сказанное позволяет прийти к заключению, что произвольное знание, которое в классической психологии считалось первичным, далее несводимым проявлением «свободной воли» или основным качеством «человеческого духа», на самом деле является продуктом сложнейшего развития. У истоков этого развития стоят формы общения ребенка со взрослым, а в качестве основного фактора, обеспечивающего формирование произвольного внимания, выступает речь, которая сначала подкрепляется развернутой практической деятельностью ребенка, а затем постепенно сокращается и приобретает характер внутреннего действия, опосредующего поведение ребенка и обеспечивающего регуляцию и контроль его поведения. Формирование произвольного внимания открывает пути понимания внутренних механизмов этой сложнейшей формы организации сознательной деятельности человека, играющей решающую роль во всей его психической жизни.
(обратно)Патология внимания
Нарушение внимания является одним из самых важных симптомов патологического состояния мозга, и его исследование может внести важные данные в диагностику мозговых поражений.
При массивном поражении глубоких отделов мозга (верхнего ствола, стенок третьего желудочка, лимбической системы) могут иметь место тяжелые нарушения непроизвольного внимания, проявляющиеся в виде общего снижения активности и выраженных нарушений механизмов ориентировочного рефлекса.
Эти нарушения могут носить разный характер:
1) характер выпадения. Нарушение проявляется в том, что ориентировочный рефлекс нестойкий и быстро угасает;
2) характер патологического раздражения стволовых и лимбических систем, в результате которого раз возникшие симптомы ориентировочного рефлекса не угасают и в течение длительного времени раздражители продолжают вызывать неугасимые электрофизиологические и вегетативные (сосудистые и двигательные) реакции.
Иногда обычные признаки ориентировочного рефлекса могут принимать парадоксальный характер, раздражители начинают вызывать вместо депрессии экзальтацию альфа — ритма или вместо сужения сосудов в ответ на предъявление сигналов их парадоксальное расширение.
В клинической картине эти нарушения сказываются в том, что больные проявляют резкие признаки вялости, инактивности и либо вообще не отвечают на раздражения, либо отвечают на них только при постоянных дополнительных раздражителях. В случае патологической перевозбужденности мозговых систем верхнего ствола и лимбической области больные, наоборот, проявляют признаки повышенной возбудимости, испытывают постоянную тревогу, повышенную отвлекаемость любыми раздражениями и эмоциональными возбуждениями.
Особенное значение для клиники имеют нарушения произвольного внимания. Они проявляются в том, что больной легко отвлекается на каждый побочный раздражитель, однако организовать его внимание, поставив перед ним определенную задачу или дав соответствующую словесную инструкцию, оказывается невозможно. В психофизиологических исследованиях это можно видеть, если после того, как у больного угасли признаки ориентировочного рефлекса, предъявлять ему соответствующую задачу, например, считать сигналы, следить за их изменением и т. п. Если в норме такая инструкция, как мы уже видели выше, приводит к стабилизации электрофизиологических симптомов ориентировочного рефлекса, то при мозговых поражениях адресованная больному речевая инструкция не вызывает никакого упрочнения ориентировочной реакции.
Наиболее типичные примеры нарушения высших форм внимания дают больные с поражением лобных долей мозга (особенно их медиальных отделов). У этих больных часто нельзя наблюдать никакого выпадения ориентировочного рефлекса на внешние сигналы; иногда их непроизвольное внимание бывает даже повышенным, и больной легко отвлекается на каждое побочное раздражение (шум в палате, открытие дверей и т. п.); однако сосредоточить его на выполнение какого — либо задания, поднять тонус мозговой коры речевой инструкцией оказывается невозможно, а предъявление речевой инструкции (считать сигналы, следить за изменением) не вызывает у такого больного никаких изменений в электрофизиологических и вегетативных симптомах ориентировочного рефлекса. Иногда этот тип нарушений, являющийся физиологической основой изменения поведения у больных с поражением лобных долей мозга, оказывается основным для их диагностики.
Характерно, что такой тип нарушения речевой регуляции ориентировочного рефлекса имеет место только при поражениях лобных долей мозга и не встречается при поражении других отделов. Это говорит о той исключительной роли, которую лобные доли мозга человека играют в процессе образования прочных намерений и в осуществлении контроля над протеканием поведения.
Естественно, что такие формы нарушения произвольного внимания приводят к существенным изменениям всех сложных психологических процессов. Именно в силу этих нарушений больные с поражением лобных долей мозга отличаются следующим:
1) оказываются не в состоянии сосредоточиться на решении предложенной им задачи;
2) не могут создать прочную систему избирательных связей, соответствующую данной им программе действий;
3) легко соскальзывают на побочные связи, заменяя планомерное выполнение программы импульсивно возникающими реакциями на любой побочный раздражитель или на повторение раз возникших стереотипов, которые давно потеряли свое значение, но легко срывают начавшуюся целенаправленную деятельность.
Вот почему легкая утеря избирательности в выполнении любой интеллектуальной операции является одним из существенных признаков поражения лобных долей мозга.
Существенные нарушения внимания могут иметь место и при тех заболеваниях мозга, которые характеризуются патологическим тормозным (фазовым) состоянием коры.
При таких состояниях (характерных для резкого истощения или сноподобных — «онейроидных» состояний) описанный И. П. Павловым «закон силы», при котором сильные раздражители вызывают сильные, а слабые — ослабленные реакции, нарушается.
В относительно нерезких «фазовых» состояниях коры как сильные, так и слабые раздражители начинают вызывать одинаковые реакции, а при дальнейшем углублении этих состояний, известном как «парадоксальная фаза», слабые раздражители начинают вызывать даже более сильные реакции, чем сильные раздражители.
Естественно, что при таких состояниях устойчивое внимание к поставленной задаче становится невозможным, и внимание начинает легко отвлекаться всякими побочными раздражителями.
Отличие нестойкости произвольного внимания от тех грубых форм его нарушения, которые возникают при поражениях лобных долей мозга, заключается в том, что в этих случаях мобилизация внимания путем усиления мотивов, обращение к опорным вспомогательным средствам и упрочение речевой инструкции приводит к компенсации его недостатков. В то время как при поражении лобных долей, разрушающем основной механизм регуляции произвольного внимания, этот путь может не давать нужного эффекта. Нестойкость произвольного внимания возникает не только при выраженных патологических состояниях мозга, но и при таких состояниях нервной системы, которые вызываются истощением и неврозами, иногда она отражает индивидуальные особенности личности. Поэтому исследование устойчивости внимания с применением всех объективных психофизиологических и психологических методов может иметь большое диагностическое значение.
(обратно) (обратно)Глава 4. Память
Изучение законов человеческой памяти составляет одну из центральных, наиболее существенных глав психологической науки. Известно, что каждое наше переживание, впечатление или движение оставляют известный след, который сохраняется на достаточно продолжительное время и при соответствующих условиях проявляется вновь и становится предметом сознания.
Поэтому под памятью мы понимаем запечатление (запись), сохранение и воспроизведение следов прежнего опыта, дающего человеку возможность накопить информацию и иметь дело со следами прежнего опыта, после того как вызвавшие их явления исчезли.
Явления памяти могут в равной мере относиться к эмоциональной сфере и сфере восприятий, к закреплению двигательных процессов и интеллектуального опыта. Все закрепление знаний и навыков и возможность пользоваться ими относится к разделу памяти.
Соответственно этому перед психологической наукой стоит ряд сложных проблем, входящих в раздел изучения процессов памяти. В частности:
• как запечатлеваются следы;
• каковы физиологические механизмы этого запечатления, или «записи», следов;
• какие условия содействуют этому запечатлению;
• каковы его границы;
• какие приемы позволяют расширить объем запечатленного материала.
Она также ставит перед собой задачу ответить на вопросы:
• как долго могут храниться эти следы;
• каковы механизмы сохранения следов на короткие и длинные отрезки времени;
• каковы те изменения, которые претерпевают следы памяти, находящиеся в скрытом (латентном) состоянии;
• какое влияние они могут оказывать на протекание познавательных процессов человека.
В круг вопросов, составляющих эту главу, посвященную психологии памяти, входят такие как:
• механизмы воспроизведения следов, которые хранились в скрытой (латентной) форме и которые при известных условиях могут становиться предметом сознательной деятельности;
• условия, ведущие к всплыванию (воспроизведению) следов памяти, и основные формы, включающие как непроизвольное, так и произвольное, преднамеренное воспроизведение следов.
Наконец, в эту главу включается описание различных форм процессов памяти, начиная с простейших видов непроизвольного запечатления и всплывания следов и кончая сложными формами мнестической деятельности, которые позволяют человеку произвольно возвращаться к прошлому опыту, применяя ряд социальных приемов, существенно расширять объем удерживаемой информации и сроки ее хранения.
Глава, посвященная психологии памяти, имеет большое значение как для понимания важнейших процессов познавательной деятельности человека, так и для учения о развитии психических процессов в детском возрасте и о нарушении психических процессов при патологических состояниях мозга.
История исследования памяти
Изучение памяти было одним из первых разделов психологической науки, где был применен экспериментальный метод, сделаны попытки измерить изучаемые процессы и описать законы, которым они подчиняются.
Еще в 80–х гг. прошлого века немецкий психолог Г. Эббингаус предложил прием, с помощью которого, как он предполагал, было возможным изучить законы чистой памяти, иначе говоря, процессов запечатления следов, независимых от мышления. Эти приемы, состоящие в заучивании бессмысленных слогов, не рождавших никаких ассоциаций, позволили Г. Эббингаусу вывести основные кривые заучивания (запоминания) материала, описать его основные законы, изучить длительность хранения следов в памяти и процесс их постепенного угасания.
Классические исследования Г. Эббингауса сопровождались работами немецкого психиатра Е. Крепелшш, применившего эти приемы к анализу того, как протекает процесс запоминания у больных с психическими изменениями, и немецкого психолога Г. Мюллера, оставившего фундаментальное исследование, посвященное основным законам закрепления и воспроизведения следов памяти у человека.
На первых этапах изучение процессов памяти ограничивалось ее исследованием у человека и было скорее изучением специальной сознательной мнестической деятельности (процесса преднамеренного заучивания и воспроизведения следов), чем процессом широкого анализа естественных механизмов запечатления следов, в одинаковой степени проявляющихся как у человека, так и у животного.
С развитием объективного исследования поведения животного, особенно с первыми шагами по исследованию законов высшей нервной деятельности, область изучения памяти была существенно расширена.
В конце XIX и в начале XX вв. появились исследования известного американского психолога Э. Торндайка, который впервые сделал предметом своего изучения процесс формирования навыков у животного, применяя для этой цели анализ того, как животное обучалось находить свой путь в лабиринте и как оно постепенно закрепляло полученные навыки.
В нервом десятилетии XX в. исследования этих процессов приобрели новую научную форму. И. П. Павловым был предложен метод изучения условных рефлексов, с помощью которого удалось проследить основные физиологические механизмы образования и закрепления новых связей. Были описаны условия, при которых эти связи возникают и удерживаются, а также те условия, которые влияют па это удержание. Учение о высшей нервной деятельности и ее основных законах стало в дальнейшем основным источником наших знаний о физиологических механизмах памяти, а выработка и сохранение навыков и процесса «учения» (learning) у животных составили основное содержание американской науки о поведении, объединившей выдающихся исследователей (Дж. Уотсон, Б. Ф. Скиниер, Д. Хэбб и др.).
Классическое исследование основных законов памяти у человека в равной мере, как и последующие исследования процесса образования навыков у животных, ограничивалось изучением наиболее элементарных процессов памяти. Исследование высших произвольных и сознательных форм памяти, позволявших человеку применять известные приемы мнестической деятельности и произвольно возвращаться к любым отрезкам своего прошлого, лишь описывалось философами, которые противопоставляли их естественным формам памяти (или «памяти тела») и считали их проявлением высшей сознательной памяти (или «памяти духа»). Однако эти указания, которое делали идеалистические философы (например, известный французский философ А. Бергсон), не превращались в предмет специального и строгого научного исследования. Психологи либо говорили о той роли, которую играют в запоминании ассоциации, либо указывали на то, что законы запоминания мыслей существенно отличаются от элементарных законов запоминания. Вопрос о происхождении и тем более о развитии высших форм памяти у человека почти совсем не ставился.
Заслуга первого систематического изучения высших форм памяти у ребенка принадлежит выдающемуся советскому психологу Л. С. Выготскому, который в конце двадцатых годов впервые сделал предметом специального исследования вопрос о развитии высших форм памяти и вместе со своими учениками А. Н. Леонтьевым и Л. В. Занковым показал, что высшие формы памяти являются сложной формой психической деятельности, социальной по своему происхождению и опосредствованной по своему строению, и проследил основные этапы развития наиболее сложного опосредствованного запоминания.
Исследования сложнейших форм произвольной мнестической деятельности, в которых процессы памяти связывались с процессами мышления, были существенно дополнены советскими исследователями. Они обратили внимание на законы, лежащие в основе непроизвольного (непреднамеренного) запоминания, и детально описали формы организации запоминаемого материала, которые происходят в процессе сознательного, осмысленного заучивания. Эти исследования, принадлежащие советским психологам А. А. Смирнову и П. И. Зинченко, раскрыли новые и существенные законы памяти как осмысленной человеческой деятельности, осветили зависимость запоминания от поставленной задачи и описали основные приемы запоминания сложного материала.
Несмотря на реальные успехи психологических исследований памяти, физиологические процессы запечатлевания следов и природа самого явления памяти оставались неизвестны, и философы и физиологи Семой или Геринг ограничивались лишь указанием на то, что память является «общим свойством материи», не делая никаких попыток к раскрытию ее сущности и тех глубоких физиологических механизмов, которые лежат в ее основе.
Лишь за последние два десятилетия положение дела существенно изменилось[2].
1. Появились исследования, которые показывали, что процессы запечатления, сохранения и воспроизведения следов связаны с глубокими биохимическими изменениями, в частности с модификацией рибонуклеиновой кислоты (Хиден), что следы памяти можно переносить гуморальным, биохимическим путем (Мак Коннелл и др.).
2. Начались интенсивные исследования тех интимных нервных процессов «реверберации возбуждения» (сохранение возбуждения в нервных кругах и сетях), которые стали рассматриваться как логический субстрат памяти.
3. Появилась система исследований, которой внимательно изучался процесс постепенного закрепления (консолидации) следов, время, необходимое для их закрепления, и условия, приводящие к их разрушению.
4. Наконец, появились исследования, пытающиеся выделить те области мозга, которые необходимы для сохранения следов, и те неврологические механизмы, которые лежат в основе запоминания и забывания.
Все это сделало главу о психологии и психофизиологии памяти одним из наиболее богатых разделов психологической науки. Несмотря на то что многие вопросы памяти остаются нерешенными, психология располагает сейчас несравненно большим материалом по изучению процессов памяти, чем это имело место некоторое время назад.
(обратно)Физиологические основы памяти
Сохранение следов в нервной системе
Явления длительного сохранения следов раздражителя отмечались исследователями на всем протяжении развития животного мира.
Многократно наблюдался факт, что однократное раздражение электрическим ударом нервной системы полипов вызывало появление ритмических электрических импульсов, которые могли сохраняться в течение многих часов.
Подобные же явления можно было наблюдать при исследовании работы центральной нервной системы животных. Так, однократное раздражение вспышкой света вызывало в верхнем двухолмии кролика ритмические электрические разряда, которые можно было регистрировать в течение достаточно длительного времени, причем такие реакции можно было наблюдать даже при отведении токов действия от изолированного нейрона.
Продолжение электрических разрядов, возникающих после единичного раздражения, показывает, что нейроны являются не только аппаратами, принимающими сигналы и реагирующими на них соответствующими отделами, но и то, что они сохраняют следы раздражителя, продолжая давать запущенные этим раздражителем ритмические ответы долгое время после того, как этот раздражитель прекратил свое влияние. Это последействие влияний раздражителя и есть наиболее элементарное проявление психологической памяти, которое можно наблюдать как на отдельном нейроне, так и на работе всей нервной системы в целом.
Наиболее элементарные физиологические проявления памяти можно наблюдать и другим путем, о котором мы уже упоминали в предыдущей главе.
Как показали исследования, длительное повторение одного и того же сигнала приводит к привыканию к нему, которое проявляется в исчезновении ориентировочных рефлексов на этот раздражитель, ставший привычным. Как показал советский психолог Е. Н. Соколов, такие явления привыкания можно наблюдать даже при исследовании ответов изолированного нейрона на многократно повторяемые раздражители.
Наиболее характерным является тот факт, что при небольшом изменении интенсивности или характера раздражителя признаки ориентировочного рефлекса появляются снова.
Данные, полученные Е. Н. Соколовым и его сотрудниками, показали, что явление растормаживания ранее угасшего ориентировочного рефлекса можно наблюдать не только сразу после изменения характера раздражителя, но и через некоторые, иногда довольно значительные промежутки времени. Так, если у испытуемого вырабатывалось явление привыкания к определенному раздражителю, то достаточно было изменить интенсивность, продолжительность или характер раздражителя, чтобы вегетативные или электрофизиологические симптомы ориентировочного рефлекса восстановились, причем это растормажнвание (восстановление) знаков ориентировочного рефлекса наблюдалось после достаточно значительных промежутков времени после угашения. Этот факт можно было наблюдать как при регистрации симптомов ориентировочного рефлекса нервной системы в целом, так и на уровне отдельного нейрона. Как нервная система в целом, так и отдельные нейроны могут удерживать образец сигнала и сличать новый раздражитель со следами этой «модели» сигнала, которая ее в виде следов в течение достаточно длительного времени.
Тот факт, что нервная система может с удивительной тонкостью сохранять следы прежних раздражителей, можно иллюстрировать и целым рядом дальнейших наблюдений, из которых мы приведем только два.
Известно, что чем чаще встречается определенный сигнал, чем больше испытуемый привыкает к нему, тем быстрее он дает на него двигательную реакцию (тем меньше латентный период этой реакции). Тщательное исследование показало, что в самых простых условиях этот закон сохраняется и быстрота реакции на сигнал прямо пропорциональна частоте, с которой он предъявляется.
Мозг регистрирует не только сам факт подачи сигнала, но и ту частоту, с которой он предъявляется, и что «запоминание» частоты подачи сигнала и регуляция быстроты ответа соответственно степени вероятности появления сигнала является одной из существенных функций работы мозга.
Факты дальнейших исследований показали, что нервная система человека может сохранять следы отдельных сигналов с очень большой степенью точности и хранить их длительное время. Иллюстрацией этого может служить опыт, проведенный в лаборатории Е. Н. Соколова.
Испытуемому однократно предъявлялся звуковой сигнал определенной высоты (500 гц) и интенсивности (20 дБ). В ответ на этот сигнал он должен был сжимать руки, причем его предупреждали, что он должен отвечать движением только в ответ на этот сигнал и не двигать рукой при предъявлении любого отличающегося сигнала. Затем испытуемому в беспорядке предъявлялись разные звуки той же высоты, но варьирующие по интенсивности (от 5 дБ до 30 дБ). Регистрировалась электроэнцефалограмма, эдектромиограмма и кожно — гальваническая реакция. Такой же опыт повторялся на 2–й, 4–й и 25–й день, причем однократно показанный эталон (звук в 500 гц интенсивностью в 20 дБ) более ни разу не предъявлялся.
Результаты опыта показали, что один раз показанный эталон сохранялся в течение длительного времени, и после длительных промежутков (от двух до 25 суток) испытуемый продолжал давать четкие электрофизиологические и двигательные реакции только на сигналы, соответствующие данному эталону, и ни на какие другие.
Приведенный опыт показывает, что мозг человека оказывается в состоянии сохранять четкие следы раз предъявленного раздражителя на очень длительное время, причем точность этих следов не только не исчезает со временем, но, возможно, возрастает.
Мы привели некоторые факты, говорящие о том, что нервная система обладает способностью длительно сохранять следы предъявленного раздражителя, оценивать частоту, с которой он предъявлялся, и удерживать в памяти с большой точностью те эталоны раздражителей, которые предъявлялись хотя бы один раз.
Это делает мозг человека тончайшим прибором не только для улавливания раздражителей и их выделения из числа других, доходящих до него раздражителей, но и для сохранения в памяти следов тех воздействий, которые ранее воспринимались им.
(обратно)Процесс «консолидации» следов
Факт запечатления следов тех раздражителей, которые воздействовали на мозг человека, заставляет поставить важные вопросы:
• как протекает процесс закрепления этих следов?
• закрепляются ли они сразу или для их закрепления нужно некоторое время? Эти вопросы были предметом целого ряда исследований.
Уже раньше было сделано наблюдение, что в тех случаях, когда человек испытывает травму черепа, следы от раздражителей, которые воздействовали на человека за короткое время до травмы и в некоторый промежуток после травмы, не сохраняются. Человек, получивший массивную травму черепа с потерей сознания, обычно не сохраняет никаких воспоминаний о том, что непосредственно предшествовало травме и что следовало за ней. Этот факт широко известен и получил название антероградной и ретроградной амнезии. Он указывает на то, что сильный шок, который испытывает нервная система, делает мозг на некоторое время неспособным запечатлевать следы дошедших до него раздражений.
Факт антероградной и ретроградной амнезии дал возможность для некоторых попыток измерить то время, на которое распространяется временная неспособность мозга запечатлевать следы. Известно наблюдение, что в памяти мотоциклиста, попавшего в аварию на 78–м км дороги, выпали все воспоминая, начинающиеся с 64–го км пути. Если принять, что он ехал со скоростью 60 км/ч, окажется, что травма привела к тому, что в памяти человека не закрепились следы впечатлений, возникшие за 10–15 мин до травмы, и, следовательно, человеку нужно 10–15 мин чтобы следы памяти прочно закрепились или, как принято говорить в психологии, «консолидировались», и травматическое воздействие на мозг, имевшее место в течение этого времени, препятствует такой «консолидации».
Описанные факты были толчком для специальных экспериментов, в которых человеку давался искусственный ослабленный шок, и просматривалось, какой промежуток времени выпадает из его мозга.
Примером могут служить опыты, проведенные советским психофизиологом Ф. Д. Горбовым.
Испытуемый помещался перед окошечком, через которое плавно проходили простые цифры с арифметическими знаками (+4, — 1, — 8, +5 и т. д.). Испытуемый должен был произвести соответствующие арифметические операции, прибавляя данное число к результату ранее полученных операций или вычитая из него соответствующее число. Естественно, что для выполнения этой задачи он должен был прочно удерживать в памяти следы ранее полученного результата.
Внезапно испытуемому давался «шок» в виде резкой световой вспышки.
Как показал опыт, в этих случаях испытуемый, как правило, «забывал» только что полученный результат и начинал отсчет не с последнего, а с предшествующего числа. Этот опыт показывает, что даже такой незначительный шок «стирает» предшествующие следы, устраняет условия, необходимые для их «консолидации».
Изложенные наблюдения привели к предположению, что для укрепления («консолидации») следов памяти необходимо некоторое время, и вызвали ряд исследований, которые были посвящены проверке этого предположения.
Исследования, которые проводились некоторыми авторами (преимущественно американскими) строились по следующей схеме: у животного вырабатывался навык, и через короткое время как он был выработан, животному давался электрический шок. Оказалось, что если шок давался через 10–15 мин после выработки навыка, этот навык исчезал; если же он давался через 45–60 мин после выработки, он сохранялся. Эти опыты показывали, что время, нужное для закрепления («консолидации») следов, следует исчислять в 10–15 мин.
Последующий опыт показал, что такое же стирающее влияние шок оказывает на навыки, которые начинали вырабатываться через короткое время до или после шока: в обоих этих случаях навык не вырабатывался. Следовательно, шок мог не только препятствовать «консолидации» следов, но и создавать такое состояние мозга, при котором новые навыки не могут вырабатываться.
Оказалось далее, что тот же эффект может быть получен не с помощью электрического шока, а с помощью применения некоторых фармакологических агентов, которые либо вызывали тормозное состояние коры (например, барбитураты), либо вели к повышенному состоянию возбуждения коры и вызывали судороги (например, метразол). Оказалось, что применение барбитуратов через 1 мин после образования навыка приводило к тому, что его след исчезал, в то время как применение той же дозы барбитуратов через 30 мин не нарушало навыков, которые за этот период уже успевали закрепиться («консолидироваться»). Аналогичные данные были получены в опытах с применением метразола: через 10 сек после выработки навыка оно приводило к грубому разрушению следов, применение его через 10 мин — к относительно слабому сохранению следов, а применение его через 20 мин оставляло навык сохранным.
Однако различные вещества, воздействующие на состояние возбудимости мозга, влияют на сохранение следов с различной «глубиной». Так, одни могут устранять следы, которые сформировались за 3–4 дня до его применения, в то время как другие действуют лишь на только что образованные следы.
Наконец, оказалось, что существуют вещества, которые теряют процесс «консолидации» следов и упрочивают их. Одним из таких препаратов оказался стрихнин, инъекция которого значительно ускоряла консолидацию и делала их более резистентными к разрушающим влияниям.
Исследования, проведенные за последние два десятилетия, показали, что упрочение («консолидация») следа требует определенного времени, которое можно измерить, и существуют разные агенты, с неодинаковой силой воздействующие на процесс «консолидации» следов. Однако существуют индивидуальные различия у животных, заключающиеся в том, что консолидация следов происходит у разных особей с неодинаковой скоростью. Так, американский исследователь Мак Toy показал, что если у крыс, которые быстро вырабатывают навык, шок, данный через 45 с после его выработки, устраняет следы, а шок, данный через 30 мин, оставляет следы сохранными, у крыс, которые медленно вырабатывают навык, шок, данный через 45 мин после выработки навыка, и данный через 30 мин, в одинаковой степени приводит к исчезновению следов. Это означает, что если у «быстрой» группы за 15–20 мин следы успели уже консолидироваться, то у «медленной» группы крыс консолидация следов еще не успевает произойти за это время, и следы еще очень долгое время остаются неупроченными.
Все эти опыты показывают, что формирование известного следа еще не означает, что этот след упрочен, консолидирован, и для консолидации следа необходимо известное время, которое зависит отряда факторов (в том числе от индивидуальных особенностей) и которое можно измерить. Исследование консолидации следов является одним из важных достижений психофизиологии. Оно дало возможность выделить две стадии процесса формирования памяти, которые далее начали обозначаться терминами «кратковременная память» (под которой понималась стадия, когда следы образовались, но еще не упрочились) и «долговременная память» (под которой понималась стадия, когда следы не только образовались, но настолько упрочились, что могли существовать длительное время и сопротивляться нарушающему влиянию побочных воздействий). Разделение «кратковременной» и «долговременной» памяти, несмотря на условность, поставило психофизиологию перед дальнейшими вопросами, и прежде всего перед вопросом о физиологических механизмах обоих видов памяти.
(обратно)Физиологические механизмы «кратковременной» и «долговременной» памяти
Каковы же физиологические механизмы, лежащие в основе «кратковременной» и «долговременной» памяти?
Еще в тридцатые и сороковые годы было сделано наблюдение, которое дало основу для того, чтобы высказать гипотезу о природе тех нервных процессов, которые лежат в основе «кратковременной» памяти.
Морфологическими и морфофизиологическими исследованиями американских нейрофизиологов Лоренте — де — Но и Мак Кэллока было установлено, что в коре головного мозга существуют аппараты, позволяющие возбуждению длительно циркулировать по замкнутым цепям. Основой служил тот факт, что у аксонов отдельных нейронов существуют веточки, которые возвращаются к телу этого же нейрона и либо непосредственно соприкасаются с ним, либо соприкасаются с отдельными дендритами этого же нейрона; этим самым создается основа для постоянной циркуляции возбуждений в пределах замкнутых круговых цепей, или реверберирующих кругов возбуждения. Этим простейшим механизмом, однако, дело не ограничивается. Есть все основания думать, что в нервной системе существуют и более сложные аппараты «нейронных сетей», осуществляющих устойчивые реверберационные круги возбуждения. Такими аппаратами являются функциональные комплексы нейронов, соединенные друг с другом «вставочными» нейронами, или нейронами с короткими аксонами, функция которых, по — видимому, состоит в том, чтобы передавать возбуждение от одного нейрона к другому, обеспечивая длительное протекание возбуждения по более сложным сетям, или «реверберационным кругам».
Некоторые исследователи считают, что «реверберационные круги» возбуждения и являются нейрофизиологической основой «кратковременной» памяти. Существенным механизмом сохранения следов оказывается, по этим предположениям, механизм синаптической передачи возбуждения, который и обеспечивает переход возбуждения с одного нейрона на другой и дает возможность осуществлять длительное сохранение возбуждения, протекающего по «реверберациоиным кругам».
Согласно этой теории шок разрушает протекание возбуждения по реверберационным кругам и приводит к исчезновению тех следов, которое сохранялись благодаря этому протеканию возбуждения.
Процесс циркуляции возбуждения по «реверберационным кругам» не является, однако, единственно возможным механизмом сохранения следов. Факты, полученные многими исследователями, заставили предположить, что механизм сохранения следов теми глубокими биохимическими изменениями, которые могут ходить не только в синапсах (места передачи возбуждения от одних нейронов к другим), но и в самих телах нейронов и их отдельных органах (ядрах, метахондриях).
Еще в 1959 г. шведский исследователь Хиден показал, что каждое раздражение нервных клеток приводит к заметному повышению содержания рибонуклеиновой кислоты (РНК), в то время как длительное отсутствие раздражений уменьшает содержание РНК. Дальнейшие наблюдения Хидена и его сотрудников заставили высказать предположение, что изменения РНК носят специфический характер и могут предположительно рассматриваться как биохимический механизм сохранения следов памяти. Основой для предположения является тот факт, что изменения РНК, вызванные определенными воздействиями, могут быть очень специфичны, и что различные воздействия могут вызывать разные модификации РНК.
Было высказано предположение, что число возможных изменений молекул РНК под влиянием различных воздействий измеряется огромным числом — 1015–1020, и, таким образом, РНК оказывается в состоянии сохранять огромное число различных кодов. Как предполагали эти исследователи, повторное появление этого раздражителя приводит к тому, что специфически измененная РНК начинает «резонировать» именно этому раздражению, а способность специфического резонирования именно данному раздражению и является основой того, что нервная клетка, сохраняющая след полученного воздействия, начинает «узнавать» это воздействие, отличая его от всякого другого.
Такое специфическое изменение РНК под влиянием различных воздействий и дало основание исследователям для предположения, что оно является биохимической основой памяти.
Предположение об участии РНК в сохранении следов памяти было подтверждено рядом наблюдений. К ним относятся наблюдения, проведенные известным американским физиологом Мореллем, которой показал, что повышение содержания РНК, вызываемое повторным раздражением определенного участка мозга, проявляется не только в этом очаге, но и в симметричном ему пункте другого полушария. Это означает не только то, что реверберационные круги возбуждения могут охватывать очень большие зоны мозга, распространяясь и на противоположное полушарие, но и то, что в этом симметричном «зеркальном фокусе», который не испытывал никакого прямого влияния раздражителя, возникает повышенное содержание РНК, очевидно, указывающее на создавшуюся в нем готовность к повторным возбуждениям.
К числу их относятся наблюдения, сделанные при помощи электронной микроскопии, показавшие, что по мере формирования следов навыка в соответствующих нейронах животного можно наблюдать увеличение числа мельчайших везикул (пузырьков), содержащих повышенную концентрацию ацетилхолина, способствующего перенесению импульса в синапсах, в то время как длительное отсутствие раздражений уменьшает их количество.
К числу таких наблюдений относятся и факты, которые показали, что следы информации, усвоенной животным, могут быть переданы другому животному гуморальным путем через посредство измененной РНК, и наоборот, разрушение РНК (ее растворение рибонуклеазой) приводит к разрушению этих следов.
Эти наблюдения вызвали оживленную дискуссию, и мы приводим краткие данные, отмечая, что их проверка и окончательная оценка еще являются делом будущего.
Данные о возможном участии РНК как в хранении, так и в передаче информации, были впервые получены американским исследователем Мак Коннеллом. Этот исследователь вырабатывал у плоских червей (планарий) навык избегать света. Такое обучение требовало значительного числа проб. После этого планария разрезалась на две части, каждая из которых постепенно регенерировала, превращаясь в целое животное. Когда регенерировавшие особи снова начинали обучаться той же процедуре, оказывалось, что обучение как регенерировавшего головного, так и регенерировавшего хвостового шипа требует втрое меньшего количества тренировочных проб. Следовательно, сохранение следа памяти происходит не за счет оставшихся нейронов переднего ганглия (который у хвостового конца заново регенерировал), а за счет гуморальных (биохимических) сдвигов, сохранившихся во всех тканях тела. Характерно, что, если оба конца планарии, у которой был выработан соответствующий навык, опускались в раствор рибонуклеазы, разрушавшей РНК, следы полученного навыка исчезали, и регенерировавшие черви требовали для повторного обучения такого же количества новых тренировочных опытов, как и необученные особи.
Эти опыты, по мнению авторов, подтверждают участие РНК в сохранении следов памяти.
Дальнейшие опыты, проведенные Мак Конпелом и другими исследователями, создали впечатление, что измененная РНК может не только сохранять следы полученной информации, но и передавать их гуморальным путем другим особям. Для того, чтобы показать это, Мак Коннел сначала вырабатывал соответствующий навык у группы планарии, а потом скармливал экстракт из тел обученных планарии необученным планариям. По данным, которые приводит исследователь, в результате этого опыта необученные планарии начинали значительно быстрее вырабатывать тот специфический навык, который ранее вырабатывался у обученных планарии и, по — водимому, передавался им гуморальным путем посредством специфически измененной РНК, хранящей следы выработанной модификации поведения.
Подобные опыты были проведены на ряде животных (в том числе на крысах, в мозг которых вводился экстракт из размельченного мозга ранее обучавшихся крыс), и авторы, проводившие эти опыты, высказали предположение, что и в этих случаях РНК участвует не только в сохранении следов от полученной информации, но в передаче этой информации другим особям гуморальным (биохимическим) путем.
Как уже было сказано выше, эти опыты вызвали горячую дискуссию, и еще трудно утверждать, что их результаты подтвердятся дальнейшими исследованиями. Возникает существенный вопрос: ограничивается ли изменение РНК, возникающее в результате раздражения, одними лишь нейронами, или же в процесс сохранения следов вовлекаются и другие ткани мозга? Этот вопрос привлек внимание исследователей.
Как известно, в состав ядер подкорковых образований, как и в состав коры, кроме нейронов входит еще и глия, которая облегает нервные клетки плотной губчатой массой. В течение длительного времени глия считалась лишь опорной тканью мозга, однако за последнее время стало ясно, что она имеет и другие, гораздо более сложные функции, участвуя как в обменных процессах, так и в регуляции процессов возбуждения, протекающего в нервных аппаратах, а возможно, и в процессе сохранения следов тех возбуждений, которые возникают в нервной ткани мозга. Известно также, что число глиальных клеток в 10 раз больше, чем число нервных клеток; в отличие от нервных клеток, которые не делятся при жизни, глиальные клетки продолжают делиться и число их увеличивается в онтогенезе. Характерно, что по мере развития существенно возрастает отношение массы нервных клеток ко всей массе серого вещества, к которой относятся и глиальные клетки.
Глиальные клетки плотно облегают нервные клетки, и, по выражению Хидсна, «занимают стратегическое положение между нервными клетками и кровеносными капиллярами». Электрические потенциалы возникают в них во много сотен раз медленнее, чем в нервных клетках, а биохимические изменения, происходящие в них под влиянием раздражений, находятся в обратных отношениях к биохимическим изменениям, происходящим в нервных клетках: в начале раздражения в нервных клетках (нейронах) количество РНК увеличивается, а в окружающей глии — уменьшается, и наоборот, по окончании действия раздражителя количество РНК в нервной клетке быстро падает, а в клетках окружающей глии — возрастает. Поэтому возникновение медленных потенциалов, которым нейрофизиология придает особенно большое значение, связывается сейчас не только с работой нейронов, но и с работой глии.
Все это заставляет предполагать, что глия придает стабильность процессам, возникающим в нервной клетке, оказывает модулирующее влияние на протекание возбуждений и, возможно, непосредственно участвует в хранении следов тех возбуждений, которые возникают в нейронах.
Циркуляции возбуждений по реверберационным кругам и указаний на биохимические сдвиги, возникающие под влиянием раздражений, доходящих до нервной ткани, все же недостаточно для объяснения механизмов, лежащих в основе долговременной памяти. Поэтому некоторые исследователи считают необходимым искать механизмы долговременной памяти в некоторых морфологических изменениях, возникающих в синаптическом аппарате нейронов, и высказывают предположение, что именно эти морфологические новообразования являются субстратом долговременной памяти. Еще раньше известный морфофизиолог А. Капперс указал, что рост аксонов и денд — ритов не случаен и отростки нейрона ориентируются в направлении протекающего возбуждения. Это явление, которое А. Капперс назвал «нейробиотическим», подтвердилось при дальнейших наблюдениях. Сейчас ученые полагают, что направление роста отростков нейронов в значительной мере определяется их функционированием и теми «программами», которые зависят от кода возбуждения и лежат в основе их деятельности.
Рост аксодендритической системы ряда нейронов происходит и прижизненно, в большой степени стимулируется упражнением и задерживается от «неупотребления» той или другой системы. Упражнение в значительной степени повышает число синапсов, увеличивает число пузырьков (везикул), переносящих возбуждение в нейронах, и количество тех мельчайших выростов («шипиков»), находящихся на аксонах, которые сейчас считаются основным нейрохимическим аппаратом, обеспечивающим передачу возбуждения в синапсах. Такие же реакции движения и роста возникают при возбуждении не только в отростках нейронов, но и в глии (А. И. Ройтбак), именно этот эффект образования новых синапсов, по мнению некоторых авторов, и составляет субстрат долговременной памяти.
Если в основе кратковременной памяти лежит движение возбуждения по реверберационным кругам, а в основе долговременной памяти — рост аксодендритического аппарата глии, образование новых синапсов еще нельзя считать доказательным, но многие современные попытки найти физиологическую основу явлений памяти идут в этом направлении.
(обратно)Мозговые системы, обеспечивающие память
В результате приведенных выше данных возникают вопросы:
• какие большие системы головного мозга обеспечивают запечатление следов?
• участвуют ли в процессах памяти все системы головного мозга, играющие одну и ту же роль в запечатлении следов или же из всех известных нам систем мозга можно выделить некоторые, играющие особенную роль в фиксации и хранении следов памяти?
Мы уже знаем (см. ч. 1, гл. IV), что в головном мозге можно выделить по крайней мере три больших блока, из которых:
• один обеспечивает тонус коры и регуляцию общих состояний возбудимости;
• второй является блоком приема, переработки и хранения поступающей информации;
• третий — блоком формирования программ, регуляции и контроля поведения.
Уже этот факт говорит о неодинаковом участии отдельных образований большого мозга в процессах памяти.
Мы знаем также, что нейрофизиологическая характеристика отдельных нейронов, входящих в разные системы мозга, неодинакова. Если в проекционных системах зрительной, слуховой и кожно — кинестетической зон коры подавляющее число рецепторных клеток являются модально — специфическими и реагируют на узкоизбирательные признаки раздражителей, то имеются и другие области (к которым, например, относится гиппокамп, хвостатое тело), которые по преимуществу состоят из нейронов, не имеющих модально — специфического характера и реагирующих только на изменение возбуждения. Естественно, что эти факты дают основание предположить:
1) гиппокамп и связанные с ним образования (миндалевидное тело, ядра зрительного бугра, мамиллярные тела) играют особую роль в фиксации и сохранении следов памяти;
2) нейроны, входящие в их состав, являются аппаратом, приспособленным для хранения следов возбуждений, сличения их с новыми раздражениями, и призваны либо активировать разряды (если новое возбуждение отличается от старого), либо тормозить их.
Приведенные факты заставляют думать, что указанные системы являются аппаратом, обеспечивающим не только ориентировочный рефлекс (как это указывалось выше, см. ч. II, гл. III), но и аппаратом, несущим функцию фиксации и сличения следов, играющих существенную роль в процессах памяти.
Вот почему, как показали наблюдения, двустороннее поражение гиппокампа приводит к грубым нарушениям памяти, и больные с таким поражением начинают проявлять картину той невозможности фиксировать доходящие до них раздражения, которая известна в клинике под названием «корсаковского синдрома» (см. ниже). Эти факты были установлены многими исследователями (Б. Милнер, Сковилл, В. Пенфилд) на операциях и имеют большое теоретическое значение.
Очень важные данные были получены в специальных опытах, проведенных канадским нейропсихологом Б. Милнер. Больному с односторонним поражением гиппокампа вводилось в сонную артерию второго полушария снотворное вещество (амитал натрий); это вело к краткому (на несколько минут) выключению функций коры второго полушария и приводило к тому, что на короткий отрезок времени оба гиппокампа выключались из работы.
Результатом такого вмешательства было временное выключение памяти и невозможность какой бы то ни было фиксации следов, которая продолжалась несколько ми — пут и затем исчезала.
Легко видеть, какое значение для понимания роли гиппокампа в фиксации и сохранении следов памяти имеют эти исследования.
Не меньшее значение для понимания той роли, которую в процессах памяти играет гиппокамп и связанные с ним образования, имеют и клинические наблюдения, показывающие, что поражения в этих областях мозга, тесно связанные с ретикулярной формацией, приводят не только к общему снижению тонуса коры, но и к значительному нарушению возможности запечатлевать и хранить следы текущего опыта. Такие нарушения наблюдались в клинике при любом поражении, блокирующем нормальное движение по так называемому гиппокампо — таламо — мамиллярному кругу («кругу Пейпеца»), который включает в свой состав гиппокамп, ядра зрительного бугра, мамиллярные тела и миндалину. Прекращение нормальной циркуляции возбуждения по этому кругу нарушало нормальную работу ретикулярной формации и приводило к грубым расстройствам памяти.
Все это не означает, что и другие отделы большого мозга и, в частности, мозговой коры не принимают участия в процессах памяти. Существенное, однако, заключается в том, что поражение затылочных или височных зон коры может приводить к выпадению возможности закреплять следы модально — специфических (зрительных, слуховых) раздражений, но никогда не приводит к общему нарушению следов памяти.
Это означает, что память является сложным по своей нервной основе процессом и в обеспечении памяти принимают участие разные системы мозга, каждая из которых играет свою собственную роль и вносит свой специфический вклад в осуществление мнестической деятельности.
(обратно)Основные виды памяти
Психология располагает несколькими основными видами памяти. Мы последовательно рассмотрим, их расположив в порядке возрастающей сложности.
Однако ограничимся лишь анализом тех видов памяти, которые имеют значение для познавательных процессов, оставив в стороне рассмотрение явлений эмоциональной и двигательной памяти.
Последовательные образы
Наиболее элементарную форму сензорной памяти представляют так называемые последовательные образы. Они проявляются как в зрительной, так и в слуховой и общечувствительной сфере и хорошо изучены в психологии.
Явление последовательного образа (часто обозначаемого символом NB соответственно немецкому термину «Nachbild») состоит в следующем: если на некоторое время предъявить субъекту простой раздражитель, например, предложить ему смотреть на ярко — красный квадрат 10–15 сек, а затем убрать этот квадрат, то испытуемый продолжает видеть на месте убранного красного квадрата отпечаток такой же формы, но обычно сине — зеленого (дополнительно к красному) цвета. Этот отпечаток иногда появляется сразу же, иногда через несколько секунд и сохраняется некоторый период (от 10–15 сек до 45–60 сек), затем постепенно начинает бледнеть, терять свои четкие контуры, как бы расползается, затем исчезает; иногда он снова появляется, чтобы уже полностью исчезнуть. У разных испытуемых как яркость, так и четкость и продолжительность последовательных образов может быть различной.
Явление последовательных образов объясняется тем, что раздражение сетчатки имеет свое последействие: оно истощает ту фракцию зрительного пурпура (цве — точувствительного компонента колбочки), которая обеспечивает восприятие красного цвета, поэтому при переводе взгляда на белый лист появляется отпечаток дополнительного к нему сине — зеленого цвета. Этот вид последовательного образа называют отрицательным последовательным образом. Он может быть расценен как наиболее элементарный вид сохранения сензорных следов или наиболее элементарный вид чувствительной памяти.
Кроме отрицательных последовательных образов существуют и положитнлъ — ные последовательные образы. Их можно наблюдать, если в полной темноте поместить перед глазами какой — нибудь предмет (например, руку), а затем на очень короткое время (0,5 сек) осветить поле ярким светом (например, вспышкой электрической лампочки). В этом случае после того, как потухнет свет, человек в течение некоторого периода будет продолжать видеть яркий образ предмета, расположенного перед его глазами, на этот раз в натуральных цветах; этот образ сохраняется некоторое время и затем исчезает.
Явление положительного последовательного образа есть результат прямого последействия кратковременного зрительного восприятия. Тот факт, что он не меняет своей окраски, объясняется тем, что в наступающей темноте фон не вызывает возбуждения сетчатки, и человек может наблюдать непосредственное последействие вызванного на один момент сензорного возбуждения.
Феномен последовательных образов всегда интересовал психофизиологов, которые видели в этом явлении возможность непосредственно наблюдать процессы тех следов, которые сохраняются в нервной системе от действия сензорных раздражений, и проследить динамику этих следов.
Последовательные образы отражают прежде всего явления возбуждения, протекающие на сетчатке глаза. Это доказывается простым опытом. Если предъявить на некоторое время красный квадрат на сером экране и, убрав этот квадрат, получить его последовательный образ, а затем постепенно отодвигать экран, можно увидеть, что величина последовательного образа постепенно увеличивается, причем это увеличение последовательного образа прямо пропорционально удалению экрана («закон Эммерта»).
Это объясняется тем, что по мере удаления экрана угол, который начинает занимать его отражение на сетчатке, постепенно уменьшается, и последовательный образ начинает занимать все большее место на этой уменьшающейся площади сетчаточного образа отодвигающегося экрана. Описанное явление служит четким доказательством того, что в данном случае мы действительно наблюдаем последействие тех процессов возбуждения, которые происходят на сетчатке, и последовательный образ является наиболее элементарной формой кратковременной сензорной памяти.
Характерно, что последовательный образ является примером самых элементарных следовых процессов, которые нельзя регулировать сознательным усилием: его нельзя ни продлить по своему желанию, ни произвольно вызвать снова. В этом и состоит отличие последовательных образов от более сложных видов образов памяти.
Последовательные образы можно наблюдать в слуховой сфере и в сфере кожных ощущений, однако там они выражены слабее и продолжаются более короткое время.
Несмотря на то что последовательные образы являются отражением процессов, протекающих на сетчатке, их яркость и последовательность существенно зависят от состояния зрительной коры. Так, в случаях опухолей затылочной области мозга последовательные образы могут проявляться в ослабленном виде и сохраняться более короткое время, а иногда и вообще не вызываются (Н. Н. Зислина). Наоборот, при введении некоторых стимулирующих веществ они могут становиться ярче и продолжительнее.
Наглядные (эйдетические) образы
От последовательных образов следует отличать явления наглядных, или эйдетических, образов (от греч. «эйдос» — образ). Явление наглядных (эйдетических) образов (в психологии они обозначаются символом АВ — от немецкого Anschaungsbild) было в свое время описано немецкими психологами братьями Иенш. Оно заключается в следующем: у некоторых людей (особенно в детском и юношеском возрасте) можно наблюдать яркие и отчетливые образы показанного предмета или целые картины, сохраняющиеся длительное время после того, как предъявленные предметы или картины были убраны.
Это явление было прослежено в опытах. Испытуемому на 3–4 мин предъявлялась картинка, например изображающая какую — нибудь уличную сценку. После того как картинка была убрана, задавались вопросы о ее деталях. Если обычные испытуемые не могли ответить почти ни на один из этих вопросов, то испытуемые, обладающие яркими эйдетическими образами, продолжали как бы видеть эту картину и легко отвечали на такие вопросы, как «сколько было деревьев на улице?» «какие животные изображены на картине?», «как выглядит афиша на степе?» и т. п. Они давали ответы на все эти вопросы, как бы продолжая «разглядывать» убранную картину и, как правило, не делали в этом описании никаких ошибок.
Яркий эйдетический образ отличался многими коренными особенностями от последовательного образа. Он мог сохраняться как угодно долго; если он в последующем исчезал, субъект без всякого труда мог вызвать его снова, поэтому опыты со «считыванием» деталей с эйдетического образа можно было проводить через несколько недель, месяцев и даже лет после того, как этот опыт был впервые проведен.
В советской литературе явление эйдетических образов было описано А. Р. Лурия, в течение многих лет наблюдавшего человека с такой яркой наглядной зрительной памятью.
В отличие от последовательного образа эйдетические образы имеют более сложную природу и вовсе не являются следами возбуждений, вызванных на сетчатке глаза. Это доказывается простым опытом. Если показать субъекту, обладающему эйдетической памятью, фигуру или сложное изображение на экране, а затем отодвигать этот экран, образ, который остался от этой фигуры или изображения, не начнет увеличиваться по мере удаления экрана в той же пропорции, как последовательный образ, но будет сохранять значительно большее постоянство. Это отклонение от «закона Эммерта» и большая константность эйдетического образа отличают его от последовательного образа и ставят на среднее место между последовательным образом (резко увеличивающимся по мере удаления экрана) и образом представления (сохраняющим свою полную константность и совсем не увеличивающимся по размеру при отодвигании экрана). Все это говорит о том, что эйдетические образы имеют центральные механизмы и, следовательно, представляют собой более сложный вид чувственной памяти.
Отличие эйдетических образов от последовательных образов заключается в том, что они сохраняются без всяких изменений четкости, не обнаруживают никаких явлений расплывания и флюктуации, могут произвольно вызываться в любой момент, в том числе и через очень большие промежутки времени после того, как они были зафиксированы.
Наконец, существенное отличие эйдетических образов заключается в их подвижности, в возможности изменять их под влиянием задач и представлений субъекта.
Простой опыт, проведенный братьями Иенш, показывает, что испытуемому, обладающему эйдетической памятью, предъявляется картина, изображающая яблоко, а на некотором отдалении от него крючок. После того как изображение убирается и испытуемый продолжает «видеть» эйдетический образ, ему предлагается представить себе, что он очень хочет получить яблоко. Сразу же вслед за этой инструкцией испытуемый отмечает, что крючок, ранее находившийся на расстоянии от яблока, приближается к нему и тянет яблоко к испытуемому. Эйдетический образ оказывается, следовательно, подвижным и изменяется под влиянием установки субъекта. Как показали исследования, эйдетические образы чаще встречаются в детском и юношеском возрасте и постепенно исчезают, сохраняясь только у некоторых людей. Есть основания думать, что некоторые известные художники обладали яркими эйдетическими образами. Так, известны художники, для которых было достаточно смотреть па модель лишь в течение нескольких минут, после чего они могли продолжать работать над картиной в отсутствие модели, сохраняя образ модели со всеми ее деталями.
Есть основания думать, что существуют как вещества, усиливающие эйдетические образы (к ним братья Иенш относят вещества, содержащие ионы калия), так и вещества, ослабляющие их (к ним относят вещества, содержащие ионы кальция). Поэтому некоторые специальные фармакологические агенты (например, меска — лин) могут резко усиливать эйдетические образы, вызывая яркие зрительные ассоциации.
Образы представления
Значительно более сложное строение имеет третий, наиболее важный вид образной памяти — образ представления (иногда он обозначается в психологии YB — от немецкого Vorstellungsbild). Такие образы хорошо известны каждому. Мы говорим, что имеем представление о дереве, о лимоне, о собаке. Это означает, что наш прежний опыт оставил в нас следы этих образов; поэтому наличие образов представлений расценивается как наиболее существенная форма памяти.
С первого взгляда может показаться, что образы представлений близки к наглядным образам, отличаясь от них только тем, что они менее ярки, более бедны и размыты, менее определенны. Однако такая характеристика представлений как более бедных по своему содержанию образов, глубоко ошибочна, и внимательный психологический анализ показывает, что образы представлений не беднее, а неизмеримо богаче наглядных образов.
Первое, что отличает образы представлений от наглядных образов, это то, что образы представлений всегда полимодальны, иначе говоря, всегда включают в свой состав элементы как зрительных, так и осязательных, слуховых и двигательных следов; они являются следами не одного вида восприятия, а следами сложной практической деятельности с предметами.
Внешне образ представлений может показаться зрительно более бедным и является скорее схемой, общим очертанием данной вещи, чем ее наглядным зрительным изображением. Однако он включает в свой состав разные стороны представлений о вещи: образ представлений о лимоне включает как его внешний вид (форму и цвет), так и его вкус, шероховатую кожу, вес и т. п. Образ стола включает в свой состав не только бедный и схематичный вид стола, но и его применение, следы того, что человек за ним сидел, обедал, работал и т. п. Этот множественный состав образа представления, включающий многообразную практику с предметом, уже сам по себе делает представление о предмете гораздо богаче, чем один лишь его внешний вид.
Вторая особенность образа представления заключается в том, что он всегда включает в свой состав следующее:
• интеллектуальную переработку впечатления о предмете;
• выделение в предмете наиболее существенных признаков;
• отнесение его к определенной категории.
Мы не только воспроизводим образ дерева, но и называем его определенным словом, выделяем в нем существенные признаки, относим его к определенной категории. Вызывая представление о дереве, мы, как правило, не вызываем образа какого — либо определенного дерева (одной хорошо известной нам сосны или березы), но имеем дело с обобщенным образом дерева, в который может войти как наглядный образ березы или сосны, так и наглядный образ тополя или дуба. Тот факт, что образ представления с первого взгляда кажется размытым и более бедным, чем наглядный зрительный образ, на самом деле является признаком его обобщенности, потенциального богатства стоящих за ним связей, признаком того, что он может быть включен в любые отношения. Одновременно эта кажущаяся бедность образа представления говорит о том, что какой — либо один признак (комплекс признаков) выделяется в нем как наиболее существенный, в то время как другие признаки игнорируются как менее существенные.
Следовательно, образ представления является в конечном счете не пассивным отпечатком нашего зрительного восприятия, а итогом его анализа и синтеза, абстракции и обобщения, иначе говоря, результатом кодирования, воспринимавшегося в известную систему.
Значит, в образе представления наша память не пассивно сохраняет отпечаток раз воспринятого, но проделывает с ним глубокую работу, объединяя целый ряд впечатлений, анализируя содержание предмета, обобщая эти впечатления, объединяя собственный наглядный опыт со знаниями о предмете.
Следовательно, образ представления является продуктом неизмеримо более сложной деятельности и неизмеримо более сложным психологическим образованием, чем последовательный или наглядный образ.
Эта сложность образа представления отчетливо видна как в узнавании предмета, так и в сохранении образа.
Узнавание предмета никогда не является процессом простого наложения воспринимаемого предмета на хранящийся в памяти образ представления о нем. Оно происходит, как правило, путем выделения существенных признаков предмета, сличения признаков сходных и различных в ожидаемом и реально воспринимаемом предмете, в результате которых и происходит «принятие решения» о том, является ли видимый предмет тем, который мы ожидали, или нет. Факт, что человек имеет «образ» своего знакомого, вовсе не означает, что он располагает полным зрительным отпечатком этого знакомого, и он «узнает» его, путая простое отождествление воспринимаемого образа с тем, которой хранится в его памяти. Это означает, что он располагает обобщенным комплексом признаков, которые он удерживает как существенные для своего знакомого: высокий рост, лысоватый, в очках, прямо держится и т. п. Встречая человека, похожего на этого знакомого, он сличает отдельные черты, и если эти черты в чем — либо не совпадают («лысоватый, в очках, но лицо круглое…»), он «принимает решение», что перед ним не тот человек, он «не узнает» его. Лишь совпадение всех ведущих признаков приводит к уверенности, что перед ним именно ожидаемое лицо, и к «принятию решения», которое и есть проявление узнавания своего знакомого.
Это дает основания считать образ представления не простым отпечатком в памяти единичного впечатления, а сокращенный, свернутым продуктом сложной деятельности с предметом, включающим элементы как наглядного опыта, так и знаний о нем. Столь же сложным процессом является хранение образа представления в памяти.
Как показал ряд исследований (и прежде всего исследования советского психолога И. М. Соловьева), образ представления иногда не хранится в памяти в неизменном виде; он всегда претерпевает динамические изменения, которые легко обнаружить, если, дав испытуемому возможность ознакомиться с предметом, затем, после истечении некоторого времени (день, неделя, месяц, несколько месяцев) не только спросить, имеет ли он представление этого предмета, но и предложить нарисовать его. Опыт убедительно показывает, что сохранение этого образа в памяти практически связано с видоизменением образа представления этого предмета, с выделением и подчеркиванием его наиболее существенных признаков, исчезновением его индивидуальных особенностей, иначе говоря, с глубокой переработкой хранящегося в памяти образа.
Все это показывает, что образ представления является сложнейшим психологическим явлением и «образную память» человека ни в коей степени нельзя расценивать как элементарное явление.
Образы представлений являются значительно более сложными видами следов памяти, и именно их близость к интеллектуальным процессам делает их одним из наиболее важных составных частей познавательной деятельности человека.
Словесная память
Более сложный и более высокий специфически человеческий вид памяти представляет словесная память.
Мы не только пользуемся словами для обозначения предметов, и словесная речь не только участвует в формировании представлений и хранении наглядной информации. Подавляющее количество знаний человек получает при посредстве словесной системы, воспринимая устную информацию, читая книги и сохраняя в своей памяти результаты сведений, получаемых при помощи речи.
Словесная память в еще меньшей степени является непосредственной фиксацией слов и пассивным хранением вызванных ими образов, чем фиксация и хранение результатов наглядного опыта, откладывающегося в виде представлений.
Ниже мы еще увидим, что, получая словесную информацию, человек меньше всего запоминает слова и удерживает текстуально дошедшее до него впечатление.
Словесная память всегда является переработкой словесной информации, выделением из нее наиболее существенного, отвлечением от побочного, несущественного и удержанием не непосредственно воспринимаемых слов, а тех мыслей, которые попадаются в словесном сообщении. Это означает, что в основе словесной памяти всегда лежит сложный процесс перекодирования сообщаемого материала, связанный с процессом отвлечения от несущественных деталей и обобщения центральных моментов информации. Вот почему человек оказывается в состоянии «запоминать» содержание обширного материала, получаемого из устных сообщений и читаемых книг, одновременно оказываясь совершенно не в состоянии удержать в памяти их дословное содержание.
Словесную память нередко называют «ассоциативной», или «логической». Это связано с тем, что слова никогда не возбуждают у нас изолированных представлений, но вызывают целые цепи матрицы ассоциативных или логически связанных элементов.
(обратно)Психология мнестической деятельности
Запоминание и воспроизведение
До сих пор мы останавливались на отдельных видах следов и особенностях их запечатления.
Теперь мы должны дать характеристику специальной мнестической деятельности, иначе говоря, процессам специального запечатления или заучивания материала.
Подавляющее число наших систематических знаний возникает в результате специальной деятельности, при которой перед субъектом ставится задача запомнить соответствующий материал, удержать, чтобы сохранить его в памяти, а в последующем припомнить или воспроизвести его.
Такая деятельность, направленная на запоминание и воспроизведение удержанного материала, и называется мнестической деятельностью.
В мнестической деятельности перед человеком ставится задача избирательно запомнить предлагаемый ему материал, удержать, а затем воспроизвести, или припомнить, его. Естественно, что во всех этих случаях человек должен четко отделить тот материал, который ему было предложено запомнить, от всех побочных впечатлений и при воспроизведении ограничиться именно этим материалом, не вплетая в него каких — либо посторонних впечатлений или ассоциаций. Поэтому мнестическая деятельность всегда носит избирательный характер. Мнестическая деятельность человека представляет собой такую форму деятельности, в которой процесс запоминания (заучивания) отделен от процессов припоминания (воспроизведения) известным промежутком времени, в одних случаях коротким (когда проверка удержанного произведения осуществляется непосредственно вслед за заучиванием), в других случаях значительным (когда проверка производится через час, несколько часов или сутки).
В зависимости от задачи (запомнить на короткий срок или на длинный) можно различать кратковременную и долговременную память, хотя различение этих обеих форм памяти носит относительный характер.
Мнестическая деятельность представляет собой специфически человеческое образование, отсутствующее у животных. В процессе образования навыка или условного рефлекса у животного вызывается определенная деятельность, которая при повторении сохраняется. Однако только у человека процесс запоминания становится специальной задачей, а заучивание материала, сохранение его в памяти и сознательное обращение к прошлому в целях припоминания заученного материала — специальной формой сознательной деятельности.
Одной из основных задач психологической науки с самого начала было измерить доступный человеку объем памяти, быстроту, с которой он может запоминать материал, и время, в течение которого он может удерживать этот материал.
Эта задача отнюдь не простая.
Для того чтобы измерить «чистую» память, необходимо устранить все осложняющие влияния, которые оказывает на нее интеллектуальная переработка материала.
Известно, что осмысливание материала, организация отдельных элементов в целую систему может расширить возможность запоминания, как организация воспринимаемых элементов в целую стройную структуру — объем восприятия. Измеряя память, мы должны принять все меры, чтобы материал, который запоминают наши испытуемые, не был уложен ими в определенные смысловые структуры (это сделало бы измерение «чистой» памяти невозможным и не позволило выделить те единицы, в которых объем памяти мог бы быть выражен).
Однако именно эта задача устранить из исследования памяти всякую возможность организации материала в известные смысловые системы и оказывается самой трудной. Запоминая предложенный материал, испытуемый всегда пытается объединить его в известные смысловые группы, связать отдельные элементы ассоциациями, а это делает невозможным измерить объем «чистой» памяти, отделив ее от интеллектуального кодирования элементов в более крупные единицы.
Задача измерения объема памяти в ее наиболее чистом виде была разрешена на заре развития экспериментальной психологии известным немецким психологом Г. Эббингаусом. Для исследования объема памяти он решил предлагать испытуемому ряд бессмысленных слогов (таких, как цяв, хок, пын, дум и т. д.), которые давали наименьшие возможности для осмысления и образования ассоциаций. Предлагая испытуемому запомнить 10–12 слогов и отмечая число удержанных членов ряда, Г. Эббин — гаус принял это число за объем «чистой» памяти.
Повторяя опыт несколько раз подряд и регистрируя постепенно увеличивающееся число удержанных членов, Г. Эббингаус получил возрастающую кривую числа удержанных элементов, которую он обозначил как кривую заучивания.
Наконец, проводя проверку количества удержанных членов через несколько минут, часов или суток, он имел возможность наблюдать, как число сохраненных элементов ряда падает, и это дало ему возможность зарегистрировать кривую забывания или угасания следов памяти.
Полученные Г. Эббингаусом данные и стали основным материалом, характеризующим процессы человеческой памяти в ее самых простых формах. Рядом с измерением порогов ощущений эти опыты заложили основы научной экспериментальной психологии.
Какие основные закономерности памяти были найдены этими опытами?
Первым результатом этих исследований было установление среднего объема памяти, которое характеризовало человека.
Оказалось, что в среднем человек легко запоминает после первого чтения 5–7 отдельных элементов: это число значительно колеблется, и если люди с плохой памятью удерживают сразу только 4–6 изолированных элементов, то люди с хорошей памятью оказываются в состоянии сразу после первого чтения удержать 7–8 изолированных и бессмысленных элементов.
Далее оказалось, что объем памяти варьируется в зависимости от способа предъявления материала. Люди с преобладанием слуховой памяти запоминают больше элементов, если бессмысленные слоги читаются им вслух; люди с преобладанием зрительной памяти запоминают большее число элементов, если они предъявляются им в написанном виде. Правда, различия в слуховой и зрительной памяти оказываются не столь значительными, и проведенные исследования дают основания констатировать лишь легкое усиление зрительной памяти с возрастом, что, возможно, связано с процессом овладения письмом. Характерно, что различие в зрительной и слуховой памяти, которое лишь в нерезких формах может выступать у нормальных людей, в особенно отчетливых формах может выступать при шаговых поражениях.
Опыты Г. Эббингауса позволили установить важные закономерности в процессе заучивания материала.
При многократном предъявлении одной и той же серии, состоящей из 12–15 элементов, число удержанных членов постепенно возрастает, и, таким образом, оказывается возможным вывести кривую возрастающего числа удержанных членов, или кривую заучивания. Характерным оказался тот факт, что кривая заучивания у нормальных испытуемых носила регулярно возраставший характер, у человека, находящегося в состоянии сильного утомления, она задерживалась или сначала поднималась, а затем начинала опускаться. У человека с дефектами памяти (например, в старческом возрасте) она поднималась очень медленно и практически останавливала свой подъем. Естественно, что кривая существенно изменялась в зависимости от того, какой была длина заучиваемого ряда, и если при предъявлении ряда из 10 слов она очень скоро достигала предела (после 3–4 повторений многие испытуемые начинали удерживать 10 слов), то при предъявлении 20 или 30 слов заучивание продолжалось гораздо дольше и, как правило, не достигало полного воспроизведения даже после многих повторений.
Существенные данные были обнаружены при проверке того, как длительно удерживается заученный материал и как протекает его постепенное забывание после различных интервалов времени.
Для этой цели Г. Эббингаус предлагал испытуемым заучить определенный ряд элементов, а затем проверял, какое число этих элементов удерживается испытуемым через определенный промежуток времени.
Эти опыты позволили показать, что заученный материал удерживается полностью лишь относительно короткое время, после чего начинается его забывание и кривая, отражающая число удержанных элементов, резко опускается. В дальнейшем этот темп забывания следов уменьшается, и после нескольких дней небольшое число удержанных элементов практически остается одним и тем же.
Характерно, что кривая забывания зависит как от прочности заучивания (число безошибочного повторения ряда при заучивании), резко замедляя процесс забывания прочно заученного ряда, так и от степени организации ряда в осмысленные системы (забывание серии бессмысленных слогов протекает гораздо быстрее, чем забывание серии слов, организованных в известные смысловые структуры).
Следует, наконец, упомянуть, что сохранение заученного материала в высшей степени зависит от того, чем было заполнено время испытуемого в промежутке между заучиванием и припоминанием. Так, если этот интервал был заполнен бодрствованием и интеллектуальной работой, забывание заученного материала протекало быстрее, если интервал был заполнен сном — значительно медленнее.
Наиболее существенные данные, приближающие нас к пониманию интимных механизмов памяти, были получены при изучении зависимости результатов запоминания от объема предъявленного ряда, и при внимательном анализе зависимости удержания и забывания элементов предложенного ряда от их места в общем ряду.
Исследования показали, что если ряд из 5–6 элементов запоминается целиком после первого предъявления, то увеличение предложенного ряда приводит не к возрастанию, а к падению числа удержанных элементов. Так, при предъявлении 4–5 цифр испытуемый удерживал их полностью; при предъявлении 7–8 цифр только 70 %; при предъявлении 9–10 цифр — 40 %, а при предъявлении 10 цифр — лишь 23 %; предъявление ряда из 11–13 цифр приводило к тому, что число удержанных элементов снижалось до 2–3 %.
Аналогичные результаты были получены в другом выражении: оказалось, что если ряд из 6–7 элементов (слов) удерживался уже после одного предъявления, полное удержание ряда из 12 элементов требовало уже 16 повторений, заучивание ряда из 16 элементов — 30 повторений, ряда из 24 элементов — 44 повторения и ряда из 26 элементов — 65 повторений. Аналогичные данные были получены при заучивании серий из различного числа слогов.
Приведенные данные убедительно показывают, что увеличение исходного числа запоминаемых элементов не безразлично для их запоминания, что число удержанных элементов не возрастает в линейной зависимости от величины исходного ряда и что, наоборот, увеличение объема исходного ряда приводит к задержке, торможению процесса запоминания.
Особенно существенные данные были получены при внимательном анализе той зависимости, которая обнаруживается в удержании элементов в зависимости от того места, которое они занимают в общем ряду.
Как показали исследования, элементы предложенного ряда удерживаются далеко не одинаково. Как правило, первые и последние элементы ряда удерживаются гораздо чаще, чем средние элементы ряда. Этот факт, который получил в психологии название фактора края, имеет очень большое принципиальное значение. Он говорит о том, что удержание и воспроизведение заучиваемых элементов протекают при тормозящем влиянии, которое оказывают отдельные звенья ряда друг на друга. Первые элементы испытывают тормозящее влияние только последующих, а последние элементы ряда — тормозящее влияние только предыдущих звеньев; в отличие от этого средние элементы ряда испытывают тормозящее влияние как со стороны предшествующих, так и со стороны последующих звеньев, и поэтому они воспроизводятся гораздо хуже.
Тормозящее влияние предшествующих звеньев заучиваемого ряда на последующие называется в психологии проактивным торможением; тормозящее влияние последующих звеньев на предыдущие — ретроактивным торможением. После того, что было выше сказано о тормозящем влиянии шока на последующие и предыдущие следы, механизм влияния обоих следов торможения на консолидацию следов становится достаточно ясным.
Изложенные факты имеют большое значение для психологии памяти. Они вплотную подводят к ответу на вопрос: какие механизмы лежат в основе забывания?
В психологии в течение многих лет существовали две теории, объяснявшие причины забывания. Одна из них называлась теорией постоянного угасания следов (tracedecay), другая — теорией интерферирующего торможения следов.
Согласно первой теории следы, оставленные в нервной системе теми или иными воздействиями, постепенно угасают, и соответствующие воздействия (переживания) стираются. Поэтому забывание является естественно протекающим, пассивным процессом.
Вторая теория подходит к решению вопроса о причинах забывания. Она исходит из положения, что следы, оставляемые теми или иными раздражениями, остаются в мозгу на значительно более длительное время, иногда исчисляющееся многими годами (этот факт подтверждается опытами с гипнозом, при которых оказывается возможным вызвать те давние, иногда детские воспоминания, которое казались давно исчезнувшими); забывание впечатлений или переживаний объясняется этой теорией как результат влияния побочных, «интерферирующих» воздействий, тормозящих выявление этих следов. Такие тормозящие влияния могут носить двоякий характер: они исходят как от воздействий, непосредственно предшествующих моменту запечатления следов (явления проактивного торможения), так и от воздействий, следующих сразу же за моментом запечатления следов (ретроактивное торможение).
Легко видеть, что эта вторая теория рассматривает забывание как активный процесс и считает, что оно «локализовано» не в запечатлении, а в воспроизведении следов прошлого опыта.
Такое предположение подтверждается двумя группами фактов.
1. Одним из них является факт тормозящего влияния отвлекающей работы на воспроизведение следов. Выше говорилось о различной успешности воспроизведения следов в зависимости от того, был ли интервал, отделяющий воспроизведение следов от заучивания, заполнен активной работой или сном. Специальные исследования, при которых интервал между заучиванием и воспроизведением заполнялся запоминанием посторонних рядов, подтверждает положение о тормозящем влиянии интерферирующих воздействий.
2. Предположение, что в основе забывания лежит не столько слабость и естественное угасание следов, сколько тормозящее действие интерферирующих агентов, подтверждается другим фактом, получившим в психологии название реминисценции. Этот факт заключается в том, что воспроизведение следов, недоступное сразу же после заучивания ряда, становится доступным после известной паузы, в течение которой мозг успевает отдохнуть. Поэтому, как это ни кажется парадоксальным, объем материала, воспроизведенного после известного промежутка времени, может оказаться больше, чем объем материала при непосредственном воспроизведении.
Забывание объясняется не столько результатом угасания следов, сколько результатом их торможения поточными интерферирующими влияниями, и снятие этих тормозящих факторов (отдых коры) приводит к тому, что временно заторможенные следы начинают всплывать.
Влияние смысловой организации на запоминание
До сих пор мы рассматривали основные законы запоминания и воспроизведения рядов, состоящих из изолированных, не связанных в одно целое звеньев.
Совершенно иные законы характеризуют запоминание и воспроизведение информации, организованной в целые смысловые структуры.
Основной факт заключается в том, что, так же как и в сфере восприятия, организация элементов в целые смысловые (логические) структуры существенно расширяет возможности памяти и делает следы памяти несравненно более прочными.
Один пример может иллюстрировать это положение. Представим себе, что мы должны запомнить ряд (а), состоящий из 18 отдельных чисел — нулей и единиц.
(а) 101000100111001110
Естественно, что запоминание ряда из случайно чередующихся однородных элементов представляет большие трудности и потребует большого числа повторений.
Теперь объединим эти числа сначала в пары (б), а затем в тройки (в).
(б) 10 1000 1001 110011 10
(в) 101 000 100 111 001 110
Вместо 18 единиц для запоминания в ряду (б) будет 9, а в ряду (в) только 6 единиц. Естественно, что запоминание их будет легче, а заучивание потребует значительно меньше времени.
Объединим теперь этот весь материал в еще более крупные группы, состоящие из четырех (г), а затем из пяти чисел (д).
(г) 1010 0010 0111 0011 10
(д) 10100 01001 11001110
В результате этого преобразования весь материал, будет вместо 18 изолированных чисел, заключать 5 групп (г) или только четыре группы (д). Естественно, что такое укрепление приведет к дальнейшему облегчению запоминания, и теперь для заучивания этого ряда будет достаточно двух — трех повторений.
Аналогичное упрощение мнестической задачи и расширение объема памяти можно достигнуть путем организации ряда изолированных слов в одну смысловую систему. Вряд ли кто — нибудь сможет с одного раза запомнить 10 изолированных слов, сохранив нужный порядок их воспроизведения: ночь — лес — дом — окно — кот — стол — пирог — звон — игла — огонь. Однако достаточно организовать эти слова в одну смысловую систему, чтобы задача легко осуществлялась.
Ночью в лесу в дом через окно влез кот, прыгнул па стол, съел пирог, но разбил тарелку, послышался звон — он почувствовал, что осколок впился ему в лапу, как игла, и он ощутил в лапе ожог, как от огня.
В этом случае запоминание перестает носить характер непосредственного механического запечатлевания изолированных элементов; работе запоминания предшествует работа по логическому преобразованию, или кодированию, ряда. Однако эта работа окупается тем, что ряд из 10 элементов (которые сейчас превращаются в одну смысловую структуру) запоминается с одного раза и, что не менее важно, может быть легко воспроизведен через день или через неделю без потери хотя бы одного звена или без всякой перестановки включен в эту смысловую группу элементов.
Легко видеть, что в приведенных двух примерах мы описали искусственные модели того процесса логического кодирования припоминаемого материала, который характерен для всякого осмысленного запоминания и который является ведущей формой мнестической деятельности у взрослого человека, осваивающего содержание учебника, пытающегося давать учебный материал, и т. д.
Вместе с тем легко также видеть, что процесс осмысленного запоминания по своей психологической структуре является совершенно иным, чем процесс механического запоминания. Он включает в свой состав ряд вспомогательных логических операций и, по существу, приближается к процессу логического мышления с той только разницей, что приемы этого мышления направлены не только на то, чтобы усвоить существенные связи и соотношения элементов, но и на то, чтобы сделать эти элементы доступными для сохранения в памяти.
Процесс логического запоминания претерпевает по мере своего развития или упрочнения ряд существенных изменений, которые легко проследить, наблюдая над тем, какие этапы проходит человек, изучающий ту или иную книгу.
1. Сначала он читает книгу, выделяет ее существенные места.
2. Затем он выносит существенное содержание книги в конспект.
3. Этот конспект в дальнейшем сокращается и превращается в логическую схему книги.
4. Процесс усвоения материала может считаться законченным после того, как все содержание длинной статьи или книги может быть уложено в очень краткую, но содержательную логическую схему.
Процесс усвоения логического материала не всегда носит такой логический характер; опытный читатель не нуждается во всех промежуточных фазах этой развернутой деятельности, иногда процесс «кодирования» читаемого материала может протекать свернуто и ограничиваться лишь некоторыми сокращенными пометками, по которым содержание прочитанного может быть полностью восстановлено. В некоторых случаях, у очень опытных читателей, это оказывается ненужным, и процесс перекодирования (или логической организации) усваиваемого материала начинает протекать быстро и без всяких внешних опор.
Процесс логического запоминания, приближающий мнестическую деятельность к мышлению, существенно перестраивает как процесс «заучивания», так и процесс «припоминания». Оба они начинают носить непрямой, опосредованный характер, и именно этот характер делает запоминание высоко эффективным как по объему того материала, который становится доступен для запоминания, так и по прочности запоминаемого материала и по возможности воспроизвести его через длительные промежутки времени. Характерно, что результаты такого логически организованного припоминания требуют гораздо меньшего числа повторений для заучивания, в несравненно меньшей степени подвергаются тормозящему влиянию интерферирующих факторов и не проявляют в столь выраженной форме явлений реминисценции, как механическое запоминание не связанных друг с другом изолированных звеньев.
Путь от механического запоминания к запоминанию посредством логической организации материала и есть основной путь развития сложных форм памяти, в равной мере выступающий в онтогенезе и в процессе овладения приемами мнестической деятельности в процессе обучения.
Зависимость запоминания от структуры деятельности
Во всех случаях, на которых мы останавливались, запоминание или заучивание было предметом специальной задачи, поставленной перед субъектом, а основные законы запоминания воспроизведения — законами специальной мнестической деятельности.
Возникает, однако, вопрос: каким законам подчиняется процесс запоминания в тех случаях, когда перед субъектом не ставится специальная задача запомнить или заучить соответствующий материал и когда память включена в другую деятельность, ставящую перед субъектом другие задачи!
Изучение этих законов составляет задачу особого раздела психологической науки, изучающего явления, которые обычно обозначаются термином непосредственного, или непреднамеренного, запоминания.
Представим себе, что человек идет по улице, он спешит на работу. Он проходит мимо витрин, мимо рабочих, которые ремонтируют линию трамвая, мимо продавцов газет и мимо киосков.
Что запоминается ему после пройденного пути?
Факты показывают, что все описанные детали не остаются в его памяти, однако, если он спешит на работу, экономя минуту, а одна из улиц оказывается перекрытой, он хорошо помнит это.
Подобные наблюдения убеждают, что человек запоминает прежде всего то, что имеет отношение к цели его деятельности, что содействует достижению цели или препятствует ему. Именно относящееся к цели или предмету деятельности возбуждает ориентировочную реакцию, становится доминантным и запоминается, в то время как побочные детали, не относящиеся к основному предмету его деятельности, не замечаются и не сохраняются в памяти. В силу этого для человека, присутствующего на дискуссии и принимающего в ней участие, хорошо запоминается каждое высказывание ее участников, их позиция, характер возражений, но он может совершенно не сохранить в памяти, были ли открыты окна в аудитории, где стоял шкаф, были ли разложены книги или газеты на партах и т. п.
Исследование правил, которым подчиняется непреднамеренное запоминание, имеет очень большое значение как для теории памяти, так и для ряда практических областей психологии, в частности для психологии свидетельских показаний; именно данные этого раздела психологической науки позволяют понять, почему некоторые показания людей, бывших случайными свидетелями происшествия, оказываются так бедны, а иногда и недостаточно достоверны.
Анализу законов, которые определяют непроизвольное (непреднамеренное) запоминание, был посвящен ряд исследований советских психологов, из которых особенно большое значение имели исследования П. И. Зинченко и А. А. Смирнова.
П. И. Зинченко провел для этой цели серию специальных опытов, в которых он показал зависимость непреднамеренного запоминания от задачи, на которую была направлена деятельность.
Перед испытуемым лежал набор карточек; на каждой из них было то или иное изображение — предметов, растений, животных и т. п. В углу каждой из них стояло определенное число.
В одной серии опытов испытуемому давалась задача разложить карточки на группы, дав классификацию изображенных на них предметов; во второй серии опытов им давалась задача разложить их в последовательности тех чисел, которые были написаны на каждой карточке. Результаты опытов показывают, что удержание в памяти нарисованных изображений или имевшихся числовых обозначений в высокой степени зависит от направления деятельности испытуемого: испытуемые, перед которыми была поставлена задача классифицировать карточки по содержанию, хорошо запомнили изображенные на них предметы, но почти не запомнили тех чисел, которые были на них написаны; испытуемые, которые раскладывали карточки в порядке возрастающих чисел, запомнили те числа, которые были на них написаны, но не могли удержать в памяти, какие предметы были на них изображены и на каком месте была карточка с тем или иным изображением.
Близкие результаты были получены в опытах А. А. Смирнова, показывающих, насколько непреднамеренное запоминание зависит от того, на что направлена деятельность субъекта.
Испытуемым предлагалось решить ряд задач, причем эта деятельность выполнялась в неодинаковых условиях: одна группа испытуемых решала готовые задачи, а другая должна была самостоятельно составлять задачи на определенное правило.
После окончания деятельности проверялось, насколько обе группы испытуемых удержали в памяти те числа, с которыми манипулировали. Как показали результаты опыта, обе группы испытуемых неодинаково удерживали в памяти числа, которыми они оперировали: решавшие готовые задачи удерживали сравнительно небольшое количество чисел; те же из них, кто должен был самостоятельно составлять задачи, учитывая нужные соотношения чисел, запомнили почти в три раза больше чисел, чем первая группа.
Приведенные данные показывают, что успешность удержания в памяти материала в высокой степени зависит от цели деятельности, от поставленной перед субъектом задачи.
Успешность непроизвольного (непреднамеренного) запоминания зависит, однако, не только от задачи деятельности, но и от характера деятельности и от степени ее сложности и активности.
Этот факт доказывается другими экспериментами, проведенными теми же авторами.
Испытуемым предлагается три вида работы над словами: подбирать к данным словам дополнительные слова на ту же букву, подбирать к ним слова, аналогичные по свойствам, и, наконец, подбирать слова, которые связаны с ними по содержанию. Число удержанных в памяти слов при последних двух опытах вдвое превосходит число слов, удержанных после первого опыта.
Со всей очевидностью выступает тот факт, что сложная интеллектуальная деятельность приводит вместе с тем и к значительно большему эффекту непреднамеренного удержания в памяти соответствующего материала. Аналогичные данные были получены при исследовании того, как удерживается сложный осмысленный материал в зависимости от степени сложности той интеллектуальной деятельности, которая с ним выполняется.
Испытуемым предлагалась различная работа с рядом смысловых отрывков: в одних случаях они должны были три раза повторить отрывки, в другом — разобраться в них с помощью предложенного им плана.
Работа над анализом содержания отрывков с помощью предложенного испытуемым логического плана приводит к тому, что как ученики 5–го класса, так и взрослые (студенты) удерживают значительно больше материала, чем при механическом, хотя и трехкратном повторении отрывков.
Приведенные факты показывают, что непреднамеренное запоминание зависит от сложности интеллектуальной деятельности, и чем сложнее интеллектуальная деятельность, тем больше запоминается тот материал, работе над которым она была посвящена.
Опыты, показывающие этот факт, заключались в следующем. Испытуемым предлагались смысловые отрывки, с которыми они должны были производить различную работу: в одних случаях они должны были три раза повторять отрывки, в других случаях — анализировать содержание этих отрывков, используя готовый план, в третьих случаях — самостоятельно составлять план этих отрывков.
После каждой из этих работ им предлагалось рассказать, какие отрывки они запомнили; подобный же вопрос повторялся через несколько минут после проведения работы.
Результаты отсроченного воспроизведения во всех трех случаях оказались различными.
Если при опыте с трехкратным повторением отрывка испытуемый сразу воспроизводил после данного ему интервала столько же деталей, сколько и при непосредственном воспроизведении, то количество деталей, воспроизведенных после отсрочки, в двух последних опытах оказалось значительно больше, чем при непосредственном воспроизведении.
Это означает, что сложная интеллектуальная работа, связанная с использованием готового плана или с самостоятельным составлением плана отрывка, не только приводит к его лучшему запоминанию (как это было показано предшествующими фактами), но делает удержание материала более прочным и позволяет при его отсроченном воспроизведении припомнить даже больше деталей, чем было воспроизведено при опросе, имевшем место непосредственно после проведения опыта.
Приведенные факты показывают, что интеллектуальная работа над материалом приводит к тому, что материал удерживается значительно более прочно и полно, чем он удерживается при механическом заучивании и, таким образом, дает возможность оценить мнестический эффект интеллектуальной деятельности.
Эффект непреднамеренного удержания в памяти соответствующего материала зависит не только от направленности и интеллектуальной сложности деятельности, но и от ее протекания и от эмоциональной окрашенности.
Факт зависимости запоминания от протекания деятельности был в свое время подробно исследован известным немецким психологом К. Левином.
Известно, что какое — либо намерение прочно удерживается памяти, пока задача не выполнена, и исчезает из памяти, как только задача выполняется. Мы помним о намерении опустить в почтовый ящик письмо, пока не опустили его; но стоит нам выполнить это намерение, как воспоминание о письме исчезает нашей памяти.
Именно в силу этого правила всякая задача сохраняется в нашей памяти, пока соответствующая деятельность не выполнена, и именно в связи с этим следы незаконченной и невыполненной деятельности сохраняются в памяти лучше, чем следы закончен деятельности. Этот факт лучшего сохранения в памяти незаконченных действий был в свое время показан ученицей К. Левина — Б. В. Зейгарник и вошел в психологическую науку под названием «эффекта Зейгарник».
Опыты, посвященные исследованию зависимости удержания материала в памяти от степени законченности деятельности, заключались в следующем. Испытуемому предлагалось выполнить ряд задач (складывать из спичек фигурки, раскладывать бусы в разные ящики, решать арифметические задачи и т. д.). Выполнение некоторых из этих задач прерывалось, так что испытуемые не могли довести их до конца; другие действия доводились ими до конца.
После того как опыт был окончен, испытуемым предлагалось припомнить, какие именно действия они производили.
Результаты показали, что незаконченные действия припоминались в два раза чаще, чем законченные.
Лучшее запоминание незаконченных действий объясняет, почему произведение с острым сюжетом и неразрешенной фабулой лучше запоминаются и почему это запоминание прочно держится, пока произведение не дочитывается до конца. Оно же объясняет тот факт, что нерешенные задачи продолжают прочно удерживаться в памяти, пока сохраняется то напряжение, которое устраняется при их решении.
Сказанное приводит нас к последнему фактору, определяющему прочность непреднамеренного запоминания, — к влиянию эмоциональной окраски запоминаемого материла.
Известно, что эмоционально окрашенные переживания удерживаются в памяти значительно лучше, чем безразличные впечатления. Этот факт, по — видимому, объясняется тем, что эмоционально окрашенные впечатления вызывают повышенный ориентировочный рефлекс и протекают при более высоком тонусе коры, и тем, что человек склонен гораздо чаще возвращаться к ним, в этом отношении эмоционально окрашенные переживания вызывают такое же повышенное напряжение, как и любые незаконченные действия.
Однако лучшее удержание в памяти эмоционально окрашенных действий имеет и свои границы.
Хорошо известно, что резкие аффективные переживания, мучительные и непереносимые для субъекта, активно тормозятся, «вытесняются» из сознания и забываются субъектом.
На этот факт обратил в свое время внимание известный венский психиатр — основатель психоанализа 3. Фрейд, который в большом количестве наблюдений показал, что человек склонен «вытеснять» неприятные (несовместимые с его установками) и мучительные переживания, которые тормозятся и становятся содержанием его бессознательного, проявляясь лишь в состояниях пониженной активности — в форме сновидений или в виде описок, очиток, оговорок, возникающих при отвлечении внимания.
Факты вытеснения непереносимых аффективных переживаний и бессознательные явления представляют одно из важнейших достижений современной психологической науки. Их физиологические механизмы объясняются тем торможением, которое возникает при сверхсильных возбуждениях и охраняет кору от излишнего перевозбуждения. Именно поэтому физиологические механизмы, лежащие в основе «вытеснения» из памяти непереносимых переживаний, близки к механизмам «парабиотического», или «охранительного», торможения.
(обратно)Индивидуальные особенности памяти
До сих пор мы останавливались на общих закономерностях памяти человека. Однако существуют индивидуальные различия, которыми память одних людей отличается от памяти других.
Эти индивидуальные различия в памяти могут быть двух видов. С одной стороны, память различных субъектов отличается по преобладанию той или иной модальности — зрительной, слуховой, двигательной; с другой стороны, память различных людей может отличаться и уровнем своей организации.
Известно, что у одних людей преобладает зрительный, у других — слуховой, у третьих — двигательный вид памяти. Это легко можно видеть, сравнивая то, как различные люди запечатлевают одну и ту же зрительную структуру, и анализируя те способы, с помощью которых они запоминают какое — либо содержание (например номер телефона или фамилию).
Аналогичные факты можно наблюдать и в слуховой памяти. Индивидуальные различия здесь бывают очень велики, и если в истории были отмечены случаи, когда один раз прослушанное сложное музыкальное произведение удерживалось и полностью повторялось людьми с выраженной слуховой памятью, то известно много наблюдений над людьми, которые оказываются почти полностью неспособны сохранить на сколько — нибудь длительный срок музыкальную мелодию.
В отмеченных индивидуальных различиях памяти проявляются как врожденные (генотипические) особенности, так и профессиональная деятельность людей, которая приводит к высокому развитию зрительной, слуховой, а иногда и вкусовой памяти.
Характерные особенности памяти могут выступать и в том, что различные испытуемые совершенно по — разному решают одну и ту же задачу, например удержание в памяти номера телефона или незнакомой фамилии. Известно, что некоторые выдающиеся музыканты (например известный композитор С. Прокофьев) указывали, что они запоминают номера телефонов как известные музыкальные мелодии, в то время как другие субъекты видят номер телефона написанным на доске и запоминают его зрительным путем.
Особенно большое значение имеют, однако, различия в способах запоминания и в уровне организации памяти у различных лиц.
Как показывают наблюдения, у одних лиц преобладают непосредственные, чувственные (зрительные, слуховые, двигательные) формы запоминания, в то время как у других запоминание носит преимущественно характер сложного кодирования материала, превращения его в вербально — логические схемы. Именно это имел в виду И. П. Павлов, когда он делил людей на две группы, из которых одна относится к «художественному», а другая к «мыслительному» типу. Индивидуальные различия в памяти далеко не всегда являются лишь частными особенностями, не выходящими за пределы мнестических процессов. Нередко они приводят и к значительным изменениям в структуре всей личности человека.
А. Р. Лурия описал один из таких случаев с известным советским мнемонистом Ш.
Этот человек обладал удивительной по своей мощности наглядной эйдетической памятью. Он без труда удерживал огромные таблицы чисел, слов и продолжал «видеть» их, одновременно «ощущал» их в виде звуков, звуковых оттенков (синестезий). Поэтому ему не стоило труда воспроизводить огромный материал спустя значительные промежутки времени, иногда исчислявшиеся многими годами.
Существенным для Ш. был, однако, тот факт, что необычные особенности его памяти отражались на структуре его мышления и на особенностях его личности.
Обладая исключительной наглядной памятью, Ш. без труда решал сложные задачи, если их решение могло протекать в наглядном плане и опиралось на возможность зрительно фиксировать материал и оперировать наглядными образами. Однако для него представляли часто непреодолимую трудность решение тех абстрактных задач, которые требовали отвлечения от наглядных образов, решение которых в наглядном плане было невозможным. Поэтому понимание сложных и отвлеченных логикограмматических структур часто протекало у него не легче, а значительно труднее, чем у людей, не обладавших столь сильной наглядно — образной памятью.
Наибольший интерес представляет, однако, особенность личности Ш. Наглядные образные представления были у него настолько сильны, что мир его воображения иногда сливался с миром реальных впечатлений, и именно эти границы между реальным и воображаемым миром, столь отчетливые у обычного человека, очень размытыми. Поэтому поведение Ш. часто отличалось непрактичностью, смещением реальности и фантазии, и сверхмощное развитие наглядной образной памяти приводило к формированию особых черт его личности в целом.
(обратно)Методы исследования памяти
Перед исследованием памяти может стоять одна из трех задач: установить объем и прочность запоминания, дать характеристику физиологической природе забывания и описать возможные уровни смысловой организации памяти.
Для первой задачи применяются приемы удержания ряда из изолированных, не связанных между собой элементов (бессмысленных слогов, слов, чисел или зрительно предъявляемых геометрических фигур).
Методы исследования объема и прочности элементарной памяти имеют несколько вариантов.
К ним относятся, с одной стороны, методы исследования удержания ряда из несвязанных между собой элементов, с другой стороны, методы исследования заучивания длинного (запредельного) ряда таких элементов.
Первый метод состоит в том, что испытуемому предъявляют ряд из возрастающего числа элементов (слогов, чисел или слов) и предлагают воспроизвести их в том же порядке, в котором они были даны (табл. 2.4).
Таблица 2.4 — Элементы для запоминания
Объемом непосредственной (кратковременной) памяти считается то максимальное число элементов, которое испытуемый может воспроизвести после однократного предъявления и без ошибок.
Для установления различий между слуховой и зрительной памятью данные ряды могут предъявляться на слух или зрительно. Разновидностью этого метода является опыт, в котором испытуемому предлагается определенная группа геометрических фигур (в последовательном порядке или одновременно), а затем предлагается либо найти эти фигуры среди группы других фигур (метод узнавания) либо нарисовать их (метод воспроизведения).
Метод исследования заучивания состоит в том, что испытуемому дается длинный ряд не связанных между собой слогов, слов или цифр, которые он сразу не может запомнить, и предлагается воспроизвести удержанные элементы в любом порядке (табл. 2.5).
Таблица 2.5 — Набор для запоминания
Опыт повторяется несколько раз (до 10), причем каждое воспроизведенное слово отмечается цифрой в порядке его воспроизведения.
В конце опыта вычерчивается кривая заучивания. Заучивание оценивается как общим результатом (число удержанных в памяти членов ряда и число повторений, необходимых для полного их заучивания), характером кривой (ее быстрое восхождение, наличие колебаний и т. д.) и устойчивостью того порядка, в котором испытуемый воспроизводил слова (последнее дает возможность установить как особенности «стратегии» мнестической деятельности испытуемого, так и выраженности того «фактора края», о котором говорилось выше.
Исследование физиологической природы забывания ставит перед собой задачу изучения: лежит ли в основе забывания слабость следов или их торможение интерферирующими агентами.
Для ответа на этот вопрос проводится серия исследований, при которых, с одной стороны, проверяется способность удерживать в памяти следы данного ряда на известный промежуток времени (не заполненный никакой побочной деятельностью) и, с другой стороны, прослеживается, как влияет на удержание следов посторонняя (интерферирующая) деятельность.
Наиболее простые опыты, относящиеся к этой группе, состоят в следующем.
1. Испытуемому предъявляется короткая серия слогов, слов или цифр, состоящая из четырех, пяти, шести элементов, и в одних случаях предлагается воспроизвести их в том же порядке сразу же после предъявления, а в других — после паузы в 30 сек, 1 мин, 2 мин. Слабость следов проявляется в том, что успешно повторив ряд непосредственно после его предъявления, испытуемый обнаружит затруднения при его отсроченном воспроизведении и либо будет давать меньшее число воспроизведенных звеньев, либо воспроизводить посторонние (связанные по вучанию или смыслу) элементы, либо же будет переставлять их, меняя тот порядок, в котором они были предъявлены.
2. Испытуемому предъявляются такие же ряды из четырех, пяти, шести элементов (слогов, слов, цифр) и предлагается воспроизвести их сразу же после предъявления. После этого ему предлагается выполнить какую — либо побочную деятельность (например, произвести относительно сложные операции вычитания или умножения), которая занимает то же время, что и «пустая пауза» (30 сек, 1 мин, 2 мин); после этого его снова просят повторить тот ряд элементов (слогов, слов, цифр), который ему давался раньше. Влияние посторонней деятельности (гетерогенного интерферирующего фактора) будет проявляться в том, что в отличие от опыта с «пустой паузой» он окажется не в состоянии воспроизвести столько же элементов, сколько он воспроизводил ранее.
3. Испытуемому предъявляется короткий ряд из трех, четырех, пяти элементов (слогов, слов, цифр) и предлагается воспроизвести их; после этого ему предъявляется второй такой же ряд элементов, который он также должен воспроизвести. Вслед за этим его просят воспроизвести первый (ранее дававшийся) ряд элементов.
Тормозящее влияние однородной (гомогенной) интерферирующей деятельности будет проявляться в том, что испытуемый либо вообще не сможет вернуться к первому ряду, либо окажется способным воспроизвести значительно меньшее число элементов, либо же будет воспроизводить ряд, составленный частично из элементов второго ряда, т. е. дает явление, известное в психологии под названием «контаминации».
Все описанные опыты могут повторяться несколько раз подряд; это позволит увидеть, в какой степени преодолевается нарушающее воспроизведение влияния незаполненной паузы, с одной стороны, и тормозящее влияние побочной интерферирующей деятельности — с другой.
Сопоставление данных, полученных в только что описанной серии, с результатами простых опытов с удержанием элементов однократно предъявленного ряда или опытов с заучиванием позволит дать гораздо более полную информацию об особенностях мнестической деятельности, чем применение только одного из описанных методов.
Для исследования уровня доступной смысловой организации памяти обычно пользуются методами изучения опосредствованного запоминания, разработанными Л. С. Выготским, А. И. Леонтьевым и Л. В. Занковым.
Метод опосредствованного запоминания состоит в том, что испытуемому дают задачу использовать для запоминания предложенного ряда слов вспомогательные картинки, логически связывая каждое слово с определенной картинкой; проделав эту часть опыта, испытуемый затем должен просматривать отобранные картинки и каждый раз называть то слово, для запоминания которого была использована данная картинка.
Таким образом, в этом случае испытуемому предлагается не один ряд стимулов (подлежащие запоминанию слова), а два ряда стимулов, из которых один (подлежащие запоминанию слова) является предметом запоминания, а второй (вспомогательные картинки) — средством для запоминания.
Исследующий оценивает как характер тех смысловых вспомогательных связей, которые испытуемый устанавливает между словами и картинками, так и успешность припоминания слов по отобранным или предложенным вспомогательным картинкам.
Метод опосредованного запоминания может применяться в двух вариантах — свободном и связанном.
В свободном варианте опыта перед испытуемым раскладывается 25–30 карточек из лото, а затем предъявляются отдельные слова, для запоминания каждого слова он должен отобрать одну из картинок, которую он связывает с данным словом; после того, как было предъявлено 12–15 слов, испытуемому в случайной последовательности предъявляются отдельные карточки и предлагается каждый раз назвать то слово, для запоминания которого картинка была отобрана.
В связанном варианте опыта экспериментатор произносит подлежащее запоминанию слово и предъявляет испытуемому одну картинку, которую он должен использовать как вспомогательное средство для запоминания слова.
В первом варианте испытуемому предлагаются картинки, которые легко связать с данным словом (например, «школа» — картинка «тетрадь», слово «зима» — картинка «печка»). Во втором подварианте опыта, проводимом для того, чтобы установить возможность активного, творческого установления вспомогательных связей, ему предлагаются картинки, которые трудно связать с данным словом (например, слово «школа» — картинка «утка»; слово «зима» — картинка «очки» и т. п.).
Протокол опыта с опосредствованным запоминанием приобретает такой характер (табл. 2.6):
Таблица 2.6 — Протокол
Возможность логической организации материала проявляется как в правильном конструировании вспомогательных связей, так и в ударном использовании их с возвращением по использованным картинкам к первоначально данным словам.
Недостаток логической организации памяти проявляется в том, что испытуемый либо оказывается не в состоянии установить вспомогательные связи между данным словом и вспомогательными картинками, либо в том, что он не может вернуться к исходному слову, и при проверке, разглядывая картинки, либо отказывается сказать, какое слово эта картинка условно обозначает, либо вместо воспроизведения исходного слова дает какое — либо слоте), ассоциативно связанное с отобранной картинкой.
Метод исследования опосредствованного запоминания имеет большую ценность при психологическом обследовании различных форм умственной отсталости.
Специальным вариантом метода опосредствованного запоминания является метод, известный под названием «пиктограммы».
Испытуемому читается ряд из 12–15 слов, которые нельзя непосредственно изобразить (например, «сомнение», «развитие» или «девочке холодно», «мальчик боится» и т. п.); для того чтобы запомнить эти слова, испытуемый должен нарисовать условный рисунок (знак), взглянув на который он затем должен вспомнить отмеченное слово. Так как предъявляемые слова нельзя изобразить наглядно, испытуемый может либо применить известный условный значок, либо изобразить ситуацию, напоминающую данное слово.
Нормальные испытуемые легко используют первый или второй путь (в чем проявляются их индивидуальные особенности). Умственно отсталые испытуемые не могут решить эту задачу или рисуют лишь конкретные предметы, не выделяя в них различительных, информативных признаков, поэтому задача запоминания предложенного ряда слов с помощью вспомогательных пиктограмм остается неразрешимой.
Оба описанных метода исследования опосредованного запоминания могут иметь большое диагностическое значение.
(обратно)Развитие памяти
Развитие памяти в детском возрасте меньше всего можно представить как процесс постепенного количественного роста или созревания.
В своем развитии память претерпевает драматическую историю, полную глубоких качественных перестроек и принципиальных изменений как ее структуры, так и взаимоотношений с другими психическими процессами.
Есть много оснований предполагать, что способность запечатлевать и сохранять следы в первые годы жизни не слабее, а даже сильнее, чем в последующие, и что наглядная (эйдетическая) память развита у ребенка гораздо больше, чем у взрослого; Л. Н. Толстой неоднократно говорил, что едва ли не половина всех воспоминаний, которыми он располагал, сложилась у него в первые годы жизни.
Однако память ребенка третьего и четвертого года жизни наряду с силой имеет и свои слабости: ее трудно организовать, сделать избирательной, она еще нив какой мере не является произвольной памятью, для которой возможно целенаправленно запоминать нужное, отбирая запечатлеваемые следы из всех остальных. Это можно легко показать, если предложить ребенку 2,5–3–летнего возраста запомнить, а затем воспроизвести 5–6 слов или, дав ему 5–6 картин, сказать, какие именно картинки ему были даны. В этом случае легко убедиться, что ребенок будет воспроизводить наряду с данными ему словами (или картинками) еще и другие, ассоциативно связанные с ними, и не сможет затормозить свои побочные ассоциации, избирательно воспроизводя только нужную серию следов. Процесс произвольного избирательного припоминания оказывается еще не готовым к этому возрасту, и возможность подчинить свою мнестическую деятельность речевой инструкции созревает у ребенка значительно позже вместе с общим развитием целенаправленного управляемого поведения.
Такой противоречивый характер развития, некоторое уменьшение возможности непосредственной наглядно — образной памяти вместе с возрастанием управляемости мнестических процессов является первой отличительной чертой развития памяти в детском возрасте.
Другой отличительной чертой развития памяти является постепенное развитие опосредованного запоминания и переход от непосредственных, естественных к опосредованным, вербально — логическим формам памяти.
Этот основной факт развития памяти был в свое время детально изучен Л. С. Выготским и его сотрудниками (А. Н. Леонтьевым и Л. В. Занковым).
Для того чтобы представить те качественные изменения, которые претерпевает память ребенка но мере его развития, Л. С. Выготский проводил с детьми разного возраста две серии опытов. В первой из этих серий он давал ребенку задачу непосредственно (без всяких вспомогательных приемов) запомнить и воспроизвести ряд из 10–12 слов; во второй серии он давал ребенку ряд вспомогательных картинок как средства для запоминания слов, связав каждое слово с соответственной картинкой какой — либо вспомогательной связью.
Опыты показали, какой сложный характер носит развитие процессов памяти у ребенка.
Младшая группа детей — школьников успешно могла удерживать определенное число слов, не используя никаких приемов; однако картинки, предложенные им как вспомогательное средство, не улучшали процесс запоминания; дети этого возраста не могли вербалыю — логически связать предложенную картинку с данным словом, заявляя «здесь нет таких» либо стараясь непосредственно увидеть изображение данного слова па картинке (так, когда одному из детей было предложено запомнить слово «солнце» при помощи картинки «самовар», он показал на маленькое светлое пятнышко на самоваре и сказал: «Вот оно — солнце!»). Поэтому рассматривание было как бы дополнительной работой, которая только отвлекала ребенка от запоминания нужного слова. Когда ребенку предлагалось по каждой картинке припомнить соответствующее слово, он оказывался совершенно беспомощным и либо просто описывал данную ему картинку, либо давал те ассоциации, которые возникали у него по поводу картинки. В результате этого операция, при которой вспомогательная картинка использовалась лишь для припоминания нужного слова, заменялась более простой и непосредственной операцией дальнейших ассоциаций, и требуемая схема (схема 2.1) заменялась другой, более элементарной схемой (схема 2.2), ребенок младшего возраста оказывался еще не в состоянии устанавливать или использовать вспомогательные («мпемотехнические») связи и в опыте с использованием картинок давал не лучшие, а иногда даже худшие результаты, чем в опыте с непосредственным запоминанием.
Схема 2.1
А (слово) X(картинка) А(слово)
Схема 2.2
А — Х — Х
(тина слово «солнце» — картинка «самовар» — это и есть самовар)
или
А — Х — У
(слово «солнце», картинка «самовар» — это чай пить… чайник… стакан)
Эти факты позволили установить, что запоминание ребенка дошкольного возраста в своей преобладающей части носит еще непроизвольный (а потому трудно управляемый) характер.
Иная картина открывалась, когда исследователи проводили этот же опыт над младшими, а затем и над старшими школьниками.
Дети этого возраста, естественно, лучше управляли процессами своего запоминания и поэтому лучше выполняли опыт с непосредственным запоминанием предложенного им ряда слов. Однако наиболее существенный сдвиг, наблюдавшийся в школьном возрасте, заключался в том, что дети оказывались теперь в состоянии использовать для процесса запоминания внешние вспомогательные средства, устанавливать вспомогательные связи, которые давали им возможность использовать картинки как опорные знаки для запоминания нужного слова.
На первых порах эта возможность ограничивалась использованием относительно простых готовых связей. Дети оказывались в состоянии использовать для запоминания слова «школа» картинку «тетрадь» («в школе — тетради»), но еще не могли самостоятельно создавать новые вспомогательные связи, отказываясь, например, для запоминания слова «школа» использовать картинку «пароход» («нет, школа — в пей учатся, а пароход — он на море…»). Однако на последующих этапах развития эта трудность преодолевалась. Дети начинали овладевать возможностью самостоятельного формирования новых вспомогательных связей, которые могли бы быть использованы для запоминания предложенных слов.
В результате этого процесса число слов, запоминаемых с помощью вспомогательных картинок, резко увеличивалось и начинало обгонять число слов, которые ребенок мог удерживать непосредственно.
Однако ошибки, характерные для детей дошкольного возраста (типа А — Х–Х или А — Х–У), здесь уже исчезали, и ребенок, которому в контрольном опыте предъявлялись использованные им картинки, либо возвращался к исходному слову (слово «школа» — картинка «пароход» — слово «школа», или А — Х–А) или же давал неточное воспроизведение заданного слова, замещая его каким — либо близким к нему словом (слово «школа» — картинка «пароход» — слово «учитель», т. е. давая схему А — Х–Б).
Опыты наглядно показывали, что школьный возраст является этапом, когда наряду с непосредственной памятью у ребенка складываются процессы опосредованного запоминания, и переход к исследованию памяти старших школьников и взрослых позволял описать следующий этап ее развития.
Проведенные на старших школьниках и на взрослых опыты показывают, что они без труда устанавливают вспомогательные связи, позволяющие им использовать любые опорные внешние средства для запоминания данных им слов; наличие привычных связей между словом и картинкой не представляет для них сколько — нибудь заметных препятствий, и они легко используют любые картины в качестве вспомогательных средств для запоминания. Однако наиболее существенная черта, отличающая этих испытуемых, состоит в том, что теперь они уже перестают нуждаться во внешних опорах и оказываются в состоянии запоминать предлагаемые слова с помощью их внутренней логической организации, укладывая их в определенную логическую структуру и «кодируя» их в определенные смысловые группы. Это позволяет им превратить непосредственное механическое запоминание в логически организованную мнестическую деятельность. Те приемы запоминания, которые на предыдущем этапе носили внешне непосредственный характер, теперь сокращаются и приобретают характер внутреннего опосредованного процесса. Механическая память постепенно превращается в логическую память.
Результатом этого процесса является значительное повышение результатов запоминания в первой серии опытов, где испытуемому не дается никаких внешних вспомогательных опор, и кривая этой серии опытов начинает стремительно подниматься вверх, обнаруживая тенденцию в своем пределе слиться с кривой внешне опосредованного запоминания. Этот факт, который получил в свое время название «параллелограмма памяти», дает схему основных фактов развития памяти в детском возрасте. Он показывает, что если в школьном возрасте происходит основной процесс перестройки элементарной непосредственной памяти во внешне опосредованную, то с переходом к старшему школьному и зрелому возрасту человек становится в состоянии овладеть внутренне опосредованным запоминанием. Поэтому резкий подъем кривой «непосредственного» запоминания к этому возрасту и объясняется тем, что это запоминание фактически становится здесь внутренне опосредованным.
Процесс развития памяти в детском возрасте оказывается, таким образом, процессом коренных психологических перестроек, суть которых сводится к тому, что естественные непосредственные формы запоминания превращаются в сложные, социальные по своему происхождению «высшие психологические процессы», решающим образом отличающие психологические процессы человека от психологических процессов животного.
Легко видеть, что эта коренная перестройка процессов памяти в течение развития ребенка является не только измененным строением самой памяти, но вместе с тем и изменением в отношениях между основными психологическими процессами. Если на ранних этапах развития память носила наглядный характер и в значительной мере являлась продолжением восприятия, то с развитием опосредованного запоминания она теряет свою непосредственную связь с восприятием и приобретает новую и решающую связь с процессами мышления. Старший школьник или взрослый, которые проводят сложные операции логического кодирования материала, подлежащего запоминанию, выполняют сложную интеллектуальную работу, и процесс памяти начинает приближаться к процессу речевого мышления, не теряя, однако, характера мпестической деятельности.
Такое коренное изменение отношения между отдельными психологическими процессами и формирование новых функциональных систем является основной чертой психического развития ребенка, и процесс развития памяти на протяжении онтогенеза может быть понят только как та коренная перестройка процессов, путь которой мы только что изложили.
(обратно)Патология памяти
Патологические состояния мозга очень часто сопровождаются нарушением памяти; однако до последнего времени очень мало известно было о том, какими психологическими особенностями отличаются нарушения памяти при различных по локализации мозговых поражениях и какие физиологические механизмы лежат в их основе.
Широко известны факты, говорящие о том, что в результате острых травм или интоксикаций могут наступать явления ретроградной и антероградной амнезии. В этих случаях больные, сохраняя воспоминания о давно прошедших событиях, обнаруживают значительные нарушения памяти па текущие события, по существу исчерпывали те знания, которыми располагали психиатры и невропатологи, описывавшие изменения памяти при органических поражениях мозга. К этим данным присоединяются факты, указывающие, что поражения глубоких отделов мозга могут привести к глубоким нарушениям способности фиксировать следы и воспроизводить запоминаемое, но природа этих нарушений остается неясной.
Данные, полученные многочисленными исследователями за последние десятилетия, существенно обогатили наши знания о характере нарушения памяти при различных по локализации поражениях и позволили уточнить как основные данные о роли отдельных мозговых структур в процессах памяти, так и физиологические механизмы, лежащие в основе ее нарушений.
Поражения глубоких отделов мозга — области гиппокампа и системы, известной под названием «круга Пейпеца» (гиппокамп, ядра зрительного бугра, мамил — лярные тела, миндалевидное тело), приводят, как правило, к массивным нарушениям памяти, не ограниченным какой — либо одной модальностью. Больные этой группы, сохраняя воспоминания о дальних событиях (давно консолидировавшиеся в мозгу), оказываются, однако, не в состоянии запечатлеть следы текущих воздействий; в менее выраженных случаях они жалуются на плохую память, указывают, что они принуждены все записывать, чтобы не забыть. Массивные поражения этой области вызывают грубую амнезию на текущие события, иногда приводящую к тому, что человек теряет отчетливое представление о том, где он находится, и начинает испытывать значительные затруднения в ориентировке во времени, оказываясь не в состоянии назвать год, месяц, число, день недели, а иногда и время дня.
Характерно, что нарушения памяти в этих случаях не носят избирательного характера и в равной степени проявляются в трудности удержания зрительного и слухового, наглядного и словесного материала. В случаях, когда поражение захватывает оба гиппокампа, эти нарушения памяти оказываются особенно отчетливыми.
Детальные нейропсихологические исследования позволили дать дальнейшую характеристику как психологической структуры этих дефектов памяти, так и подойти к анализу физиологических механизмов, лежащих в основе ее нарушений.
Было показано, что в случаях относительно не резко выраженных поражений указанных областей мозга нарушения ограничиваются дефектами элементарной, непосредственной памяти, оставляя возможность компенсации этих дефектов путем смысловой организации материала. Больные, которые не могут запомнить серии изолированных слов, картинок или действий, оказываются в состоянии значительно лучше выполнить эту задачу, прибегая к вспомогательным средствам и организуя запоминаемый материал в известные смысловые структуры. Нарушение непосредственной памяти у этих больных не сопровождается никаким выраженным нарушением интеллекта, и эти больные не проявляют, как правило, признаков деменции.
Существенные факты были получены при анализе возможных физиологических нарушений памяти в этих случаях.
Как показали эти исследования, больные с поражениями глубоких отделов мозга могут удерживать относительно длинные ряды слов или действий и воспроизводить их после промежутка в 1–1,5 мин. Однако достаточно небольшого отвлечения любой интерферирующей деятельностью, чтобы воспроизведение только что заученной серии элементов стало невозможным. Физиологической основой нарушения памяти в этих случаях оказывается не столько слабость следов, сколько повышенная тормозимость следов интерферирующими воздействиями. Эти механизмы нарушения памяти в описанных случаях легко объясняются тем, что стойкое сохранение доминирующих очагов и избирательных ориентировочных рефлексов легко нарушается в связи со снижением тонуса коры и выделением из нормальной работы тех первичных аппаратов сличения следов, которое, как было указано выше, является непосредственной функцией гиппокампа и связанных с ним образований.
Картина нарушений памяти существенно меняется, когда к поражению глубоких отделов мозга присоединяется поражение лобных долей (и особенно их медиальных и базальных отделов). В этих случаях больной перестает критически относиться к недостаткам своей памяти, оказывается не в состоянии компенсировать ее дефекты и теряет возможность различать подлинное выполнение от бесконтрольно всплывающих ассоциаций. Конфабуляции и ошибки памяти («псевдореминисценции»), появляющиеся у этих больных, присоединяются к грубым расстройствам памяти («корсаковскому синдрому») и приводят к тем явлениям спутанности, которые стоят на границах нарушений памяти и нарушений сознания.
От всех вариантов описанной выше картины существенно отличаются нарушения памяти, возникающие при локальных поражениях внешней (конвекситальной) поверхности мозга.
Подобные поражения никогда не сопровождаются общим нарушением памяти и никогда не приводят к возникновению «корсаковского синдрома» и тем более нарушений сознания с распадом ориентировки в пространстве и во времени.
Больные с локальными поражениями конвекситальных отделов мозга могут проявить частное нарушение мнестической деятельности, обычно носящее модально — специфический характер, иначе говоря, проявляющиеся в одной какой — нибудь сфере.
Так, больные с поражением левой височной области обнаруживают признаки нарушения слухоречевой памяти, не могут удержать сколько — нибудь длинных рядов слогов или слов. Однако они могут не проявлять никаких дефектов зрительной памяти и в ряде случаев, опираясь на последнюю, могут компенсировать свои дефекты путем логической организации закрепляемого материала.
Больные с локальными поражениями левой теменно — затылочной области могут обнаруживать нарушениезрительно — пространственпой памяти, но, как правило, в значительно большей степени сохраняют слухоречевую память.
Больные с поражением лобных долей мозга, как правило, не теряют памяти, но их мнестическая деятельность может существенно затрудняться патологической инертностью раз возникших стереотипов и трудным переключением с одного звена запоминаемой системы на другое; попытки активно запомнить предложенный им материал осложняются также выраженной инактивностью таких больных, и всякое запоминание длинного ряда элементов, требующее напряженной работы над запоминаемым материалом, превращается у них в пассивное повторение тех звеньев ряда, которые запоминаются сразу, без всяких усилий. Поэтому «кривая памяти», которая в норме носит отчетливый поступательный характер, перестает у них возрастать, продолжая держаться на одном и том же уровне, и начинает носить характер «плато», отражающего инактивность их мнестической деятельности. Характерно, что локальные поражения правого (субдоминантного) полушария могут протекать без заметных нарушений мнестической деятельности.
Исследования, проведенные за последние десятилетия, позволили ближе подойти к характеристике тех нарушений памяти, которые возникают при общемозговых нарушениях психической деятельности.
Если эти нарушения вызывают слабость и нестойкость возбуждений в коре головного мозга (а это может иметь место при различных сосудистых поражениях, внутренней гидроцефалии и мозговых гипертензиях), нарушения памяти могут выразиться в общем снижении объема памяти, затруднении заучивания и легкой тормозимости следов интерферирующими воздействиями; они приводят к резкой истощаемости больного, в результате которой заучивание сильно затрудняется и «кривая заучивания» начинает не возрастать, а при последующих повторениях даже снижается.
Анализ «кривой заучивания» может иметь большое диагностическое значение, позволяя различать неодинаковые синдромы изменения психических процессов при разных но своему характеру поражениях мозга.
Характерными особенностями отличаются нарушения памяти при органической деменции (болезнь Пика, Альцгеймера) и в случаях олигофрении.
Центральным для таких поражений обычно является нарушение высших форм памяти, и прежде всего логической памяти. Такие больные оказывается не в состоянии применить нужные приемы смысловой организации запоминаемого материала и обнаруживают особенно выраженные дефекты в опытах с опосредованным запоминанием.
Характерно, что в случаях умственной отсталости (олигофрении) эти нарушения логической памяти могут выступать иногда на фоне хорошо сохранной механической памяти, которая в отдельных случаях может быть удовлетворительной по своему объему.
Исследование памяти имеет очень большое значение для уточнения симптомов мозговых заболеваний и их диагностики.
Часть 2. Речь и мышление. Интеллектуальное поведение
(обратно) (обратно)Глава 1. Интеллектуальное поведение
До сих пор мы останавливались на основных условиях сознательной деятельности человека — получении информации, выделении существенных элементов, запечатлении полученной информации в памяти.
Сейчас мы перейдем к рассмотрению того, как построена сознательная деятельность человека в целом и остановимся на строении сложных форм его интеллектуальной деятельности. Рассмотрим, прежде всего, строение интеллектуального акта в тех формах, которые наиболее близки к актам наглядного анализа и синтеза той информации, которую человек непосредственно получает от окружающего мира, чтобы затем обратиться к основным законам наиболее сложных форм его мышления, осуществляемого человеком на основе его речи.
Интеллектуальный акт и его строение
Как уже отмечалось выше, существуют три основные формы поведения, наблюдаемые уже у животных и претерпевающие существенное развитие с переходом к человеку.
1. Наиболее элементарный характер носят простейшие формы элементарного сензомоторного поведения. Они проявляются в том, что у животного непосредственно возникают простые формы поведения, появляющиеся под влиянием его основных врожденных влечений или потребностей (голод, половая потребность), или в том, что оно реагирует нужными рефлекторными движениями в ответ на непосредственные внешние воздействия. В наиболее сложной и развернутой форме этот вид поведения принимает форму поведения, при котором восприятие признаков какой — либо ситуации пускает в ход врожденные программы поведения, в некоторых случаях очень сложные. Такие сензомоторные и инстинктивные акты поведения сохраняются и у человека, у которого они, однако, отодвигаются на задний план, оттесняясь более сложными формами психической деятельности.
2. Следующей основной формой является перцепториое поведение. Оно возникает с развитием сложных органов чувств, усложнением ориентировочно — исследовательской деятельности и возникновением высших уровней мозгового аппарата — коры головного мозга. Эта форма поведения основана на анализе той наглядной ситуации, в которой находится животное, выделении ее наиболее существенных элементов и приспособлении поведения к условиям непосредственно воспринимаемой ситуации.
Такое поведение включает:
а) операции наглядного анализа и синтеза;
б) формирование известных двигательных образов, или «слепков» с окружающей среды;
в) выработку тех приспособительных актов, которые делают животное адаптированным к изменяющейся ситуации.
Наиболее существенным для этого перцепторного поведения является то, что выработка новых форм приспособительного поведения протекает в условиях непосредственных активных проб, и после многократных повторений той же ситуации новые формы приспособительной деятельности автоматизируются, приспособительная деятельность животного превращается в систему прочно закрепленных навыков.
Эти формы наглядного, или перцепторного, поведения, формирующиеся на основе ориентировочно — исследовательской деятельности, начинают занимать ведущее место у высших позвоночных; не теряя связи с инстинктивными формами поведения, они становятся основной формой поведения высших млекопитающих и сохраняют значительное место в сознательной деятельности человека.
3. Третьей и наиболее сложной формой поведения является интеллектуальное поведение, которое имеется у животных лишь в зачаточных формах, а у человека становится едва ли не основной формой сознательной деятельности. Характерная особенность интеллектуального поведения заключается в том, что ортентировочно — интеллектуальная деятельность, которая ранее входила в состав всякого поведения, начинает выделяться и становится самостоятельной деятельностью, предшествующей поведению, создающей для него основу.
Высшие млекопитающие (приматы) ориентируются в условиях окружающей среды, задерживая свои непосредственные реакции и формируя предварительный «образ действия», который начинает служить «ориентировочной основой действия» и определять дальнейшие сложные формы двигательного акта.
В процессе ориентировочно — исследовательской деятельности происходит следующее:
• формируется конкретная задача;
• создается общая «стратегия» деятельности, которая должна привести к ее решению;
• возникает «тактика» действий, которая может привести к успеху;
• выделяются те способы решения или операции, которые могут привести к выполнению задачи.
Наконец, здесь же возникают известные контрольные механизмы, с помощью которых эффект действия сличается с исходным намерением. Если этот эффект действия не приводит к нужному результату и между исходным намерением и эффектом действия продолжает существовать известное «рассогласование», автоматически включаются новые поиски нужного решения, продолжающиеся, пока решение не будет достигнуто.
«Интеллектуальное» поведение носит выраженный наглядный характер, даже его наиболее высокие формы продолжают сохранять теснейшую связь с восприятием и протекают в пределах непосредственно воспринимающего поля. Только у человека, переходящего к общественному труду, с возникновением орудий и языка этот наглядный характер интеллектуального поведения уступает место новым формам.
Усвоение сложных исторически сложившихся форм предметной деятельности, овладение языком, дающим возможность отвлеченного кодирования информации, приводит человека к совершенно новым вилам ориентировочно — исследовательской деятельности. Она перестает протекать в наглядном поле, отрывается от непосредственно воспринимаемой ситуации. Человек в состоянии сам сформулировать задачу в речи, усваивать отвлеченные принципы ее решения; он становится способным передать стратегию своей деятельности, опираясь не па наглядные образы, а на отвлеченные речевые схемы, и его планы и программы действия приобретают свободный характер, становясь независимыми от непосредственной ситуации. У пего возникают новые формы подлинно интеллектуального поведения, при котором сложные задачи сначала решаются в «умственном плане», а затем осуществляются во внешних действиях. Изменяется соотношение основных психических процессов. Если раньше интеллектуальная деятельность всецело подчинялась наглядному восприятию, то сейчас восприятие изменяется под влиянием тех отвлеченных схем, которые формируются на основе усвоения исторического опыта и овладения отвлеченными кодами языка.
Возникает скачок от чувственного к рациональному, который настолько изменяет основные законы психической деятельности, что классики материалистической философии с основанием считали его таким же важным событием, как скачок, возникший с переходом от неживого к живому или с переходом от растительного мира к животному.
Сейчас мы должны обратиться к анализу основных форм интеллектуальной деятельности человека, и начнем с анализа более простых форм наглядной интеллектуальной деятельности.
(обратно)Наглядная интеллектуальная деятельность
Интеллектуальная деятельность высших животных, в частности обезьян, тщательно изученных В. Келером, обнаруживает большую связь с условиями непосредственно воспринимаемого зрительного поля. Обезьяна относительно легко сближает предметы в непосредственном зрительном поле и испытывает затруднения, если нужно оперировать элементами ситуации, не входящими в одно зрительное поле, и она не в состоянии выйти за пределы наглядной ситуации и подчинить свое поведение отвлеченным принципам.
Совершенно иной характер носит практическая интеллектуальная деятельность человека, которую в ряде зарубежных психологических исследований принято отделять от теоретической интеллектуальной деятельности и считать протекающей целиком в наглядном плане, без какого — нибудь существенного участия речи.
Этот взгляд оказался глубоко ошибочным. Как показали исследования, конкретная практическая деятельность протекает в пределах наглядного поля и целиком подчиняется законам непосредственного наглядного восприятия у маленького ребенка. Однако у него она очень скоро начинает определяться общением со взрослыми, а затем приобретает сложный, специфически человеческий характер, включая в свой состав новые формы речевого анализа и речевого планирования интеллектуальной деятельности.
Полную зависимость сложного «интеллектуального» действия от непосредственного зрительного восприятия можно наблюдать только у ребенка 2–2,5 лет.
Если натянуть перед ребенком три нитки, к одной из которых прикреплен привлекающий внимание ребенка предмет, ребенок без труда схватывает нужную нитку и притягивает ее к себе. Если отвести нитку, к которой прикреплен предмет, в сторону, то ребенок не в состояния выделить нужный конец и обычно тянет за ту нитку, которая пространственно расположена ближе к цели.
То же происходит, если предложить ребенку рычаг, к одному из концов которого прикреплен привлекающий ребенка объект, а к другому — ручка. В этом случае ребенок 2–2,5 лет начинает либо непосредственно тянуться к объекту, либо притягивать к себе ручку, тем самым отдаляя от себя привлекающий объект. Реагировать не на наглядно воспринимаемое поле, а на «правило» рычага ребенок не может, и многократные повторения опыта не проводят к нужному эффекту.
С развитием ребенка непосредственный сензомоторный характер действий меняется, выделяется специальная фаза предварительной ориентировки в ситуации. Ребенок начинает решать предложенную ему практическую задачу, сначала осматривает ситуацию, чтобы в дальнейшем подчинить свои действия плану, выработанному в процессе предварительной ориентировки.
Такое выделение стадии предварительной ориентировки в задаче существенно повышает успешность ее решения.
Советскими психологами было прослежено, как постепенно формируется у ребенка организованное решение задачи нахождения нужного пути в простейшем лабиринте. С переходом от младшего дошкольного возраста к старшему большее число детей начинает предварительно ориентироваться в условиях лабиринта. В опытах, где ребенку предлагается предварительно просмотреть нужный путь в лабиринте и только после этого начать действовать, ребенок 4–6 лет сравнительно свободно справляется с данной задачей. Ребенок 5–7 лет решает ее полностью правильно, в то время как при попытках непосредственного решения задачи (без предварительной ориентировки в ее условиях) он продолжает делать много ошибок.
Следовательно, у детей 4–6лет складывается новый тип поведения, в котором выделяется стадия предварительной ориентировки в условиях задачи и схема ее дальнейшего решения.
Дальнейшие исследования показали, что выделение предварительной ориентировки в условиях задачи складывается постепенно, первоначально носит характер предварительных действенных проб, и лишь позднее эти действенные пробы заменяются наглядным анализом ситуации, протекающей в процессе рассматривания условий задачи. Этот процесс отчетливо выступает в специальных опытах, при которых ребенок должен решать задачу с правильным манипулированием рычагом, причем в одних случаях ему давалась возможность производить предварительные действенные пробы, а в других разрешалось лишь предварительно разглядывать картинку, изображающую схему такого опыта.
Ориентировка с помощью действенных проб дает значительно больший процент успешного решения задач, чем одно лишь наглядное рассматривание схемы, предлагаемой ребенку задачи.
На дальнейших ступенях развития ребенка (6–7 лет и старше) развернутая ориентировка путем наглядно действенных проб, становится доступной, и процесс предварительной ориентировки приобретает характер внутреннего интеллектуального действия. Было бы, однако, ошибочным думать, что развитие сложных форм интеллектуального поведения ребенка протекает простым путем постепенного перехода от непосредственных, развернутых проб к выделению фазы предварительной ориентировки в условиях задачи благодаря ее внутреннему анализу.
Еще в ранних наблюдениях за поведением младенца, проведенных известным немецким психологом К. Левином и его сотрудниками, было отмечено, что ребенок второго года жизни, который безуспешно тянется к привлекающему его предмету и не может достать его, часто прекращает свои непосредственные попытки и обращается к присутствующему при опыте взрослому, пытаясь привлечь его внимание и заставить его помочь достать привлекающий предмет. Уже очень рано действие ребенка превращается в действие социальное, ребенок пытается овладеть предметом через посредство взрослого. Этот путь овладения ситуацией через общение со взрослым становится более выраженным и начинает доминировать, когда ребенок овладевает языком.
Л. С. Выготский отмечал, что у ребенка 3–4 лет каждое затруднение в решении какой — либо практической задачи вызывало взрыв речевых реакций, которые расценивались психологами (в частности, известным швейцарским психологом Ж. Пиаже) как «эгоцентрическая речь», не имеющая практического значения и проявляющая лишь желания ребенка. Л. С. Выготский показал, что эта «эгоцентрическая» (т. е. не обращенная ни к кому) речь на самом деле носит с самого начала социальный характер. Она фактически обращена к взрослому, в ней ребенок сначала формулирует просьбу или требование помочь ему в решении задачи, затем его речь начинает отражать реальную ситуацию, как бы «снимать слепок» с этой ситуации, анализировать ее и планировать возможное решение. Таким образом, речь ребенка, сначала обращенная к взрослому, постепенно становится средством ориентировки в ситуации (наметить пути решения задачи, создать план своей деятельности).
Эволюция речи была прослежена немецкими исследователями Ш. Бюлер и Гетцер, которые, наблюдая за развитием процесса рисования у ребенка, показали, что речь ребенка раньше отражает уже сделанный рисунок и называет его, затем начинает сопровождать его, а затем начинает предшествовать рисунку и принимать активное участие в формировании плана предстоящего действия.
Факт участия речи ребенка в его практической деятельности и в решении сложных практических задач наглядно показывается в опытах, которые были проведены в школе советского психолога А. В. Запорожца — его сотрудницей Г. И. Минской. В этих опытах были взяты дети, которые ранее не могли решить практическую задачу, связанную с овладением простейшим рычагом, одна группа детей обучалась решению этой задачи в ситуации, где один ребенок был изолирован от других детей; другая группа решала ту же задачу в условиях «парного опыта», где ребенку давалась возможность активно общаться с другим своим сверстником и вместе решать эту задачу. Наблюдения показали, что у детей 3–4 лет ситуация «парного опыта» приводила к тому, что у них возникала активная речевая деятельность, дети начинали задавать друг другу вопросы, попытки импульсивного решения, не опирающиеся на осмысленную ориентировку в ситуации, тормозились, и ребенок, обращаясь к своему сверстнику, сначала ориентировался в ситуации, а затем планировал свои действия. У детей 4–5 лет в этих условиях появлялась уже самостоятельная активная речь, которая включалась в его деятельность, а у ребенка 5–6 лет в этой операции начинали формироваться сложные формы подлинно осознанной интеллектуальной деятельности.
Исследования, проведенные в условиях «парного опыта» с активным речевым общением, протекают успешнее, чем в условиях «изолированного опыта», где речь ребенка не проявляется столь активно.
Все это показывает, что развитие практической интеллектуальной деятельности ребенка происходит при участии его активной речи, которая сначала носит характер общения с окружающими, а затем принимает характер средства, помогающего ребенку ориентироваться в наглядной ситуации и планировать свою деятельность.
Речь ребенка, участвующая в формировании его интеллектуальной деятельности, сначала пост развернутый внешний характер, а затем постепенно сокращается, превращается в шепотную речь и, наконец, к 7–8 годам почти полностью исчезает, принимая форму той неслышной внутренней речи, которая и составляет основу внутреннего интеллектуального действия.
Факты, которые мы привели, показывают, что наглядная интеллектуальная деятельность прошла сложный путь развития и включила в свой состав ряд компонентов, начиная от развернутых двигательных проб и зрительной ориентировки в ситуации, кончая речевым анализом условий предложенной задачи.
Это позволяет ближе подойти к анализу психологического строения наглядной (практической) интеллектуальной деятельности человека.
В течение длительного времени в психологии господствовало представление, что практическая интеллектуальная деятельность имеет относительно простое психологическое строение и опирается на непосредственные двигательные пробы, с одной стороны, и на наглядное зрительное представление — с другой. Этот взгляд упрощал наглядное практическое мышление, противопоставляя его отвлеченному речевому мышлению. Такое представление не имеет основания.
Наглядное практическое мышление вовсе не осуществляется одними лишь двигательными пробами и наглядными образами; оно включает в свой состав и анализ наглядной ситуации с помощью речи, которая позволяет человеку выделить в этой ситуации наиболее существенные звенья, анализировать условия задачи и составлять план ее решения. В этом отношении наглядное практическое мышление приближается к отвлеченному вербально — логическому мышлению с той только разницей, что процесс решения задач направлен здесь на наглядные соотношения воспринимаемых предметов. Мышление конструктора, разрешающего практическую конструктивную задачу, протекает с той же внутренней ориентировкой в условии задачи, с тем же выделением наиболее существенных компонентов и построением плана (стратегии) действия, как и мышление физика или логика, решающего сложную отвлеченную задачу.
Участие скрытой (внутренней) речи в наглядном мышлении можно проследить, если предложить испытуемому решать, казалось бы, чисто наглядную, задачу, одновременно регистрируя те тонкие, свернутые движения речевого аппарата, которые являются признаками наличия внутренней речи.
Испытуемому предлагался узор с пробелом, который нужно заполнить, отобрав нужный вариант вставки. Для решения задачи необходимо выделить существенные признаки (сходящиеся — расходящиеся линии, их направление, изменение толщины и т. д.), и только после того, как эти признаки будут выделены и принцип построения наглядного рисунка станет ясным, отобрать ту из нехватающих частей, которая соответствует схеме рисунка. Достаточно посмотреть на запись электромиограммы языка испытуемого, решающего эту задачу, чтобы увидеть, как этот процесс анализа рисунка, который, казалось бы, должен полностью протекать в наглядно — образном плане, вовлекает и речь, интимно участвуя в ориентировке сложной зрительно — пространственной ситуации. Этот опыт показывает, что скрытые речевые компоненты, участвуют и в наглядном практическом (конструктивном) мышлении.
Для того чтобы увидеть, какую именно роль речевая деятельность играет в сложном практическом (конструктивном) мышлении, следует обратиться к специальным опытам, которые применяются в психологии для исследования конструктивной интеллектуальной деятельности.
Одним из таких приемов является опыт с так называемым «кубом Линка». Испытуемому дается задача построить большой зеленый куб из 27 маленьких кубиков. В наборе, предлагаемом испытуемому, одни кубики имеют по три стороны, окрашенные в зеленый цвет (их восемь), другие — по две (их двенадцать), третьи — но одной окрашенной стороне (их шесть), и один остается неокрашенным. Неправильное размещение кубиков в большом кубе делает задачу неразрешимой.
Наблюдение показывает, что только очень немногие из нормальных взрослых испытуемых начинают пытаться сразу же без предварительной ориентировки выкладывать большой куб. Как правило, решению задачи предшествует фаза ориентировки, которая носит характер предварительных расчетов, учета количества кубиков, имеющих различное число окрашенных сторон; затем составление общей схемы решения задачи, при которой кубики, имеющие три окрашенные стороны, естественно, размещаются по углам большого куба; кубики, имеющие две окрашенные стороны, по его рантам, кубики с одной окрашенной стороной помещаются на середине каждой плоскости, а неокрашенный кубик ставится в центр. Таким образом, процесс решения этой практической задачи оказывается совсем не таким простым и наглядным, как можно предположить. Он включает в свой состав сложные предварительные расчеты, осуществляемые при ближайшем участии речи, и только когда общая схема решения задачи готова, испытуемый приступает к ее выполнению, причем выполнение этой схемы носит не творческий, а исполнительный характер.
Близкий характер носит и решение другой задачи на наглядную практическую интеллектуальную деятельность, которая известна в психологии под названием «кубиков Коса».
В этой задаче испытуемому предлагается сложить определенный узор из отдельных кубиков, стороны которых окрашены в белый, желтый, красный и синий цвета, причем две оставшиеся стороны имеют двойную (красно — белую или сине — желтую) окраску, разделенную по диагонали.
В одних случаях узоры, которые предполагается выложить, просты и воспринимаются непосредственно. В других случаях они сложны так, что их наглядно воспринимаемые части не соответствуют элементам конструкции (на одном из рисунков испытуемый воспринимает синий треугольник на желтом фоне или синюю диагональную полосу на желтом фоне, или же синий ромб на желтом фоне, или синюю ломаную полосу на желтом фоне). В последних случаях испытуемый должен мысленно расчленить непосредственно воспринимаемый рисунок на его составные части и сообразить, что фигуры состоят не из тех непосредственно воспринимаемых частей, а из двух кубиков, имеющих двойную окраску, или состоят из четырех, разделенных по диагонали двухцветных кубиков.
Такая задача, естественно, требует от испытуемого задержать непосредственные попытки выполнения, сориентироваться в способах решения задач и подчинить программу своего решения не наглядно воспринимать очертанием узора, а перекодированной схеме, которую испытуемый должен создать, мысленно раздробляя очертания рисунка и заменяя элементы непосредственного впечатления на элементы конструкции.
Совершенно понятно, что и в этом случае программа интеллектуального решения задачи возникает не под влиянием непосредственного восприятия, а в результате преодоления непосредственного впечатления и подчинения действий той схеме, которая создается как продукт перекодирования воспринимаемого поля.
Преодоление непосредственного впечатления, составляющее основу интеллектуального акта, может быть осуществлено лишь в процессе предварительной ориентировки в условиях задачи, сопоставления наглядного образца с теми средствами, которые даются для его выполнения, и, таким образом, решение наглядной конструктивной задачи имеет сложный опосредованный характер.
Естественно, что сложный характер практического мышления, который мы только что описали, является продуктом длительного развития и легко нарушается при патологических состояниях мозга.
Опыт показал, что как интеллектуальное недоразвитие, так и снижение интеллектуальной деятельности при патологических состояниях мозга приводят к распаду этой сложно построенной формы интеллектуальной деятельности. Больные с подобным снижением интеллекта оказываются не в состоянии задержать непосредственно возникающие попытки решить конструктивную задачу; фаза предварительной ориентировки в ее условиях выпадает, поэтому попытки непосредственно решить сложную задачу, минуя анализ ее условий, приводят к неудачам.
Пытаясь решить задачу «куб Линка», больные сразу же пробуют строить куб, игнорируя тот факт, что правильная расстановка отдельных кубиков может быть обеспечена лить предварительными расчетами, и, как правило, быстро оставляют свои попытки, указывая, что «кубиков мало» или «задачу нельзя решить».
Начиная решать задачу «кубики Коса», больные не проводят предварительный анализ предложенного узора, не расчленяют непосредственно воспринимаемую структуру и не переводят «единицы впечатления» в «единицы конструкции». Поэтому такие больные сразу же пытаются отобразить каждый отдельный элемент воспринимаемого узора в отдельном кубике и не смущаются, если выкладываемая структура сохраняет число непосредственно воспринимаемых элементов, но оказывается совсем не тождественной с образом.
Естественно, что если выкладывание простых образцов, не требующих перекодирования, выполняется ими без заметного труда, то всякие попытки выложить из отдельных кубиков сложные образцы, в которых правильное выполнение задачи может быть достигнуто только в результате анализа образца и превращения «единиц впечатления» в «единицы конструкции», оказываются недоступными.
Аналогичные данные можно получить применяя метод исследования практического (конструктивного) интеллекта, известный под названием «фигура Рушта».
В этой пробе испытуемому предлагается воспроизвести образец, состоящий из прилегающих друг к другу шестиугольников. Для правильного решения задачи необходимо учесть, что прилегающие друг к другу фигуры имеют общие стенки, поэтому нужно изображать в рисунке не столько изолированные фигуры, сколько геометрические соотношения между составляющими линиями.
Эта задача оказывается недоступной для испытуемых с умственной отсталостью или с нарушением интеллектуальной деятельности, которые начинают выполнять задание без предварительного анализа и заменяют рисование геометрического соотношения лиши) изображением конкретных изолированных фигур.
Во всех приведенных случаях наиболее существенным является тот факт, что невозможность выполнения предьявляемых испытуемому задач наступает не по причине какого — либо частного дефекта (например, ориентировки в пространстве), а в результате распада сложных форм интеллектуальной деятельности, проявляющейся в том, что фаза предварительной ориентировки в условиях задачи с «перекодированием» условий выпадает, а сложная структура интеллектуальной деятельности заменяется попытками выполнения задачи на основе непосредственных впечатлений.
(обратно)Патология наглядного мышления
Интеллектуальное поведение является продуктом длительного развития и имеет очень сложную психологическую структуру. Естественно, что всякое умственное недоразвитие, с одной стороны, и патологические изменения мозговой деятельности — с другой, неизбежно вызывают распад сложно построенной интеллектуальной деятельности.
Это можно наблюдать в наиболее отчетливых формах у умственно отсталого ребенка с мозговым недоразвитием и при старческой деменции, связанной с атрофией мозгового вещества.
Известно, что у умственно отсталого ребенка могут сохраниться все простейшие виды наглядного восприятия и действия, однако структура интеллектуальной деятельности у него не получает соответствующего развития. Это выражается в том, что ребенок с глубокими формами умственной отсталости оказывается не в состоянии хорошо проанализировать ситуации, выделить в ней существенные связи и отношения и заменяет сложно построенную интеллектуальную деятельность непосредственными импульсивными реакциями, которые целиком определяются поверхностными впечатлениями о ситуации.
При наиболее глубоких формах умственной отсталости ребенок не может установить даже наиболее простые отношения между частями воспринимаемой ситуации. Так, если перед ним несколько нитей, одна из которых привязана к привлекающему его предмету, он продолжает либо тянуться к этой цели, игнорируя то, что она расположена далеко от него, и даже не пытаясь ее притянуть за нить. Либо тянет ту нить, которая зрительно расположена ближе к привлекающему предмету, игнорируя нить, к которой привязан объект, если только се конец расположен дальше от него.
Дефекты интеллектуального поведения умственно отсталого ребенка легко видеть в опытах, где для его исследования применяются рычаги, и для получения цели надо не тянуть ручку рычага, а следует отталкивать ее от себя. Умственно отсталый ребенок, оказавшись не в состоянии решить эту задачу, продолжает тянуть к себе ручку, несмотря на то что цель ускользает от него. Аналогичная ситуация развертывается и в опыте с проблемным ящиком, предложенным А. Н. Леонтьевым. В него на глазах ребенка кладется цель (например конфета), ящик запирается на рычаговый запор. Открыть его можно, либо нажимая через отверстие, расположенное непосредственно над запором (справа), либо притягивая к себе рычаг через отверстие, расположенное с другой стороны (слева). Дети с глубокой формой умственной отсталости не могут это сделать, и если первое отверстие, расположенное непосредственно над запором, закрыто, они не могут оторваться от манипуляций в непосредственной близости от запора и задача остается для них неразрешимой.
Близкие данные получаются и в опытах, где умственно отсталый ребенок должен срисовать сложную фигуру или построить се из отдельных кубиков, предварительно проанализировав се внутреннюю структуру. В этих случаях умственно отсталые дети оказываются не в состоянии отвлечься от непосредственных впечатлений и заменяют сложную систему операций, необходимых для решения этой задачи, прямым воспроизведением непосредственных впечатлений.
Аналогичные факты распада сложной интеллектуальной деятельности с выпадением анализа ситуации и вспомогательных операций наблюдаются при старческом слабоумии, наступающем в результате атрофии мозга (болезнь Пика). Описанные виды нарушения наглядной (практической) интеллектуальной деятельности носят общий характер и выражаются в распаде ее сложного строения и замене интеллектуальной деятельности непосредственными формами поведения, подчиненными наглядному впечатлению.
Иной характер могут носить нарушения интеллектуальной деятельности при локальных поражениях мозга. Здесь ограниченное поражение устраняет лишь одно из условий, необходимых для осуществления сложной интеллектуальной деятельности, и поэтому нарушение интеллектуального поведения может носить частичный характер.
Примером могут служить нарушения интеллектуальной деятельности, возникающие при поражениях нижнетеменных (или теменно — затылочных) отделов коры. В этих случаях с больным происходит следующее:
• он сохраняет данную ему задачу, но оказывается не в состоянии правильно организовать свою деятельность в пространстве;
• он путает правую и левую стороны;
• он не может построить внутренней системы пространственных координат, и его операции в пространстве приобретают беспомощный характер;
• он не может успешно справиться с любой задачей, требующей учета пространственных соотношений, и у него нарушаются все конструктивные операции;
• он но может составить фигуру из спичек, выложить рисунок из кубиков, построить большой куб из маленьких и т. д. Все эти задачи становятся доступными, если ему даются вспомогательные пространственные схемы, ориентируясь па которые он может выполнить соответствующие операции.
Совершенно иной характер носит нарушение интеллектуального поведения у больных с поражениями лобных отделов мозга. Эти поражения приводят к следующему:
• задача, которая дается таким больным, оказывается очень нестойкой;
• вызванное намерение быстро исчезает;
• больные легко попадают под влияние непосредственных впечатлений;
• они не могут выработать или удержать сложные программы деятельности и заменяют организованную деятельность импульсивными действиями или повторением раз возникших стереотипов.
Изучение нарушения интеллектуального поведения у больных с массивными поражениями лобных долей мозга составляет одну из глав невропатологии, которая интересна для психологической науки.
(обратно) (обратно)Глава 2. Слово и понятие
Решение практических конструктивных задач — одна из форм проявления интеллектуальной деятельности человека.
Другой и значительно более высокой формой является речевое, или вербально — логическое мышление, посредством которого человек, опираясь на коды языка, оказывается в состоянии выходить за пределы непосредственного чувственного восприятия внешнего мира, отражать сложные связи и отношения, формировать понятия, делать выводы и решать сложные теоретические задачи.
Эта форма мышления является особенно важной; она лежит в основе усвоения и использования знаний и служит основным средством сложной познавательной деятельности человека.
Мышление, использующее систему языка, позволяет:
1) выделять наиболее существенные элементы действительности;
2) относить к одной категории те вещи и явления, которые в непосредственном восприятии могут показаться различными;
3) узнавать те явления, которые, несмотря на внешнее сходство, относятся к различным сферам действительности;
4) вырабатывать отвлеченные понятия и делать логические выводы, выходящие за пределы чувственного восприятия;
5) дает возможность осуществлять процессы логического рассуждения и в процессе этого рассуждения открывать законы явлений, недоступных для непосредственного опыта;
6) отражать действительность несравненно более глубоко, чем непосредственное чувственное восприятие, и ставить сознательную деятельность человека на высоту, несоизмеримую с поведением животного.
Для того чтобы лучше узнать законы, которые лежат в основе вербально — логи — ческого мышления, следует:
1) ближе познакомиться с тем, как построен язык, на основе которого протекает мышление;
2) остановиться на строении слова, позволяющего формировать понятия;
3) осветить основные законы связей слов в сложные системы, дающие возможность осуществлять суждения;
4) описать существующие, сложившиеся в истории языка наиболее сложные логические системы, овладевая которыми, человек оказывается в состоянии выполнять операции логического вывода.
Только после того как будет сделан этот обзор, мы сможем подойти к наиболее сложному разделу психологической науки — анализу операций рассуждающего (дискурсивного) мышления и рассмотреть психологию продуктивного мышления человека.
Значение слова
Основной единицей языка с полным основанием считается слово. Однако было бы большой ошибкой думать, что оно является элементарной, далее неделимой частицей, как это долгое время считали, простой связью (ассоциацией) условного звука с определенным представлением.
Современной лингвистической науке известно, что слово имеет сложное строение, и в нем можно выделить две основные составные части, которые принято обозначать терминами «предметная отнесенность» и «значение».
Каждое слово человеческого языка обозначает какой — либо предмет, указывает на него, вызывает у нас образ того или иного предмета. Говоря «стол», мы относим это слово к определенному предмету — столу, говоря «сосна», мы имеем в виду другой предмет, говоря «собака», — третий предмет, говоря «пожар», «погода», «город», мы каждый раз обозначаем тот пли иной предмет, то или иное явление. Этим язык человека отличается от «языка» животных, который, как мы видели выше, лишь выражает в звуках определенное аффективное состояние, но никогда не обозначает звуками определенных предметов. Эта первая основная функция слова и называется предметной отнесенностью или, как говорят некоторые лингвисты, предоставляющей функцию слона (нем. Darstellende Funktion).
Наличие обозначающей функции слова, или его предметной отнесенности, является важнейшей функцией слов, составляющих язык. Оно позволяет человеку произвольно вызывать образы соответствующих предметов, иметь дело с предметами даже в их отсутствие. Как говорят некоторые психологи, слово позволяет «удваивать» мир, иметь дело не только с наглядно воспринимаемыми образами предметов, по и с образами предметов, вызванными во внутреннем представлении с помощью слова.
Способность слова обозначать соответствующие предметы условным знаком, вызывать их образы не является, однако, единственной функцией слова.
Слово имеет и другую, более сложную функцию: оно дает возможность анализировать предметы, выделять в них существенные свойства, относить предметы к определенной категории, Оно является средством абстракции и обобщения, отражает глубокие связи и отношения, которые стоят за предметами внешнего мира. Эта вторая функция слова обычно обозначается термином «значение слова».
Разберем подробно значение какого — нибудь слова, например, слова «чернильница». С первого взгляда может показаться, что оно просто обозначает определенный предмет и вызывает образ стоящей па столе чернильницы. Однако это далеко не так, и простое вызывание образа предмета не исчерпывает функций этого слова. Внимательно присмотревшись к этому слову, легко обнаружить, что оно имеет сложное строение и состоит из целого ряда частей, входящих в сто состав.
Первая часть слова «чернильница» — «черн» указывает на то, что обозначаемый им предмет имеет какое — то отношение к краскам; оно выделяет признак цвета, который сам по себе связан с другими цветами (черный, красный, синий и т. д.).
Второй частью этого слова является суффикс «ил»: в русском языке он обозначает качество орудийности, иначе говоря, данный предмет может быть использован как средство в какой — нибудь работе («чернИЛа», «белИЛа», «мотовИЛо», «грузИЛо»).
Третьей составной частью слова «чернильница» является суффикс «ниц»; в русском языке он обозначает, что данный предмет служит вместилищем чего — либо, и объединяет его с такими словами, как «сахарница», «перечница», «горчичшца» и т. д.
Таким образом, казалось бы, совсем простое слово раскрывается как сложный аппарат, анализирующий функцию данной вещи и указывающий па то, что перед нами находится предмет, который имеет дело с краской («черн»), служащий каким — то средством («ил»), имеющий качество вместилища («ниц»). Детальный разбор строения (морфологии) слова раскрывает всю сложность его функций. Он показывает, что перед нами сложная система кодов, которая сложилась в истории человечества и передает отдельному человеку, пользующемуся этим словом, (ложную информацию о тех свойствах, которые существенны для данного предмета, о его основных функциях и о тех связях с другими предметами соответствующих категорий, которые этот предмет объективно имеет.
Овладевая словом, человек автоматически усваивает сложную систему связей и отношений, в которых стоит данный предмет и которые сложились в многовековой истории человечества.
Эта способность анализировать предмет, выделять в нем существенные свойства и относить его к определенным категориям и называется «значением» слова.
Две основные функции значения слова — выделение существенного признака предмета и отнесение предмета к известной категории или, иначе говоря, функцию отвлечения и обобщения легко проследить в строении каждого слова.
Слово «стол» — (корень «стл», постилать, настилать) указывает на существенное качество стола — наличие «настила»; слово «часы» (корень «час») указывает на то, что основной функцией часов является указание времени (славянское «часа»); слово «сутки» (корень «стк» — стыкать) говорит о том, что это слово обозначает стык дня и ночи, слово «корова» (от латинского соти — рог) указывает, что мы имеем дело с рогатым животным.
В относительно более новых, недавно появившихся словах эта функция выделения (отвлечения) существенных признаков видна еще яснее: «паровоз» указывает па два признака: «пар» и «возить»; «телефон» — тоже на два признака («теле» — расстояние и «фон» — голос); «телевизор» — па аналогичные два признака («теле» — расстояние и «видео» — видеть); в таких словах, как «дымоход», «пылесос», «лесовоз», выделение основных признаков предмета выступает настолько отчетливо, что не нуждается в специальном анализе.
Выделение (абстракция) существенных признаков является, однако, лишь одной стороной значения слова. Второй его стороной является отнесение предмета к известной категории, иначе говоря, функции обобщения.
Слово «часы» обозначает одинаково любые часы независимо от их формы или размера; слово «стол» — столы любой формы, любого вида; слово «собака» — собак любой породы. Каждое, даже конкретное слово всегда обозначает не единичный предмет, а целую категорию предметов и может возбудить у людей, пользующихся этим словом, любые индивидуальные образы, но только образы предметов, относящихся к данной категории. Существенно, что это в равной степени относится как к конкретным словам («стол», «часы», «собака»), так и к словам, обозначающим общие понятия («страна», «город», «развитие», «вещество»).
Лингвистика хорошо знает, что соотношение наглядных образных компонентов слова с абстрактными, обобщающими, не остается одним и тем же, каждая группа слов существенно отличается. Так, в одних существительных («сосна», «овчарка», «самовар») конкретные образные компоненты представлены очень сильно, в то время как в других («животное», «страна», «мысль») они оттеснены отвлеченным обобщающим значением. Известно далее, что в прилагательных («желтый», «сухой», «высокий») и глаголах («ходить», «думать», «стремиться»), которые, как известно, возникли на много столетий позже, чем существительные, эти предметные компоненты отходят на задний план, и видение качества или действия, отвлеченного от остальной вещи, составляет основное значение этих слов.
Наконец, в развитых языках существуют специальные «служебные слова» (предлоги, союзы), которые вообще не имеют предметного значения и выражают не конкретные предметы, а отношения между ними («под», «над», «к», «от», «вместе», «вследствие»), хотя и эти слова раньше имели предметное значение, которого они лишились только на самых поздних этапах развития (слово «под» произошло от славянского «под» — пол, нижняя часть; «вместе» от «в месте», «вследствие» — от «в следствие» и т. д.).
Таким образом, каждое слово имеет сложное значение, составленное как из наглядно — образных, так и из отвлеченных и обобщающих компонентов, и именно это позволяет человеку, пользующемуся словами, выбирать одно из возможных значений и в одних случаях употреблять данное слово в его конкретном, образном, а в других случаях — в его отвлеченном и обобщенном смысле.
Тот факт, что слово ни в какой степени не является простой и однозначной ассоциацией между условным звуковым сигналом и наглядным представлением и что оно имеет множество потенциальных значений, видно не только из анализа морфологической структуры слова, но и из его практического употребления в обычной жизни.
Так, слово «уголь» может обозначать кусок черного древесного угля, каменный уголь, принадлежность художника, рисующего углем, минерал «С» и т. д. Поэтому в каждой ситуаций человек практически выбирает из всех возможных значений этого слова то, которое больше всего подходит к данной ситуации. Естественно, что для художника «уголь» значит средство для того, чтобы делать наброски, для домохозяйки — то, чем разводят самовар, для химика — элемент «С», для девушки, испачкавшей свое платье, — причина ее неприятностей.
Легко видеть, что за разным применением этого слова стоят и разные психические процессы:
• в одних случаях слово «уголь» вызывает конкретный образ (того, чем разводят самовар, того, чем делают наброски);
• в других — отвлеченные системы логических связей (уголь как элемент «С»);
• в третьих — эмоциональные переживания (уголь, испачкавший платье).
Реальное употребление слова поэтому всегда является процессом выбора нужного значения из всплывающих альтернатив, с выделением одних, нужных, систем связей и торможением других, не соответствующих данной задаче, систем связей.
Эта выделенная из многих возможных значений соответствующая ситуации система связей называется в психологии смыслом слова.
Смысл слова, зависящий от той конкретной задачи, которая стоит перед субъектом, и от той конкретной ситуации, в которой слово употребляется, может быть совершенно различным, хотя внешне оно остается одним и тем же.
Например, слово «пятерка» в устах человека, ожидающего автобус, имеет совершенно другой смысл, чем в устах школьника, сдавшего экзамен; оно имеет неодинаковый смысл и для человека, который ожидает автобус № 3, а видит подходящий автобус № 5, и для человека, который убеждается в том, что к остановке подходит действительна тот автобус, которого он долго ждал.
Слово «время» имеет совершенно различный смысл, когда оно применяется в службе времени, и когда оно произносится человеком, который после долгой беседы встает и говорит: «Ну, время!» — желая этим сказать, что затянувшаяся беседа окончена; оно приобретает третий смысл в устах старушки, которая укоризненно глядит на молодежь и произносит: «Ну и время!», желая выразить свое несогласие со взглядами и правами нового поколения.
Следует отметить, что кроме морфологического строения слова существует еще один фактор, который может способствовать выделению нужного смысла слова из всех его возможных значений. Таким фактором является интонация, с которой произносится слово.
Достаточно сказать слово «ворона» один раз без всякой специальной интонации, а в другой раз с унизительной интонацией «ворона!», чтобы сразу придать ему иной смысл, обозначив зазевавшегося человека.
Слово «шляпа», произнесенное без специальной интонации, обозначает головной убор, в то время как то же слово «шляпа!», произнесенное с интонацией укоризны, предает ему смысл, подчеркивающий беспомощность, непрактичность человека.
Именно поэтому интонация, имеющая столь большое значение в живом употреблении языка, становится наряду с контекстом одним из важных факторов, позволяющих изменить смысл слова, выбрав его из многих возможных значений.
Процесс реального употребления слова есть выбор нужного смысла из всех воз — можных его значений, и только при наличии четко работающей системы такого выбора с выделением нужного смысла и торможением всех иных альтернатив процесс использования слов для выражения мысли и для общения может протекать успешно.
Мы еще остановимся специально на том, какие отклонения в общении и в мышлении могут возникать, когда употребление слов, основанное на процессе пластического выбора возможных значений, нарушается и когда слово продолжает сохранять во всех ситуациях одно и то же косное значение.
(обратно)Методы исследования значений слова
Реальный процесс употребления слова, как выбор из системы множественных значении, является основным для психологии общения и мышления; поэтому одной из важнейших задач научной психологии является установление той вероятности, с которой каждый раз всплывает то или иное значение слова, выбираемое из многих альтернатив, и тех факторов, которые определяют процесс выбора той или иной связи из всех возможных.
Для того чтобы установить, какое именно из многообразных значений слова преобладает у субъекта и как эта преобладающая связь меняется в зависимости от особенностей субъекта, от ситуации и от поставленной перед субъектом задачи, в психологии существует ряд приемов, позволяющих с различной степенью точности ответить на этот вопрос.
Наиболее простым методом исследования потенциальных связей, которые скрываются за словом, является исследование тех ассоциаций, которые возбуждаются предъявленным словом. Для исследования испытуемому дается определенное слово, в ответ на которое ему предлагается ответить любым приходящим в голову словом. Анализируя характер всплывающей ассоциации, можно видеть, какие связи вызываются у субъекта при предъявлении данного слова.
Так, если слово «дерево» вызывает у испытуемого ассоциацию «растение», а слово «вишня» — ассоциацию «ягоды», можно думать, что испытуемый более склонен к выделению отвлеченных обобщенных связей, чем другой испытуемый, у которого слово «дерево» сразу же вызывает ассоциацию «береза», а слово «вишня» — ассоциацию «сад» или «варенье».
Метод анализа «свободных ассоциаций» с успехом применялся в психологии для изучения характера преобладающих у субъекта смысловых связей и для характеристики его склонности к преимущественно наглядным или преимущественно отвлеченным связям. Этот метод показал большое значение как для характеристики индивидуальных особенностей в интеллектуальной деятельности субъекта, так и для диагностики тех отклонений, которые можно наблюдать в значении слов при патологических состояниях мозга.
Вторым приемом исследования реальных смысловых связей, которые стоят за словом, является объективный психофизиологический метод изучения «смысловых полей», который был разработан за последнее десятилетие советскими и зарубежными (американскими) исследователями. Он использует приемы объективного исследования ориентировочного рефлекса и состоит в следующем.
Испытуемому в течение некоторого, достаточно длительного времени предъявляется большое число различных, не связанных друг с другом слов, причем в течение всего этого периода у него регистрируются непроизвольные компоненты ориентировочного рефлекса (сосудистые, кожно — гальванические или электроэнцефалографические).
Сначала каждое слово вызывает у испытуемого отчетливый ориентировочный рефлекс, проявляющийся в сужении сосудов руки (и расширении сосудов головы), появлении кожно — гальванической реакции или депрессии альфа — ритма. По истечении некоторого срока испытуемый привыкает к словесным раздражителям и они перестают вызывать у него какую — нибудь отчетливую ориентировочную реакцию. В этот период и начинается опыт с объективным анализом смысловых связей.
Для этой цели одно слово («тестовое слово») либо сопровождается болевым раздражителем, либо испытуемому предлагается в ответ па это слово правой рукой нажимать на ключ, в то время как с пальца левой руки у него регистрируется сосудистая реакция. Оба эти условия приводят к тому, что уже после нескольких повторений опыта предъявление «тестового» слова начинает вызывать у испытуемого стойкую ориентировочную реакцию, которая и служит исходной для дальнейшего опыта.
Получив отчетливую ориентировочную реакцию на предъявление одного «тестового» слова (например слова «кошка»), экспериментатор ставит перед собой основной вопрос: какие слова, кроме слова «кошка », вызывают у испытуемого аналогичные симптомы ориентировочной реакции (сужение сосудов руки, появление кожно — гальванической реакции, депрессию альфа — ритма и т. п.). Если и другие слова, прямо или косвенно связанные со словом «кошка», начинают вызывать у испытуемого такие же симптомы ориентировочного рефлекса, как и само «тестовое» слово, это является объективным симптомом того, что данное слово вызывает целую систему смысловых связей, в равной мере вызывающих ориентировочную реакцию, и этот метод будет являться приемом для объективного исследования системы смысловых связей (или «смысловых полей»), которые возникают у субъекта при каждом предъявлении соответствующего слова.
Исследование объективных симптомов смысловых связен позволило получить результаты, имеющие очень большое значение для психологии.
Оно показало, что у нормального взрослого человека целая группа слов, имеющих смысловую близость к «тестовому» слову, начинает вызывать такие же симптомы ориентировочных реакций, как и само «тестовое» слово.
Так, если в ответ на «тестовое» слово «котика» испытуемый давал требуемую двигательную реакцию, нажимая на ключ и одновременно обнаруживая непроизвольно возникающие вегетативные и электрофизиологические компоненты ориентировочного рефлекса (сужение сосудов руки, кожно — гальваннческую реакцию, депрессию альфа — ритма), то при предъявлении близких по значению слов «котенок», «мышь», «собака», «животное» у него возникали такие же непроизвольные (вегетативные и электрофизиологические) реакции, хотя в отвес на эти слова он не давал никакой произвольной двигательной реакции.
Оказалось, что чем ближе семантически стоит предъявляемое слово к «тестовому». тем интенсивнее непроизвольные признаки ориентировочной реакции (поэтому на слова «котенок» или «мышь» эти реакции сильнее, чем па слово «животное»); на индифферентные слова, не связанные с «тестовым» словом (например «стекло», «труба», «небо» и т. д.) таких симптомов ориентировочного рефлекса вообще не возникало.
Наиболее существенным результатом наблюдений был тот факт, что если слова, близкие к «тестовому» слову по смыслу, вызывали такую же непроизвольную ориентировочную реакцию, как само «тестовое» слово, то все слова, близкие к «тестовому» слову по звучанию, не вызывали никакой ориентировочной реакции.
Так, реагируя ориентировочными реакциями на слова «котенок», «мышь», «собака», «животное», нормальные испытуемые не реагировали ориентировочными реакциями на близкие по звучанию слова как «кошка», «крышка», «кружка», «окошко» и т п.
Это показывает, что с помощью описанного метода мы действительно можем устанавливать систему тех смысловых связей, которые скрываются за каждым словом и что у нормального испытуемого эти связи носят смысловой, а не внешний звуковой характер.
Объективное исследование смысловых связей может пойти еще дальше. С помощью описанного метода мы может с известной точностью измерить степень близости отдельных смысловых групп, объективно установить системы «смысловых полей», в которых размещены более близкие и более далекие друг от друга слова. Для этой цели применяется другой вариант описанной методики.
«Тестовое» слово каждый раз сопровождается болевым раздражением, вызывающим не ориентировочную, а оборонительную реакцию, заключающуюся в сужении сосудов как руки, так и головы. После этого слова, проявляющие различную степень близости к «тестовому» слову, начинают в течение некоторого времени вызывать неодинаковую реакцию: слова, наиболее близкие к «тестовому» слову (например, при «тестовом» слове «скрипка» — слово «смычок»), начинают вызывать ту же оборонительную реакцию, как и «тестовое» слово (сужение сосудов руки и головы); слова, несколько более далекие по смыслу от «тестового» слова, но все же сохраняющие известную близость с ним (например, слова «гитара», «барабан»), начинают вызывать лишь ориентировочную реакцию (сужение сосудов руки и расширение сосудов головы); наконец, слова, не имеющие никакого отношения к «тестовому» слову (например, слова «окно», «облако», «лес»), не вызывают никакой ориентировочной реакции.
Таким образом, мы можем объективно описать целое «смысловое поле», в центре которого стоят слова наиболее близкие по смыслу, на периферии которого стоят слова, имеющие более отдаленный общий смысл с «тестовым» словом, а вне этого «смыслового поля» — все остальные слова, не имеющие с «тестовым» словом ничего общего.
Описанный прием имеет большое значение, позволяя объективно установить степень близости различных смысловых систем друг к другу, иначе говоря, давая возможность объективно установить структуры смысловых полей. Объективное исследование смысловых связей имеет большое значение не только для психологии смысловых систем и лингвистики, но и для анализа тех отклонений, которые наступают в смысловых связях при патологических состояниях.
Так, было установлено, что если у нормального субъекта соответствующие объективные симптомы вызываются словами, близкими к «тестовому» слову в смысловом отношении, но не вызываются словами, имеющими с ним внешнее звуковое сходство, то у умственно отсталого ребенка дело обстоит как раз наоборот: слова, близкие к «тестовому» слову по смыслу, могут не вызывать соответствующих реакций, в то время как слова, сходные с ним по звучанию, вызывают эти реакции.
У этих испытуемых при «тестовом» слове «кошка» такие слова, как «мышь», «собака», «животное», могут не вызывать соответствующих реакций, в то время как слова «крошка», «крышка», «кружка» вызывают сосудистые реакции, аналогичные с теми, которые вызываются «тестовым» словом.
Интересно, что структура «смысловых полей» не остается одинаковой, но может меняться в зависимости от различных условий.
Так, у школьников с легкой формой умственной отсталости при неутомленном состоянии (в начале рабочего дня) одинаковые реакции могут вызываться преимущественно словами, очень близкими по смыслу к «тестовому» слову, в то время как в состоянии утомления (после пяти уроков) аналогичные реакции начинают вызываться преимущественно близкими по звучанию словами.
Легко видеть, какое большое значение имеет объективное исследование системы смысловых связей для как диагностики структуры познавательных процессов при патологических состояниях мозга, так и ее изменений в зависимости от утомления.
(обратно)Развитие значения слов
Было бы неправильным думать, что сложное строение слова, включающее как обозначение предмета, так и систему его отвлеченных и обобщающих признаков, возникло сразу и что язык с самого начала обладал системой таких значений слов, какие мы можем наблюдать в его наиболее развитых формах.
В течение долгого времени, когда слово понималось как простая ассоциация условного звукового сигнала с наглядным образом, ученые были убеждены в том, что значение слова на всех стадиях развития остается неизменным и что развитие языка сводится лишь к обогащению словаря и расширению круга представлений, которые обозначаются отдельными словами.
Такое представление глубоко ошибочно.
На самом деле значение слова претерпевает сложнейшее развитие, и если предметная отнесенность слова может оставаться одной и той же, то его значение — нет. Иначе говоря, та система связей и отношений, которая за ним стоит, та система обобщений, которая выполняется словом, развивается; и поэтому слово на различных ступенях развития не только меняет свою структуру, но начинает опираться на новые соотношения психологических процессов.
Мы еще очень мало знаем об этапах исторического развития слова на последовательных ступенях эволюции общества. Однако те немногие догадки, которые делают историки древнейших этапов развития языка (так называемая палеонтология речи), заставляют думать, что слово не всегда имело те четкие формы, которые оно имеет сейчас, и не располагало той четкой системой значений, которые характеризуют слова развитого языка.
В современных теориях языка высказывает предположение, что он возник в процессе трудового общения, при котором «у людей появилась потребность что — то сказать друг другу». На первых этапах язык скорее состоял из возгласов, вплетенных в систему жестов и трудовых действий, чем из слов, имеющих твердое постоянное значение. Именно в силу такой неразрывной связи с практикой или, как говорят психологи, «««практического» характера речи эти возгласы не имели на первых этапах исторического развития языка своего постоянного значения и в зависимости от практической ситуации, жеста или интонации они могли означать или простое указание на предмет, или сигнал того, что его надо остерегаться, либо требование принести что — то и т. д. Поэтому можно предполагать, что первые слова — возгласы, не имевшие ни прочной предметной отнесенности, ни постоянного значения, скорее выражали действенную ситуацию и получали свой смысл в зависимости от того действия, в которое они вплетались.
Лишь в результате длительной эволюции, занявшей многие тысячелетия, слова начали обозначать отдельные признаки, а затем и сложные предметы, которые были носителями этих признаков. Об этом можно судить лишь по тем особенностям, которые имеют древнейшие, мало развитые языки, сохранившие отзвук наиболее примитивных форм строения слова. Так, в одном из языков американских индейцев «озеро» обозначается сложным словом КЕЧ — КАМ — УЙ, каждая часть которого указывает на какой — нибудь еще недостаточно определенный признак (КЕЧ — что — то большое, КАМ — какое — то пространство, УЙ — обозначение чего — то неживого). Естественно, что слова такого языка лишь постепенно приобретают четкую предметную отнесенность, и на первых порах их уточнение в высокой степени зависело от ситуации, в которой эти слова применялись, и от тех действий, жестов и интонаций, которыми они сопровождались.
Лишь после тысячелетий слова языка начали приобретать четкое и устойчивое значение, которое получило свою основу в постепенном выделении морфологической основы корневых значений, кодирующих определенные признаки предметов и суффиксов, обозначающих известные отношения.
Мы располагаем недостаточным числом фактов, говорящих о постепенном превращении языка в объективную и дифференцированную систему кодов, обозначающую не только признаки и предметы, но и связи и отношения. Только отдельные исторические факты (например уже упомянутый факт происхождения сложных предлогов и союзов из конкретных предметных обозначений) дают основания заключать о тех этапах, которые прошел процесс формирования сложных языковых кодов.
Значительно больше известно о развитии слова в онтогенезе, иначе говоря, о тех превращениях, которые претерпевают слова по мере развития ребенка.
Процесс развития детской речи и, в частности, овладения словарем, которое начинается с конца первого и начала второго года жизни ребенка, часто представляли как простой процесс усвоения слов развитого языка, которым пользуется взрослый.
Тот факт, что формирование слов возникает у ребенка в процессе усвоения речи взрослого, не вызывает сомнения, однако это ни в коей мере не значит, что ребенок сразу же усваивает слова языка в том самом виде, в котором они выступают в речи взрослого.
Известно, что младенец в конце первого и начале второго года жизни начинает усваивать слова взрослого и в ответ на произносимые матерью слова «где чашка?», «где кукла?» поворачивает голову и смотрит на названные предметы.
Однако это не означает, что ребенок конца первого и начала второго года жизни сразу же овладевает четкой предметной отнесенностью данного слова.
Как показали наблюдения, проведенные советским исследователем М. М. Кольцовой, ребенок реагирует нужным образом на названное слово, если он воспринимает его в определенной позе, от определенного лица, если слово взрослого произнесено определенным тоном и сопровождается определенным жестом. Стоит исключить один из этих компонентов ситуации, и ребенок не реагирует на слово должным образом. Это означает, что на первых этапах слово воспринимается ребенком как компонент целой ситуации, которая включает в свой состав и ряд внеречевых воздействий.
Только после известного периода слово приобретает свою относительную независимость и начинает обозначать названный предмет независимо от того, кто и каким голосом произносит это слово, какими жестами оно сопровождается и в какой ситуации было названо.
На этом этапе, складывающиеся к первой половине второго года жизни, слово, услышанное ребенком, еще не получает четкой предметной отнесенности и скорее вызывает определенное действие, чем обозначает определенный предмет.
Советский психолог Фрадкина провела интересное наблюдение. Ребенок начала второго года жизни научился в ответ иа вопрос «где головка?» показывать голову куклы, однако когда ему была показана игрушка без головы, он в ответ на вопрос повторял этот жест; аналогичный пример имел место, когда ребенок на вопрос «где папа?» показывал на портрет, то же самое повторялось, когда портрет был убран.
Слова, воспринимаемые ребенком раннего возраста, вовсе не вызывают четкой предметной отнесенности и еще не имеют устойчивой обозначающей функции, а скорее вызывают лишь жесты и действия ребенка, мало отличаясь от других сигналов.
Подобные сигналы сохраняются и на последующем этапе развития ребенка, когда слово уже начинает приобретать некоторые черты подлинной системы знаков, но еще сам не обозначает предмет, а только признаки его, которые ребенок оценивает как несущие наибольшую информацию. В наблюдениях советских психологов Г. Л. Розенгардт и Н. X. Швачкииа ребенок второго года жизни в ответ на приказ «покажи утку» показывает этот предмет, когда же в его окружении нет утки, может показать па фарфоровый шар с острым носиком, а в ответ на приказ «покажи кошку» — показать на любой кусочек меха, плюшевую варежку и т. д.
Значит, и в этой фазе слово еще не имеет четкой предметной отнесенности и обозначает лишь отдельные, наиболее информативные признаки, а вовсе не предмет в целом.
Аналогичные факты можно установить, наблюдая значение первых слов у ребенка.
В течение длительного времени психологи наблюдали, что первые слова, появляющиеся у ребенка, вовсе не обозначают четкие предметы, а следовательно, не имеют еще четкой предметной отнесенности. По наблюдениям известного немецкого психолога Штумпфа, его сын называл словом «гага» не только утку, но и воду, и монету, на которой был изображен орел. По наблюдениям другого психолога, ребенок, начинающий говорить, называл словом «кх» кошку, но одновременно применял это слово к меховой шапке, к царапине на пальце и т. п. Следовательно, первоначальное «слово» обозначало у маленького ребенка не определенный предмет, а какой — либо признак предмета, причем этот признак был неустойчивым и выделялся в зависимости от ситуации («гага» — утка, вода, другая птица; «кх» — кошка, мягкость меха, боль от царапины и т. п.). По воспоминаниям известного мнемониста III. о раннем детстве, слово «жук» обозначало для него таракана, выщербленое место на горшке, страх перед темнотой и т. д.
Четкая предметная отнесенность слова является продуктом развития.
Еще меньше оснований считать, что ранние детские слова имеют дифференцированный характер и обозначают либо предмет, либо действие, либо качество. Наше наблюдение за близнецами со значительным запаздыванием речевого развития показало, что слово «тпру» одновременно обозначало и «лошадь», и «поедем», и «остановись», меняя значения в зависимости от ситуации, в которой оно употреблялось, от тона, которым произносилось, и от жеста, которым сопровождалось.
Только к концу второго года нормального развития этот диффузный характер слов, которыми пользуется ребенок, изменяется:
• слова приобретают дифференцированную структуру;
• возникают суффиксы, придающие слову четкое значение;
• слово «тпру» приобретает характер «тпрунька» и конкретно указывает на предмет (лошадь) и перестает обозначать действие («поедем», «остановись» и т. д.).
С появлением морфологически дифференцированного слова значительно увеличивается словарь ребенка. Если слова приобретают более определенное устойчивое значение, начиная обозначать предметы или действия, то ребенок перестает выражать одним словом самые разнообразные ситуации и нуждается в большем количестве дифференцированных слов. Вот почему с развитием четкой морфологической структуры связано не только освобождение слова от сопровождающих его внеречевых факторов (ситуация, жесты, интонация), превращение языка ребенка в систему кодов, каждый элемент которого имеет четкую предметную отнесенность, но и тот скачок в объеме словаря, который наблюдатели относят к концу второго и началу третьего года жизни ребенка.
У ребенка 3–4 лет вызывает интерес форма слова; поэтому именно к этому периоду относится хорошо известное в литературе «словотворчество» ребенка. Схватывая морфологические особенности слова, ребенок начинает сам строить слова, сохраняя конкретные признаки вещи и систему суффиксов, обозначающих определенный способ действия предмета. Именно в этот период и появляются такие детские слова, как «самолетчик» (вместо «летчик»), «колоток» (вместо «молоток»), «наниткивать» (вместо «нанизывать»), «улиционер» (вместо «милиционер») и т. д.
Легко видеть, какая большая работа проделывается ребенком этого периода по овладению морфологическими частями (суффиксами) слова, что позволяет анализировать отдельные стороны предмета, выделять его функциональные признаки и вводить его в систему других предметов, обладающих теми же признаками.
Процесс овладения четкой предметной отнесенностью слова и его конкретным значением, занимающий центральное место у ребенка 3–5 лет, в течение длительного времени отличается тем, что слова продолжают носить конкретный характер. Ребенок воспринимает слова, которые для взрослого ухе потеряли свое конкретное употребление и приобрели характер обозначения общих понятий.
Хорошо известны случаи, когда на вопрос исследователя: «Это — девочка, а ты кто?» ребенок отвечает: «А я Галя!» или на вопрос «Это собака?» отвечает: «Нет, это Томик!»
К этому периоду относятся те факты конкретного понимания слов, следствием которого являются забавные недоразумения в понимании переносного смысла слов (например неожиданная реакция ребенка на выражение «он с петухами спать ложится» — репликой: «нет, они заклюют»).
Преобладание образного, конкретного значения слова, которое характеризует этот период овладения языком, прослежено С. Н. Карповой: если ребенку 5–6 лет дается задача выделить из фразы и пересчитать слова, он, как правило, начинает выделять и пересчитывать слова, обозначающие конкретные предметы, опуская слова, имеющие неконкретное, вспомогательное значение.
Так, на первых этапах ребенок выделяет и пересчитывает лишь существительные или конкретные смысловые единицы, опуская глаголы и служебные слова (например, считает, что во фразе «мама пошла в лес» два слова: «мама» и «лес»); затем выделяет слова, обозначающие предметы и действия, но опускает служебные слова (например, выделяя «мама» — «пошла» — «в лес»); лишь овладевая грамотой, начинает выделять все составные части речи, неправильно выделяя элементы, входящие в состав одного слова («мама» — «в» — «стала»). Процесс овладения морфологическим составом слова наглядно показывает сложный и развернутый путь, который проделывает ребенок, усваивая как предметную отнесенность слова, так и его обобщенное значение.
У детей дошкольного и школьного возраста процесс овладения предметной отнесенностью и ближайшим значением слова заканчивается, и наступает более сложный и труднее доступный для наблюдения процесс внутреннего развития смыслового строения слова.
(обратно)Слово и понятие
Описав выше тот факт, что за каждым словом развитого языка скрывается система связей и отношений, в которые включен обозначенный словом предмет, мы констатируем то, что «каждое слово обобщает» и является средством формирования понятий. Иначе говоря, оно выводит этот предмет из сферы чувствительных образов и включает его в систему логических категорий, позволяющих отражать мир глубже, чем это делает наше восприятие. Говоря «нож», мы вводим этот предмет в категорию орудий, говоря «дерево», мы обозначаем систему связей, в которую этот предмет входит.
Вот почему слово не только обозначает образ, но и включает предмет в богатейшую систему связей и отношений, в которой оно находится.
Это положение, известное в материалистической философии как учение о «конкретном понятии», указывает, что переход от более наглядных обозначений (как «береза», «сосна») к более общим понятиям (как «дерево», «растение») не только не обедняет, но существенно обогащает наши представления. Говоря «растение», мы включаем в это понятие более богатую сеть связей, чем «береза» или «осина». За этим общим термином стоит противопоставление «растения» и «животного», в него входят подчиненные категории — «деревья» и «травы», в скрытом виде за ними стоит все богатство индивидуальных разновидностей деревьев («сосна» «дуб», «осина»), трав («осока», «крапива»), злаков («рожь», «пшеница», «овес») и т. д. Поэтому общее понятие, обозначенное словом, которое по степени наглядности может показаться бедным, по системе скрывающихся за ним связей несравненно богаче, чем конкретное обозначение индивидуального предмета. Марксистская философия видит в переходе от индивидуального обозначения предмета к обозначению отвлеченного понятия не процесс обеднения или восхождения к абстрактному, но процесс обогащения или подлинного восхождения к конкретному, если под «конкретностью» понимать богатство тех связей, в систему которых понятие включает данный предмет.
Анализируя смысловое строение слова, обозначающего понятие, легко увидеть, что за ним стоит как ряд образов, координированных с ним, так и ряд субординированных образов. Иначе говоря, каждое обобщенное слово имеет, по выражению Л. С. Выготского, свою «широту» и свою «долготу» (или «глубину»).
Говоря слово «собака», мы координируем этот образ с такими стоящими в одном ряду с ним образами, как «кошка», «лошадь», «овца», «заяц», «лиса», «волк», и чем шире понятие, которым располагает человек, тем большее число координированных (или стоящих в одном ряду с ним) представлений оно включает.
Но, говоря слово «собака», мы включаем этот образ в иерархическую систему более обобщенных категорий, в которые он входит (система различных по степени «мер общности»: собака — животное — живое) и одновременно вызываем ряд частных, подчиненных этому понятию образов, входящих в его пределы (собака — овчарка, бульдог, такса и т. п.).
Таким образом, называя определенное слово, человек не только воспроизводит определенный наглядный образ, но практически вызывает к жизни целую систему связей, выходящих далеко за пределы непосредственно воспринимаемой ситуации и носящих характер сложной матрицы уложенных в логическую систему значений.
Естественно, что эта система смысловых связей, стоящих за словом, выражающим понятие, позволяет мысли двигаться во многих направлениях, которые и определяются «широтой» и «глубиной» этой системы связей. Поэтому слово, формирующее понятие, с полным основанием может считаться наиболее существенным механизмом, лежащим в основе движения мысли.
Система связей, стоящих за словом — понятием, неодинакова у разных людей.
Совершенно понятно, что у людей, усвоивших большой комплекс знаний, которые даются школой и современной наукой, эта система связей как по объему координированных понятий, так и по числу иерархически построенных «мер общности» неизмеримо богаче, чем у людей, имеющих лишь ограниченный опыт и не овладевших богатой системой знаний. Было бы неправильным думать, что эти различия носят только количественный характер.
Исследование показывает, что структура понятий на различных ступенях умственного развития глубоко различна, и на последовательных ступенях развития за понятием стоят неодинаковые психические процессы.
Мы уже говорили, что во всяком слове, которое является носителем понятия, легко можно выделить:
а) эмоционально — образные наглядные компоненты (за словом «собака» — образ соответствующего животного, за словом «дерево» — образ соответствующего дерева);
б) систему логических связей, в которую входят как координированные с ним, так и взаимно подчиненные (более общие или более частные) понятия (собака — домашнее животное, животное вообще и т. д.; собака — охотничья собака, домашняя собака — овчарка, такса и т. д.; овчарка — Рекс, Томка и т. д.).
Существенным является тот факт, что у различных людей, и особенно у тех, кто стоит на различных ступенях умственного развития, соотношение наглядно — образных и логических связей оказывается неодинаковым. Если на низших этапах развития у человека преобладают наглядно — образные связи, то на более высоких этапах развития ведущее место занимают сложные системы логических связей.
Вот почему у детей дошкольного возраста явно преобладают стоящие за словом эмоционально — образные переживания, у школьников младших классов — наглядные, конкретно — образные и ситуационные связи, у старшеклассников и взрослых — сложные логические связи.
Так, слово «лавка» или «магазин» пробуждает у ребенка — дошкольника ряд эмоциональных переживаний («теплый хлеб», «вкусные конфеты»), у школьника — наглядную практическую ситуацию (вид магазина, продавца, прилавка с набором товаров, расположение, входящие и выходящие покупатели), а у взрослого, хорошо подготовленного человека — понятия «производство» и «распределение», иногда понятие «капиталистической и социалистической системы» и т. д. Этот факт говорит о том глубоком изменении строения значений слов (понятий), которое они претерпевают на последовательных этапах развития, и дает основание сформулировать одно из основных положений современной психологии, заключающееся в том, что значение слова развивается, и несмотря на то что предметная отнесенность того или иного слова на разных ступенях развития остается той же, содержание понятий, стоящих за словом, и структура связей, вызываемых словом, коренным образом меняются.
На разных этапах развития система психологических процессов, стоящих за словом, неодинакова, и понятие, вызываемое словом, осуществляется разными психологическими процессами. В этом легко можно убедиться. У маленького ребенка слово вызывает прежде всего систему эмоциональных переживаний и наглядных образов; у ребенка младшего школьного возраста за словом стоит прежде всего система наглядных воспоминаний, и поэтому он мыслит припоминая; у старшего школьника и у человека, стоящего на высоком уровне умственного развития, слово прежде всего вызывает систему логических операций, поэтому он припоминает размышляя. Это глубокое изменение соотношения психических процессов, стоящих за понятием (а следовательно, и за мышлением) на отдельных этапах умственного развития, является одним из самых важных фактов, открытых психологической наукой. Именно поэтому психологическая наука утверждает, что на каждом этапе развития человек, опирающийся на различные по строению значения слова и на различное по своим психологическим механизмам строение понятия, по — разному отражает мир, по — разному осознает его. Это положение в свое время было выдвинуто замечательным советским психологом Л. С. Выготским, впервые указавшим на глубокую связь между строением значения слова (понятия) и строением сознания, сформулировавшим положение о смысловом и системном строении сознания. Иначе говоря, положение о том, что на последовательных этапах развития сознание человека осуществляется:
• понятиями, имеющими смысловое строение (наглядно — образное или вербально — логическое);
• неодинаковым соотношением психических процессов (восприятия, припоминания, отвлеченного речевого мышления), которое меняется на различных этапах умственного развития ребенка.
Существенным является и тот факт, что соотношение наглядно — образных (практических) и вербально — логических компонентов, меняющееся на последовательных этапах развития, не остается одним и тем же в различных понятиях.
В психологии принято различать два вида понятий, отличных как по своему происхождению, так и по психологическому строению. Обычно их обозначают терминами «житейские» и «научные» понятия.
«Житейские» понятия («стул», «стол», «умывальник», хлеб», «собака», «дерево») приобретаются ребенком в процессе практического опыта, преобладающее место в них занимают наглядно — образные связи. Ребенок практически представляет себе, что означает каждое из этих понятий, и соответствующее слово вызывает у него образ той практической ситуации, в которой он имел дело с этим предметом. Поэтому ребенок хорошо знает содержание каждого из этих понятий, но, как правило, не может сформулировать или словесно определить это понятие.
Совершенно иначе обстоит дело с «научными» понятиями, приобретаемыми ребенком в процессе школьного обучения (такими как «государство», «остров», «глагол», «млекопитающее» и т. д.). Эти понятия усваиваются сознанием ребенка в школьном обучении. Сначала они формулируются учителем и лишь затем заполняются конкретным содержанием. Поэтому школьник с самого начала может словесно сформулировать эти понятия и лишь значительно позднее оказывается в состоянии заполнить их полноценным содержанием.
Естественно, что и структура обоих видов понятий, и система тех психологических процессов, которые принимают участие в их формировании, совершенно различны:
• в «житейских» понятиях преобладают конкретные, ситуационные элементы;
• в «научных» — отвлеченные, логические связи;
• «житейские» понятия формируются с участием практической деятельности и наглядно — образного опыта;
• «научные» — с ведущим участием вербально — логических операций.
Оба указанных вида понятий занимают различное место в умственной жизни человека и отражают разные формы его опыта.
(обратно)Методы исследования понятий
Психологическое исследование понятий и их внутренней структуры имеет настолько большое значение как для теории психологии, так и для практической диагностики особенностей умственного развития и его патологии, что следует специально остановиться на методах, которые применяются для этих целей.
Первым и наиболее распространенным приемом психологического исследования понятий является метод определения понятий. Следует сразу оговориться, что в этот метод не входит изучение степени точности или логической полноты определения понятий (которая остается мало доступной для ребенка в отношении понятий, которыми он реально располагает). Принятый в психологии метод определения понятий ставит своей основной задачей выяснить, какие направления приобретают попытки определить понятие, и прежде всего установить, включает ли испытуемый данное ему понятие в систему логических отношений или замещает этот процесс простым описанием наглядных признаков обозначенного словом предмета.
Для развитого вербально — логического мышления естественным является определение понятия через введение его в систему более общей логической категории. Поэтому такие определения, как «стул — это мебель», «молоток — это орудие», «собака — это животное», являются самым обычным способом определения понятия, указывающим на то, что в этой операции преобладающую роль играют процессы вербально — логического мышления.
От такого способа резко отличаются определения понятия у маленького ребенка и у человека, не привыкшего к теоретической, вербально — логической деятельности. Как правило, маленький ребенок замещает процесс определения понятия включением его в более общую логическую категорию другим психологическим процессом — описанием названного предмета, выделением его конкретных признаков или основных функций. Поэтому для ребенка наиболее характерны такие определения, как «стул — на нем сидят!», «молоток — им гвозди забивают!», «собака — она лает!» т. п.
Характер психологических операций, используемых для определения понятий, коренным образом отличается от того, который мы описали выше, и если испытуемый, несмотря на данные ему примеры и попытки обучить его логическому определению понятий, продолжает заменять определение понятий наглядным описанием предмета или выделением его отличительного признака, исследователь может с достаточным основанием указать на то, что наглядно — образные операции преобладают у этого испытуемого над отвлеченными вербально — логическими.
Вторым методом психологического исследования понятий является метод сравнения понятий. Испытуемому даются два слова, обозначающие предметы одной категории, и предлагается сравнить их, найти то общее, что объединяет их.
В наиболее простом опыте эти два предмета явно относятся к одной категории (например «собака» и «кошка», «чашка» и «тарелка», «пистолет» и «ружье»). В другом, более сложном опыте оба признака, относясь к одной и той же категории, являются нерезко отличающимися разновидностями, и нахождение общей категории представляет большие трудности (примерами могут являться «собака» и «белка», «птица» и «рыба»). Наконец, в третьем, более трудном варианте опыта называются два предмета, которые хотя и относятся к одной и той же (отвлеченной) категории, но вступают в столь отчетливые конкретные взаимоотношения друг с другом, что испытуемый должен уметь описать это наглядное взаимодействие, чтобы найти общую категорию, к которой оба предмета относятся (примером могут служить такие пары, как «мальчик» и «собака», «человек» и «лошадь» и т. п.).
Взрослые испытуемые, стоящие на высоком уровне интеллектуального развития, легко решают эту задачу, находя общую категорию, к которой относятся оба предмета, и говорят: «собака и кошка — животные», «чашка и тарелка — посуда» и т. д. Такое сравнение предметов посредством подведения их под общую категорию остается возможным, даже если оба предмета относятся к явно различным ситуациям («собака и волк», «ворона и рыба») или если первое естественно приходящее в голову испытуемого заключается в указании их конкретных взаимодействий («собака кусает мальчика», «человек ездит на лошади» и т. д.).
Совершенно иное происходит при исследовании маленького ребенка и человека, стоящего на достаточно низком уровне умственного развития. В этих случаях испытуемые вовсе не пытаются найти общую логическую категорию, в которую можно внести оба названных предмета. Вместо этого они начинают описывать каждый предмет, выделяя его наглядные признаки («собака лает, а кошка царапается», «из чашки чай пьют, а на тарелку кладут хлеб»), или пытаются найти их взаимодействие («собака может укусить мальчика», «человек ездит на лошади» и т. п.). Операция логического мышления или отнесения к общей логической категории заменяется операцией описания отдельных признаков, поэтому указания на конкретные различия обоих предметов, как правило, предшествуют операции нахождения их логической общности, а операции описания их наглядного практического взаимодействия предшествуют операции логического обобщения.
Если такой характер операций остается, несмотря на длительное обучение ребенка, психолог может утверждать, что система наглядно — образных связей отчетливо преобладает у испытуемого над системой отвлеченных вербально — логических операций.
Третьим и наиболее распространенным приемом психологического изучения понятий является метод классификации.
В своей наиболее простой форме он заключается в следующем. Исследуемому предлагаются четыре слова (или четыре картинки), три из которых относятся к одной общей категории (например орудиям, посуде, животным), а четвертое не относится к этой группе; испытуемый должен ответить, какие три слова (предмета) относятся к одной общей группе или какие три предмета можно объединить общим словом, и назвать четвертый предмет, который относится к этой группе и является лишним. Данный прием может иметь несколько вариантов.
1. В самом простом варианте, где четвертый — «лишний» — предмет резко отличается как по категории, к которой он относится, так и по форме.
2. В более сложном варианте предметы, относящиеся к одной общей категории, имеют различную форму, четвертый — «лишний» — предмет сохраняет внешнее сходство с одним из предметов, относящихся к общей категории.
3. Наконец, в наиболее сложном, но вместе с тем более информативном варианте опыта испытуемому даются четыре предмета, три из которых могут участвовать в одной наглядно — действенной ситуации, относясь к одной и той же категории, в то время как четвертый предмет, относящийся к той же категории, что и два других, никогда не выступает в одной практической ситуации с ними.
Более сложной формой этого метода является метод «свободной классификации». Испытуемому дается большое число (20–30) карточек с изображением различных предметов и предлагается разложить их на группы, куда входили бы карточки, относящиеся к одной и той же категории. Если карточки раскладываются па большое число дробных групп, испытуемому предлагается укрупнить эти группы, объединив некоторые мелкие. Затем предлагается назвать каждую из выделенных групп определенным общим словом.
Достаточно подготовленный взрослый без труда решает оба варианта этой задачи, объединяя предметы, входящие в одну общую категорию («мебель», «животные», «растения», «орудия» и т. п.), несмотря на различие внешнего вида входящих в эту категорию элементов, и отбрасывает (или относит к другой группе) внешне сходные предметы, но относящееся к разным группам.
Иные результаты дают маленькие дети или испытуемые, стоящие на низком уровне интеллектуального развития.
Как правило, объединение наглядных картинок в отвлеченные группы (категории) оказывается операцией, недоступной этим испытуемым. Младшие дети (дошкольники) вообще не приступают к выполнению этой задачи или объединяют предметы по их внешнему сходству (цвету, форме). Иногда они пытаются объединить их по смыслу, но в этих случаях, вместо объединения в одну общую (отвлеченную) категорию происходит объединение в конкретную наглядно — действенную ситуацию. Так, «тарелка», «нож», «вилка», «хлеб», «стол» могут быть положены в одну группу; в другую группу могут войти «собака», «домик», в котором живет собака, «миска», чтобы кормить собаку, и т. д. Аналогичная конкретно — действенная группировка, которая является не столько классификацией, сколько введением в наглядную общую ситуацию, остается характерной для раннего школьного возраста, и особенно для умственно отсталых детей. Типичным для последних является тот факт, что никакие попытки обучения их подлинной абстрактной («категориальной») классификации не приводят к успеху, и, соглашаясь с возможностью такой классификации, испытуемые очень быстро соскальзывают с нее на наглядно — ситуационную группировку предметов и ни при каких условиях не переходят на уровень отвлеченных логических операций.
Легко видеть, какое важное значение имеют результаты опыта для оценки тех реальных форм обобщения, которые свойственны испытуемым, и для характеристики типичных соотношений наглядно — образных и вербально — логических элементов понятия.
К описанной методике примыкает еще одна специальная задача исследования того, как построены те системы координации и субординации понятий, которые Л. С. Выготский обозначил как «меры общности».
Испытуемому даются 20–30 напечатанных на отдельных карточках слов, обозначающих различные координированные и субординированные понятия, которые он должен разложить в известные логические системы (схема 2.3).
Схема 2.3
Взрослый, стоящий на достаточно высоком уровне умственного развития и обладающий достаточной подготовкой, легко решает эту задачу, четко различая как координированные, так и субординированные понятия, выкладывая карточки в известную логическую систему. Ребенок, как правило, не в состоянии этого сделать, и его классификация полностью лишена характера иерархически организованной логической системы, в лучшем случае принимает вид:
собака — такса — бульдог…
волк — лиса — животное…
дерево — ель — сосна…
трава — осока — крапива…
Если такой характер классификации сохраняется без изменений даже после того, как экспериментатор показывает ребенку пример полноценной логически организованной структуры, есть все основания сказать, что ребенок еще не овладел отношениями логических «мер общности», хотя и усвоил простую классификацию. Легко видеть, что сопоставление всех данных, получаемых с помощью описанных методик, позволяет дать достаточно полную информацию, характеризующую как логическое строение понятий данного субъекта, так и те психологические процессы, которые лежат в их основе.
В описанных методиках, однако, есть один недостаток: хорошо констатируя уровень понятий, характерных для субъекта, они еще недостаточно отражают весь процесс формирования понятия. С другой стороны, они оперируют уже известными системами понятий и поэтому отражают не только умения, но и наличие знания субъекта.
Для того чтобы избежать подобных недостатков, в психологии с успехом используется методика формирования исскуственных понятий, предложенная в свое время немецким психологом Н. Ахом и модифицированная советским психологом Л. С. Выготским и его сотрудником Л. С. Сахаровым. Эта методика ставит своей целью проследить, как у субъекта постепенно формируются новые искусственные понятия, какие ступени он проходит при овладении новыми, искусственно созданными значениями слов и как реально протекает процесс их усвоения.
Испытуемому предлагается ряд деревянных геометрических фигурок разной формы, размера и высоты, окрашенных в различные цвета (белый, синий, зеленый, желтый, красный). Каждая из фигурок обозначена одним из четырех условных «слов» («рас» — «гацум» — … — …), которые соответственно обозначают: большие и высокие, большие и низкие, маленькие и высокие, маленькие и низкие фигуры. Все фигурки размещаются в беспорядке на столе; написанные на каждой фигурке «слова» расположены закрытой стороной, на которой стоят фигурки.
Опыт начинается с того, что одна из фигурок, например обозначенная словом «рас», раскрывается, и испытуемому говорят, что на каком — то неизвестном языке все «такие же» фигурки называются этим словом и он должен найти, какие фигурки, по его мнению, относятся к этой категории.
Испытуемый, не владеющий этими новыми искусственными «понятиями», сначала делает догадки о том, какое значение имеет данное «слово», и подбирает какую — либо фигурку, по цвету, форме или размеру сходную с предъявленной. Экспериментатор открывает «слово», обозначенное на одной из отобранных фигурок, и показывает, что она не относится к обозначаемой словом «рас» группе; оказывается, что на ней написано другое слово, например «гацум». Это ставит испытуемого перед задачей выдвинуть новую гипотезу, и если он раньше подбирал группу фигурок, сходных с первой по форме, то теперь он подбирает группу других фигурок, сходных по цвету или по размеру. Естественно, он снова делает ошибку; но теперь, продолжая опыт, он уже имеет в своем распоряжении два или три «слова», которыми обозначаются разные фигуры, и у него возникает возможность делать новые «ходы» на основании большей информации.
Прослеживая за продолжающимся ходом опыта, экспериментатор оказывается в состоянии проследить, какие догадки делает испытуемый, по какому принципу строятся отбираемые им фигурки и, следовательно, какое значение он вкладывает в соответственное искусственное «слово».
Опыт, проведенный Л. С. Выготским, позволил описать ряд последовательно формирующихся видов классификации и выделить ряд «понятий», которыми пользуется ребенок на различных этапах развития. Мы обозначим только основные из них.
1. Наиболее элементарным видом объединения фигур является объединение по типу «кучи». Дети младшего возраста вообще отказываются классифицировать фигуры на основе какого — либо гипотетического принципа. Они или откладывают в одну группу случайно отобранные фигуры, или начинают строить из них узоры; «слово» и стоящий за ним «принцип» не играют здесь никакой роли.
2. Вторым видом объединения фигур является их объединение по типу одновременного или последовательного «комплекса», в котором каждая фигура входит по своему основанию. Так, к маленькой зеленой пирамиде с надписью «рас» испытуемый подбирает маленький зеленый круг (по признаку цвета), большую желтую пирамиду (по признаку формы), маленький красный цилиндр (по признаку величины) и т. д. В результате образуется нечто вроде «семьи», в которую входит каждая фигурка по своему основанию (так же как в семью входит один как «сын», другая как «сестра», третий как «отец» и т. п.). Иногда такой тип объединения принимает другой вид, который обозначается термином «цепной комплекс». К маленькой зеленой пирамиде подбирается большая синяя пирамида (по признаку формы), к ней — большой синий цилиндр (по признаку цвета), к синему цилиндру — маленький желтый цилиндр (по признаку формы) и т. д. Легко видеть, что в таком случае постоянство признака не соблюдается и объединение производится по меняющемуся каждой раз признаку.
3. Третьей, переходной, формой является та, при которой испытуемый, сопоставляющий все больше и больше условных «слов», которыми обозначаются различные фигуры, уже строит гипотезы о значении этих слов и выделяет адекватные группы предметов, отличающихся одной и той же комбинацией признаков, однако быстро соскальзывает на включение в эту группу фигур, обладающих побочными признаками. Эту фазу развития обобщений обозначают как «псевдопонятия».
4. Наконец, последней стадией, к которой приходят далеко все не испытуемые, является стадия формирования подлинного понятия, которое прочно сохраняется испытуемым и которому противопоставляются другие группы, где условное слово обозначает иную комбинацию признаков.
Как показали наблюдения Л. С. Выготского, возможность отвлечься от ряда наглядных признаков и усвоить, что значение искусственного «слова» объединяет группу признаков, до этого не составлявших известного понятия, возникает в развитии сравнительно поздно и прочно начинает выступать к 12–14–летнему возрасту.
Этот факт вовсе не означает, что дети не оперируют понятиями, однако в данных специальных условиях новые искусственные понятия могут возникать на относительно высоком уровне развития словесных значений.
Опыт Л. С. Выготского сыграл большую роль в психологии. Он наглядно показал, что на разных этапах за значением слова стоят различные формы обобщения и различные психологические процессы, и, следовательно, значение слова развивается.
Одновременно этот опыт показал, что подобное экспериментальное исследование формирования понятий может иметь большое диагностическое значение, так как устанавливает тот уровень, до которого может дойти ребенок, стоящий на более низкой стадии умственного развития, и те особенности процесса формирования понятий, которые характеризуют отдельные патологические состояния мозговой деятельности. В этом и состоит большое значение метода экспериментального исследования формирования понятий.
(обратно)Патология значения слов и понятий
Экспериментальные приемы исследования значения слов и усвоения понятий открывают новые возможности для описания тех особенностей познавательных процессов, которые выступают при патологических состояниях мозга. Применение их имеет большое диагностическое значение, давая новую и богатую информацию, которая может быть нужна как для лучшего понимания строения познавательных процессов, так и для уточнения диагоностики различных видов патологии психических процессов.
Мы остановимся сначала на изменениях значения слов при патологических состояниях мозга, с тем чтобы перейти затем к описанию основных форм патологии процесса образования (усвоения) понятий.
Сохранение полноценного значения слов требует, как указывалось выше, как устойчивого отнесения слова к определенным предметам (предметной отнесенности), так и наличия дифференцированной и подвижной системы связей, которые составляют основу словесных значений; и то и другое может нарушаться при патологических состояниях мозга.
Известно, что функция коры левой височной доли — центрального аппарата анализа и синтеза звуков речи — заключается в том, чтобы выделять из звукового потока четкие фонемы и обеспечивать постоянство звуковых комплексов, обозначающих известные слова.
Поэтому совершенно естественно, что патологическое состояние коры левой височной доли, вызывающее нарушение выделения отдельных фонем, неизбежно приводит к тому, что воспринимаемые больным слова звуковой речи теряют четкий характер и предметную отнесенность. Если слово «голос» начинает звучать как «колос», «холост» или «холст», оно, естественно, теряет свое ближайшее значение, и человек испытывает значительные трудности в отнесении его к определенному предмету. Характерным является то, что больные с поражением коры левой височной области и с картиной так называемой «сензорной афазии», как правило, сохраняют диффузное значение слова, понимают, что слово «пространство» обозначает какое — то общее понятие (соответственно суффиксу «ство»), но лишаются возможности отнести это размытое по звучанию слово к какому — либо четкому образу.
Совершенно иной характер носит нарушение значения слов, возникающее при поражении наиболее сложных (третичных) отделов теменно — височно — затылочной области.
В этих случаях звуковая структура слова остается полностью сохранной, и предметная отнесенность слова не нарушается. Однако в силу патологического состояния коры этой области (обеспечивающей совместную работу теменных, височных и затылочных отделов) процесс нормального выделения ведущей, существенной системы связей, стоящих за словом, нарушается, и больной, пытающийся вспомнить нужное слово, не может выделить его из всех возникающих альтернатив, смешивая истинное слово со словами, близкими по смыслу, по звучанию и по грамматической структуре. В этих случаях при попытке назвать предмет возникает нечто вреде того, что и мы испытываем, стараясь вспомнить мало знакомую фамилию, которая осложняется различными побочными ассоциациями (чеховская «лошадиная фамилия» может быть иллюстрацией таких затруднений).
Более грубые нарушения значения слов наступают в случае общего недоразвития мозга, лежащего в основе умственной отсталости, или в случаях общих органических поражений, приводящих к трофическим нарушениям мозга, лежащих в основе органической деменции. В этих случаях многообразие возможных связей, стоящих за словом, резко уменьшается, непосредственные наглядно — образные компоненты слова начинают преобладать над отвлеченными вербально — логическими, и значение слова начинает носить обедненный элементарный характер. К этому же случаю относятся и те явления преобладания внешних звуковых связей над внутренними, смысловыми, которые мы упоминали, описывая объективные методы изучения смысловых (семантических) полей.
Обратный процесс происходит при психических заболеваниях, которые обозначаются в клинике термином «шизофрения». В этих случаях непосредственная предметная отнесенность слова отступает на задний план, привычное значение слова, приобретенное в практическом опыте субъекта, перестает возникать с большей вероятностью, и появление различных звуковых и смысловых связей, обычно оттеснявшихся нормальным сознанием, становится равновероятным. Поэтому структура значения слов принимает глубоко патологический характер, приводящий к всплыванию неожиданных побочных ассоциаций.
Не менее отчетливые изменения наступают при патологических состояниях мозга в психологическом процессе формирования (усвоения) понятий.
Больные с ограниченными локальными поражениями височной и теменно — затылочной области левого полушария могут не обнаруживать значительных нарушений в строении понятий; поражение нарушает здесь лишь нормальные соотношения звуковой и смысловой стороны речи, но сохраняет структуру уже усвоенных понятий.
Значительные изменения структуры понятий наблюдаются в случаях умственной отсталости и органической деменции и при ряде специальных психических заболеваний (например при шизофрении).
В случаях умственной отсталости и органической деменции сложная система связей, стоящая в основе понятий, существенно нарушается, отвлеченные вербально — логические связи распадаются, ведущее место занимают конкретные, наглядно — образные связи. У больных данной группы возникает невозможность выполнять операции подведения понятий под известные логические категории, процесс логической классификации предметов заменяется их наглядным описанием, и ведущая роль в мышлении переходит от отвлеченных вербально — логических операций к воспроизведению наглядно — действенного опыта, заменяя абстрактную «категориальную» классификацию введением предмета в наглядно — действенную ситуацию.
Обратное имеет место при шизофрении, где наглядно — действенные связи отступают на задний план, а ведущее место занимают вербально — логические связи, теряющие свой избирательный характер, что и создает впечатление неадекватного, излишне абстрактного и неупорядоченного мышления больных.
Психологическое исследование изменения значения слов и мышления в понятиях при патологических состояниях мозга дает важную информацию как для наших знаний о строении понятий, так и для более точной диагностики патологии психических процессов.
(обратно) (обратно)Глава 3. Высказывание и мысль
Как мы уже видели, слово (основная единица языка) является главным средством формирования понятия. Однако изолированное слово, которое может обозначить предмет или оформить понятие, еще не может выразить событие или отношение, сформулировать мысль. Для того чтобы выразить мысль, оформить высказывание, нужна связь нескольких слов, или синтагма, создающая целое предложение или высказывание.
Слово «лес» обозначает отчетливое понятие — собрание деревьев; слово «гореть» указывает на определенное состояние, только сочетание (синтагма) «лес горит» выражает целое событие, формирует мысль.
Слово «овчарка» обозначает определенную породу собак; слово «собака» указывает на определенный вид; однако только сочетание двух слов «овчарка — собака» вводит овчарку в определенную категорию, формирует определенное суждение.
Многие лингвисты, признающие, что слово является основной единицей языка, считают, что основной единицей речи, формулирующей суждения или мысли, является сочетание слов (или синтагма), которое служит основой для конструирования предложения или фразы.
Поэтому психология, переходящая от анализа строения отдельных понятий к анализу процессов, лежащих в основе целых суждений, неизбежно должна заняться ближайшим изучением законов построения сочетаний слов, являющихся объективными механизмами, строящими высказывания, суждения или мысли.
Синтаксические средства высказывания
Не всякое сочетание двух или нескольких слов создает осмысленную систему или предложение.
Лингвистика знает ряд объективных средств, которыми располагает язык, превращающий сочетание слов в осмысленное высказывание.
В развитых языках эти средства многообразны и включают в свой состав, по крайней мере три основных вида вспомогательных, или синтаксических, приемов, превращающих группу изолированных слов в осмысленные синтагмы, которые и составляют основу высказываний, или суждений. К ним относятся флексии, служебные слова и положения слов в сочетаниях.
Сказать «кусок» и «хлеб» еще не значит выразить мысль или высказать суждение, но «кусок хлеба» есть уже элементарное высказывание. «Дом» и «гореть» — два изолированных слова, но «дом горит» есть уже простейшее предложение, которое выражает событие, формулирует элементарную мысль.
Наиболее простые высказывания, выражающие простейшую мысль, состоят, как правило, из сочетаний имени и глагола или имени и прилагательного («дом горит», «слон добрый». В русском языке глагол «есть» опускается, составляя схему S — P; варианты флексий («горит», «горел»), а также префиксы («загорелся», «сгорел») детализируют форму действий, которые обозначаются глаголом, придают ему характер, выражающий время и вид действия.
Более сложные высказывания включают в свой состав несколько слов; неодинаковые флексии уточняют те отношения, в которых состоят участвующие в данной фразе события, и принимают схему S — P–O («мальчик ударил собаку», «девочка порезалась стеклом»).
Наличие сложной дифференцированной системы флексий позволяет выразить любые отношения, в которые вещи вступают друг с другом, и составить матрицу тех объективных механизмов языка, которые позволяют формулировать любую мысль.
Вторым синтаксическим средством, выражающим любые отношения вещей с помощью языковых конструкций, являются служебные слова (предлоги, союзы).
В сочетании с флексиями они отражают богатство как внешних, так и внутренних отношений между предметами («человек шел в лес», «человек шел к лесу», «человек шел из леса» или «Коля шел за Петей», «Коля шел впереди» и «Коля шел вместе с Петей»). Служебные слова (предлоги, союзы) выражают как простые пространственные, так и сложные внутренние отношения между предметами («человек вышел из леса», но «человек вышел из себя»; «человек шел в лес», но «человек верит в истину»; «человек рассматривал путь перед собой; но «человек растерялся перед трудностью»).
Большое многообразие и многозначность служебных слов практически делают язык системой кодов, дающих возможность формулировать любые отношения.
Третьим способом выражения сложных отношений предметов при помощи языка является место слова в предложении (синтагма). В русском языке основное действующее лицо (субъект) стоит обычно на первом месте сочетания слов, а объект, на который направлено действие, на втором; поэтому конструкции «платье задело весло» или «весло задело платье» имеют различные значения, несмотря на то что оба включенных в предложение существительных здесь не имеют дифференцирующих флексий.
Весь набор синтаксических средств (неодинаковый в разных языках) делает из языка объективную систему, позволяющую конструировать мысль и выражать любые сложнейшие связи и отношения, в которые вступают вещи друг с другом.
Наличием только что упомянутых внешних синтаксических средств она не исчерпывается, однако эта система приемов создает из языка сложнейшую матрицу для формирования мысли.
Наряду с морфологическими и лексическими средствами языка стоят и интонационные средства, которые используются человеческой речью для выражения нового богатства отношений, на этот раз — отношений самого высказывающего мысль человека к предмету своего высказывания. Эти интонационные отношения выражаются в устной речи интонационными изменениями голоса, а в письменной речи — средствами пунктуации. Предложения «дом горит?» «дом горит!», «дом горит…» или «мальчик ударил собаку», «мальчик ударил собаку?», «мальчик ударил… собаку» имеют одинаковое внешнее значение, но выражают совершенно различное отношение говорящего к одному и тому же событию, иначе говоря, сохраняя то же значение, оно приобретает различный смысл.
Легко видеть, как богата система объективных синтаксических средств, которые человек в готовом виде получает в языке и которые позволяют ему самостоятельно, не прибегая к посторонним внеязыковым средствам, не только отразить сложнейшие события, но и сформулировать собственное отношение говорящего к событию.
(обратно)Основные виды высказываний
Психолог, изучающий язык как систему кодов, позволяющих отразить внешнюю действительность и сформулировать мысль, должен внимательно изучить не только те средства, с помощью которых формулируется высказывание, но и те виды основных сообщений, которые могут быть переданы средствами языка.
В языкознании принято различать два основных типа сообщений (коммуникаций), которые обычно выражаются в терминах коммуникации события и коммуникации отношения. Оба эти вида сообщений пользуются одними и теми же внешними грамматическими средствами, но глубоко отличаются друг от друга.
Под «коммуникацией события» понимается сообщение о каком — нибудь внешнем факте, выраженном в предложении. Простое сочетание субъекта с предикатом («дом горит», «мальчик кушает»), как и сложные сочетания, в которых выражено наглядное отношение субъекта к объекту («мальчик ударил собаку», «человек рубит дрова»), являются типичным примером «коммуникации события». Характерной особенностью этого вида сообщений является тот факт, что обозначенное системой слов можно с успехом выразить и в наглядной картине, иначе говоря, наглядно — образное содержание явно преобладает в этом виде сообщения над вербально — логическим. В этом виде сообщения существенную роль играют наглядные неязыковые средства в виде знания ситуации, указательные или описательные жесты, дополнительные интонации и т. п.
Совершенно иной характер носит «коммуникация отношения». Существуют высказывания, которые не обозначают никакого события, но формулируют известные отношения. К таким конструкциям относятся, например, конструкции типа «Сократ — человек», «собака — животное» или такие грамматические конструкции, как «брат товарища», «собака хозяина» и т. д.
Значение этих конструкций нельзя передать в наглядной картине. Они выражают не те реальные события, в которые вступают предметы, а логические отношения между вещами, и используют способы оформления не столько наглядно — образного, сколько более сложного вербально — логического мышления. Естественно, что наглядная ситуация, указательный или описательный жест, мимика и интонация не могут оказать помощь в раскрытии значения этих конструкций, и вся полнота выражаемых ими отношений должна быть выражена только грамматической структурой тех слов, которые ее составляют.
В некоторых случаях, представляющих особый интерес, подлиное значение «коммуникации отношения» может вступать в конфликт с их непосредственным наглядным восприятием.
Примером являются конструкции с одним из вариантов родительного падежа (родительным атрибутивным): выражение «брат отца», внешне создающее впечатление о том, что речь идет о двух лицах, вовсе не означает «брата» и «отца», но означает третье лицо — «дядю». Упоминание «отца» носит здесь не значение существительного, а значение атрибута, прилагательного, поэтому выражение легко можно заменить выражением «отцовский брат», где первое слово выражается прилагательным и ставится на первое место, как все прилагательные в русском языке («добрый дядя», «высокое дерево» и т. п.).
Аналогичными особенностями отличаются и сложные грамматические конструкции, где порядок слов не совпадает с порядком событий, обозначаемых в фразе, например, «я позавтракал после того, как прочитал газету», где для понимания значения данного предложения необходимо мысленно «перевернуть» последовательность слов.
Подлинное значение грамматической конструкции, выраженное специальными средствами грамматического подчинения одного другому, вступает здесь в конфликт с непосредственной предметной отнесенностью каждого слова и требует особенно сложных умственных операций, тормозящих непосредственные впечатления и полностью переводящих процесс из наглядного плана в план отвлеченных логически — вербальных операций.
Подобные сложные грамматические конструкции, в которых обозначение определенного логического отношения полностью переносится в средства языка, составляют значительную часть вербально — логических матриц. Последние служат основой для сложных форм мышления, и поэтому психологический анализ интеллектуальных процессов, которые необходимы для успешных операций, представляет большой интерес.
(обратно)Эволюция логико — грамматических структур высказывания
Описание основных средств и видов логико — грамматических структур речевого высказывания позволяет видеть, насколько сложный характер носят те матрицы языка, которые формируют мысль, и насколько процесс отражения событий и отражений в речи может отрываться от законов непосредственного наглядно — образного восприятия.
Возникает естественный вопрос: как появились сложные логико — грамматические способы формирования мысли и какие изменения они претерпели в процессе исторического развития?
Было бы неверно думать, что подобные логико — грамматические формы языка возникли сразу и язык уже с первых этапов стал таким же средством формирования отвлеченной мысли, каким он является сейчас.
Язык не всегда располагал сложными средствами выражения отношений, поэтому формирование языка как системы кодов, которые сами по себе достаточны, чтобы формулировать любые связи и отношения, является продуктом длительного исторического развития, занявшего не один десяток тысяч лет.
Мы уже говорили о том, что:
• праязык, существование которого относится исследователями к самым ранним этапам человеческой истории, не опирается на систему слов, имеющих твердое и постоянное значение;
• «слова» праязыка были скорее восклицаниями, вплетенными в непосредственное практическое действие, и их смысл становился понятным лишь из той практической ситуации, в которой они возникали, и из тех жестов и интонаций, которыми они сопровождались.
В наиболее ранней фазе палеонтологии речи язык еще не был системой постоянных кодов, способных передавать информацию, и решающую роль в передаче сообщения играли внеязыковые факторы — знание ситуации, указательные жесты, мимика, интонация. Эту фазу в развитии языка можно поэтому обозначить как недифференцированную фазу полностью «симпрактической» речи.
Дальнейшая эволюция языка представляет собой процесс постепенной эмансипации от внеязыковых (симпрактических) средств и развития сложных кодов, посредством которых язык постепенно становился системой, способной самостоятельно формулировать любые связи и отношения.
Примером могут служить наиболее древние из существующих языков, которые еще недавно не имели письменности и строение которых еще носит черты относительной примитивности. К таким относятся многие палеоазиатские (северные) языки, полинезийские языки и языки американских индейцев.
Характерным для этих языков является то, что, располагая достаточно богатым набором словесных значений, они не располагают системой грамматических кодов, которые сами по себе достаточны для выражения любых связей и отношений.
Так, в алеутском языке существуют два падежа: прямой — обозначает действующий субъект (подлежащее) и косвенный — обозначает любую вещь, на которую направлено действие, но он не означает (как это принято в сложных флективных языках), в каком положении стоит данный предмет к подлежащему (в русском языке выражается системой флексий: «собак — е», «собак — у», «собак — ой» и т. д., а в других языках — системой предлогов). Косвенный падеж сам по себе еще недостаточен для того, чтобы передать четкую информацию об отношениях между отдельными предметами, и слушающий продолжает испытывать необходимость опереться на дополнительные внеязыковые средства (знание ситуации, жесты, мимика, интонация), чтобы конкретный смысл сообщения стал достаточно понятным.
Как сообщают этнологи, понять смысл сообщения в наиболее примитивных полинезийских языках можно, лишь зная, о чем идет речь, и наблюдая за жестами, применяемыми в разговоре, однако в темноте (исключающей наблюдение за жестами и мимикой) смысл речи может оставаться непонятным.
Дальнейшее развитие языка сводится к постоянному приобретению сложных грамматических кодов, которые становятся все более достаточными для того, чтобы самостоятельно формулировать сложные связи и соотношения. Процесс эмансипации от необходимого участия «синпрактических» внеречевых факторов передачи информации протекает очень медленно, и в истории достаточно развитых языков можно наблюдать стадии, на которых система логико — грамматических средств еще не была достаточно дифференцированной, передача информации должна была опираться на элементы знания ситуации и догадок о значении высказывания по общему контексту.
Мы приведем лишь несколько примеров такой переходной стадии, которую можно наблюдать в ранней истории современного развития языков.
В записях XIV–XV в. в русском языке почти не встречается сложный родительный атрибутивный падеж, посредством которого выражается передача отношений; часто он заменяется двумя именительными (вместо «дети бояр» — «бояре дети», вместо чаша зелена вина» — «чаша зелено вино»). Воспринимая эту информацию, нужно догадываться, чтобы уточнить смысл передаваемого сообщения.
Аналогичное имеет место в библейских текстах, где вместо «кротость царя Давида» говорится «царя Давида и всю кротость его», в греческих текстах, где вместо «сила рати (войска) Ахейцев», говорится «силу и рать Ахейцев».
Подобные особенности древних форм языка, еще не располагающего грамматическими средствами выражения сложных отношений и заменяющего сложные формы грамматического подчинения (гипотаксиса) более простыми формами сочинения (паратаксиса), в лингвистике принято обозначать термином «гендиазис» (удвоение, два вместо одного). Характерно, что эти формы до сих пор встречаются в устной речи людей, недостаточно овладевших развитыми формами современного языка. Поэтому нередко можно встретить замену выражения «парк культуры» выражением «парк культура», выражения «номер телефона» — «телефон номер», или такие классические формы гендиазиса, как замена конструкции «министерство путей сообщения» более простым «министерство пути и сообщения».
Характерно, что деформации, связанные с недостаточным использованием грамматических кодов развитого языка, можно видеть и в примерах замены сложных выражений хорошо известных текстов, например, замены строфы известной песни «Колыхалися знамена кумачом последних ран» на упрощенное выражение «Колыхалися знамена кумачом в последний раз», дающее возможность избежать сложной грамматической конструкции двойного родительного (кумачом последних ран) с метафорой (кумач ран) на более простую конструкцию.
Приведенные примеры показывают, что эволюция языка представляет психологический процесс постепенной выработки сложных логико — грамматических средств языка, который все больше становится системой, заключающей в себе все средства выражения любых связей и отношений, и все меньше нуждается в дополнительных внеязыковых (синпрактических) средствах, участвующих в передаче информации.
Этот процесс и отражает основную линию эволюции языка, имеющую решающее значение для психологического анализа сложных форм речевого мышления.
(обратно)Процесс кодирования речевого высказывания. Путь от мысли к развернутой речи
До сих пор мы останавливались на строении языка — основного орудия, которым человек пользуется для передачи информации, на основной системе кодов, сложившихся в общественной истории и позволящей отражать сложные связи и отношения действительности и формулировать мысль.
Сейчас мы должны перейти к анализу речи, которая передает информацию, на которую опирается человек в процессе мышления.
Под речью мы понимаем процесс передачи информации, пользующийся средствами языка.
Если язык есть объективная, сложившаяся в общественной истории система кодов и является предметом специальной науки — языкознания (лингвистики), то речь является психологическим процессом формулирования и передачи мысли средствами языка, как психологический процесс она является предметом психологии и называется психолингвистикой.
Реально речь выступает в двух формах деятельности.
Одна из них — передача информации, или общение, требует участия двух лиц: говорящего и слушающего. Вторая форма речи объединяет говорящего и слушающего в одном субъекте, в этом случае речь является не способом общения, а орудием мышления. Человек может говорить для себя, проявляя речь вовне или ограничиваясь внутренней речью, в этом втором случае человек использует речь для уточнения своей мысли.
Речь как орудие общения может выступать в двух реальных процессах.
С одной стороны, речь может воплощать мысль, формулировать ее в форме высказывания, передающего информацию собеседнику. В этом случае дело идет о кодировании высказывания, сводящегося к воплощению мысли в систему кодов языка. Анализ этого пути от мысли к речи называется в науке психологией высказывания, или экспрессивной речи.
С другой стороны, не меньшее значение имеет тот же процесс, но на этот раз рассматриваемый не со стороны говорящего, а со стороны слушающего. Здесь происходит обратный процесс — декодирование высказывания, иначе говоря, анализ воспринимаемого высказывания, превращение развернутого высказывания в свернутую мысль. Этот путь от речи к мысли в психологии часто называется процессом понимания, а соответствующий раздел психологической науки — психологией импрессивной речи.
Естественно, что процесс высказывания может носить характер устной речи или характер письменной речи. Как мы увидим ниже, обе эти формы речи имеют свои психологические особенности и отличаются как по процессу своего формирования, так и по своему строению.
Остановимся сначала на психологических процессах, лежащих в основе формулирования речевого высказывания, или на анализе того пути, который проходит психологический процесс, идущий от мысли к развернутости речи, и рассмотрим этапы, которые проходит психический процесс человека, формулирующего мысль в развернутом высказывании.
1. Человек хочет обратиться к другому человеку или изложить свою мысль в развернутой речевой форме. Он должен прежде всего иметь соответствующий мотив высказывания. Мотивом может служить желание сформулировать потребность, выразить просьбу, требование, которые собеседник должен исполнить; в этом случае высказывание будет носить действенный, прагматический характер. Мотивом высказывания может быть передача информации, вступление в контакт с другим человеком, а иногда и уяснение какого — либо положения для самого себя. В этом случае высказывание примет познавательный, информативный характер. Наконец, в некоторых наиболее элементарных случаях мотивом высказывания может служить выражение какого — либо эмоционального состояния, разрядка внутреннего напряжения. В данном случае речь будет носить характер восклицаний, междометий, и все «высказывание» (которое лишь условно может быть названо этим термином) будет носить характер, мало отличащийся от других (мимических) форм аффективных разрядов.
2. Мотив высказывания является лишь отправным моментом, движущей силой всего процесса. Следующим моментом является возникновение мысли или общей схемы того содержания, которое в дальнейшем должно быть воплощено в высказывании. Психологический анализ мысли всегда представлял большие трудности для психологии. Одни авторы (психологи, принадлежавшие к крайней идеалистической школе, так называемой Вюрцбургской школе, — О. Кюльпе, Мессер, К. Бюлер, Н. Ах) считали, что «чистая мысль» не имеет ничего общего ни с образами, ни со словами. Она сводится к внутренним духовным схемам или «логическим переживаниям», которые лишь дальше одеваются в слова, как человек одевается в одежду. Другие психологи, принадлежавшие к материалистическому лагерю, с полным основанием выражали сомнение в том, что мысль является готовым психическим образованием, которому нужно лишь «воплотиться» в слова. Они высказывали предположение, что «мысль» является лишь этапом, расположенным между исходным мотивом и окончательной внешней, развернутой речью, что она остается неясной, диффузной, пока не примет свои ясные очертания в речи. Вслед за выдающимся советским психологом Л. С. Выготским эти исследователи утверждали, что мысль не воплощается, а совершается, формируется в слове. Под «мыслью» или «замыслом» будем понимать общую схему того содержания, которое должно воплотиться в высказывании, причем до его воплощения она носит самый общий, смутный, диффузный характер, нередко трудно поддающийся формулировке и осознанию.
Следующий этап на пути к подготовке высказывания имеет особенное значение. В течение длительного времени он оставался вообще неизвестным, и только после исследования Л. С. Выготского было доказано решающее значение, которое имеет он для перешифровки (перекодировния) замысла в развернутую речь и для создания порождающей (генеративной) схемы развернутого речевого высказывания. Мы имеем в виду тот механизм, который называется в психологии внутренней речью.
Современная психология меньше всего понимает под «внутренней речью» простое говорение слов и фраз про себя и не считает, что внутренняя речь имеет такое же строение и такие же функции, как развернутая внешняя речь.
Под внутренней речью психология подразумевает существенный переходный этап между замыслом («мыслью») и развернутой внешней речью. Механизм, который позволяет перекодировать общий смысл в речевое высказывание, придает этому замыслу речевую форму. В этом смысле внутренняя речь является процессом, порождающим (генерирующим) развернутое речевое высказывание, включающим исходный замысел в систему грамматических кодов языка.
Переходное место, занимаемое внутренней речью на пути от мысли к развернутому высказыванию, определяет основные черты как ее функции, так и ее психологической структуры.
Внутренняя речь есть прежде всего не развернутое речевое высказывание, а лишь подготовительная стадия, предшествующая такому высказыванию; она направлена не на слушающего, а на самого себя, на перевод в речевой план той схемы, которая была до этого лишь общим содержанием замысла. Это содержание уже известно говорящему в общих чертах, потому что он уже знает, что именно хочет сказать, хотя еще не знает, в какой форме и в каких речевых структурах он может сформулировать свое высказывание. Занимая промежуточное место между замыслом и развернутой речью, внутренняя речь имеет свернутый, сокращенный характер, который генетически произошел из постепенного свертывания, сокращения развернутой речи ребенка, через шепотную речь, переходящую во внутреннюю речь, которая скорее является обозначением общей темы или общей схемы дальнейшего развернутого высказывания, но вовсе не ее полным воспроизведением.
Внутренняя речь, формулирующая содержание мысли, известна человеку, носит не только свернутый, но и предикативный характер. Она воплощает речевую схему дальнейшего высказывания и порождает его развернутые формы; поэтому во внутренней речи мы встречаем общие обозначения темы дальнейшего высказывания, иногда выраженные лишь одним понятным только самому субъекту словом, иногда принимающим форму речевого фрагмента, обозначающего наиболее существенные элементы дальнейшего высказывания, формулирующего в сокращенной, зачаточной форме, что именно должно быть содержанием дальнейшей развернутой речи.
Психология еще недостаточно изучила структуру и функциональные механизмы внутренней речи. Она еще очень мало знает и о том, как именно эти свернутые предикативные схемы, стоящие между мыслью и речевым высказыванием, осуществляют превращение мысли в систему развернутых кодов языка. Известно, что процессы внутренней речи формируются в детском возрасте из развернутой «эгоцентрической» речи, постепенно свертываясь и переходя через шепотную речь во внутреннюю речь. Именно это происхождение внутренней речи из внешней, по — видимому, и позволяет ей осуществлять обратный процесс, генерировать грамматическую схему развернутого высказывания, приводит к всплыванию тех логико — грамматических матриц, которые позволяют в дальнейшем осуществлять внешнюю развернутую речь. Активные фрагменты внутренней речи возникают при каждом затруднении и исчезают, когда процесс мышления автоматизируется и лишается активного творческого характера, и именно это указывает на то важное значение, которое имеет внутренняя речь для процессов речевого мышления.
Последний факт успешно показывается специальными опытами с электромиографической регистрацией тонких движений речевого аппарата (языка, губ, гортани), которые возникают при каждой подготовке к развернутому высказыванию или при каждом мыслительном акте.
Как было показано исследованиями некоторых авторов (в частности, А. Н. Соколова), каждое предложение решить какую — либо сложную задачу вызывает у испытуемого группу отчетливых электрических разрядов в речевых мышцах, которые не выявляются в виде внешней речи, но всегда предшествуют решению задачи.
Характерно, что описанные А. Н. Соколовым компоненты внутренней речи возникают при всякой интеллектуальной деятельности (даже той, которая раньше считалась неречевой), и эти электромиографические разряды, являющиеся симптомами внутренней речи, исчезают только в тех случаях, когда интеллектуальная деятельность приобретает привычный, хорошо автоматизированный характер. Генерирующая роль внутренней речи, приводящей к оживлению ранее усвоенных грамматических структур развернутой речи, приводит к последнему этапу интересующего нас процесса — к появлению развернутого речевого высказывания, в котором речь начинает опираться на все логико — грамматические и синтаксические схемы языка. Структура развернутого высказывания может в различных случаях носить неодинаковый характер и варьироваться в зависимости от характера речевого высказывания.
На основных видах речевого высказывания, имеющих большое значение для психологии, следует остановиться особо.
(обратно)Виды речевого высказывания и их структура
Мы остановились на строении речевого высказывания и его отдельных компонентах. Теперь нам следует рассмотреть разные виды речевого высказывания, которые имеют совершенно неодинаковую структуру и в которых соотношение только что описанных элементов может быть совершенно различным.
Речевое высказывание может выступать в двух основных видах: в виде устной и письменной речи. Отличие их состоит в том, что каждая из них использует разные средства выражения речи, но и своим психологическим строением; одновременно каждая из них имеет и свои разновидности.
Наиболее простой структурой отличается устная аффективная речь, которая только условно может быть названа речью. К ней относятся такие восклицания, как «эх!», «фу ты», и такие привычные речевые штампы, как «черт возьми!» и т. п.
В этой форме речи нет ни четкого мотива (просьбы, приказа, сообщения), место его занимает аффективное напряжение, получающее свой разряд в восклицании. В ней нет и этапа замысла или мысли, заключающего в себе общую схему дальнейшего высказывания; естественно, что она не нуждается в предварительной подготовке или перекодировании, заключенном во внутренней речи. Внешняя сторона очень проста и ограничена либо междометиями, либо привычными речевыми штампами. Характерно, что наиболее элементарные формы экспрессивной речи сохраняются в тех случаях, когда в результате мозгового заболевания сложные формы речевого кодирования оказываются нарушенными.
Второй разновидностью устной речи является устная диалогическая речь.
Эта речь имеет своеобразную психологическую структуру, без внимательного анализа которой она остается непонятной. Устная диалогическая речь всегда имеет свой мотив; она содержит в себе либо просьбу или приказ, либо передачу какого — либо сообщения. Однако этот мотив иногда включен в поведение данного субъекта (например, задающего вопрос), а иногда в поведение другого субъекта (например того, на вопрос которого человек отвечает). То же можно сказать и о звене замысла, или мысли. В начале беседы она зарождается у данного лица, которое что — либо просит у собеседника или что — то передает ему. Очень скоро она перестает быть образованием, рождающимся в голове у человека. В случаях, когда человек отвечает на вопрос (если ответ заключается в согласии с собеседником или несогласии с ним), замысел беседы рождается в вопросе собеседника; дальнейшая беседа становится схемой, возникающей в контексте всей беседы, так что трудно сказать, кому принадлежит общая мысль, являющаяся содержанием беседы. Существенное заключается в том, что на каждом этапе беседы она дается в готовом виде, и субъекту не надо искать или формулировать ее. Следовательно, одна из особенностей диалога заключается в том, что собеседники всегда знают, о чем идет речь, и не нуждаются в том, чтобы каждый раз развертывать мысль, доводя речевое высказывание до его наиболее полной формы. К этой особенности устной диалогической речи присоединяется и другая: она протекает часто в условиях знания конкретной ситуации и сопровождается богатыми внеречевыми факторами сообщения — жестами, мимикой, интонацией.
Все это определяет и структурные особенности устной диалогической речи. Она может быть неполной, сокращенной; иногда фрагментарной, допускает эллипсисы (опускание отдельных компонентов), но все же не перестает быть понятной.
Если один из ожидающих автобус говорит: «Пятый!», это всем понятно. Если слово произносится с оттенком удовлетворения, это означает: «Подходит автобус № 5, которого мы ждем!» Если то же слово произносится с оттенком разочарования, оно означает: «Это подходит не тот автобус, которого мы ожидаем».
Сокращенная фрагментарная форма имеет место и в более сложных формах устной диалогической речи, для которой развернутая грамматическая полнота оказывается необязательной и которая всегда остается речью в условиях знания ситуации и наличия большого синпрактического (внеречевого) компонента. Можно сказать, что в устной диалогической речи значительная часть передаваемого сообщения не выступает в развернутой грамматической структуре высказывания, но «подразумевается», заключается во внеречевом синпрактическом контексте, и что устная диалогическая речь передает в основном тот смысл (т. е. соответствующее ситуации, индивидуальное значение), который часто остается непонятным без контекста.
Легко видеть, что этап предварительной подготовки развернутого высказывания во внутренней речи во многих случаях оказывается очень сокращенным, а в случаях, когда содержание высказывания достаточно полно сформулировано спрашивающим, ответ заключает только утверждение или отрицание вопроса («Вы уже обедали?» — «Да!»), роль внутренней речи, готовящей развернутый ответ, практически сводится на нет. Понятно поэтому, что некоторые наиболее простые формы устной диалогической речи, не использующие развернутых грамматических средств языка и не нуждающиеся в предварительном кодировании высказывания, могут сохраняться при всех мозговых поражениях, при которых сложный процесс кодирования высказывания становится недоступным.
Третьим и наиболее сложным видом устного высказывания является устная монологическая речь, которая может выступать в форме повествования, доклада, лекции.
Этот вид устной речи имеет несравненно более сложное строение.
Устная монологическая речь всегда должна иметь как исходный мотив, так и четкий замысел. Она, как правило, либо формулирует просьбу, требование, либо передает известную информацию. Монологическая речь должна иметь замысел, исходить из основной мысли, которая должна быть развернута в дальнейшем высказывании. В отличие от диалогической речи, эта мысль (или подлежащее формулировке содержание) не дается здесь в готовом виде, но возникает у самого говорящего.
Особенностью устной монологической речи является то, что она, как правило, не обязательно предполагает у собеседника, к которому обращена, знание ситуации, и поэтому должна содержать в себе достаточно полную речевую формулировку информации, которую она передает.
Поэтому необходимо проводить подготовку развернутой речи, предварительного процесса перекодирования исходного замысла в речевую схему будущего высказывания, иначе говоря, того процесса внутренней речи, который был описан выше и который только и может обеспечить превращение исходного замысла в развернутое речевое высказывание. Каждый, кто готовился к выступлению, хорошо знает, какую большую предварительную работу нужно провести, чтобы приступить к развернутому повествованию, докладу или лекции, которая носит у неопытного докладчика или лектора сложный, развернутый характер, у опытного лектора принимает свернутую форму обозначения отдельных этапов изложения в фрагментарных заметках или во внутренних речевых опорах.
Однако необходимо отметить, что устная монологическая речь располагает некоторыми внеречевыми средствами, которые выступают здесь в виде дополнительных, подчиненных компонентов, но все же продолжает занимать значительное место. В своей устной монологической речи человек продолжает пользоваться жестами, мимикой; с помощью интонации он выделяет те части своего сообщения, которые имеют специальное значение; с помощью дополнительных средств выражает отношение к тому, что он сообщает, выделяет смысл сообщаемого. Это дает возможность сохранить и в устной монологической речи некоторую грамматическую неполноту, делает приемлемыми некоторые эллипсисы (опускание некоторых избыточных грамматических компонентов), позволяет пользоваться не полностью развернутыми грамматическими конструкциями, сокращенность которых компенсируется интонацией и сопровождающими жестами.
Совершенно естественно, что структура устного монологического высказывания в высокой степени зависит от характера передаваемых им сообщений: если субъект передает «коммуникацию бытия», участие внеязыковых (синпрактиче — ских) компонентов (жестов, мимики, интонации) может быть значительно больше, если он передает «коммуникацию отношений», их участие, естественно, становится меньше, и основной центр тяжести переносится на систему логико — грамматических кодов языка.
Принято различать две формы устной монологической речи, которые в различной степени опираются на внеязыковые степени синпрактические средства.
Одна из них обозначается обычно как «драматизирующая» речь: она широко пользуется воспроизведением прямой речи, сопровождается жестами и мимикой, использует богатые средства интонации, поэтому может носить грамматически недостаточно развернутый характер. Достаточно вспомнить, как женщина, только что вернувшаяся с улицы, рассказывает о споре торговок на рынке, воспроизводя их реплики, жесты и интонации, чтобы получить пример «драматизирующей» монологической речи.
Другая форма устной монологической речи часто обозначается как «эпическая» речь. Она не сопровождается жестами и интонациями, не пользуется формами прямой речи и не обращается к внеязыковым средствам выразительности, которые так богато пользуются «драматизирующей» речью. «Эпическая» речь, не опираясь на внеязыковые средства, может выразить самое сложное содержание, однако она должна полностью использовать логико — грамматические коды языка, которые в ней остаются основными, если не единственными средствами передачи информации. Прототипом формы устной монологической речи может служить эпос сказителя, который, если верить преданию, мог передаваться слепым Гомером, не пользовавшимся никакими дополнительными внешними средствами выразительности.
Естественно, что «эпическая» форма монолога должна опираться на максимально грамотную речь, и все языковые (лексические и синтаксические) коды должны быть в ней использованы с максимальной полнотой.
Последним и наиболее сложным видом высказывания является письменная монологическая речь.
В отличие от устной речи письменная монологическая речь есть речь без собеседника или речь в отсутствии собеседника, иногда с воображаемым собеседником. Этот факт определяет и ее психологическую структуру.
Письменная монологическая речь должна исходить из определенного мотива и иметь достаточно четкий замысел. Мысль, подлежащая кодированию в развернутое речевое высказывание, никогда не дается здесь в готовом виде, в котором она формируется собеседником, участвующим в диалоге. В случаях, когда обращающийся к письменному монологическому повествованию передает уже готовое содержание, общая схема мысли должна быть извлечена из его прежнего опыта, хранимого в памяти. В этом случае она декодируется согласно тем законам логического припоминания, которые были освещены выше. В ситуациях, когда письменная монологическая речь формулирует новую, еще недостаточно отработанную мысль, детали которой недостаточно ясны самому субъекту, подготовка высказывания может принять сложные формы. Поэтому общий замысел должен быть перекодирован в сложную смысловую программу развернутого высказывания, отдельные звенья этой программы должны быть уточнены, и установлена их последовательность. Подготовительная деятельность, которая частично может носить внешний характер, использовать ряд опор, фрагментарных записей или заметок, не всегда широко опирающаяся на механизмы внутренней речи, приобретает особенно сложный характер. Достаточно внимательно ознакомиться с такими образцами подготовки развернутого письменного изложения, какие мы наблюдаем у Л. Н. Толстого или Г. Флобера, чтобы увидеть всю ту сложность предварительного кодирования мысли, значительная часть которой падает на участки внутренней речи, и которая составляет существо тех мучительных попыток «воплощения мысли в слово», которой характеризуется каждое творчество.
Существенной особенностью письменной монологической речи является то, что она лишена возможности опираться на любые внеязыковые средства — знание ситуации, жесты, мимику и интонацию (последняя лишь частично замещается средствами пунктуации и выделения отдельных слов и фраз, которые имеются в распоряжении письменной речи).
Письменная монологическая речь вынуждена опираться на развернутую систему логико — грамматических кодов языка, которые становятся единственным средством передачи сложной информации, и любые сокращения или эллипсисы (опускание отдельных элементов высказывания) в этом случае становятся недопустимыми.
Достаточно сравнить грамматическую структуру устного высказывания (с его неполнотой и эллипсисами, которые возмещаются жестами и интонацией) с развернутой и грамматически полной структурой письменной речи, чтобы увидеть это с достаточной ясностью. Если на первых этапах овладения письменной речью человек продолжает вносить в нее обороты устной речи (достаточно вспомнить стиль письма человека, не привыкшего к письменному изложению), то в дальнейшем влияние строя устной речи на формирование письменного монологического изложения отмирает, и письменная речь формируется как специальная самостоятельная форма речевой деятельности, требующая максимальной подготовки и наиболее полного использования логико — грамматических кодов языка.
До сих пор мы говорили о речевом высказывании как о форме общения с другими людьми, иначе говоря, как о средстве передачи информации.
Однако устная и письменная речь имеет и другую важную функцию: она является средством отработки мысли и играет большую роль в уточнении собственной интеллектуальной деятельности субъекта.
Тот факт, что мысль кодируется в речи, чтобы приобрести истинную ясность, Л. С. Выготский выразил в формуле «мысль совершается в слове». Это указывает на то значение, которое формулировка замысла в речи имеет для уточнения мысли, для того, чтобы ее общая схема стала развернутой программой, включалась в систему связей и отношений, которые выступают в развернутых логико — грамматических кодах языка.
Поэтому кодирование мысли в речевом высказывании имеет значение не только для передачи информации другому человеку, но и для уточнения мысли для самого себя. Вот почему развернутая речь является не только средством общения, но и орудием мышления.
Этот факт отчетливо указывает и на вторую функцию речи — ее роль в отработке мысли, в подготовке ее для интеллектуальной деятельности; вместе с тем она указывает и на ту социальную природу интеллектуальной деятельности человека, которая коренным образом отличает его от животного.
(обратно)Патология речевого высказывания
Психологическая структура речевого высказывания становится отчетливой, если мы проследим за формами нарушений, которые выступают при отдельных патологических состояниях мозга, особенно при локальных поражениях.
Мы остановимся только на тех сторонах патологии речевого высказывания, которые раскрывают нормальную психологическую природу, не затрагивая здесь важный вопрос о ее патофизиологических механизмах.
Наиболее массивные формы нарушения речевого высказывания возникают при нарушении мотивов, лежащих в его основе. Это возникает при поражении глубоко расположенных отделов мозга, которые приводят к общему снижению тонуса коры и вызывают явления общей акинезии и блокады психических процессов. Подобные нарушения встречаются в раннем периоде выхода из состояний патологического торможения вследствие закрытых травм черепа и при глубоко расположенных опухолях мозга, влияющих на левое полушарие. Характерной особенностью этих состояний является то, что больной не делает никаких попыток активных речевых высказываний, и после исчезновения первичного патологического фактора высказывания могут снова появляться в прежней форме.
Такие факты наблюдаются и при тяжелых поражениях лобных долей мозга (особенно при глубоко расположенных опухолях лобной доли, влияющих на нормальные функции левого полушария). В этих случаях общая аспонтанность больного вызывает как глубокое разрушение мотивов, так и глубокое разрушение замысла. Больные проявляют типичную «речевую акинезию», с той только разницей, что как простая эхолалическая речь (имитация речи исследующего), так и простые односложные ответы стереотипы могут оставаться сохранными, в то время как активная речь, которая выражается желаниями, требованиями или носит повествовательный характер, здесь исчезает. Следует отметить, что грамматическое строение речи остается сохранным, никаких явлений активных поисков слов или нарушений синтаксической структуры высказывания здесь не наблюдается.
Совершенно иной характер носят нарушения речевого высказывания, возникающие при поражении передних отделов речевой зоны, левого полушария и тех клинических явлениях, которые обозначаются термином «динамическая моторная афазия» или «транскордикальная моторная афазия».
Основная особенность этой формы нарушений речевого высказывания заключается в том, что как мотив высказывания, так и общая мысль или замысел того, что подлежит высказыванию, остается здесь сохранным: сохранной остается и артикуляция больного, возможность называть отдельные предметы, повторять отдельные слова или фразы. Существенное нарушение разыгрывается в звене перекодирования общего замысла в схему речевого высказывания, иначе говоря, в переходе от общей мысли к ее речевой формулировке. Такие больные безуспешно пытаются найти разрушенную схему фразы, называют отдельные слова, которые, однако, не размещаются в последовательном высказывании. Характерно, что они в значительно большей степени сохраняют возможность оперировать существительными, но испытывают затруднения в операциях с глаголами (которые всплывают у них в несколько раз медленнее, чем существительные). Наиболее существенным является тот факт, что изолированные слова не укладываются в «линейную схему фразы», и механизм «порождения» речевого высказывания оказывается глубоко нарушенным.
Этот факт можно наблюдать, если компенсировать дефект «линейной схемы фразы» внешними опорами, например, располагая перед больным, который безуспешно пытается сказать фразу «я хочу гулять», три пустых карточки, каждая из которых обозначает входящее в фразу слово, и, последовательно указывая на каждую из карточек, предложить ему воспроизвести фразу (схема 2.4).
Схема 2.4
Подобный опыт указывает не только на факт нарушенного у больного механизма генерации речевого высказывания, но и может быть использован для его восстановления.
Введение внешних опорных средств приводит к тому, что у больного начинают появляться и ранее блокированные электромиографические импульсы, которые снова исчезают, как только вспомогательные опорные средства устраняются.
Весьма вероятным становится предположение, что подобные картины имеют в своей основе нарушения аппарата внутренней речи, которая перекодирует исходный замысел в речевое высказывание и играет существенную роль в его подготовке, являясь важным механизмом, генерирующим «линейную схему фразы». Подтверждением этого предположения является и то, что по мере восстановления речевых расстройств больной проходит через фазу, когда в формирующемся у него речевом высказывании сохраняются почти одни существительные, в то время как глаголы и связки выпадают, его речь приобретает картину, известную под названием «телеграфного стиля».
Особой разновидностью описанного нарушения речевого высказывания является которая возникает в случаях, когда поражение мозга не разрушает передних отделов «речевой зоны» левого полушария, но нарушает его связи с более сложно построенными отделами лобной области мозга.
В этих случаях схема фразы остается сохранной и нарушений структуры простого речевого высказывания не возникает. Больной, который без труда повторяет фразу и может передать хорошо усвоенный рассказ, оказывается не в состоянии самостоятельно развернуть более сложное высказывание, построив его программу и переходя от одного звена программы к последующим. Нарушение приводит к тому, что плавное развертывание сюжета оказывается невозможным, и больные начинают жаловаться на то, что отдельные строки высказывания беспорядочно приходят в голову, не, размещаясь в одну смысловую программу. Поэтому они легко повторяют только что сказанную фразу, но не в состоянии связно передать прочитанный ими рассказ и самостоятельно развернуть повествование. Нарушение внутреннего плана высказывания приводит их к тому, что они могут беспорядочно воспроизводить отдельные фрагменты, которые подлежат связной речевой передаче. Такие больные оказываются в состоянии перейти к связному развернутому повествованию, только если отдельные фрагменты будут сначала в беспорядке записаны ими, а затем размещены в известную последовательную цепь.
Нарушение внутренних, свернутых планов речевого высказывания, возникающее в этих случаях, является одним из наиболее поучительных примеров тех нарушений пути от мысли к развернутой речи, который может возникнуть при локальных поражениях мозга. Это вплотную подводит исследователя к наиболее интимным (хотя еще не раскрытым) мозговым механизмам активного речевого мышления.
(обратно)Процесс декодирования речевого высказывания
Проблема понимания
Мы рассмотрели процесс формирования высказывания, иначе говоря, путь от мысли к речи, или процесс кодирования мысли в речевое сообщение. Теперь мы должны рассмотреть обратный процесс — декодирования воспринимаемого сообщения, или путь от речи к мысли, который лежит в основе понимания сообщенное материала.
Проблема декодирования (понимания) сообщения
Процесс понимания воспринимаемого сообщения ни в какой мере нельзя считать простым процессом усвоения значения слов: понять сообщение «ваш брат сломал ногу» вовсе не значит понять значение слов «ваш», «брат», «сломать», «нога». Процесс декодирования или понимания сообщения есть всегда путь расшифровки общего смысла, который стоит за воспринимаемым сообщением или, иначе говоря, сложный процесс выделения наиболее существенных элементов высказывания, превращение развернутой системы сообщения в лежащую за ним мысль. Этот процесс не прост:
а) он может останавливаться на различных этапах пути, которой должен проделывать воспринимающий сообщение;
б) он может закончиться восприятием значения отдельных слов (вспомним чтение гоголевского Петрушки), тогда смысл сообщения останется вовсе непонятным;
в) он может дойти до декодирования значения отдельных фраз, и тогда воспринимающий, который хорошо усваивает значение каждого предложения, может не дойти до понимания подлинного смысла сообщения;
г) он может проникнуть глубже и отразить общую мысль сообщения и передать ее в краткой форме, однако этого бывает достаточно для понимания научного, «объяснительного» текста, но вряд ли этим исчерпывается подлинное понимание художественного произведения.
Наконец, воспринимающий сообщение (или читающий художественное произведение) может понять смысл, который заключен в «подтексте», мотивы, которые лежат в основе поступков действующих лиц, и отношение автора к лицам, которое и было его мотивом при написании данного произведения.
Процесс декодирования (понимания) доходящей до человека информации может быть глубоко различным в зависимости как от формы данной информации и тех способов, посредством которых дается сообщение, так и от содержания сообщения, степени его знакомости.
Понимание устного высказывания имеет совсем иную психологическую структуру, чем понимание письменного сообщения.
Устное высказывание, как мы уже видели, опирается на большое число дополнительных внеязыковых факторов сообщения (знание ситуации, жесты, мимика, интонация), всего этого нет в письменном высказывании. Поэтому совершенно естественно, что понимание устного высказывания, основанное не только на декодировании логико — грамматических структур речи, но и на учете всех внеречевых средств сообщения, протекает совершенно иначе, чем декодирование письменного текста, лишенного всех этих дополнительных опор и требующее особенно тщательной расшифровки грамматических структур, из которых оно состоит.
Излишне говорить о том, что понимание речи собеседника в диалоге дает возможность гораздо шире опираться на внеречевые, синпрактические контексты, чем понимание устной монологической речи, и декодирование обеих форм речи будет протекать по совершенно различным законам.
Понимание описательного, повествовательного, объяснительного и художественного (психологического) текста ставит воспринимающего перед совершенно различными задачами и требует совершенно иной глубины анализа:
• для восприятия описательной речи вполне достаточно понимания наглядного значения фраз (иногда осложненных пониманием обычного контекста);
• в повествовательной речи усвоение общего контекста несравненно важнее;
• в объяснительном (научном) тексте понимание общего контекста является только начальным этапом, который должен перейти в сопоставление отдельных компонентов, соотнесение их друг с другом и декодирование общей мысли или общего закона, аргументацией или иллюстрацией которого являются приводимые в сообщении факты.
Наконец, понимание художественного текста (который с первого взгляда может показаться незначительным) предполагает наиболее сложный процесс декодирования с последовательным переходом от текста к подтексту, от внешнего содержания и общей мысли к глубокому анализу смысла и мотивов, которые иногда должны опираться не на простой процесс логического декодирования, но и на те факторы эмоциональной расшифровки, называемые «интуитивным» познанием.
Едва ли не самым существенным фактором, определяющим психологическую структуру процесса декодирования воспринимаемой сообщаемой информации, является степень знакомости сообщаемого материала.
Известно, что понимание хорошо известного сообщения требует детальной расшифровки логико — грамматических структур воспринимаемого текста и может совершаться «по догадке», на основе восприятия лишь отдельных (иногда незначительных) фрагментов, которые вызывают всплывание в сознании знакомых ситуаций. Весь процесс декодирования знакомого сообщения исчерпывается часто лишь выделением указаний на известную ситуацию и дальнейшим сличением всплывшей у субъекта гипотезы с последующими деталями сообщения. Поэтому декодирование хорошо знакомого сообщения не требует тщательной работы над текстом и скорее является процессом узнавания смысла, чем его последовательным выведением из длительной расшифровки сообщения.
Совершенно иной психологической структурой характеризуется процесс понимания незнакомого текста. Здесь никакие внеконтекстные догадки не могут иметь места и не приводят к успешной расшифровке содержания сообщения. Человек, стоящий перед задачей расшифровать незнакомое ему сообщение, имеет возможность опираться только на его логико — грамматическую структуру и должен проделать весь сложный путь, начиная с декодирования отдельных фраз, которые переходят затем к следующему этапу их сопоставлений друг с другом и попытками выделить развиваемый ими преемственный смысл, и кончая анализом общей мысли, которая стоит за всем сообщением, а иногда тех мотивов, которые лежат в основе этого высказывания.
Легко видеть, что этот путь очень сложен и может, в зависимости от опыта воспринимающего, отличаться разной степенью развернутости, которая в одних случаях приближается по своей сложности к процессу расшифровки неизвестного по примененным средствам сообщения (вроде расшифровки сообщения о месте зарытого клада в «Золотом жуке» Э. По), а в других (у достаточно опытных чтецов) ограничивается выделением наиболее информативных элементов текста и сопоставлением их между собой.
Декодирование (понимание) смысла слов
Многие лингвисты с полным основанием утверждают, что слово всегда многозначно и что каждое слово фактически является метафорой.
Слово «ручка» означает прежде всего маленькую руку («ручка ребенка», «ручка девушки»), но оно вместе с тем может обозначать и пишущий прибор («вечная ручка»), и часть мебели («ручка кресла») или любого прибора («ручка топора», «ручка чашки», «ручка выключателя»). Аналогичное можно сказать и о слове «ножка» («ножка ребенка», «ножка стула»); слово «собрание» («общее собрание» или «собрание книг»); «сообщение» («сообщение сведений», но «пути сообщений» или «сообщение между желудком и кишечником»). Даже такие слова, как «вода», «дуб», «краска», могут употребляться в разных смыслах («вода в ведре» и «его речь — сплошная вода», «дуб в лесу» и «этот человек — просто дуб», «краска залила скатерть» и «краска залила его лицо»).
Следует упомянуть и о том, что еще большей многозначностью отличаются многие служебные слова («я пошел в лес», «письмо находится в столе», и «я верю в торжество идеи»; «корзинка стоит под столом» и «под этим выражением следует подразумевать то — то»; «письмо лежит на столе», «вся надежда па его крепкий организм», «я поверил ему на честное слово» и т. д.).
Декодирование сообщения требует прежде всего такого смыслового выбора из многих значений слова, в котором оно употребляется в данном тексте.
Нужный выбор имеет в своей основе рад факторов и наталкивается на некоторые препятствия.
Одним из факторов, позволяющих осуществить выбор нужного слова, является интонация, с которой произносится слово, она автоматически придает большее значение одной из альтернатив, и укоризненно произнесенное «ну, это шляпа!» сразу же дает возможность понять, что речь идет о человеке, обладающем соответствующими качествами.
Другим и наиболее существенным фактором, определяющим выбор нужного смысла слова, является контекст. Естественно, что слово «пятерка», произнесенное в очереди ожидающих автобус, будет иметь значение номера ожидаемого автобуса, а в ситуации экзамена — значения полученной отметки. Аналогичным действием обладает и речевой контекст, определяющий, в каком именно смысле применяется данное слово. Читающий фразу «он поцеловал ее ручку» никогда не воспримет слово «ручка» как обозначение пишущего предмета, «он получил в подарок вечную ручку» никогда не подумает о руке ребенка или девушки. Создается своеобразный парадокс, при котором смысл фразы может стать понятным лишь при условии знания смысла отдельных слов, а смысл отдельного слова становится понятным лишь при знании всего контекста. Однако именно кажущийся парадокс и характеризует сложный процесс декодирования сообщения, и этот двойственный характер процесса можно в развернутой форме увидеть, например, при записи движения глаз читающего текст.
На пути правильного выбора смысла слова может возникнуть ряд препятствий, которые должна учесть психология реального процесса декодирования сообщения.
Первым из них, выступающим с особенной отчетливостью при изучении иностранного языка и освоении нового предмета, является недостаточное знание лексики (словаря), именно этот фактор приводит к смешению близких по звучанию (или по написанию) слов, которое становится опасным, так как читающий порою предпочитает сделать непосредственное заключение о слове, вместо того чтобы проверить его значение по словарю. Такие ошибки, как смешение английского weather (погода) и whether (или), бесконтрольная оценка значения ярлыка «Molted Coffee» (фирма Molted) как «молотый кофе», могут служить образцом осложнений в декодировании значения слов. Многочисленные примеры такого неправильного декодирования можно видеть в наблюдениях над ребенком. Известный пример оценки выражения «колокольчик — дар Валдая» как «колокольчик дарвалдал» (с произведением гипотетического глагола «дарвалдать») является одним из многочисленных примеров таких смешений.
Вторым препятствием на пути правильного выбора смысла слова из возможных альтернатив является преобладание наглядно — образного мышления, делающего одно из наиболее конкретных значений слова наиболее вероятным.
Типичным примером может быть понимание смысла слов у человека с преобладанием наглядно — образной (эйдетической) памяти, у которого восприятие выражений «экипаж корабля» или «море крови» осложняется непосредственно всплывающими образами «экипажа» или «моря», препятствующими выбору другого, менее обычного и иносказательного значения. В наиболее резкой форме эти затруднения выступают при умственной отсталости, где привычное конкретное значение слова преобладает над всеми остальными альтернативами, и выбор другой, менее обычной или более отвлеченной альтернативы становится невозможным.
Особый случай представляет процесс понимания смысла слов глухонемых, которые не входят в многообразный мир значений слов в процессе постоянного практического овладения языком и у которых все возможные альтернативы исчерпывались одним заученным значением слова. Примеры того, как выражение «на улице холодно, барометр сильно упал» понимается как «термометр разбился», выражение «подними платок» понимается но аналогии с «подними руки» (как акт поднятия вверх), являются лишь отдельными примерами затруднений, которые встречаются на пути декодирования смысла слов у глухонемого ребенка.
Другие примеры трудностей, возникающих при декодировании значения слов, зависят от колебания состояний бодрствования и встречаются в состоянии сильного утомления, просоночных состояниях и в случаях тормозных состояний коры.
Известно, что у нормального бодрствующего субъекта смысловое значение слова вызывает пучок близких по смыслу связей, в то время как звуковое сходство слов тормозится, не доходит до сознания. Естественно, что слово «скрипка» легко вызывает близкие по смыслу слова «смычок», «струна», «виолончель», но не вызывает близкого по звучанию слова «скрепка». Однако именно такая избирательность процесса не имеет места при тормозных состояниях коры, при которых слово «скрипка» с такой же вероятностью вызывает слово «скрепка», как и близкие по смыслу слова, а слово «здание» с такой же легкостью вызывает слово «знание», как и слова «строение» или «дом». В наблюдениях были отмечены случаи, когда в просоночном состоянии слово «осень» вызывало переживание чего — то синего («осень» — «осинь»), что никогда не имеет места при нормально бодрствующем состоянии коры.
Есть много оснований считать, что особенности понимания при умственной отсталости и своеобразие «непонятной» оценки смысла слов при шизофрении имеют в качестве своего источника именно такую потерю избирательности связей, возникающих при восприятии слова, которые относятся за счет патологического состояния коры.
Совершенно естественно, что все отмеченные препятствия заставляют внимательно относиться к процессу декодирования смысла слова, правильность которого ставится под угрозу теми осложнениями, которые только что были описаны.
Декодирование (понимание) значений предложения
Вторым большим разделом процесса декодирования сообщения является понимание предложения — второй, более крупной единицы высказывания.
Декодирование предложения ставит перед воспринимающим сообщение совершенно иные проблемы, чем декодирование смысла отдельных слов.
Восприятие отдельных предложений и их значений предполагает прежде всего усвоение тех грамматических кодов, которые лежат в основе предложений.
В простых случаях, особенно когда речь идет о «коммуникации события», когда структура предложения относительно проста и смысл однозначен, это не представляет сколько — нибудь заметных трудностей. Не только такие простые «коммуникации события», как «дом горит» или «мальчик ударил собаку», но и более распространенные их формы, как «отец и мать ушли в кино, а дома остались старая няня и дети», не вызывают никаких затруднений для понимания и доступны как школьнику, так и дошкольнику.
Дело заметно осложняется, когда субъект ставится перед задачей декодировать фразу, выражающую «коммуникацию отношения», особенно, если строение этой грамматической структуры вступает в конфликт с непосредственным восприятием входящих в ее состав слов или с непосредственной оценкой ее фрагментов.
Наиболее простым примером может служить декодирование флективных конструкций (упомянутые выше конструкции родительного атрибутивного). Конструкция «брат отца», так же как «отец брата», создает непосредственное впечатление о том, что речь здесь идет о двух лицах — отце и брате и что обе конструкции отличаются только порядком включенных в них слов. Однако анализ показывает, что оба впечатления являются ложными и эти конструкции, являющиеся типичным примером «коммуникации отношения», не означают никого из упомянутых лиц, а означают третье — «дядю» и выражены в форме относительного значения двух видов родства. Значение второй конструкции вскрывает другие отношения понятия «отец» (отец моего брата — и мой отец), чем непосредственное значение этого слова. Декодирование этой конструкции требует предварительной работы, включающей задержку непосредственного впечатления о ее значении, придания одному из существительных, стоящих в родительном падеже, значения прилагательного («отцовский брат») и выведения общего значения конструкции из соотношения обоих элементов.
Аналогичный процесс анализа необходим для декодирования предметных конструкций (типа «круг под квадратом», «весна перед летом», «лето после весны», «я позавтракал после того, как прочитал газету»), причем эта работа по декодированию зна — чения конструкции вызывает особенные затруднения в тех случаях, когда не получает опоры в наглядных образных представлениях или когда порядок слов, включенных в эту конструкцию, не совпадает с порядком обозначаемых событий. Именно поэтому конструкция «корзинка под столом» понимается несравненно легче, чем нейтральная конструкция «круг под квадратом», конечно легче, чем бессмысленная конструкция «стол под корзинкой». Поэтому человек, декодирующий конструкцию «я позавтракал после того, как прочел газету», бывает склонен избежать заключенной в ней инверсии (перестановки) событий и но первому впечатлению понять ее как выражение прямой последовательности: позавтракать — прочесть газету.
Трудности такого же типа вызывают конструкции со смысловой инверсией. Например, широко применяемая в русском языке конструкция двойного отрицания, подлинное значение которой резко расходится с первоначальным впечатлением, например, «я не привык не подчиняться правилам» означает вовсе не нарушение правил, как это могло бы следовать из понимания отдельных фрагментов конструкции («не привык» и «не подчиняться»), а наоборот, дисциплинированного человека, подчиняющегося правилам.
В этом случае декодирование конструкции требует предварительного перекодирования ее. Смысл становится понятным лишь после того, как двойное отрицание будет превращено в одно положительное утверждение.
С особенной отчетливостью выступают сложности декодирования смысла в наиболее сложных сравнительных конструкциях. Примером может служить конструкция, включенная в известную психологическую пробу Бертта: «Оля светлее Сони, но темнее Кати», где от испытуемого требуется распределить трех упомянутых девочек в порядке возрастающей темноты их волос. Непосредственное впечатление от этой конструкции, идущее по пути последовательного восприятия ее частей и опускания важнейшего звена включенной в нее инверсии, приводит к распределению в последовательности (схема 2.5).
Схема 2.5
Оля — Соня — Катя
(светлая) (темная) (еще темнее)
В то же время правильное декодирование предполагает понимание того, что одно и то же лицо (Оля) и светлее (чем Соня), и темнее (чем Катя), иначе говоря, для пониманий отношений следует избежать инверсии и провести промежуточную операцию перемещения (схема 2.6).
Схема 2.6
Естественно, что такая сложная задача предварительного декодирования этой конструкции трудна, а ошибочное понимание ее смысла особенно возможно.
Примеры показывают, насколько сложным может быть процесс декодирования логико — грамматических конструкций, особенно если они являются «коммуникациями отношений» и если их значение вступает в конфликт с непосредственным впечатлением, которое от них можно получить.
Этот сложный процесс может встретить на своем пути препятствия, которые приведут к неправильному пониманию конструкций.
Мы упомянем только три группы факторов, вызывающих трудности и представляющих серьезный теоретический и практический интерес.
Первый из них может быть назван «структурны» фактором. Он заключается в том, что при перекодировании описанных конструкций необходимо расположить их элементы в некоторое симультанное (одновременно охватывающее пространственное соотношение) соотношение. Без наличия «симультанных схем» размещение элементов этой конструкции в единую логико — грамматическую систему остается недоступным. Фактор перекодирования логико — грамматических конструкций требует участия вполне определенных (теменно — затылочных) отделов мозговой коры, и при их поражении может выпадать, делая процесс декодирования этих конструкций недоступным.
Второй фактор может быть обозначен как «динамический». Декодирование сложных грамматических конструкций требует торможения непосредственно возникающих впечатлений об их значении и преодоления тех ложных оценок, которые могут импульсивно возникнуть; оно требует существенной, иногда достаточно сложной ориентировки в предложенной конструкции, и только это условие может обеспечить правильное понимание.
Однако именно это условие не всегда оказывается выполнимым. Часто у недостаточно контролирующих себя испытуемых (особенно у детей) можно встретить недостаточную задержку импульсивно возникающего ответа и тенденцию обойти предварительную работу по анализу данной конструкции и ее перекодированию вследствие динамических дефектов, и может возникнуть ошибочное понимание, которое легко устранить, восстанавливая всю полноту предварительного анализа конструкции и давая испытуемому возможность использовать для этой цели внешние опоры. Мы еще рассмотрим диагностическое значение этого типа затруднений.
Третью группу факторов, вызывающих затруднение декодирования описанных конструкций, можно назвать «мнестическим» фактором.
Для того чтобы расшифровать значение сложной логико — грамматической конструкции, нужно запомнить составляющие ее элементы и мысленно сопоставить их друг с другом, удерживая в памяти как все составные части этой конструкции, так и ее измененные формы. Этот процесс, трудность которого возрастает, если мы имеем дело с большими по объему конструкциями, требует достаточно широкого объема «оперативной памяти», и если такой объем недостаточен, приводит к естественным затруднениям, которых можно избежать, перенеся процесс декодирования конструкции из устного плана в письменный.
Понимание смысла сообщения
Декодирование значения фразы или логико — грамматической конструкции не исчерпывает процесса понимания. За ним следует наиболее сложный этап — понимание смысла всего сообщения в целом.
Этот этап не представляет особо заметных трудностей в простом повествовательном тексте, передающем какое — либо внешнее событие. Однако он становится трудной задачей, когда сообщение включает в свой состав сложный подтекст и требует раскрытия общей мысли или скрытого за ним смысла.
Такие трудности отчетливо выступают в каждом научном тексте, для понимания которого недостаточно декодировать значение каждой из входящих в его состав фразы, но необходимо их сопоставление, выделение основной мысли и второстепенных деталей. Общая мысль научного текста становится ясной лишь в результате сложной аналитико — синтетической работы, без которой понимание текста остается на уровне отражения значения отдельных фраз и не приводит к нужному эффекту.
Сложность процесса понимания научного (объяснительного) текста легко видеть, если проследить весь последовательный процесс действий, которые приводят к его нормальному пониманию. Развернутая форма этого процесса включает:
1) выделение составных элементов текста;
2) иногда подчеркивание наиболее информативных частей;
3) сопоставление этих частей между собой;
4) составление деятельных схем, в которых эти части соотносятся;
5) формулировку положения, вытекающего из их сопоставления;
6) составление кратких схем, которые отражают в логической форме основное содержание изучаемого отрывка.
Только в том случае, когда в результате длительной работы весь (иногда очень объемной) текст укладывается в короткую логическую схему, которая в любой момент может быть снова развернута, процесс превращения текста в сокращенную «мысль» может считаться законченным. Сложность всей работы над пониманием отрывка может быть прослежена и более экономным путем. Один из таких путей сводится к регистрации движения глаз читающего текст,
Для этой цели к глазу испытуемого прикрепляется зеркальце, движущееся вместе с глазом, и траектория движения луча, падающего на это зеркальце, регистрируется на фотобумаге, или с четырех сторон глаза на кожу наклеиваются электроды, позволяющие прямым путем записать движения глазного яблока (метод окулографии).
С этой же целью применяется и фотоэлектрический метод, заключающийся в том, что пучок света, проходящий через инфракрасный фильтр, падает на глаз, и разница потенциалов между темным зрачком и светлой радужкой, изменяющаяся с движениями глаз, регистрируется на фонографической бумаге. Регистрация движений глаз при чтении сложного текста показывает, что движения глаз в этом случае вовсе не носят простого последовательного характера. Глаз движется скачками, фиксируя отдельные части текста, многократно возвращаясь обратно и сличая отдельные его фрагменты. Только такая сложная система движений глаз, выделяющая и сопоставляющая наиболее важные фрагменты информации, даваемой текстом, приводит в итоге к его пониманию.
У относительно неопытного чтеца движения глаз носят сложный характер; у опытного чтеца они сокращаются, и выделение наиболее информативных пунктов текста приобретает обобщенный характер, а процесс сопоставления выделенных фрагментов все больше и больше переносится во внутренний план, осуществляясь во внутренней речи.
Следует отметить, что именно в понимании научного текста с особенной отчетливостью выступают те различные процессы декодирования, которые отличают понимание нового и незнакомого текста от понимания старого и хорошо знакомого текста.
Если вероятность правильного понимания общего содержания нового и сложного текста по простой догадке очень низка, нужна большая работа по выделению его наиболее существенных (наиболее информативных) частей и сопоставлению их между собой. При понимании старого и хорошо знакомого текста вероятность схватывания общего смысла по простой догадке возрастает, и длительная работа над анализом наиболее информативных частей и их сопоставлением становится излишней.
Это легко увидеть, если сравнить две неоконченные фразы, из которых в первой однозначное окончание возникает с большой вероятностью из самого текста, а во второй составляет множество альтернатив, нахождение которых требует дальнейшей работы и сопоставления с теми данными, которые даются в контексте. Человек, читающий фразу «наступила зима, и выпал глубокий…», вряд ли задумывается, заполняя пробел словом «снег», однозначно следующим из содержания фразы, в то время как человек, читающий фразу «я долго собирался и наконец вышел на улицу, чтобы купить себе…», не имеет однозначного решения, и может выбрать правильный конец фразы из многих с равной вероятностью возникающих альтернатив, если получит из контекста необходимую для решения дополнительную информацию.
Аналогичные различия возникают при декодировании научного текста, передающего знакомую или менее знакомую информацию.
Совершенно естественно, что для понимания менее знакомой информации необходима работа по сопоставлению многих деталей текста, в то время как ознакомление со знакомой информацией может протекать более сокращенным путем.
За последнее время сформировалась новая отрасль науки, получившая название «теории информации», которая сделала возможным количественный анализ трудностей, возникающих при декодировании информации, и позволила ближе подойти к точному изучению этого процесса.
Не меньшую сложность, чем декодирование научного текста, представляет процесс понимания художественного текста, хотя возникающие при этом трудности носят иной характер.
Именно здесь понимание является не просто декодированием значения отдельных фраз или всего контекста, а сложным путем от развернутого внешнего текста к его внутреннему смыслу.
Каждый художественный текст скрывает известный подтекст, который выражает смысл данного произведения (или отрывка) или отдельных действующих лиц, которые читающий должен вывести из описания поступков, и, наконец, отношение автора к излагаемому повествованию, событиям и поступкам. Отсюда вытекает, что задача, стоящая перед читающим художественное произведение, заключается вовсе не в том, чтобы усвоить повествование, которое это произведение дает, но в том, чтобы выявить подтекст, понять смысл, уяснить мотивы действующих лиц и отношение автора к излагаемым событиям.
Работа по раскрытию смысла художественного произведения отнюдь не является простой, и можно с уверенностью сказать, что глубина раскрытия внутреннего смысла разными людьми, читающими художественный текст, глубоко отлична от понимания простого повествовательного и описательного (а может быть, даже и научного, объяснительного) текста. Отличие от декодирования научного текста заключается здесь в том, что целью понимания текста является выявление сложных логических связей, составляющих общую мысль научного текста, а не раскрытие внутреннего, не выраженного прямо в тексте смысла или подтекста, который есть в каждом художественном произведении.
Психологическая структура художественного текста уже проявляется в пословицах и баснях. В пословицах «не все то золото, что блестит» или «не красна изба углами, а красна пирогами» вовсе не говорится о ценности золота или об оценке избы. В этих пословицах речь идет о качествах человека, о путях его правильной оценки, и буквальное понимание пословиц, не переходящее к их внутреннему смыслу, означает их непонимание. То же можно сказать и о баснях, смысл которых не заключается в рассказе о каком — нибудь эпизоде из жизни животных, а в раскрытии тех отношений, которые составляют смысл морального значения. В данных случаях перенос или метафора являются основным признаком этой формы художественного произведения, а переход от внешнего содержания к внутреннему смыслу — основным требованием, предъявляемым к их пониманию.
Так же отчетливо эта структура выступает и в других формах художественных произведений.
В рассказе Воронковой «Девочка из города» описывается случай, когда дети, которые пошли купаться в реке, предупреждали девочку, чтобы она не плыла на лодке вниз по реке, потому что там находится плотина и лодка может перевернуться. Когда же девочка, не послушавшаяся их советов, не возвратилась, дети пошли искать ее вниз по реке и за плотиной увидели плавающую на воде красную шапочку. Внешнее содержание рассказа сводится к описанию события, наиболее существенный эпизод которого вообще не отражен в тексте. Однако строка «и они увидели на воде красную шапочку» имеет вполне определенный смысл, выражая в этом маленьком факте указание на трагическое событие. Естественно, что простая передача внешнего сюжета ни в какой степени не говорит о понимании рассказа и что подлинное декодирование смысла проявляется в переходе к не сформулированному в рассказе подтексту.
В приведенном рассказе задача читающего заключается в том, чтобы проникнуть в то событие, которое только косвенным путем отражается во внешнем тексте. В другом рассказе задача понимания текста еще более сложна и заключается в том, чтобы от внешнего события перейти к раскрытию глубоких мотивов и отношений.
В рассказе «Чужая девочка» говорится о том, как женщина удочерила девочку, которая долгое время не могла привыкнуть к новой семье и очень сдержанно принимала теплое отношение приемной матери. Но однажды весной, когда расцвели подснежники, она набрала букет и, отдавая его приютившей ее женщине, сказала: «Это тебе… мама». В этом случае одно слово в фразе «это тебе… мама» означает глубокое изменение в эмоциональной жизни девочки, впервые признавшей чужую женщину матерью, и читающий, который ограничился усвоением внешнего сюжета и не сделал психологического вывода, конечно, не может считаться понявшим этот рассказ.
Еще более отчетливо выступает подобное сложное соотношение внешнего содержания с внутренним смыслом в больших художественных произведениях, и известная реплика в «Горе от ума» — «Уж утро» вовсе не означает простого констатирования времени суток, а указывает на бессонную ночь, так же как и реплика Чацкого «Карету мне, карету!» имеет глубокий внутренний смысл разрыва героя с враждебным ему обществом.
Вся работа режиссера с актером, столь глубоко описанная К. С. Станиславским, может служить развернутым примером тех переходов от внешнего содержания к внутренним смыслам и мотивам, которые составляют существо подлинного «прозрения текста», вскрывающего его внутренний смысл.
Если грамматические коды языка, о которых мы говорили, являются системой средств, позволяющих выразить любые логические отношения, и могут быть с успехом использованы при декодировании текста, то художественный текст почти не имеет опор, которые обеспечивали бы подобную работу по декодированию скрытого за ним смысла. Исключение составляют лишь средства пунктуации в письменной речи и средства интонации в речи.
Достаточно посмотреть, как меняется внутренний смысл высказывания при изменении пунктуации, чтобы его значение как средства управления смыслом сообщения стало ясным. Сравним, например, три варианта расстановки знаков препинания в уже приведенной фразе: «это тебе, мама»; «это тебе… мама!»; «это… тебе, мама!» и мы увидим, что в первом случае пунктуация вообще не используется для выражения специального внутреннего смысла, во втором она выделяет изменившееся отношение девочки к матери, а в третьем — ее робость при данном поступке. Это дает все основания считать пунктуацию кодом внутренних смыслов в той степени, в какой синтаксические средства являются кодом внешних логических отношений.
Отчетливее выступают приемы декодирования внутренних смыслов художественного отрывка в средствах, используемых в устной речи, и особенно в интонациях и в разбивке текста на значащие фрагменты с помощью пауз. Использование этих средств и составляет основной путь в работе над выразительной речью актера, который должен овладеть умением пользоваться этими средствами для того, чтобы научиться доводить до слушателя не повествование о внешних событиях, но раскрытие внутреннего смысла произведения.
Одна из советских исследователей, Я. Г. Морозова, приводит в качестве примера подобную работу над, казалось бы, простым рассказом А. Гайдара «Чук и Гек».
Прямой текст описывает известные внешние события.
«Жил человек в лесу возле синих гор. Он заскучал и попросил разрешения написать жене письмо, чтобы она вместе с ребятишками приехала к нему в гости».
Однако, если в работе над раскрытием внутреннего смысла этого отрывка используются средства интонации и пауз, разбивающие его на смысловые части, отрывок начинает звучать иначе:
«Жил человек в лесу возле синих гор…» начинает выражать чувство долго тянувшихся дней («жил человек…») одиночества («в лесу…»).
«Он заскучал и попросил разрешения написать жене письмо, чтобы она вместе с ребятишками приехала к нему в гости». Здесь раскрывается картина тоски, отношения к жене, детям; желание увидеть их, пусть ненадолго, и т. д.
Средства пауз и интонаций относятся целиком к устной речи, хотя в старых рукописях наряду с «черными знаками» (грамматической пунктуацией) иногда использовались «красные знаки», которые служили внешними средствами выделять смысловые единицы и управлять переходом от внешнего значения текста к его внутреннему смыслу.
Сложность процесса декодирования внутреннего смысла художественного текста дает основание считать, что следует учить декодировать (раскрывать) внутренний смысл произведения так же, как учили декодировать (понимать) его внешнее (логико — грамматическое) значение, что психология должна разработать наиболее рациональные пути такого обучения. Психологии еще мало известно о факторах, которые могут затруднять процесс декодирования внутренних смыслов, и их анализ должен явиться специальным предметом будущих исследований.
(обратно)Патология понимания речи
Процесс декодирования речевого высказывания (или поступающей информации) может существенно нарушаться при патологических состояниях мозга, и формы этого нарушения позволяют ближе подойти к описанию психологического строения процесса понимания.
Нарушение уровня декодирования сложного сообщения может иметь место при умственной отсталости или при тех формах снижения умственной деятельности, которые выступают при органической деменции. В этих случаях происходит следующее:
• понимание значения отдельных слов может резко обедняться;
• доминирующее место сохраняется за непосредственным, конкретным или наглядно — образным представлением о значении слов;
• переносное или отвлеченное значение слов становится недоступным, и все понимание приобретает выраженный конкретный характер.
Естественно, что в этих случаях декодирование значения фраз или логико — грамматических конструкций тоже резко упрощается, и если понимание элементарных по структуре предложений, выражающих простые «коммуникации события», остается доступным, то раскрытие значения сложных логико — грамматических конструкций становится невозможным и либо ставит субъекта в тупик, либо заменяется упрощенными догадками. Декодирование внутреннего смысла сообщения оказывается здесь вряд ли возможным, хотя, как показывает клиника, в этих случаях могут иметь место значительные диссоциации, при которых полная невозможность усвоения отвлеченного значения сложных логико — грамматических структур не сопровождается таким же отчетливым распадом понимания эмоционального смысла высказывания.
Совершенно иную (во многих отношениях обратную) картину нарушения декодирования сообщения можно видеть при некоторых формах психических заболеваний и, в частности, при шизофрении.
Как мы уже указывали выше, соотношение вероятностей всплывания наиболее часто встречающихся значений слов и соответствующий выбор определенных альтернатив (например, понимание «дерева как сосны, березы, дуба, а не как «дерева» логических альтернатив, доминирующих у логиков) оказывается нарушенным; слова начинают вызывать любые, с равной мерой вероятности всплывающие связи, и однозначное понимание даже наиболее простых сообщений нарушается, становится многозначным, причем иногда маловероятные связи возникают либо с равной, либо с большей вероятностью, чем обычные связи, прямо вытекающие из простой практики.
Вот почему в психопатологии принято говорить о «многозначности», «непонятности» тех связей, которые возникают у больного шизофренией, декодирование сообщения у которого может принять сложный, вычурный и трудно предсказуемый характер.
Особое значение для лучшего понимания психологической структуры процесса декодирования (понимания) речевого высказывания имеет, однако, нейропсихологи — ческий анализ тех его изменений, которые возникают при локальных поражениях мозга.
Значение локальной патологии мозга, как известно, заключается в том, что поражение устраняет здесь тот или иной логический фактор, необходимый для нормального протекания психологических процессов, а это приводит к тому, что нарушение соответствующей функции начинает носить совершенно определенный специфический характер.
Кратко обозначим те нарушения процесса декодирования речи, которые возникают при различных локальных поражениях мозга.
Очаговое поражение коры левой височной области (ее верхне — задних отделов) приводит к распаду фонематического слуха, а отсюда — к невозможности воспринимать четкую предметную отнесенность, а иногда и четкое значение слов. Феномен того «отчуждения смысла слов», который выступает в этих случаях, заключается в том, что больной, который, как это уже было указано выше, недостаточно отчетливо воспринимает звуковую структуру слова, начинает смешивать значение этого слова с близкими по звучанию, в результате чего слово «голос» начинает восприниматься не то как «гонос», не то как «колос», не то как «холост», а слово «огурец» может быть воспринято как «конец», «окрест» или «околес» и т. п. Естественно, что декодирование речевого сообщения в этих случаях становится особенно затруднительным, и больной начинает реагировать на речевые сообщения как на комплекс шумов или как па диффузное смешение отдельных связей. Характерно, что общий смысл сообщения оказывается в этих случаях иногда более понятным, чем его непосредственное значение. Возможно, это объясняется тем, что интонационно — мелодические компоненты речи продолжают лучше доходить до больного, чем значение отдельных слов; возможно также, что восприятие одного (отвлеченного) слова дает основания для компенсации дефектов, которые возникают в результате неполноценного восприятия отдельных конкретных слов. Факты указывают на потенциальные возможности интеллектуальной деятельности этих больных, которые сохранились, несмотря на грубые дефекты декодирования отдельных слов, несущих информацию.
Совершенно иной характер носит нарушение декодирования (понимания речевого сообщения) при поражении теменно — затылочных отделов левого полушария.
Понимание отдельных слов остается полностью сохранным и отличается лишь некоторым сужением скрытых за словом связей. Однако основной дефект, возникающий при поражениях, — это нарушение возможности размещать воспринимаемые элементы и представления в известных внутренних симультанных схемах и вызывает значительные затруднения в понимании тех логико — грамматических конструкций, которые передают систему человеческих отношений и понимание которых требует одновременного внутреннего сопоставления включенных в них компонентов. Вот почему больные этой группы без труда понимают смысл таких «коммуникаций событий», как «лес горит», «мальчик ударил собаку», «девочка пьет горячий чай» или более сложные варианты вроде «отец и мать ушли в кино, а дома остались старая няня и дети», но оказываются совершенно не в состоянии понять значение таких грамматических конструкций, выражающих отношения, как «брат отца» или «отец брата», «круг под квадратом» или «квадрат под кругом», «солнце освещается землей» или «земля освещается солнцем», не говоря уже о сложных формах выражения отношений, формах двойного отрицания или сложных сравнительных конструкций типа «Оля светлее Сони, но темнее Кати». Во всех этих случаях отдельные предметы, обозначенные словами, хорошо воспринимаются больным, но попытки уловить их соотношения вызывают у него полную растерянность, и только длительное обучение больного с переходом к развернутому использованию дополнительных вспомогательных средств, с помощью которых больной последовательно может дойти до значения данной конструкции, которое он не может схватить сразу, позволяет частично компенсировать его дефект. Следует отметить, что и у этой группы больных понимание внутреннего эмоционального смысла сообщения остается более сохранным, и, по — видимому, отражает тот факт, что этот процесс осуществляется иными системами мозга, чем декодирование логико — грамматических отношений.
Другая картина нарушения процессов декодирования речевых сообщений наступает при поражении лобных долей мозга, которые играют существенную роль в программировании, регуляции и контроле сложных форм сознательной деятельности человека.
Понимание отдельных слов и логико — грамматических конструкций здесь полностью сохранным и не вызывает каких — нибудь заметных трудностей. Однако всюду, где субъект должен проводить известную активную работу по декодированию воспринимаемого сообщения, тормозить непосредственное впечатление о значении впечатляемой речевой конструкции и пытаться проникнуть глубже в ее внутренние смысловые отношения, больной начинает испытывать трудности, и процесс декодирования проявляет иногда значительные дефекты. Вот почему понимание смысла пословиц и басен оказывается часто нарушенным, и больные, легко схватывающие их непосредственное значение, нередко оказываются не в состоянии проникнуть в их внутренний смысл, ограничиваясь констатацией непосредственного конкретного значения. С другой стороны, больной с массивным поражением лобных долей мозга оказывается не состоянии отделить собственный сюжет передаваемого сообщения от бесконтрольно всплывающих ассоциаций и начинает, например, передавать известный рассказ Л. Н. Толстого «Курица и золотые яйца» (в котором говорится о том, что хозяин зарезал курицу, которая несла золотые яйца, но ничего внутри нее не нашел), оказываясь не в состоянии понять скрытую за ним мораль, и не может даже отделить содержание от побочных ассоциаций и передает его так: «Курица… несла яйца… хозяин их продавал на рынке… или сдавал государству…» и т. д.
Нет необходимости говорить о том, что всякая работа по декодированию внутреннего смысла рассказа или мотивов действующих лиц остается совершенно недоступной для этой группы больных, у которых понимание внутреннего смысла оказывается, несравненно менее доступным, чем понимание внешних значений, и анализ которых вплотную подводит к раскрытию существенных психофизиологических механизмов сложных процессов декодирования речевого сообщения.
(обратно) (обратно)Глава 4. Продуктивное мышление. Умозаключение и решение задач
Проблема
Мы осветили вопрос о строении слова и его роли в формировании понятий и дали анализ того пути от мысли к развернутой речи, который лежит в основе формирования высказывания. Также показали путь от речи к мысли, который лежит в основе декодирования сообщения и его понимания. Сейчас нам нужно выйти за пределы этих вопросов, стоящих на границе психологии и лингвистики, обратиться к психологическому анализу продуктивного мышления.
Мышление человека, опирающееся на предметную деятельность и на средства языка, может:
• не только организовать его восприятие и позволить совершить скачок от чувственного к рациональному, который многие материалистические философы считают одним из решающих скачков в эволюции психики;
• не только позволяет, опираясь на средства языка, передавать сообщение, кодируя мысль в речевом высказывании, и декодировать сообщение, раскрывая его внутренний смысл,
но и быть специальной формой продуктивной деятельности.
Оно позволяет не только упорядочивать, анализировать и синтезировать информацию, относить воспринимаемые факты к известным категориям, но и выходить за пределы непосредственно получаемой информации, делать выводы из воспринимаемых факторов и приходить к известным заключениям, даже не располагая непосредственными фактами и исходя из получаемой словесной информации. Мыслящий человек оказывается способным рассуждать и решать логические задачи, не включая процесс решения в практическую деятельность. Все это говорит о том, что процесс мышления может быть специальной теоретической деятельностью, которая приводит к новым заключениям и, таким образом, носит продуктивный характер.
Проблема мышления долгое время не являлась предметом точного экспериментального психологического исследования и была скорее разделом философии и логики, чем разделом психологии. Поэтому в изучении мышления особенно отчетливо проявлялась борьба между материализмом и идеализмом, которая проходила красной нитью по всей истории философии.
Материалистический подход к мышлению исходил из классической формулы сенсуализма «Nihil est in intellecto quod поп fueritprimo in sensus» (нет ничего в интеллекте, чего не было бы в чувственном познании»). Однако эта формула приводила чаще всего к механическому толкованию, согласно которому мышление понималось как сочетание образов памяти или как продукт ассоциации (по смежности, сходству и контрасту). Естественно, что концепция (разделявшаяся большим числом сторонников так называемого ассоциационизма) приводила к утверждению, что само мышление не является особым, специфическим процессом, и его можно без остатка свести к игре образов и ассоциаций. Поэтому в течение долгого времени реальные процессы продуктивного мышления и не были предметом специального исследования.
Противоположную позицию занимала идеалистическая философия, которая видела в мышлении особые формы активности человеческого духа, не сводимые ни к каким более элементарным чувственным или ассоциативным процессам.
В Средние века и в начале Нового времени этот подход к мышлению проявился в философии рационализма, которая исходила из того, что мышление является первичным свойством духа и обладает рядом особенностей, не сводимых к более элементарным процессам. Эти взгляды (один из основателей рационализма — X. Вольф) разделяли и такие крупные философы, как Р. Декарт, И. Кант и др.
В наше время положение, что мышление следует рассматривать как проявление особой «символической» основы философии неокантианцев, проявилось в работах крупных философов — идеалистов Кассирер, Гуссерль и др.
Идеалистический подход к мышлению как особой форме психической деятельности лег в основу школы, которая впервые в психологии сделала его предметом специального экспериментального исследования. Эта школа, которая получила название Вюрцбургской школы, объединила группу немецких психологов начала XX в. (О. Кюльпе, Мессер, К. Бюлер, Н. Ах) считавших, что мышление является особой, далее не разложимой функцией сознания. Предлагая своим испытуемым (обычно профессорам или доцентам психологии) специальные задачи (например, понять смысл сложного положения, найти часть по целому или целое по части, подобрать отношения род — вид; вид — род) и давая им задание описать тс переживания, которые возникают при выполнении этих задач (т. е. пользуясь экспериментальным самонаблюдением), психологи этой школы пришли к выводу, что процесс мышления не опирается на какие — либо образы, не осуществляется с помощью речи и составляет особые «логические переживания», которые направляются соответствующими «установками» или «интенциями» и осуществляются как специальные психологические «акты». Выделяя мышление как особый вид психологических процессов, Вюрцбургская школа, однако, отделила его как от чувственной основы, так и от речевых механизмов, иначе говоря, представила мышление как особую форму активности духа, подходя к последней с позиций крайнего идеализма.
Проблема научного подхода к процессам мышления оказалась, таким образом, нерешенной, и психологическая наука встала перед задачей материалистически объяснить процесс мышления, подойдя к нему как к сложной форме психической деятельности, имеющей свое происхождение и свою историю и опирающейся на исторически сформированные средства, характеризующие другие формы предмет ной деятельности и использующие в качестве основного средства систему языка.
Для решения этой задачи материалистическая психология должна была рассматривать мышление не как «проявление духа», а подойти к нему как к процессу, который формируется в общественной истории, протекает сначала как развернутая деятельность, использует систему языка с объективно заключенной системой смысловых связей и отношений и лишь затем принимает свернутые, сокращенные формы, приобретая характер внутренних «умственных действий».
При таком подходе мышление человека перестает казаться несводимой «категорией духа», не имеющей своей истории, доступной только субъективному феноменологическому описанию и сможет стать предметом психологической науки.
(обратно)Логические структуры как основа мышления
Рассматривая процесс формирования понятий, мы видели, какую роль в этом процессе играет слово, которое само является продуктом общественно — исторического развития, оно имеет сложное смысловое строение и становится объективной матрицей, формирующей наши понятия. Изучая процесс формирования высказывания, мы видели, что перевод от свернутой мысли к развернутому суждению формируется на основе объективно существующих синтаксических структур языка, которые также являются исторически сложившейся матрицей, которая определяет движение мысли и лежит в основе формирования суждений.
Объективная система матриц, сложившихся в процессе исторического развития и отразившаяся как в предметной деятельности человека, так и в системе языка, должна лежать в основе более сложных форм мышления, обеспечивая операцию вывода и рассуждения.
Такую систему матриц, сложившуюся в общественной истории и используемую человеком как объективное средство организаций мышления, легко найти, наблюдая сложное смысловое строение языка и сформированные опытом поколений логические структуры, которыми человек овладевает в своем умственном развитии и которые служат объективной основой его сложной умственной деятельности.
Среди всех средств, которыми располагает язык, передающий коммуникации отношений, существуют такие, которые дают возможность формулировать четкие логические отношения; эти отношения являются отражением практических связей и отношений между вещами, перенесенных в план языка и сформулированных в виде определенных семантических (смысловых) конструкций.
К их наиболее простым видам относятся конструкции, опирающиеся на флексии и служебные части речи — предлоги. Например, конструкции «я иду к…», «я иду от…», «я сижу на…», «я нахожусь в…» автоматически создают переживание пространственных отношений и используются человеком как объективные средства пространственного мышления.
Существуют, однако, и другие, гораздо более сложные средства языка, которые отражают более сложные отношения и позволяют осуществлять более сложные виды работы мышления. К ним относятся, например, такие конструкции, как «пожар загорелся вследствие…», «я вышел на улицу, хотя…», «я сказал ему правду, несмотря на…» и т. д. Эти, объективно сложившиеся в истории языка средства отражают уже не внешние пространственные или временные отношения, а гораздо более сложнее логические отношения, к которым относятся как отношения причины и следствия, так и отношения включения в целое, условий, частичного ограничения и другие, которые в последнее время разрабатываются разделом науки — математической логикой и обозначаются специальной системой знаков.
Человек, овладевающий системой языка, автоматически овладевает и системой, отражающей различные по своей сложности логические отношения, и введение в конструкцию слов «вследствие…», «хотя…», «несмотря на…» неизбежно рождает у человека своеобразное ощущение незаконченности структуры, и те «логические чувства» (чувство «хотя», чувство «несмотря на»), которые раньше считались формами «проявления духа», лежащими в основе мышления, на самом деле являются продуктом овладения объективными кодами языка, сложившимися в процессе общественной жизни.
Однако существуют иные, не мерее сложные логические отношения, которые отражаются не столько в лексическом и синтаксическом строении языка, сколько в определенных логических структурах, которые сформировались в историческом развитии человечества и составляют объективные логические матрицы, определяющие связи, возникающие в развитом сознании человека.
К логическим матрицам относятся такие логические структуры, как отношение часть — целое или целое — часть, вид — род, или вид — род, наконец, логические механизмы, которые известны как отношение аналогии.
Эти отношения, получившие специальные символические обозначения лишь в последнее время в математической логике, сложились в процессе развития культуры и отражают основные формы сложной человеческой практики, которые легли в основу логических структур.
Поэтому для развитого сознания совершенно естественно, что предъявленная человеку пара подчиненных понятий, имеющая разную степень общности (например, соболь — животное), автоматически вызывает «переживание отношения», которое можно назвать «логическим чувством», и приводит к тому, что сказанное слово «осока» неизбежно вызывает понятие «растение», но вовсе не понятие «режется» или «болото». Переживание логических отношений и отражает существование специальных «аналоговых устройств», характерных для работы развитого человеческого сознания и определяющих выбор специального типа логических связей, тормозящих в развитом человеческом сознании все остальные возможные ассоциации.
Существуют, однако, и еще более сложные системы, сформировавшиеся в процессе исторического развития и образующие «матрицы», по которым течет организованная мысль взрослого и развитого человека и которые на этот раз используются человеком для возможности делать логическое выводы.
Предметом матрицы является силлогизм.
Человек, которому даются две посылки — большая и малая, например, в виде:
драгоценные металлы не ржавеют;
золото — драгоценный металл;
сразу же начинает «логическое чувство», объединяющее обе посылки в известную логическую систему, и почти автоматически делает вывод:
значит, золото не ржавеет.
Приводимый силлогизм является результатом длительного практического опыта, отраженного в свернутой логической схеме. Эта схема отражает общее суждение (все драгоценные металлы не ржавеют), частное суждение, относящее данный металл (золото) к группе драгоценных металлов; и именно отношение этого общего и частного суждения заставляет автоматически переносить качества всей группы (драгоценных металлов) на индивидуальный металл, который второе суждение относит к общей группе, являющейся предметом первого суждения.
Наиболее существенным является, однако, тот факт, что суждение, которое формулируется в приведенной выше третьей фразе, не является результатом личного практического опыта, но следует как автоматический вывод из логических соотношений большой и малой посылок.
В истории языка и в истории логики сформировались объективные средства, которые автоматически передают индивиду опыт поколений, избавляют его от необходимости получать соответствующую информацию из непосредственной личной практики и позволяют получать соответственное суждение теоретическим, логическим путем. Именно логические матрицы, которые человек усваивает в процессе своего умственного развития, и составляют объективную основу его продуктивного логического мышления.
Было бы неправильным думать, что человек родится с готовым «логическим чувством» и «логические переживания», которое испытывает взрослый человек, являются «свойствами духа», врожденно существующими у каждого человека.
Наблюдения показывают, что операции умозаключения (т. е. вывода, который исходит не из личного практического опыта, а на основании логических отношений, сформированных в речи, например, в виде силлогизма) имеют место далеко не на всех ступенях развития, и человек должен пройти длинный путь, чтобы оказаться в состоянии оперировать логическими отношениями, которые сами по себе способны передать информацию независимо от непосредственной практики. Для того чтобы это стало возможным, необходимо, чтобы человек овладел формами обобщения, которые формулируются большой посылкой («все драгоценные металлы не ржавеют»), чтобы он начал оценивать ее как утверждение о всеобщности этого обобщенного правила. Необходимо, чтобы он сразу перевел рассуждение из плоскости наглядно — действенных практических процессов в сферу вербалыю — логических теоретических построений, чтобы он получил доверие к исходной посылке и чтобы сразу начинал относиться к утверждению второй малой посылки как к частному случаю большой, общей посылки.
Именно эти процессы, служащие необходимым психологическим условием теоретического, или дедуктивного мышления (возможность делать выводы из общего правила путем теоретических логических операций), как показали наблюдения, являются результатом сложного исторического развития. Они еще не существуют в таком же виде у людей тех исторических укладов, в которых теоретическое мышление еще не получило своего достаточного развития, и формируются в процессе овладения основными видами деятельности (в школьном обучении и в сложных формах трудового общения).
Положения, которые мы только что сформулировали, можно иллюстрировать рядом наблюдений.
Если предложить испытуемому, выросшему в условиях того общественно — исторического уклада, в котором преобладают наглядно — действенные формы практики, и еще не прошедшему школьного обучения, логическую пару «собака — животное», это не означает, что предложенное слово «осока» вызовет у него логическую пару «растение». Практика теоретического мышления у этих испытуемых является еще недостаточной, логическое отношение вид — род не будет здесь усвоено как доминирующее, и слово «осока» может с большой вероятностью вызвать наглядные образы «болото», «режется» или такие наглядные образы практических ситуаций, как «скот кормить», «на зиму заготовить» и т. п. В результате недостаточного усвоения логических матриц мысль людей, живущих в условиях элементарного практического опыта, будет идти скорее в плане воспроизведения наглядно — действенных ситуаций, чем в плане установления отвлеченных логических отношений, и законы мышления окажутся здесь существенно иными.
Если, продолжая опыт, предъявить испытуемым обе посылки сформулированного выше силлогизма, можно легко увидеть, что они повторяются не столько как два положения, связанные между собой различной мерой общности, сколько как два расположенные рядом утверждения или два отдельных вопроса, не отражающие логического отношения и не создающие единой логической структуры.
Поэтому повторение обеих посылок может принять характер:
драгоценные металлы не ржавеют;
золото, драгоценный металл, нe ржавеет;
или
драгоценные металлы; ржавеют они или нет?
золото, драгоценный металл; ржавеет оно или нет?
Дальнейшие наблюдения показывают, что два последних положения, не соотносящиеся в единую логическую систему, естественно, не дают основания для того, чтобы автоматически сделать из них логический вывод, который легко делается на основании практического опыта или наличного знания, но еще не может возникнуть путем логического вывода.
Именно поэтому испытуемые этой группы легко могут сделать вывод из материалов, которые опираются на их непосредственный практический опыт, но отказываются делать вывод из такого же силлогизма, если он не включает их собственного опыта.
Так, испытуемые этой группы легко делают «вывод» из следующего силлогизма:
«Везде, где тепло и влажно, растет хлопок».
«В деревне X. тепло и влажно».
«Растет ли там хлопок?»,
заявляя: «Конечно, он должен там расти. Если тепло и влажно, он обязательно будет расти, я сам это знаю…»
Однако они не могут сделать вывод из силлогизма, не отражающего их личный опыт, и при предъявлении силлогизма:
«На Крайнем севере, где круглый год снег, все медведи белые».
«Место X. находится на Крайнем севере».
«Белые там медведи или нет?» –
отвечают:
«Я этого не скажу! Я на севере не был и не знаю. Ты лучше спроси дедушку М., он на севере был, он тебе скажет…»
Легко видеть, что в этом случае испытуемый практически отказывается делать вывод из посылки, которая не базируется на его личном практическом опыте, и процесс вывода является здесь не столько операцией логического дедуктивного мышления, сколько операцией воспроизведения собственных знаний, результатов собственного практического опыта.
Как показали специальные наблюдения, подобный отказ от логических выводов из положения, не опирающегося на личный практический опыт, характерен для подавляющего большинства испытуемых, живущих в условиях отсталых экономических укладов и не прошедших школьного обучения.
Но достаточно относительно кратковременного школьного обучения или включения в коллективную деятельность, требующую совместного обсуждения планирования трудового процесса, чтобы дело коренным образом изменилось и человек начинал легко включаться в операцию логического, дедуктивного вывода.
(обратно)Развитие логического вывода у ребенка
Овладение операцией логического вывода проходит ряд последовательных ступеней, которые отчетливо можно наблюдать в процессе развития ребенка.
Мы уже указывали, что к началу дошкольного возраста как предметная отнесенность, так и ближайшее значение слов оказываются достаточно сложившимися, и простая коммуникация событий становится полностью доступной.
Это еще не означает, что к данному времени ребенок полностью овладевает сложными формами «коммуникации отношений».
Выше уже было сказано, что такие относительные понятия, как «брат» и «сестра», оказываются к этому времени еще недостаточно сложившимися, и ребенок, который говорит, что у него есть один брат Коля, становится в тупик, если ему предлагают вопрос о том, как зовут брата Коли, явно оказываясь не в состоянии отнести это понятие к себе самому.
Еще более сложный процесс происходит овладение логическими кодами языка, которые заключены в служебных словах «потому что», «хотя», «несмотря на то что» и т. п. Наблюдения, проведенные выдающимся швейцарским психологом Ж. Пиаже, показывают, что за только что упомянутыми словами у ребенка 5–6 лет вовсе не скрывается логическое значение, которое они приобретают у старшего школьника или у взрослого.
Ж. Пиаже предъявлял детям фразы, которые обрывались на слове «потому что» или «хотя», и предлагал им закончить эти фразы. Полученные в этих опытах данные показали, что за этими словами вовсе не стояли логические отношения, которые свойственны употреблению этих слов в зрелом возрасте, и ребенок, заканчивающий подобное предложение, скорее обозначал последовательность или расположенность событий, чем их причинную зависимость. Именно в связи с тем что внешнее овладение служебными словами еще не говорило об овладении их внутренним логическим значением, ребенок 5–6 лет мог давать такие образцы заканчивания предложений, как «мальчик упал, потому что… его отвезли в больницу» или «идет дождь, потому что… деревья мокрые». Нередко поиски причинности заменялись здесь простой констатацией наглядно воспринимаемых признаков, и это вело к суждениям типа «лодка плывет и не тонет, потому что… она красная» или «потому что… она большая», или «потому что… она маленькая». Естественно, что такая подмена понятий причинности непосредственным восприятием и внешним описанием факта не могла привести к формированию подлинного, «логического чувства», и возникали все основания предполагать, что такие «логические чувства», как «чувство потому что» или «чувство хотя» возникают у ребенка гораздо позже, чем внешнее употребление этих терминов, и подлинное овладение понятиями проходит длинный и сложный путь развития.
Наблюдения Ж. Пиаже показали, что не только овладение ценным значением логических служебных слов, но и значением суждений как их всеобщность возникает гораздо позже, чем это можно было бы думать. Так, из большого числа «коммуникации событий» или частных суждений, собранных Ж. Пиаже у детей 5–6 лет, он не мог найти ни одного, имеющего характер общего суждения; поэтому такой логический процесс, как вывод из общей посылки или дедукции, оказался совершенно чуждым для ребенка этого возраста, суждения которого были скорее отражением непосредственно воспринимаемого конкретного события, чем формулировкой правила, имеющего всеобщее значение.
Вот почему опыты Ж. Пиаже, ставившие задачей проследить у ребенка этого возраста подлинную операцию логического вывода, неизбежно кончались неудачей, а такие опыты, как попытки получить вывод из положений:
«Некоторые из жителей города Н. — бретонцы».
«Все бретонцы города Н. погибли на войне».
«Остались ли в живых еще жители города Н.?»,
не носили характера логического заключения из посылок и неизменно вызывали ответ вроде «не знаю… я там не был», «мне об этом никто не говорил» и т. д.
Эти особенности детского мышления, оперирующего не понятиями, а конкретными впечатлениями и единичными наглядными суждениями, делают для ребенка невозможными операции вывода из силлогизма или процессы дедукции. Они заставляют считать, что процесс детского мышления носит не характер дедукции (логического вывода из общего положения) и не характер индукции (перехода от единичного суждения к общему положению), а характер перехода от единичного к единичному, которое немецкий психолог Л. Штерн обозначил термином «трансдук — ция». Именно в силу такого характера суждений мышление ребенка этого возраста оказывается нечувствительным к логическим противоречиям, и если ребенок, наблюдая за плавающим предметом, говорит, что «он плавает потому, что он большой», а в другой раз «потому что он маленький», то в обоих случаях он дает только конкретные суждения, и никакого чувства логического противоречия между ними у него не возникает.
По мнению Ж. Пиаже, овладение подлинными операциями логического вывода или умозаключения возникает у ребенка гораздо позже и относится к тому периоду, когда он начинает овладевать — «обратными операциями», иначе говоря, периоду, когда каждая логическая операция соответствует парной ей обратной операции (например, 3 + 2–5, 5–2 = 3), когда ребенок овладевает не отдельными суждениями, а системами суждений, которые лежат в основе всякого научного знания.
Факты, описанные Ж. Пиаже, имеют большое значение для понимания особенностей детского мышления; однако его предположение, что подлинные логические операции развиваются очень поздно и в известной мере являются продуктом естественного созревания, вызвало ряд серьезных возражений у советских психологов. Было высказано предположение, что полная невозможность получить у ребенка 6–7 лет логические операции, отмеченная Ж. Пиаже, является результатом того, что ребенку предлагались чуждые для него логические задачи, и возможность ориентироваться в путях решения этих задач была ограничена здесь чисто словесной сферой. Иные результаты могут быть получены, если включить в ориентировку данной задачи наглядно — действенный опыт ребенка. В этих случаях, как показали наблюдения известного советского психолога А. В. Запорожца, ребенок, которому предлагается сделать вывод из силлогизма с предварительным наглядно — действенным анализом содержания большой, а затем и малой посылки, оказывается в состоянии гораздо раньше овладеть как общим суждением, так и соотнесением большой и малой посылок, чем ребенок, которому этот силлогизм предлагается в чисто словесной форме. Опыты с рационально организованной предварительной ориентировкой деятельности ребенка с поэтапной действенной проверкой общего суждения и последовательным переводом его из наглядно — действенного в вербально — логический план позволили показать, что у ребенка 5–6 лет можно получить полноценное овладение логическими операциями и что возрастные нормы, обозначенные Ж. Пиаже, вовсе не являются абсолютными границами, которых нельзя перейти в условиях точно организованного обучения ребенка.
(обратно)Процесс решения задач
В случаях, которые мы только что рассмотрели, операция мышления заключалась в том, чтобы усвоить логическую систему, которая была заключена в речевом сообщении или в силлогизме, и чтобы сделать научный логический вывод исходя из сформулированных в силлогизме отношений. Единственное условие для выполнения соответствующей логической операции заключалось в том, чтобы усвоить данную структуру логических отношений и сделать определенный вывод, или умозаключение, который однозначно определяется алгоритмом (системой операций), заключенным в силлогизме.
Далеко не во всех случаях ход мышления однозначно определяется готовым алгоритмом, заключенным в логическом условии.
Подавляющее большинство мыслительных операций не определяется однозначным алгоритмом, и человек, поставленный перед сложной задачей, сам должен найти путь ее решения, отбросив неправильные логические ходы и выделив правильные. Такой характер носит творческое мышление, необходимость в котором возникает при решении любых сложных задач.
Наиболее отчетливым примером такого продуктивного мышления может служить решение обычных арифметических задач, которые с полным основанием могут считаться моделью вербально — логического интеллектуального действия.
Задача всегда ставит перед субъектом цель, которая сформулирована в вопросе. Этот вопрос сам не заключает в себе ответа. Цель дана в определенных условиях, и субъект, решающий задачу, прежде всего должен ориентироваться в ее условии, выделить из содержания самое важное, сопоставив входящие в его состав части. Лишь такая работа, служащая ориентировочной основой интеллектуального действия позволяет создать гипотезу того пути, по которому должно идти решение, иначе говоря, стратегию решения, его общую схему. Определив стратегию, решающий задачу может обратиться к выделению частных операций, которые всегда должны оставаться в пределах общей стратегии и последовательность которых он должен строго соблюдать. Эти операции иногда могут оставаться относительно простыми, а иногда приобретают сложный характер и состоят из целой цепи последовательных звеньев (которые решающий должен хранить в своей «оперативной памяти»), приводят к определенному результату; решающий задачу должен сличить этот результат с исходным условием, и лишь в том случае, если результат соответствует условию, закончить действие, а в том случае, если такого соответствия нет, начать действие снова, пока нужное согласование результата с исходным условием не будет достигнуто.
Естественно, что весь описанный нами процесс должен на всем своем протяжении оставаться детерминированной основной задачей и не выходить за пределы ее условия; всякая утеря связи отдельных операций с исходным условием неизбежно приведет к невозможности решения задачи и превратит интеллектуальный акт в цепь ассоциаций, потерявших свой смысл.
Все это создает специальные требования, при которых процесс решения задачи может сохранить полноценный характер.
Решающий задачу должен запомнить ее и не потерять связь вопроса с условием задачи; он должен ориентироваться в условии задачи и затормозить всякие попытки непосредственных импульсивно возникающих операций, не подчиненных общей смысловой схеме задачи. Он должен создать известное «внутреннее поле», в пределах которого должны протекать все его поиски и операции и ни в коем случае не выходить за пределы внутреннего логического поля; он должен выполнять необходимые операции счета, не забывая, какое место в общей стратегии решения задачи занимает каждая операция; наконец, он, как уже указывалось, должен сличить полученный результат с исходным условием.
Нарушение каждого их этих требований неизбежно приводит к распаду интеллектуального акта.
Сложность требуемого интеллектуального процесса является в различных случаях неодинаковой и варьируется в зависимости от структуры задачи.
В простых задачах (типа «У Кати было 3 яблока, а у Сони 2 яблока. Сколько яблок было у обеих девочек?») ход операций (алгоритм решения задачи) однозначно определяется ее условием; никакие посторонние операции не могут прийти в голову, и решение задали обычно не вызывает никаких затруднений.
Большая сложность процесса возникает при другом варианте этой задачи: «У Оли было 3 яблока, у Сони — на 2 яблока больше; сколько яблок было у обеих девочек?» Здесь алгоритм задачи (а + (а + в) = X) носит значительно более сложный характер, и прямое сложение двух упомянутых в условии чисел приведет к ложному результату. Решающий задачу должен затормозить прямое решение и сформулировать дополнительный, не обозначенный в условии вопрос («сколько яблок было у Сони?»). Лишь произведя промежуточную операцию (3 + 2 = 5) и использовав ее результаты как одно из слагаемых (3 + 5 = 8), он получит нужный результат.
Еще более сложное решение имеют задачи, требующие формулировки дополнительных вопросов и выполнения ряда промежуточных операций, из которых одни имеют специальный характер и приобретают свой смысл, когда конечная цель и система приемов, ведущих к ее осуществлению, прочно удерживается решающим. Типичным примером может служить такая сложная задача, как «сыну 5 лет, через 15 лет отец будет в 3 раза старше сына. Сколько лет отцу сейчас?». Легко видеть, что условие этой задачи с самого начала создаст впечатление логической неполноты, о возрасте в ней не сказано, и только после того, как решающий ставит перед собой промежуточный вопрос («сколько лет будет сыну через 15 лет?») и, наконец, третий («сколько лет отцу сейчас?») — эта кажущаяся логическая неполнота теряется, и ответ на задачу, алгоритм решения которой приобретает сложный характер (а + 15 = n; n x 3 = m; m — 15 = X), может быть получен.
Сложным является процесс решения задачи, если она включает в свой состав вспомогательные действия, которые сами по себе не входят в ее конкретное условие и носят чисто подсобный характер. Такими являются «типовые задачи» вроде «на двух полках было 18 книг; на одной в два раза больше, чем на другой; сколько книг было на каждой полке?» В этом случае решающий должен затормозить прямые действия, которые вытекают из фрагментов условия (например, 18: 2 = 9 или 18 x 2 = 36) и, прежде чем приступить к операциям над упомянутыми в задаче книгами, преодолеть операции над не упомянутыми в задаче частями, поставив сначала вопрос о том, сколько частей было на каждой полке, и только произведя вспомогательную абстрактную операцию (2 части + 1 часть = 3 части), приступить к решению задачи (18: 3–6; 6Х — 12), и прийти к искомому ответу.
Легко видеть, что описанные задачи предполагают вербально — логические процессы возрастающей трудности, и если основное требование — не выходить во всех операциях из контекста условия остается тем же самым, то сложность анализа условий и той «стратегии», которая должна лежать в основе решения, все больше возрастает.
Психологический анализ без труда может выделить те факторы, которые включены в решения задач, являясь основными условиями полноценной интеллектуальной деятельности, и исключение которых приводит к нарушению ее нормального течения.
Первым из таких факторов является установление прочного логического отношения между условием и конечным вопросом, сохраняющим доминирующее значение вопроса задачи; без этого условия место избирательной системы операций, подчиненных вопросу, могут занять неизбирательные ассоциации, выбор из многих возможных альтернатив станет невозможным, и интеллектуальная деятельность, потеряв свой смысл, распадется.
Вторым фактором, определяющим сохранность интеллектуальной деятельности, является предварительная ориентировка в условиях задачи, предполагающая возможность одновременного (симультанного) обозрения всех составных элементов условия и позволяющая создать общую схему решения задачи. Устранение этого фактора неизбежно приведет к тому, что вся логическая система, включенная в условие задачи, распадется на отдельные фрагменты, и решающий попадет под влияние связей, импульсивно возникающих из этих фрагментов.
Третий из этих факторов, который условно можно назвать «динамическим», заключается в торможении преждевременных импульсивно возникающих операций, которое совершенно необходимо для успешного осуществления всей стратегии решения задач.
Наконец, последним, четвертым фактором является механизм сличения результатов действия с исходным условием, который может рассматриваться как разновидность механизма «акцептора действия», который мы уже упоминали выше.
Процесс решения задач, несомненно, является моделью, с наибольшей полнотой отражающей структуру интеллектуальной деятельности, и изучение особенностей этого процесса может дать существенные материалы для психологии мышления человека.
(обратно)Методы исследования продуктивного мышления
Методы исследования продуктивного речевого мышления распадаются на две группы. Одна из них направлена на изучение предпосылок речевого сложного дискурсивного (рассуждающего) мышления и ставит своей задачей установить, в какой степени испытуемый владеет основными словесно — логическими отношениями и может ли он исходить в своих рассуждениях именно из них, а не из наглядно — образных ситуационных связей. Вторая посвящена собственно операциям рассуждающего продуктивного мышления.
К первой группе относятся прежде всего все те методы, которые мы уже упоминали, описывая пути исследования процесса овладения понятиями и процессы декодирования (понимания) сложных речевых структур. Сюда же присоединяются еще две группы приемов, на которых мы остановимся лишь в самом кратком виде.
Одни из них составляют приемы исследования того, в какой мере субъект владеет системой логических связей, возникающих в высказывании, и насколько отчетливо формируются у него «логические переживания», о которых мы уже упоминали выше.
Для выяснения этого с успехом применяется прием дополнения фраз до целого, который в свое время был предложен психологом Г. Эббингаусом. Этот прием заключается в том, что испытуемому предлагаются отдельные фразы или тексты, причем в каждой фразе пропускается одно слово, которое испытуемый должен вставить.
В одних случаях недостающее слово всплывает с большой вероятностью, иногда однозначно. Например, такие фразы: «Наступила зима, и на улицах выпал глубокий… (снег)» или «Раздался свисток кондуктора, и поезд медленно… (тронулся)». Естественно, что ни о каком процессе выбора из нескольких альтернатив в этом случае говорить не приходится. В других случаях слово, которым заполняется пробел, не возникает с такой однозначностью и субъект должен выбрать одну из нескольких альтернатив, иногда сличая данную фразу с предшествующим контекстом. Примером может служить такой текст, как «Человек вернулся поздно домой и обнаружил, что потерял свою кепку. Назавтра утром он вышел из дома, и оказалось, что шел дождь и ему нечем покрыть… (голову)» или «Один человек заказал пряхе тонкие… (нитки). Пряха спряла тонкие нитки, но человек сказал, что нитки… (толстые), а ему нужны самые тонкие нитки» и т. д. Естественно, что в этом случае процесс выбора альтернатив носит более сложный характер и может быть обеспечен лишь предварительной ориентировкой в контексте. Легко видеть, что недостаток в этой предварительной ориентировке может привести к тому, что пробел будет заполнен лишь на основании догадки, возникшей при чтении последнего слова, и задача будет решена неправильно. Наконец, в третьих случаях пробел может падать не на пропущенные вещественные слова (существительные, глаголы), а на пропущенные служебные слова, и для правильного решения задачи нужно осознать логическое отношение, в котором стоят отдельные части фразы. Примером может служить фраза: «Я пошел в кино… (хотя) на улице шел проливной дождь» или «Я успел вовремя прийти на работу… (несмотря на то что) путь был очень длинный» и т. и. Легко видеть, что в последнем случае предметом исследования является установление того, может ли испытуемый сознательно оперировать не связью событий, а характером логических отношений, и всякий дефект в этих возможностях отразится на поставленной задаче. Вариантом такой же методики является известный метод экстраполяции, при котором испытуемому дается ряд цифр с пропущенной группой цифр, которые он должен вставить, осознав логическую основу ряда. В одних случаях эта задача не представляет трудностей и решается однозначно; примером может служить ряд
1 2 3 4 5 6 … 9 10 и т. д.
В других эта задача решается гораздо сложнее и испытуемый должен проанализировать логику построения ряда, вскрыть которую не всегда легко. Примером может служить ряд
1 2 4 5 6 8 … 13 14 16 и т. д.
или
1 2 4 7 … 21 28 и т. д.
Недостаточная ориентировка в условиях составления ряда, как и невозможность усвоить логику его построения, существенно отразятся на решении этой задачи.
Широко распространенным методом исследования является анализ выполнения испытуемым ряда логических операций, например, нахождения отношений вид — род или род — вид, нахождения аналогичных отношений. Для этой цели испытуемому дается образец такого отношения, которое он должен перенести на другую пару. Примером может служить:
собака — животное; соловей …?; береза …?
посуда — тарелка; оружие …?; овощи …?
или более сложные и меняющиеся отношения:
полк — солдаты; библиотека — …?
улица — площадь; река — …?
Описанный прием может применяться в двух вариантах. В одном из них испытуемому дается возможность самому подбирать искомый ответ; в другом ему предлагается выбрать нужный ответ из возможных альтернатив, причем обычно одно из предлагаемых слов находится к исходному в нужных (соответствующих задаче) отношениях, а два другие — в иных отношениях. Если исходное логическое отношение не будет усвоено, правильный выбор будет заменен выбором другого слова, состоящего с исходным в каких — либо отношениях.
С первого взгляда может показаться, что вариант, при котором испытуемый должен сам подбирать нужный ответ, требует больших творческих усилий и является более трудным, чем второй, когда ему предлагается выбрать решение из нескольких альтернатив. Однако на самом деле последний вариант может представлять особенные трудности, потому что при нем испытуемый должен одолеть другие, иногда более привычные альтернативы, и выделенное им логическое отношение должно особенно прочно детерминировать весь последующий поиск.
Примером может служить процесс выбора, требуемый следующими задачами:
сын — отец; мать (дочь, сестра, бабушка)?
рыба — чешуя; кошка (мышка, зубы, шерсть)?
очки — текст; телефон (трубка, голос, диск)?
Легко видеть, что выбор более привычного сочетания (например, «мать — дочь», «кошка — мышка», «телефон — трубка») будет являться препятствием для правильного решения задачи, только преодоление этой с большей вероятностью всплывающей связи и полное подчинение поиска найденному в первых двух словах логическому отношению могут обеспечить правильное решение поставленной задачи.
Близкой к этой методике является методика оценки смысла пословиц, позволяющая проверить, насколько испытуемый оказывается в состоянии отвлечься от непосредственного ситуационного значения пословицы и выделить ее внутренний смысл.
Для этой цели испытуемому предъявляется пословица, которую сопровождают три фразы, из которых две воспроизводят отдельные слова пословицы, а третья оперирует совершенно иным внешним содержанием, но сохраняет общий с пословицей внутренний смысл. Испытуемому предлагается сказать, какая из фраз имеет тот же смысл, что и данная пословица. Примером могут служить задачи, приведенные в табл. 2.7.
Таблица 2.7
Легко видеть, что невозможность отвлечься от наглядной ситуации, о которой говорится в пословице, или невозможность сохранить доминирующее логическое значение пословицы и легкое соскальзывание на внешнюю ситуационную близость приводят к подбору ложной фразы и неадекватному решению задачи.
Описанные приемы дают возможность установить некоторые предпосылки, необходимые для продуктивного мышления, и могут служить хорошим предварительным методом для его исследования.
Изучение самого процесса продуктивного мышления представляет значительные трудности именно потому, что наиболее типичными для него являются случаи, когда перед испытуемым ставится задача, решение которой не протекает по заранее данному алгоритму, а требует самостоятельного поиска нужных гипотез и адекватных способов решения.
Наиболее удобной формой исследования этого процесса является тщательный психологический анализ решения арифметических задач, которые могут служить удобной моделью рассуждающего (дискурсивного) мышления.
Испытуемому дается серия задач по восходящей степени сложности, начиная с тех, которые имеют однозначный алгоритм решения, и кончая решением задач, которые требуют тщательного анализа условия, формулировки промежуточных вопросов, формирования общей схемы (стратегии) решения и нужных операций (средств) решения. Условием для продуктивного использования этого метода является детальный психологический анализ процесса решения задачи с описанием характера допускаемых ошибок и с выделением факторов, которые мешают правильному решению.
Мы уже приводили выше примеры основных видов задач, применение которых может дать наибольшую информацию для характеристики процесса мышления испытуемых, и не будем останавливаться на них снова.
(обратно)Патология продуктивного мышления
Нарушения мышления при патологических состояниях мозга могут быть результатом одного из двух факторов:
• дефекта отвлечения и обобщения и изменения самого строения мыслительных процессов (этот тип нарушений мы условно будем называть структурным);
• нарушения направленности мышления, трудности удержать задачу и затормозить преждевременные или неадекватные операции, возникающие в результате снижения контроля (этот тип нарушений мышления мы условно назовем динамическим).
В случаях умственной отсталости или органической деменции оба эти фактора могут объединяться, а в случаях локальных поражений мозга они могут выступать изолированно.
Нарушения мышления, возникающие в случаях общего недоразвития или органической деменции, прежде всего проявляются в том, что больные не могут создать сложную систему абстрактных вербально — логических связей, место которых у них занимают наглядно — действенные ситуационные связи.
Больные оказывались неспособными выполнить операцию отвлеченной («категорической») классификации предметов, отнесения предметов к одной абстрактной категории более наглядной операцией, введения их в одну общую, конкретную ситуацию, так же точно они оказываются не в состоянии выполнять логические операции, требуемые от них в опытах с анализом логических отношений или анализом смысла пословиц.
Опыты по нахождению аналогий фактически подменяются этими больными операциями восстановления наглядной ситуации, в которой участвуют соответствующие понятия; поэтому задача, при которой больным предлагается найти аналогичные отношения в системе:
«корова — животное»; «трава — …?»
они обычно заменяют конкретным рассуждением типа «корова это — такое животное, которое ест траву, сено…»,
а задачу — найти аналогичное отношение в системе «сын — отец»; «мать — (дочь, сестра, бабушка)» — аналогичным конкретным рассуждением: «Ну, у отца есть сын, ну и, конечно, мать у него тоже должна быть, а сестры может и не быть… а бабушка — она уже старенькая…» и т. д. Аналогичные трудности возникают и в опыте с пониманием скрытого смысла пословиц. Выделение фразы, которая имеет тот же скрытый смысл легко подменяется выделением фразы, в которой фигурируют те же слова или в которой выступает близкая внешняя ситуация (например, к пословице «куй железо, пока горячо» с уверенностью подбирается фраза: «кузнец ковал из горячего железа отличные подковы» и игнорируется фраза, близкая по смыслу, но отличная по конкретному внешнему содержанию).
Иными особенностями отличаются нарушения продуктивного мышления при шизофрении. Материал предлагаемых задач, который в норме имеет определенное значение и с максимальной вероятностью возбуждает вполне определенные связи, определяющиеся прежним опытом испытуемого, в этих случаях может вызывать самые непредвиденные побочные связи, и решение логической задачи делается недоступным из — за того, что любые связи возникают с равной вероятностью, и течение ассоциаций приобретает самый причудливый и часто неожиданный характер. Так, например, подобный больной, которому дается пословица «не все то золото, что блестит», начинает «определять» смысл следующим образом: «Здесь происходит обесценивание золота как металла с точки зрения философской. Возможно, и другой металл, не столь презренный, как золото, блестит и приносит больше пользы человеку. Луч света, падая на стекло, блестит, это тоже может принести пользу… А всякие радиолучи…» и т. д. Естественно, что все эти многообразные ассоциации, всплывающие с равной вероятностью, делают процесс выделения избирательных связей и логического решения задачи полностью недоступным.
В советской психологической литературе формы нарушения мышления у психических больных были изучены очень подробно (Б. В. Зейгарник, Ю. Ф. Поляков), и мы не будем останавливаться на них.
Особенно большое значение для изучения структуры продуктивного мышления и лежащих в его основе факторов имеет анализ нарушений продуктивного мышления, которые могут наступить при локальных поражениях мозга. Это связано с тем, что локальные поражения мозга, при которых разрушается то одна, то другая часть мозгового аппарата, приводят к устранению различных факторов, необходимых для мышления, и процесс продуктивного мышления начинает страдать по — разному.
Как правило, локальные поражения мозга никогда не приводят к общему снижению уровня мышления, которое наблюдается при умственном недоразвитии или при грубых формах органической деменции; у этих больных нельзя наблюдать ни конкретности мышления, которой отличаются умственно отсталые или больные с органической деменцией, ни того всплывания бессмысленных, казалось бы, случайных связей, которое наблюдается у больных шизофренией. Несмотря на сохранность основных предпосылок, необходимых для мыслительной деятельности, характер продуктивного мышления этих больных отчетливо нарушается, причем тип нарушений в разных случаях оказывается неодинаковым.
Остановимся на отдельных формах нарушения продуктивного мышления при очаговых поражениях мозга, выделив факторы, которые позволяют лучше понять механизмы нормального мышления.
Поражения левой височной доли мозга не вызывают ни первичных нарушений структуры мышления, ни отчетливых дефектов его избирательного, целенаправленного характера. Однако полноценное протекание продуктивных мыслительных процессов становится в этих случаях резко нарушенным прежде всего из — за нарушений слухоречевой памяти. Больной внимательно ориентируется в условиях задачи, может без труда выделить нужное логическое отношение, но в тех случаях, когда задача состоит из нескольких звеньев, начинает испытывать затруднения, связанные с тем, что он оказывается не в состоянии удержать в оперативной памяти прошлые звенья; нить логических операций легко рвется, больной, полностью сохранивший критическое отношение к собственной интеллектуальной деятельности, отказывается решать задачу, хотя как общий смысл всей задачи, так и отдельные операции остаются у него сохранными.
Иной характер носит нарушение продуктивного мышления при поражениях левой теменно — затылочной области. Общим с только что описанной картиной является то, что при этих поражениях интеллектуальная деятельность не теряет свой осмысленный характер и дефекты проявляются не столько в стратегии интеллектуальных процессов, сколько в их выполнении, иначе говоря, в тех операциях, которые включены в мыслительный акт.
Больные этой группы прочно сохраняют задачу и целенаправленно пытаются решить ее, не отклоняясь в сторону и не отвлекаясь побочными влияниями. Однако выполнение задачи встречается сразу же с заметными трудностями. Больные испытывают затруднения в усвоении логико — грамматической структуры условия, не могут сразу усвоить нужное логическое отношение, заходят в тупик перед грамматической формулировкой как «У Сони вдвое больше, чем у Кати», мучительно пытаются соотнести отдельные элементы условия и найти общую смысловую схему решения. Воспринимаемое остается для них фрагментарным, и «усмотрение отношений», возникновение «схемы решения», которое у нормального человека приходит сразу и в дальнейшем развертывается в серию последовательных операций, либо вовсе не приходит им в голову, либо возникает в самом смутном виде и приводит к новым затруднениям, когда больной обращается к исполнительному звену интеллектуального действия и пытается выполнить вспомогательные операции. В результате этих трудностей весь процесс решения задач не идет дальше мучительных попыток осознать ход решения и выполнить нужные операции и, несмотря на полное осознание трудностей, так и остается незавершенным.
Совершенно иной характер носят нарушения интеллектуальной деятельности в случаях поражения лобных долей мозга.
Выполнение отдельных операций не встречает в этих случаях никаких трудностей. Больные полностью сохраняют возможность непосредственно схватывать значение логико — грамматических отношений и не испытывают никаких затруднений в выполнении отдельных логических или арифметических операций. Они без всякого труда могут усмотреть аналогичные отношения и не делают никаких ошибок в быстрой оценке отношений род — вид, вид — род и т. п. Однако, несмотря на такую сохранность отдельных логических операций, вся интеллектуальная деятельность этих больных оказывается глубоко нарушенной.
Главная причина заключается в том, что основной вопрос, который ставится задачей, не является у этих больных доминирующим и не определяет протекания всех дальнейших процессов.
Поэтому, прочитав условие задачи, больные с массивным поражением лобных долей мозга чаще всего тут же «забывают» вопрос, которому должен быть подчинен весь процесс решения задачи, нередко повторяют в качестве вопроса один из данных в условии компонентов (например, задачу «На двух полках было 18 книг, на одной полке в 2 раза больше, чем на другой. Сколько книг было на каждой полке?» — повторяют: «На двух полках было 18 книг; на одной из них в 2 раза больше, чем на другой. Сколько книг было на каждой полке?»), не замечая, что ответ на этот вопрос уже дан в условии. Даже в тех случаях, когда условие повторяется больным, оно не вызывает у него направленной, систематической работы по ориентировке в условиях задачи и попыток найти нужную «стратегию» ее решения. Обычно ориентировочная основа интеллектуальной деятельности выпадает у этих больных, и они сразу же начинают выполнять фрагментарные операции, включаемые в условие задачи, а поэтому потерявшие свой смысл. Только что сформулированную задачу такие больные начинают «решать», выполняя фрагментарные действия типа «На двух полках… 18 книг… значит, 2 х 18 = 36… в два раза больше, чем на другой… значит, 18 + 36 = 54… и т. и., причем обращенный к ним вопрос, для чего они выполняют эти операции, остается, как правило, без ответа.
В более грубо выраженных случаях поражения лобных долей мозга больной оказывается не в состоянии даже сохранить условие данной ему задачи, и уже при повторении этого условия начинает вплетать в него бесконтрольно всплывающие ассоциации, например, говоря: «На двух полках стояло 18 книг… а еще на одной полке еще 18 книг… их отдали в переплет… и книг уже столько там не было…», полностью забывая тот основной вопрос, который составлял существо задачи.
Подобные нарушения динамики интеллектуального процесса, легко теряющего свой осмысленный характер, сохраняются и при других, менее выраженных поражениях лобных долей мозга; в этих случаях отщепление отдельных операций от общей «стратегии» решения задачи может выявляться в более стертых формах, и, решив одну задачу, больные начинают стереотипно воспроизводить весь ход раз проделанного решения даже в тех случаях, когда задача меняется. Так, после объяснения, что приведенная выше задача является задачей «на части» и путь ее решения требует предварительного нахождения частей, больные продолжают применять тот же прием «деления на части», когда задача заменяется другой, например, в условии говорится: «На двух полках было 18 книг, но на одной — на две книги меньше, чем на другой». Такая легкая замена планомерного решения задачи повторением инертно всплывающего стереотипа, приводящая к фактическому распаду интеллектуальной деятельности, является характерной для больных этой группы и отчетливо показывает на ту роль, которую играют лобные доли мозга в протекании сложных форм мышления.
Нейропсихологический анализ изменения мышления при локальных поражениях мозга, проведенный советскими психологами (А. Р. Лурия, Л. С. Цветкова и др.), раскрывает новые и важные перспективы для изучения мозговых механизмов сложных интеллектуальных процессов.
(обратно) (обратно) (обратно)Примечания
1
Примечание редакции: речь идет о периоде 50–70–х гг. XX в.
(обратно)2
Примечание редакции: речь идет о 60–70–х годах XX века.
(обратно)
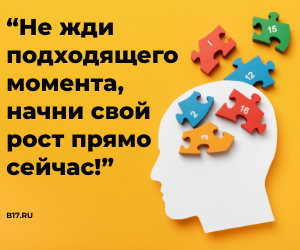

Комментарии к книге «Лекции по общей психологии», Александр Романович Лурия
Всего 0 комментариев