На русском языке книга полностью не издавалась.
Перевод осуществлен в июле 2008 года (переводчик, пожелавший остаться неизвестным в сети, не имеет претензий к ознакомлению с его переводом). Cвободно распространяется в интернете только для ознакомления с последующим обязательным удалением, при желании преобрести печатное издание или опуликовать — обращаться к зарубежному праводержателю.
Бруно Беттельхeйм Просвещенное сердце
Исследование психологических последствий существования в экстремальных условиях страха и террора
Первое издание: США Фрипресс, Эй Корпрорейшн, 1960 г.
Переиздания: Перегрин Букс, 1986 и Пенгвин Букс, 1991
Посвящается Труде
Содержание
Признательность
Предисловие
Вступление
Глава 1. Согласование противоположностей
Глава 2. Воображаемый тупик
Глава 3. Осознание свободы
Глава 4. Поведение в экстремальной ситуации: насилие
Глава 5. Поведение в экстремальной ситуации: защитные реакции
Глава 6. Неустойчивая ценность жизни
Глава 7. Люди — не муравьи.
Об авторе
Признательность
Выражаю благодарность издателям, благосклонно разрешившим мне включить в книгу материал следующих моих публикаций:
1. «Американскому журналу по экономике и социологии» за разрешение цитировать «Заметки по психологической апелляции по тоталитаризму» Том 12, № 1.
2. «Europaische Verlagsanstalt» за разрешение цитировать из «Автономия индивида и массовый контроль» («Социологика», 1955).
3. Компанию Фредерика Фелла за разрешение цитировать из моего предисловия к книге Миклоса Низли «Аушвиц: Свидетельства доктора» (Нью-Йорк, 1960).
4. «Журнал аномальной и социальной психологии» за разрешение цитировать статью «Индивидуализм и поведение масс в экстремальных ситуациях» (том 38, 1943).
Также я выражаю признательность издателям и авторам за разрешение цитировать различные источники по моей теме:
1. Американскому еврейскому комитету за разрешение цитировать из работы Эдуарда Родити «Криминал как слуга общества» (журнал «Комментарии», том 28, ноябрь 1959)
2. «DeutscheVerlagsanstalt» за разрешение цитировать из книги Р. Хёса «Комендант Аушвица» (Штутгарт, 1958).
3. Евгения Когона за разрешение цитировать его работу «Государство СС» (Франкфурт, 1946).
4. «Психоаналитическкий ежеквартальник» за разрешение цитировать статью Е.П.Бернабо, «Научная фантастика» (том 26, 1957).
5. Компанию «Тайм» за разрешение цитировать статью «Военные преступления в отношении женщин» // «Тайм», 24 ноября, 1947.
Предисловие
Мы стремимся получать из внешнего мира, не считая важным общаться с теми, кто рядом с нами. Никогда до этого …… Нас больше не волнует страх болезни или голода, скрытые ужасы в темноте или колдовство ведьм. Бремя тяжкого труда над нами не довлеет, и машины, а не труд наших рук обеспечивает нас всем необходимым, и даже сверх того. Мы достигли свобод, за которые люди боролись столетиями. И в силу этого нам бы следовало жить на заре великих свершений. Но теперь, когда мы с легкостью можем наслаждаться жизнью, нас все глубже поражает разочарование в том, что свобода и комфорт, так долго и пламенно искомые, не дают цели и смысла нашей жизни.
Обладая всем, о чем могли только мечтать предшествующие поколения, мы с ужасом осознаем, что утрачиваем смысл жизни. У нас есть свободы — больше, чем когда-либо, но больше, чем когда-либо мы стремимся к самореализации, и она ускользает от нас, в то время как, найдя полноту, мы приходим в беспокойство. Достигнув свободы, мы страшимся социальных потрясений, которые кажутся удушающими и надвигающимися со всех сторон когда-то согласного мира.
Трудности и разочарования в жизни стали так велики, что многие готовы лишиться свободы. Держаться за нее и друг за друга кажется слишком трудным, слишком сложным. И если смысл жизни ускользает от людей, они, по меньшей мере, снимают с себя ответственность за него и предоставляют обществу нести груз неудач и вины.
Как достигнуть самореализации, как сохранить свободу и адаптировать к ним общество, — знать, как это сделать, кажется практически невозможным. И это центральная, ошеломляющая проблема наших дней.
В этой книге, обсуждая недостатки нашей цивилизации, я прихожу к мысли, что нам необходимо меняться. Отказавшись от поиска безопасности в повторении тождественности, в слабых вариациях, нам следует жить совершенно иным образом безопасности; должно покончить с поиском хорошей жизни, поскольку у нас невелик шанс предвидеть результат наших действий в быстро меняющемся мире.
Чтобы справиться с таким подвигом, сердце и разум не могут более оставаться разделенными. Труд и искусство, семья и общество не могут более развиваться в изоляции друг от друга. Отважное сердце должно объять разум своим живительным теплом, даже если симметрия разума откроет дорогу любви и биению жизни.
Мы больше не можем удовлетворяться жизнью, в которой сердце руководствуется своими резонами, которых не знает разум. Сердцу следует знать мир разума, а разум должен быть ведомым знающим сердцем. И таково название моей книги: что касается содержания, оно будет говорить само за себя.
Вступление
Я очень рад, что эта книга снова станет доступной английскому читателю. Книга повествует об усилиях человека в борьбе с тоталитарным террором как таковым, а также об ужасах немецких концлагерей и Холокосте в частности. Я размышляю об этом уже много лет. Мне было трудно понять, как могли появиться эти вещи, что породило такую бесчеловечность. Меня переполняли эмоции, и мне потребовалась долгая борьба с собой, чтобы не потерять веру в человечность. Эта книга — преодоление психологической травмы и желание, чтобы этот ужас не мучил новые поколения. Также я пытался проследить влияние этих явлений на наше время, ведь происшедшие события были столь подавляющими, что до сих пор люди недоумевают: как это стало возможным? Почему человек так поступал с человеком?
В моем исследовании я руководствовался фрейдистским пониманием роли бессознательного в мотивации человеческих поступков и его открытием темных сторон ментальности. Ведь только если мы признаем их наличие, мы можем понять, как важно контролировать наши деструктивные стремления. И этим мы можем предотвратить катастрофы наподобие той, которой пострадало мое поколение. Без такого самоконтроля деструктивные стремления заставляют человека мучить себе подобных, что не раз случалось в истории. Наше время привнесло новый аспект в этот феномен, что сделало его крайне опасным. Это — механизация методов уничтожения, обеспечиваемая современными технологиями. Так открылась дверь навстречу тотальному уничтожению.
Я писал эту книгу с убеждением, что только возрастающая человечность в человеческих отношениях может предотвратить появление нового холокоста. Только, если мы истинно будем любить жизнь — в равной мере свою и чужую — мы сможем сохранить ее и смотреть в будущее с доверием. И так поступая, мы отгоним мрачные тени недавнего прошлого, лишающие нашу жизнь света.
Итак, я имею дело не со смертью, но с жизнью. Моя забота не о прошлом, а о настоящем. Нацистские концлагеря уничтожения сейчас предмет исторического исследования. Мой интерес к ним связан с тем, какое значение они имеют для настоящего. В этом причина того, что мы не смеем забыть или исказить значение нацистского террора и геноцида; и не потому, что они породили ужасы, когда обычные людей уничтожали обычных людей поколение назад, а потому что опасность подобных явлений существует и ныне. Более сорока лет прошло с тех пор, и время спросить: а какой урок мы вынесли из этого для себя и для будущего? Что еще необходимо понять в человеке, чтобы постичь, как такое могло случиться, что случилось тогда, и как предотвратить повторение этого.
Вполне понятно, что мы желаем не сталкиваться с необходимостью избавлять человека от кошмарных впечатлений, вызванных ужасами нового открытия: человек — это необузданный разрушитель и человек — это лишенная всякой защиты жертва. Гитлеровская Германия в прошлом, можно отрицать ее значение для настоящего. Такое отношение — это защита от того, что ужасает. Подобное непонимание как защита действовало и тогда. Мы защищались отрицанием происходящего тогда, и сейчас мы защищаемся уверенностью, что это достояние истории, не имеющее отношения к настоящему. И нам необходимо понимание того, что деструктивный тоталитаризм для современного мира также является постоянно действующей угрозой.
Не нужно напоминать о Холокосте, чтобы понять о чем идет речь, что выживание требует постоянной бдительности. Посмотрите на недавние события во Вьетнаме и, в Индокитае, на голод в Эфиопии. Сколько людей гибнет, ища спасения. Но их спасение зависит и от того, захотят ли другие люди им помочь. Так было и с евреями в Европе. Имей свободный мир готовность помочь им, больше бы их нашли силы к сопротивлению, больше бы их укрылось на время или выжило. Тот факт, что мир изолировался от них, лишил евреев жизненной силы, сломил их волю к сопротивлению.
Чтобы выжить в самых нечеловечных условиях подавления, нужна внутренняя сила. И для ее собирания важно, чтобы человек, чувствовал поддержку других. Например, многие еврейские дети во Франции выжили бы, если бы их родители чувствовали французов. И те, кто выжил, рассказывают, что их родители смогли найти французские семьи, готовые приютить еврейских детей. Так внутренняя воля к жизни зависит в большей мере от помощи извне — и они странным образом переплетены.
Сильнейшим мотивом к выживанию может быть то, ради чего человек готов остаться в живых любой ценой. Например, это может быть сильная привязанность к любимым людям — к родителям, супруге, детям, ради встречи с которыми человек готов выживать в самых нечеловеческих условиях. И здесь пролегает кардинальное различие между обычным лагерем для военнопленных и лагерем уничтожения. В последнем случае не остается и малейшей надежды на встречу с близкими. Ведь в лагерь попадают в результате специального отбора, при этом устанавливается очередь — кого умертвить раньше, а кого позже. И человек знает, что его жена и дети также попадут в газовую камеру. И в таком случае очень тяжело найти в себе силы бороться за жизнь.
Сама по себе воля к жизни не может стать той силой, которую человек черпает извне — из поддержки реальной или воображаемой. Вот почему, те, кто преданно заботятся о попавшем в беду, для него являются самой сильной воображаемой связующей нитью с жизнью. Отсутствие таковой понижает жизненный тонус почти до нуля. Одним из уроков (в противовес дарвинизму), который дали концлагеря, стал тот факт, что тяга к жизни, elan vital, мало, чем может помочь, если не укоренена в любви — любви к человеку, к Богу, или к высоким идеалам (например, коммунизму).
Убийцы могут только убить. У них нет власти лишить нас воли к жизни, отнять способность борьбы за жизнь. Методы, которые применяли нацисты к европейским евреям — насильственная деградация, истощение, крайнее изнеможение пытками, голодом, болезнями — все это серьезно ослабило волю к жизни и открыло путь смерти. И когда такое состояние отягощалось чувством оставленности, человек полностью лишался сил, необходимых для борьбы за выживание. И тогда он уже не мог отказаться рыть собственною могилу или идти в газовую камеру.
История знает случаи геноцида. Однако, выживание всегда зависело от личной воли к жизни, от личной борьбы за выживание. Хотя выживание всегда нуждалось в помощи других. При этом наша помощь должна быть своевременной. Во времена нацистских преследований было и время, и возможность помочь, но сама помощь не всегда была близкой.
Нацисты уничтожали европейских евреев и миллионы людей других национальностей, которых они считали нежелательными. Но никто, кроме евреев не помогал евреям, и даже многие евреи в свободном мире (как и он сам) не слишком много заботились о евреях, вот почему их воля к жизни первой ослабела и затем исчезла. Одно из последних посланий варшавского гетто гласит: «Мир молчит, мир знает и молчит. Папа римский молчит. Молчит Лондон и Вашингтон. Молчат американские евреи. И это молчание пугающее и непостижимое».
Мы не сможет полностью понять природу и смысл происходившего в концлагерях, если будем игнорировать деструктивные стремления в самом человеке, агрессивный характер животного в нас, которое предъявляет права на собственно человеческое и особенно разрушительное свойство. Фрейд назвал это явление стремлением к смерти, а Конрад Лоренц — «так называемым злом». Фрейд считал, что в человеке жизнь и смерть (или тяга к уничтожению) ведут постоянную борьбу, и по мере того, как мы истинно принимаем себя такими как мы есть и положительно относимся к другим, только тогда тяга к жизни будет расти в нас и сможет нейтрализовать или адекватно контролировать тягу к смерти и ее ответвления.
Я думаю, что мы не сможем понять феномен нацизма, геноцида и массового истребления одними людьми других (не только в эпоху гитлеризма, но и в другие времена), пока мы не осознает, что в таких людях тяга к смерти перекрыла тягу к жизни. Вера Гитлера в то, что его сверхчеловек чистой арийской крови будет процветать только при условии уничтожения других рас, породила манию смерти, которая будучи сперва направлена против иудеев, перекинулась и на другие народы. К тотальному уничтожению были приговорены цыгане, а также все психические или физические инвалиды. Другие народы (поляки, русские, негры) должны были быть существенно сокращены в численности для процветания 1000-летнего рейха.
Если бы Гитлер не был одержим идеей уничтожения народов ради жизни германской нации, возможно он выиграл бы войну и завоевал бы большую часть мира. Не только немецкие евреи, но и большое количество польских, украинских и даже русских солдат могли бы присоединиться к немецкой армии и принести ей победу, если бы этому не препятствовало стремление Гитлера к уничтожению или порабощению этих народов.
Но случилось, то, что должно было случиться: те, кто послушались зова смерти, в итоге уничтожили самих себя. Нежелание Гитлера спасти свою армию под Сталинградом служит тому примером. Другой пример это само продолжение войны до последнего немецкого солдата, когда было уже давно очевидно, что следует подписать мир.
Кроме того, поведение тех евреев, которые покорно шли в газовые камеры, не может быть понято без соотнесения с стремлением к смерти, существующем в каждом из нас. После ужасных транспортировок в лагеря смерти, после пыток и унижений, эти евреи, стоящие перед дверями крематория, уже были лишены всего, что связывало их с жизнью, были покинуты всеми и были не способны противостоять тяге к смерти. В их случае танатос был направлен на них самих, а не против других.
Вот почему наш долг, не по отношению к умершим, а по отношению к живым, к нам самим, — усиливать стремление к жизни. Мы должны быть уверены, что никогда больше не будут так тотально уничтожаться жизнеутверждающие силы в миллионах людей, и менее всего посредством государства. Истинно понимание гитлеровского (и подобных ему) государства должно вселить в нас уверенность, что никогда больше человек не должен быть порабощен тягой смерти, так, чтобы самому желать убивать или быть убитым.
Июнь 1985 г.
Глава 1. Согласование противоположностей
В этой книге я попытался изложить свою работу по изучению человека в современном массовом обществе, а также воздействия на психику тоталитарных стремлений. Небольшие, но значимые части книги уже были опубликованы в разном качестве. Настоящее издание содержит в себе как заново написанные, так и пересмотренные главы.
Последние двадцать лет я обдумывал те идеи, которые потом вылились в эту книгу. Обычно, в научных работах не проявляются персональные взгляды автора. Но все же, если ты занимаешься наблюдением, интроспекцией и анализом мотивов, то, конечно же, пишешь о внутренней связях между тобой и твоей работой. И сидя за письменным постоянно пересматриваешь и передумываешь уже написанное. Возможно, читатель спросит, что это за глубинное единство между автором, его идеями и фасадом сюжета книги. Пытаясь найти это соответствие, я вставил в книгу некоторые личные заметки в надежде, что они позволять избежать взгляда на книгу как на некое пестрое собрание примеров социальной психологии.
Но было и другое важное соображение, глубоко связанное с темой книги. Это убеждение в том, что чтобы противостоять притупляющему воздействию массового сознания, дело человека должно быть продолжением его личности. Выбор дела не должен зависеть от случая, удобства или выгоды, но должен исходить из того, насколько прямо он ведет к самореализации человека в нашем мире, так что в самих результатах такой деятельности будет сказываться как объективная целенаправленность, так и внутренняя целеустремленность, осмысленность жизни. В силу этого, я начну книгу не с условного умолчания, а, наоборот, с описания того, как я оказался вовлеченным в те события и проблемы, о которых она повествует.
Поколение моих родителей воспитывало своих детей в той атмосфере, которая теперь практически исчезла. Западная и центральная Европа жила верой в эпоху постоянного прогресс и наступления небывалого счастья и безопасности. Несмотря на противоречия этому в жизни, вера эта была крепкой, особенно в высших слоях среднего класса, которые пользовались всеми выгодами прогресса рубежа XIX–XX веков. Сам опыт укреплял их удобную веру. Они стали свидетелями бывшего перед Первой Мировой войной бурного социального, экономического и культурного развития, сопровождающегося рациональной и справедливой политикой и социальными нововведениями.
Но в один из августовских дней лорд Грей с глубокой печалью и предвидением заметил: «свет гаснет по всей Европе, и мы не увидим его снова при нашей жизни». Его предсказание не только сбылось, но и распространилось вплоть до нашего времени. Северная Европа перестала быть «кузницей человека», как бы не тяжело было это признать моему поколению, пока приход к власти Гитлера не сделал этот факт очевидным для всех.
Мое поколение росло в Вене, где интеллектуальный мир переживал глубокий психологический и социальный кризис после Первой мировой войны. Подростковый кризис, связанный с ранним взрослением, отягощался социальным и экономическим хаосом, достигшем своего апогея сначала в большевизме, затем в национал— социализме и вылившимся во Вторую мировую войну. Кроме того, для жителей Вены этот кризис был тяжел еще и в силу падения Австро-Венгрии. Также на меня влияли интеллектуальные и эмоциональные проблемы, связанные с противоречием «Врожденное— приобретенное». Послевоенная нищета, падение традиционных устоев совпали с подростковым бунтом, что привело к особым решениям специфических проблем. Тяжело восставать против родителей, мир которых внезапно рухнул. И в этом случае подросток чувствует себя еще более оставленным, потому что родители, с которыми он борется, не просто подавляющий и оберегающий авторитет, а разбитый глиняный божок. Он не может отстаивать свои ценности перед родительскими, поскольку их ценности обесценились. И как он может обрести и проверить свой путь, когда его не с чем сравнивать? Подросток лишен почвы под ногами, лишен спасительной пристани. В силу этого он лишен того чувства безопасности, которое только и позволяет подростку безопасно восставать против надежного мира взрослых.1
Поиск надежности.
Все это привело к горячему стремлению создать устойчивое общество. Желание породило веру, и по мере усиления желания вера стала убеждением: можно создать новое общество, хорошее общество, гарантирующее всем хорошую жизнь. Это общество должно быть надежным и стабильным, дающим свободу личного роста и самореализации.
Мне понадобилось много лет — почти весь период между мировыми войнами, — чтобы, несмотря на эмоциональное неприятие, осознать противоречивую природу этих требований. Позже я только уточнял, какие причины привели к этому, и спустя многое время с большим трудом я смог принять это эмоционально.
После подросткового бунта против семейного быта ассимилированной еврейской буржуазии я испытал влияние учения Фрейда. И это все смешивалось с верой в то, что только более рационально организованное общество позволит избежать кризиса. В психоанализе утверждают, что, возможно, не общество создает проблемы в человеке, но, скорее, наоборот — скрытая, внутренняя, противоречивая природа человека создает проблемы в обществе.
Именно так для меня открылся конфликт между естественным и приобретенным в психике человека. Не стоит ли ради создания наилучшего общества радикально изменить общество для полного достижения самореализации всеми его членами. А как же быть с теми, кто этого не желает? Или творить «благое» общество могут только те, кто уже преодолел свою мрачную сторону благодаря психоанализу? В последнем случае следовало бы отказаться на время от всякой социальной или экономической революции и сконцентрироваться на развитии психоанализа с надеждой, что когда подавляющее большинство достигнет внутреннего освобождения, тогда почти автоматически создастся благое общество.
Я наблюдал в среде своих друзей этот поиск уверенности с борьбой за нее любой ценой, свойственный подросткам всех времен. Стремление избежать внутреннего борения с противоречиями без колебаний толкало их к одному из двух мировоззрений, причем достоинства противоположного мировоззрения игнорировались. Так одни присоединились к социализму, который спустя немного лет был заменен официальным коммунизмом (в России) или неофициальным (Троцкий и другие) — они полностью отрицали учение Фрейда, — другие наоборот полностью посвятили себя психоанализу. И были другие — большинство университетского студенчества, — которые удалились в приватный мир искусства, науки или богемы. В то время, как многие мои друзья были поглощены ортодоксальным или нео— католицизмом, а позднее и национал-социализмом, тем самым отрицая значимость противоположного мировоззрения. Конечно, были и те, которые меняли свои убеждения со временем.
По мере того, как я стремился к уверенной жизни, я чувствовал неспособность принять ту или иную концепцию всем сердцем. Многое мне казалось убедительным и привлекательным, но со временем одно без другого теряло смысл. Были те, кто соединяли психоанализ с коммунизмом (например, Вильгельм Райх), но у этого союза было много противоречий.
В те времена я пытался обойти проблему выбора, уйдя в частную жизнь: литературу, искусство, музыку и самоизоляцию. Но эти пути не привели меня к ответу на вопрос: «Что есть лучший человек в лучшем обществе?» Но я думал, что если углубиться в культуру, я смогу найти правильный ответ.
Казалось, что лучше всего к этому подходит философия. К ней я и обратился. Я стал изучать теорию единства противоположностей, но я не мог понять, как эта теория может применяться для понимания динамики взаимовлияний организма и его окружения, и как жизнь состоит из единства и борьбы противоположностей в поиске лучшего синтеза, но при этом не учитывается основной и непримиримый конфликт. Тогда я еще не мог принять этот факт. Будучи юношей, искавшим себя самого, я был убежден, что окружающая среда (будь это природа или общество) должна быть сориентирована под самореализацию. Но в рамках conjunctio opposito-rum — совпадения противоположностей — я еще не видел этой самореализации.
И снова я оказался перед вопросом — может ли хорошее общество само по себе или с неким усилием создавать хорошего человека, который бы затем увековечил само хорошее общество. Или же современный человек безнадежно не способен к этому в силу своей саморазрушительной природы. Если верно первое утверждение, то любой ценой, страданием многих поколений следует двигаться к созданию хорошего общества, поскольку оно автоматически будет затем порождать хороших людей. И это то, что предложил коммунизм после 1917 года. Но Советская Россия 1920-х годов показала, что не может гарантировать полной само реализации человека. Другим видом идеальной ставки стал социал-демократизм, который я принял с колебаниями и опасениями. Было очевидно, что реализация лучшего общества зависит от наличия во власти лучших людей.
И если только хороший человек может создать хорошее общество, то проблема в том, как изменить для этой цели уже существующего человека. Казалось, что из всех возможных путей влияния на людей, психоанализ лучше всего подходит для такого радикального улучшения человека. К тому времени некоторые из моих друзей становились психоаналитиками, испытав этот метод на себе — среди молодых интеллектуалов психоанализ был в моде. Личностные изменения, которые я в них наблюдал, не казались убедительными в удачности их методики для создания хорошего человека. Впрочем, скорее всего это говорит о том, что они просто сами были неспособны воспользоваться всеми плюсами психоанализа.
Перспективы психоанализа
В конце концов, я с большей надеждой обернулся к психоанализу, нежели к политическим реформам. И это было не просто разочарование в возможности создания лучшего общества, создающего независимого человека. Я занялся психоанализом еще и по личным причинам. Сперва я не думал, что психоанализ станет моей профессией. Мне было важно при его помощи глубже понять теоретические, социальные, философские и эстетические проблемы, и в своем юношеском порыве я надеялся их разрешить.
Мне потребовалось много лет интенсивного психоанализа и гораздо больше лет его практики, чтобы понять, как он может менять личность человека, живущего в конкретном обществе, и где заканчиваются границы его влияния. Чтобы понять, каковы эти пределы влияния общества на индивидуальность, мне пришлось пройти сквозь фашизм, концлагерь, иммиграцию и ассимиляцию в Новом Свете. И я долго осмыслял эти уроки жизни.
Во-первых, я понял, что если психоанализ может помочь взрослому человеку с личными проблемами, то это не значит, что он может еще и обеспечить хорошую жизнь. Чтобы не только единицы, ведущие глубокую внутреннюю борьбу, но и массы, могли этим воспользоваться, необходима реформа всей системы воспитания и образования человека и общества, учитывающая особенности всех возрастов. Но перед началом реформ нужно понять, какие педагогические методы что развивают, как они отразятся на будущей жизни ребенка, а значит и будущей жизни самого общества. В моем случае, маятник долго раскачивался между двумя предположениями (кто же «отец» человека — общество или ребенок), прежде чем я и рационально, и эмоционально принял то, что мы называем «хорошей жизнью», в нормальных условиях, это — хрупкий баланс между личными устремлениями, правильным социальными требованиями и природой человека; и что не бывает абсолютного подчинения только одному из этих моментов.
Во-вторых, я должен был изучить человеческую природу и давление на нее общества. И здесь я вышел на центральную проблему моей деятельности — применение психоанализа к социальным проблемам, и в частности к воспитанию детей.
В ходе длительного наблюдения в процессе совместного проживания с двумя аутичными детьми я осознал расхождения в теории и практике психоанализа, его возможности и необходимость усовершенствования. Для людей с сильными отклонениями недостаточно классического психоанализа для осуществления желаемых психических изменений. Более того, для достижения эффекта нужно постоянно вести жизнь, основанную на психоанализе, а не тратить на него один час. К тому я и стремился при лечении этих детей, но с ограниченным успехом. Им необходимо было полноценное человеческое общение, хорошие условия жизни и значительные цели для стремления к ним, а не просто применение психоанализа к их прошлой жизни.
Другие оговорки касались непосредственно моей жизни. Лет за десять до гитлеровской оккупации, я осознал, что живу в состоянии внутреннего кризиса, несмотря на то, что внешне дела шли успешно. Долгое время я жил в том, что позднее Эриксон назовет «психо-социальным мораторием». Снять эту обусловленность не смогли ни годы, потраченные на психоанализ, ни последующая жизнь.
И даже во время заключения я не сомневался в успехах как психоанализа (в целом), так и в свои собственных заслугах. Я был убежден, что взял из психоанализа все, что он мог мне дать. После чего я успокоился и стал принимать жизнь такой, какая она есть и старался полюбить это.
Я больше не думал, чем я обязан психоанализу. Помимо прочего я благодарен ему за то, что я смог понимать, сопереживать и помогать брошенным, неполноценным или деградирующим детям, создавая для них особую среду, в которой они могли бы развить свои человеческие способности.
С другой стороны, дни, проведенные в концлагере, дали мне больше нежели годы, посвященные тщательному психоанализу. (Я понимаю, что меня могут упрекнуть в том, что психоанализ мне ничего, кроме интуиции, не дал. Но меня больше волнует доверие интроспекции, нежели ее проекция).
Новые точки зрения
Опираясь и на свой собственный психоанализ, и на изученную литературу, и на её применение на практике, я все еще искал постижения «истинной» природы человека. Хотя я был далек от мысли, что психоанализ как терапевтический метод может произвести «хорошего» человека, все же я думал, что он лучший метод для достижения существенных личностных изменений.
Год, проведенный в концлагерях в Дахау и Бухенвальде, стал для меня и для моих идей великим потрясением. Он меня столь многому научил, что и до сих пор я черпаю что-то новое из этого опыта. Поскольку большая часть этой книги составляет психо-социальное изучение этого опыта, я здесь не буду говорить о том, в чем он заключался. Многие размышления об этом содержатся и в моей статье о влиянии экстремальных ситуаций на развитие шизофрении.2
Сами эти размышления обусловлены тем, что я испытал в концлагере. Трудно непредвзято рассматривать этот опыт, вспоминая о крайних лишениях и страхе за жизнь, которые постоянно культивировались среди заключенных, и особенно в среде евреев. Такие тяжелые впечатления постоянно могут отягощать разум, и если с ними не бороться, могут привести к переоценке ценностей.
Будучи в лагере я использовал психоанализ только в одном аспекте — как выжить и сохранить себя морально и физически. Поэтому я размышлял только о самом насущном и необходимом. Одна из проблем была в том, что люди, которые согласно психоанализу должны вести себя стойко, зачастую являли не лучшие образцы поведения в ситуации крайнего стресса, и наоборот, те, кто, должны были бы вести поступать низко, являли блестящие примеры мужества и достоинства. Я замечал быстрые изменения не только в поведении, но и личностные перемены — невероятно стремительные и зачастую более радикальные, нежели предполагается по психоаналитической теории. К тому же, хотя лагерная жизнь обусловливала в большей степени изменения в худшую сторону, но были перемены и в лучшую. Таким образом, одна и та же среда могла сформировать радикальные изменения в обе стороны.
В то, что среда может влиять на важные аспекты личности (создать хорошего человека), я верил, еще до занятий психоанализом. Теперь я видел, как дурная среда порождает в человеке зло. Но она же порождает в нем и достойные качества, о которых он и не подозревал. И если концлагерь может приводить к таким радикальным изменениям, значит, и общество вообще может влиять на человека, хотя в нем вариаций изменений неизмеримо больше, и сам человек имеет больше возможностей для самоопределения. А психоанализ утверждает, что к лучшему или худшему человек меняется под влиянием лучшего, либо худшего общества.
Я довольно быстро, хотя не без труда, пришел к этим умозаключениям. Психоанализ, на котором я пытался строить жизнь, обманул меня в моих ожиданиях в условиях элементарного выживания. Я нуждался в новых основаниях. И я пришел к ясному решению — реагировать на среду без компромисса с самим собой. Некоторые заключенные пытались раствориться в среде. Многие из них либо быстро деградировали, либо становились «стариками». Другие пытались сохранить себя прежними — у них было больше шансов выжить как личности, но их позиции не хватало гибкости. Многие из них не могли жить в экстремальной ситуации, и, если их в скором времени не выпускали, то они погибали.
Кроме того, в то время я полагал, что наиважнейшей средой для человека является его непосредственная семья, а не общество в широком смысле. Я твердо верил, что психоанализ лучше всего помогает индивиду в обретении свободы и ведет его к высшему устроению. Лагерный опыт научил меня, что я зашел слишком далеко в уповании на то, что только человек может менять общество. Я вынужден был признать, что среда может перевернуть всего человека, и не только в ребенке, но и в зрелом человеке. И чтобы такого не случилось со мной, я должен был признать потенциал этой среды и установить пределы привыкания к ней. Психоанализ, как я его понимал, помочь мне в этом не мог. Я понял, что в ситуации выживания те, качества, которые я приобрел, занимаясь психоанализом, больше мешали, чем помогали.
Конечно, благодаря психоанализу мне было проще понять деструктивные, асоциальные тенденции в человеке, проявляющиеся, когда рушатся сдерживающие их барьеры, что особенно проявлялось в концлагере. И если кто-то находил в себе силу противостоять этому, то это было связано либо с предшествующим социальным опытом, либо с сильным характером.
Подобные рассуждения могли бы пролить свет на то, что происходило с тем или иным заключенным, но меня больше интересовало то, как они могут помочь мне и другим остаться человеком в нечеловеческих условиях. В конечном счете, было неважно, почему человек поступил так или иначе, важно было то, как он поступил. И если психоанализ лучше объяснял «почему», среда была успешнее в контроле за действиями людей, хотя и не все ей подчинялись.
Со временем я стал отчетливее понимать, что человек меняется в зависимости от того, как он поступает. Поступающие достойно, становились лучше, ведущие себя недостойно — опускались еще ниже. И, казалось, что ни прошлое, ни характер (либо те его черты, которые были бы значимы в психоанализе) здесь ни при чем.
В лагере трудно было быть мужественным. Везде проявлялись инстинкт смерти, агрессия против личности, проверка на физическую прочность, мегаломаническое отрицание опасности, мимическое культивирование нарциссизма и другие психические расстройства, любопытные с точки зрения психоанализа. Все это можно было рассматривать и с позиции глубинной психологии или психологии бессознательного. Однако, разбирать мужество в спектре глубинного анализа было бы абсурдно.
Образ действий человека в критической ситуации не может быть выведен из внутренних, скрытых и зачастую противоречивых мотиваций. Ни героические, ни малодушные мечтания, ни свободные ассоциации, ни осознанные фантазии не могут обеспечить правильного прогноза в отношении того, что человек совершит в следующий момент — пожертвует собой ради других, или в панике предаст многих ради смутной надежды на спасение.
Пока моей жизни действия других людей не угрожают и выражают сугубо теоретический интерес, я могу позволить себе считать, что их явное поведение соответствует их подсознанию, если не больше. Пока моя жизнь течет размеренно, я могу позволить себе считать, что работа моего подсознания выражает, если не мое «истинное я», то хотя бы мое «сокровенное я». Но, когда в один момент моя жизнь и жизнь окружающих меня людей, начинает зависеть от моих действий, тогда я понимаю, что мои действия гораздо больше выражают мое «истинное я», нежели мои бессознательные либо подсознательные мотивы. И если бы подобные действия выводились бы из бессознательного, я бы не мог понять, что же лежит вне сферы глубинной психологии и что же составляет «истинного» человека. Конечно бессознательное выражает некую правду о человеке, оно его часть и часть его жизни, но оно — не «истинный» человек.
Повторяю, что легко установить и признать, что только id, эго и суперэго в их связке формируют человека, что только бессознательное наряду с открытым поведением в их целостности дают человека. Но вопрос состоит не в том, какие из этих аспектов реально существуют, но в том, каким из них (и в какой комбинации) уделить большее внимание, чтобы жить достойно и создать достойное общество, чтобы адаптировать среду и педагогические методы так, чтобы справедливость была правильно сбалансирована.
Какие же уроки я извлек из пребывания в концлагере?
Во-первых, психоанализ отнюдь не самый лучший способ изменить личность. Помещение человека в особую среду способно радикальнее и в сжатые сроки его изменить.3
Во-вторых, существовавшая тогда теория психоанализа не могла полностью объяснить, что происходит с заключенным — она давала только советы по «улучшению» человека и его жизни. Действуя в своей системе координат, она многое проясняла, а примененная за её пределами наоборот искажала.
Психоанализ гораздо больше говорил о «скрытом», нежели об «истинном» человеке. Например, стало очевидным, что эго ни в коем случае не служит только лишь рабом id или суперэго. Были случаи, когда сила эго не проистекала ни из того, ни из другого.
Это сейчас общеизвестные факты, с тех пор, как Гартман разработал концепцию «автономии эго», а затем совместно с Крисом выработал условия существования нейтральной эго-энергии. Их теоретические формулировки были дополнены Эриксоном и Рапапортом. Тогда, в концлагере эти теории не могли быть мною применены. Позднее я пытался описать поведение в экстремальной ситуации, используя эти теории, но сами факты и их интерпретация превосходили предложенные рамки.
Чтобы не ввести в заблуждение, я обращаю внимание на то, что касается только психоаналитическое теории и вытекающих из неё взглядов на личность. Под психоанализом подразумевают по меньшей мере три вещи: метод наблюдения, терапия и набор теорий о поведении и структуре личности человека. Их значимость определяется по нисходящей, при этом самым слабым звеном (нуждающемся в пересмотре) является теория личности.4 Но как метод наблюдения психоанализ сильно мне помог, дав мне более глубокое понимание того, что может происходить в подсознании как заключенных, так и охранников, понимание того, что может спасти жизнь или помочь соузникам.
Таким образом, лагерный опыт научил меня двум, казалось бы, противоречивым вещам. С одной стороны, я увидел недостатки психоаналитической теории в отрыве от практики, и её дефекты в случае применения в несвойственной ситуации. С другой стороны, именно в несвойственной для психоанализа обстановке было значимо понимание, посредством наблюдения, бессознательных мотивов человеческого поведения.
Здесь можно привести такой пример. Согласно тогда принятым психоаналитическим воззрениям тестом на хорошо интегрированную личность (цель психоанализа) было наличие способности свободно устанавливать близкие отношения — «любить», а также быть готовым к «работе» над сублимацией подсознательного. Отчужденность и эмоциональная отстраненность были признаками слабости характера. В главе 5 я описываю великолепный стиль поведения группы, которую я назвал «помазанники». Они нисколько не работали со своим подсознанием, но при этом были верны своей прежней структуре личности, придерживаясь своих ценностей перед лицом крайних испытаний, хотя лагерный опыт их сильно подавлял.
Подобное поведение характеризует и другую группу, поведение которой согласно психоанализу должно рассматриваться как крайне невротичное или откровенно бредовое, и поэтому способное вызвать в ситуации стресса распад личности. Я имею в виду «Свидетелей Иеговы», которые показали не только необычно высокие образцы человеческого достоинства, но и казались защищенными от разрушительного воздействия тех условий, перед которыми не выстаивали, как я считал согласно психоанализу, высоко интегрированные личности.
Гораздо позже и в полностью ином (хотя, может, и не совсем) контексте произошли похожие события. Я говорю об изучении людей, выросших в израильских киббуци. У многих из них, согласно психоанализу, детский опыт должен был отразиться в нестабильной личности. Они также были замкнуты и отчуждены. Психоанализ их рассматривал как сильных невротиков. Но также это были люди, перенесшие невероятные испытания во время войны за независимость и в ходе короткой военной кампании против Египта. Я уж не говорю о трудностях жизни на граничащих с арабами территориях. Эти люди, согласно психоанализу слабоустойчивые к дезинтеграции личности, показали себя героями, в основном благодаря силе их характера.5
Заметки вне контекста
Вопрос был в том, почему психоанализ столь успешный в понимании человека и изменений его личности, показывает некомпетентность в других отношениях. Почему он не может служить ключом к пониманию «истинной» природы человека? Почему, помогая человеку выйти из стресса и способствуя улучшению его состояния, как это было в моем случае, психоанализ не может достичь этого в отношении других, не предоставляет им возможности достичь интеграции, чтобы выстоять в экстремальной ситуации?
Я долгое время размышлял над причинами этого. Одна из них в том, что, несмотря на то, что психоанализ имеет большой потенциал для разрешения внутренних конфликтов и инструментарий для проникновения в глубины подсознания, практика психоаналитической терапии, как её понимал Фрейд и его последователи, в-основном ничто иное, как сильно обусловленная социальная ситуация, поскольку она может пролить свет только на некоторые (но не на все) стороны человеческого разума и может изменить некоторые (но не все) аспекты личности и не может оградить от ограниченности как пациентов и психоаналитиков, так и саму теорию.
Психоаналитическая терапия — это особая среда со своими уникальными последствиями. Она не может быть архимедовой точкой опоры вне мира социальных феноменов. Она не может выделить человека из его социального окружения и дать его «истинное» описание. Чтобы оказаться в состоянии психоанализа нужно поменять обычное окружение на иную специфическую среду. Поэтому изучение реакция человека в такой среде приводит к открытиям, обусловленным самой этой средой. И можно легко ошибиться, если подобные находки применять в иной среде без соответствующих изменений.
Позвольте мне привести поясняющий пример. Предположим, что два студента желают изучить общество, человека и его природу. Один объектом наблюдения избирает группу ученых в процессе их работы. Вероятно, он найдет, что каждый из них добросовестно отдает всего себя работе ради достижения поставленной цели, собственно содействуя интересам всего общества. Второй же студент, напротив, будет наблюдать тех же ученых, но уже собравшихся в баре после работы. Они немного выпили и не спешат идти домой. Озабоченные небольшими неудачами в исследованиях или отношениями с коллегами, начальством или домашними проблемами, они позволяют себе выпустить пар после трудного дня. Это время полной релаксации. Они даже по-дружески подначивают друг друга к откровенности по поводу работы, дома или самих себя.
Затем предположим, что они прекрасно понимают несерьезность положения и ради разрядки могут дойти до заявлений, что их дело бессмысленно, что они им занимаются ради денег или ради семьи. И более того, они могут сказать, что ненавидят этот каторжный труд, своих коллег и что-нибудь еще в этом роде.
Теперь допустим, что наш второй наблюдатель пришел к заключению, что эти разговоры за стойкой бара выражают подлинную мотивацию этих людей, их истинную сущность. Он тогда решит, что их тяжелый и полезный труд — всего лишь ловкое прикрытие их «истинных» желаний. Такой наблюдатель может начать считать обычные препятствия в работе (ворчанье, зависть, разочарованье) за истинные мотивы или за предлоги для утомительной, но значимой деятельности.
Очевидно, оба наблюдателя увидели важные, хотя и различные аспекты человека в обществе. Ни один из них нельзя назвать ложным, и ни один из них не дает «истинного» описания человека. Подлинный человек состоит из совмещения, в реальности интегрируются обе картины. Это один и тот же человек — только в одном случае он на работе, а в другом — в баре, слегка выпивший.
Во время психоанализа, в-основном, пациент имеет дело с неприятностями, мешающими успешной жизни, поскольку он пришел к аналитику не с рассказом о своей жизни, а за помощью в конкретных трудностях. Если бы он пребывал в мечтаниях обо всем хорошем в его жизни, аналитик рано или поздно заявил бы, что если все так хорошо, то нет нужды к нему обращаться — к чему тратить драгоценное время на вещи, которые и так идут хорошо. При этом может показаться, что беседа о позитиве — всего лишь способ уйти от мыслей о неприятном или необходимость соблюсти вежливость в разговоре с теми, кто делится своим положительным опытом и т. п. Это можно истолковать так, что хороший опыт менее важен или может служить лишь предлогом для разговора. И хотя в психоанализе это так и есть, но в реальной жизни он действительно важен и актуален.
Человек исцеленный и человек здоровый
Возвращаясь к моему лагерному опыту, еще раз отмечу, что мне психоанализ помог понять разрушительные мотивации личности. К моему сожалению он не мог защитить меня от этого или объяснить стойкость других людей. Переоценивая психоанализ с учетом этого опыта, я пришел к выводу, что он исследует разрушительные влияния и не способен к исследованию положительных влияний. Исключением было конструктивное влияние самого психоанализа. С тех пор, как психоаналитики занимаются только негативом, эта область стала для них легитимной. Они не занимались теорией личности с позитивным направлением к хорошей жизни. Психоанализ все больше и больше начал становиться поводырем по жизни — прямо или косвенно — обеспечив теоретическими структурами науки, изучающие поведение.
Психоаналитики первыми бы заявили, что их теории и практика вышли за пределы узкого поля психотерапии — значение психоанализа признается в таких областях, как социология, педагогика, эстетика, и вообще в жизни. Но взятый вне контекста психотерапии психоанализ может привести к серьезным последствиям, будучи заостренным на мрачном и патологическом, а не на здоровом, нормальном и позитивном аспекте жизни. И такое преувеличение темной стороны психики может привести к теоретическому признанию того, что наличие, а не отсутствие дурного, есть норма для здоровой личности.
В этом пренебрежении позитивом лежит еще одна опасность. Можно прийти к мнению, что самореализация достигается освобождением человека ото всего, что причиняет ему боль, или же, если это не помогает — компенсированием серьезной патологии через интеллектуальные или артистические достижения, как это было с Бетховеном. При таком длительном творческом успехе, могут разрушаться и близкие к артисту люди.
Предпочтение компенсирования норме (подобно религиозному отношению, что небеса радуются больше о кающемся грешнике, чем о праведнике) — опасная нравственная позиция, как в психотерапии, так и в обществе. Она делает акцент на трагическом и впечатляющем, а не на обычном счастье — жить в относительном благополучие в семье и с друзьями. Такая философия, концентрирующаяся на разрушительных инстинктах и смакующая патологию, заканчивает (не желая того) отрицанием жизни. Обычный, хорошо живущий, человек, может не сотворить ни одного шедевра, не стать жертвой невроза, не компенсировать свое эмоциональное смятение великими интеллектуальными или художественными достижениями, но никогда он не разрушит жизнь своего племянника или брата.6 Он только будет пытаться самому жить в счастье. Но если патология становится контекстом всех человеческих действий, то такая жизнь может оказаться лишенной достижений или значимости.
Фрейд хорошо это понимал, ведь он настаивал, что нет психоаналитического мировоззрения (Weltanschauung), а его наука заключалась в том, как воспитать из ребенка нормальную личность. Но с тех пор, как психоанализ оброс различными теориями, он стал выполнять работу, к которой все еще плохо подготовлен.
Делая недолжные выводы из мимоходом сделанных заметок, Фрейд полагал, что признаками здоровья являются способности к любви и к труду. Но хотя он развил великолепную теорию либидо (секс, агрессия), он оставил нам мало теоретического материала для понимания природы и важности постоянных человеческих привязанностей, а также труда, в рамках своей системы.
Неадекватность психоаналитической теории для понимания позитивных творческих сил выражена в психоаналитической литературе о великих людях. Начиная с работы Фрейда о Леонардо, появились психоаналитические исследования о Бетховене, Гёте, Свифте. В каждом из них, делается акцент на патологии и на ее влиянии на творчество героя. В контексте психопатологии все три — чуть ли не на грани шизофрении. Но настоящая загадка их жизни — это не психопатология, а творческие успехи.
Именно их вклад в искусство широко признан, и именно поэтому интересны сами творцы. Но как утверждал Фрейд, анализ детских лет жизни Леонардо не пролил свет на источник его таланта, ведь точно такой же опыт ни к чему не привел многих детей. Поэтому Фрейд признал, что его анализ не объяснил, да и не мог объяснить гениальность Леонардо. И также обстоит дело с теми, кто писал о Бетховене, Гёте и Свифте.
Все три работы только подтверждают, что психоанализ лучший метод для понимания скрытого человека, но постичь всего человека он не в силах, и менее всего способен понять, что же делает человека «хорошим» и «великим». И если психоанализ может объяснить психологический переворот, начало и причину патологии, то он не в состоянии понять, как и почему происходит положительное развитие.
В одном месте7 я пытался показать, что психоаналитическая интерпретация обрезания как символической кастрации принимает в расчет только патологические аспекты этого обряда (увечье гениталий), не упоминая положительных аспектов (магическое употребление гениталий для плодоношения). С негативной точки зрения этот обряд деструктивный. Рассмотренный целостно, он, наоборот, укоренен в идее плодородия и зарождения новой жизни. И когда человек перестает магически участвовать в чадородии, он обращает свои творческие силы на общество и на физический мир. И в таком случае рассмотрение «сексуального» значения обрезания, как единственного или основного его значения, было бы серьезной ошибкой по отношению к его великому творческому достижению.
Между подходом и практикой
Куда серьезней неверного толкования обрезания, может быть неправильная интерпретация детского опыта, акцентированная на негативных сторонах воспитания и не учитывающая его положительных сторон…
Например, благодаря психоанализу, легко увидеть как пеленание или колыбелька влияет на свободу передвижения ребенка, ограничивая спонтанное развитие его движений. Но также легко понять, что, наряду с этим пеленание обеспечивает и безопасность малыша.
Еще труднее понять, какие могут быть радикальные последствия, когда новые подходы в отношении свободы и сдерживания станут применяться на практике. Что будет, если дать свободу малышу ползать в кроватке, играть с шариковой ручкой или перемещаться по гостиной? И как он себя поведет, если его неожиданно и строго ограничить в конкретной ситуации? Резкие перемены от свободы к ограничению требуют сложного приспособления к среде. Ребенок должен сформировать внутреннее разрешения свободного движения и одновременно внутренний запрет на случайные движения. Это куда сложнее, чем раз и навсегда принять, что движение запрещено, как в случае с запеленатым ребенком.
Такие современные методы воспитания не занимаются дихотомией между «движение-и-отсутствие безопасности» и «неподвижность-и-безопасность». Согласно теориям, вышедшим из психоанализа, жизнь предположительно легче и приятнее, когда нет ограничений. В реальности, чтобы понять, что ребенок получает в состоянии большей свободы, нужно сопоставить противоположные типы поведения и противоположные наборы внутренних комманд. И это при том, что ребенок еще достаточно мал, чтобы управляться с такими сложными условиями смены поведения и в силу этого преуспеть в личностном росте. Такой подход преждевременен по двум причинам. Во-первых, поскольку предполагается, что ребенок способен делать тонкие различия в раннем возрасте. Во-вторых, поскольку родитель должен выступать в противоречивых ролях, в то время как ребенок нуждается в однозначном поведении родителя.
И это еще не все. Ребенок не просто должен понять, что в одной ситуации у него большая свобода движения (когда он почти весь день ползает), а в другой этой свободы нет (когда его моют или кормят). Он еще должен уяснить, что радикальное и внезапное вторжение в его свободу связано с двумя самыми важными моментами, от которых зависит его жизнь, а именно — заключение и освобождение. Дразнение обещанием и дарованием свободы в жизни малыша символично проявляется в свободе передвижения в относительно незначительных ситуациях.
То, что я привел эти примеры, не значит, что я освоил проблему влияния среды на ребенка. Я только хотел показать, насколько сложны вопросы, возникающие при использовании психоаналитических подходов (в данном случае, дискомфорт пациента как следствие родительского вторжения в свободу передвижения) к обычным жизненным ситуациям.
Настоящая практическая задача заключается в том, чтобы найти, сколько и каких ограничений нужно сократить, или как изменить ту или иную жизненную ситуацию, чтобы можно было снять запреты, связанные с безопасностью. Или как наилучшим образом применить достижения психоанализа на практике.
Борьба с теорией
Эта проблема и вообще интерес к воспитанию и обучению связаны у меня с опытом лечения двух аутичных детей. Я переосмыслил психоанализ, наблюдая их вблизи, и попытался создать среду, которая была бы сугубо терапевтической и обыденной одновременно.
Затем я работал в Ортогенической школе Сони Шэнкман при Чикагском университете. Там я пришел к мысли, что для полной эффективности психоанализа нужно, чтобы дети жили с родителями.8 В школе дети жили без родителей и, несмотря на мягкую атмосферу, у них не наблюдалось улучшения.
Попав в комфортные условия, некоторые, а в особенности, деградировавшие дети, почти утратили стимулы к изменению. Многие просто оставляли психоаналитические занятия, поскольку у них было все, чего они хотели, а именно «идеальное» окружение. И, ничего бы не изменилось, даже если бы они менялись к лучшему в личностной интеграции, чего они не делали, а если и делали, то неадекватно.
И тогда я понял, что заблуждался, пытаясь создать целостное лечение, основанное на «любви» и на соответствующих суждениях о подсознательном, инстинктах жизни и смерти, поле и агрессии. Я понял, что одной любви не достаточно. Для личностного и общественного усовершенствования необходимо еще сформировать склонность к труду, при чем труду созидательному, исцеляющему, создающему личность (а не только «эго»).
Еще до этого, в концлагере, я понял ограниченность классического психоанализа, и вот снова я должен это признать, но уже на опыте создания целостного психоаналитического лечения.
Странным образом, но мне преподали урок именно эти две диаметрально противоположные ситуации. В одном случае я пытался применить психоанализ вне его сферы ради предотвращения, сдерживания или уменьшения деградации личности, вызванной давлением среды. В другом случае я пытался при помощи среды вывести личность из состояния распада.
Я много достиг, применяя психоаналитические модели и мне не легко было пересматривать те возможности, которые новых чувств и мыслей, которые открыл для меня Фрейд.9 Но различный опыт и наблюдения требовали ревизии. Первым, кто осознал необходимость этого, был Гартман, а впервые в теории произвел пересмотр Эриксон в книге «Детство и общество». Ему и многим другим я обязан излагаемыми в этой книге идеями. Я многое почерпнул из общения с Джоном Девеем и Фритцем Редлом, а также с Эмми Сильвестер из Ортогенической школы. Многое прояснилось из бесед с Рут Маркиз — моим издателем, а также в ходе преподавания и общения с коллегами по Ортогенической школе и учащимися в Университете. И именно это общение привело меня к пересмотру используемых мною теоретических моделей. Более того, оставаясь верным своей идее о путях создания лучшего общества и лучшей жизни, я стремился расширить сферу применения теоретических моделей, применяемых сугубо в микрокосмосе Ортогенической школы. Мои расхождения с психоанализом вытекали и того, что он мало уделял внимания позитивным жизненным силам и акцентировал все внимание на разрушительном влиянии неврозов.
Конечно, анализируя влияние общества на индивида трудно установить точку баланса между двумя крайностями — желчным пессимизмом и наивным оптимизмом, хотя бы потому, что теоретические модели оправдывают именно ту или иную крайность. Ведь совпадение противоположностей и отсутствие четкости не удобны для создания теоретических моделей. Вспомним пример с пеленанием ребенка — баланс между безопасностью и свободой сложнее, когда проявления свободы в одних местах ограничиваются запрещениями в других. В общем, наши трудности, дискомфорт и тревога связаны с тем, что мы ушли от традиционного уклада жизни. Одно дело — повторяемость обычных действий, другое — невозможность предугадать последствия действий, совершаемых в постоянно меняющемся контексте.
И именно проблемы, связанные с массовым обществом и быстрыми технологическими изменениями, показали мне, что только психоанализом (как он изначально задумывался) невозможно объяснить все динамические изменения.
Значимость окружения
Мир Фрейда и его первых пациентов был стабильным и менялся весьма медленно. Можно сказать, он практически не влиял на психологические изменения индивида, социальную матрицу жизни которого можно назвать константной. Примером может служить рекомендация аналитика не принимать никаких далеко идущих решений во внешней жизни, пока не закончится процесс психоанализа. Здесь проглядывает как пренебрежение анализа ко внешней жизни, так и уверенность в том, что за годы психоанализа вряд ли что-нибудь сильно изменится во внешней среде. Современная жизнь, наоборот, так стремительно меняется, что пациент не в силах «заморозить» свою внешнюю сферу на 3, 5 или более лет, чтобы спокойно принять какое-то важное решение.10
Если изменения происходят медленно и органично, если они ожидаемы и прогнозируемы, то для понимания личностной динамики, их можно не рассматривать. Они будут лишь нейтральным фоном для внутренних процессов.
Лишь дважды это мое убеждение было лишено силы — внезапное изменение образа жизни при заключении в концлагерь и переезд в Новый Свет. Попытка соотнести эти резкие перемены социальной среды с моими личностными изменениями привела меня к убеждению, что ни среда не может помочь понять динамику личности, ни личностное развитие не укоренено в биологии или прежнем опыте, как это предполагалось в психоанализе.
Но, если, с другой стороны, среда может оказывать длительное воздействие на личность, то такое влияние нужно изучить лучше. Более важно, чтобы человек был лучше защищен (например, в силу образования) от возможного деструктивного воздействия. Короче, человек должен одновременно и сам жить хорошо в обществе, и заново творить его в новом поколении.
Мне кажется, что мы не будем удовлетворены, увидев, что личностные изменения происходят вне социального контекста. Если это и может быть так для единиц, то для всех — вряд ли. А если учесть рост скорости социальных изменений, то говорить о независимости от них хоть кого-то вообще будет нельзя. Примером чему могут служить радикальные социальные перемены в когда-то традиционном Китае.
Если психоанализ чего-то достиг, изучая личность в стабильном социальном контексте, то теперь ему нужно иметь дело с личностью и социальным контекстом в их взаимодействии, при изменении того и другого.11
Взаимодействие
Первая мировая война и послевоенная разруха требовали внешних изменений к лучшему, занятия психоанализом укрепляли меня в мысли, что только он может обеспечить хорошую жизнь индивиду, а вместе с тем и обществу, лагерная жизнь показала как сильно может влиять среда на человека, но все же она не способна изменить некоторые аспекты личности.
Этот опыт затем кристаллизовался в эмиграции, снова поставив передо мной вопрос — до каких пределов условия жизни и приспосабливание к ним могут изменить личность и какие аспекты личности остаются относительно незатронутыми радикальным изменением среды. Я здесь говорю не о манипулировании человеком при помощи среды, а скорее о степени свободы, которая остается человеку для манипулирования новой средой исходя из своих нужд, а также об уровне традиционности, сохраняющей человека.
Наблюдая за жизнью собратьев по эмиграции, я понял, что и здесь существует широкий спектр типов поведения. Одна крайность проявлялась в том, что индивид строго держался уже ненужных ценностей и отношений — только потому, что они запечатлелись в его сознании из прошлой жизни. Другой крайностью было тотальное приспосабливание к новой ситуации с усваиванием чего-бы, то ни было. Только в редких случаях я видел тонкое взаимодействие между личностью и окружением, и как следствие — высокий уровень интеграции.
Если до этого я испытывал деструктивное влияние среды на мою жизнь, то в США мне посчастливилось испытать и оздоравливающее воздействие новой и более свободной среды. Окружение может не только уничтожать, но и исцелять, особенно, если к его влиянию добавляется воздействие психотерапии.
И я попытался использовать такое благотворное взаимодействие на практике. И оно не должно быть механическим соединением. Работая над микрокосмосом Ортогенической школы12, я понял, что в некоторых отношениях он препятствует успеху психоаналитического лечения. И как ни тяжело было это признать, еще труднее было принять то, что сам психоанализ может иметь негативное воздействие и даже на среду, созданную частично по его образу. В итоге я осознал насколько тонок баланс между средой, личностью и психотерапией.
С тех пор я стал заниматься этой проблемой — до какого момента может среда влиять и формировать человека, его жизнь и личность, и как воспитать человека, чтобы он мог выстоять в любой среде, и если нужно изменить саму среду к лучшему.
В частности же я занимался изучением того, как освободить методы психоанализа от параллактических извращений фактов, идущих прямо или косвенно из самой ситуации анализа или преувеличении бессознательного в ней. Если добиться этого, то психно-аналитические находки можно было бы применять к реальной жизни, а не только при изучении подсознания в кабинете психоаналитика. Можно было бы планировать улучшение среды с последующим ее эволюционированием. Размышления, ведущие к изменениям, сопровождались бы дальнейшим разбором наших мыслей, планов и действий.
Таким образом, в процессе изучения и тестирования этого метода мы ответили бы на практический вопрос: что необходимо изменить в среде, чтобы воспитать детей так, чтобы у них было максимально больше шансов вести хорошую жизнь, и как их воспитать так, чтобы они жили достойно, несмотря на какую бы то ни было окружающую их среду.
После того, как в нашей школе мы реабилитировали безнадежных детей, после того как бывшие узники лагерей восстанавливались даже спустя десяток лет, мне кажется поставленные задачи, как бы ни были они трудны, все же выполнимы.
Глава 2. Воображаемый тупик
Только гению великого художника подвластно описание тонкого взаимодействия человека и его окружающей среды, которое есть сущность, как жизни, так и искусства. Поскольку я таковым не являюсь, я могу говорить о чем-либо в отдельности. Поэтому в этой главе я рассмотрю именно окружение — что оно формирует (или мы боимся, что оно формирует) в современном человеке. А в следующей главе я буду говорить о самом человеке.
Мнение, что мы живем в век неврозов, приводит многих людей к ощущению несчастья. Чувствуя дискомфорт нашей цивилизации, у многих растет недовольство. При этом забывается, что у каждого времени и у каждого общества есть свои типичные конфликты, свои формы дискомфорта, а значит и свои типы невроза. Сталкиваясь с современными проблемами, мы выделяем те их черты, которые вселяют в нас тревогу и порождают психические заболевания. Но в эпоху охотничьего общества, охотник думал не столько о добыче, сколько о том, чтобы самому не стать добычей. Земледелец беспокоился по поводу песчаных бурь, засухи и наводнений.
Иногда, кажется, что по мере развития общества, исчезают прежние неудобства, но не прежние тревоги. В то же время новые открытия приносят новые тревоги, все более абстрагирующиеся. Если охотник остерегался врагов или диких животных, земледелец добавил к этому еще и страх капризов стихии. А современный человек вдобавок тревожится по поводу абстрактных и символических вещей, таких, как нормы поведения или мораль. Современная мать помимо страха за жизнь свою и ребенка еще и боится не состояться как мать. Короче, какие бы формы не принимала наша деятельность, ей всегда сопутствуют глубинные страхи. В эпоху машин человек страшится быть лишенным человечности своими собственными руками. Тому свидетель социальный страх различных зол массового общества и психологическая тревога по поводу утраты самоидентичности.
Столетие назад поэт Гейне, посетив Англию, выразил свою тревогу в отношении индустриальной эпохи: «Совершенство повсюду здесь применяемых машин отменяет столько человеческих функций и приводит меня в отчаяние. Эта искусственная жизнь на колесах, стойках, цилиндрах с тысячами чуть ли не страстно двигающихся мелких крючков, стержней и зубцов наполняет меня ужасом. Их определенность, точность и четкость, чисто английская умеренность утомляли меня. Английские машины настолько походили на человека, что казалось, человек стал походить на машину. Да, дерево, железо, медь, казалось, узурпировали человеческий разум, став почти сумасшедшими от избытка разумности, в то время как умалишенный человек наподобие опустошенного призрака автоматически исполняет свои рутинные обязанности».
Я не знаю, что чувствовал древний кочевник, наблюдая за оседлыми поселенцами. Может, он чувствовал невыразимое словами чувство тревоги за своих бывших товарищей, оставивших странствование ради относительной экономической выгоды и безопасности. Но современный арабский кочевник, конечно, сожалеет о тех, кто оставил свободное кочевье ради комфорта оседлой жизни. Он чувствует, что человек призван быть свободным как ветер. Странно, что пустынный ветер — этот символ свободы — также для кочевника и бранное слово, а ведь он едва может себя от него защитить. И все же он прав: некоторое рабство есть в оседлой жизни, некоторая свобода и удовлетворение жизнью оставляются взамен на некоторый комфорт и меры безопасности.
Современный же человек страдает от неспособности сделать выбор между отказом от свободы и индивидуализмом, или отказом от материального комфорта при помощи современных технологий и безопасностью внутри массового общества. И в этом истинный конфликт нашего времени.
В сравнении с ним индивидуальные неврозы, основанные на отрицании самой проблемы — периферийны. Они менее важны, хотя и угрожают многим людям сегодня. Такое отрицание может принимать форму всеми средствами декларируемого индивидуализма (как это делают цыгане) или наоборот отказа от всякой индивидуальности ради полного приспособления.
Столкнувшись с таким кажущимся тупиком, вместо поиска новых путей анализа или способов его разрешения, цыгане склонны отрицать само существование тупика невротическим или существенно упрощенным вариантом выбора. Менее подавленные или менее экстремально живущие люди пытаются вырваться из тупика, устремляясь в одном единственном направлении или сразу в нескольких. Одни делают ставку на вытеснение из сознания, другие выражают подавленные желания действием или регрессией, а третьи страдают от иллюзий.
Отрицание проблемы
Алкоголизм — наглядный пример того, как общество показывает один из иррациональных подходов выхода из социального тупика. Столкнувшись с алкоголизмом США решили устранить проблему законным образом наподобие вытеснения как это бы сделал индивидуум. Такое отрицание сложности проблемы и как следствие ее утаивание не только не решили проблемы, но привели даже к наименее ожидаемым результатам. Репрессивный маневр ослабил политический аппарат, приведя к росту насилия, преступности и худшим формам алкоголизма. Хотя сухой закон был отменен, мы еще испытываем на себе последствия этой национальной психотерапии, ведь криминальные синдикаты никуда не исчезли.
Этот пример касается проблем механической эпохи в целом. Ведь никто серьезно не задался вопросом о запрещении механических изобретений. Чаще видишь тенденцию замалчивать существование проблемы. Или как лицо, страдающее зависимостью, наше общество рвется вперед, не думая о последствиях — все к большей механизации жизни — ожидая, что более продвинутые технологии решат все проблемы. И здесь мы поступаем как алкоголик, который пытаясь избавиться от похмелья, начинает новую пьянку.
Другой уклончивый маневр — это уход в примитивизм, например, бегство из техногенного мира в более простые типы цивилизации. Считая, что в них нет проблем, связанных с техникой, беглецы забывают, что эти цивилизации в свою очередь страдали от свойственных их образу жизни проблем.
Например, многие интеллектуалы ищут утешение в простой вере своих предков. Они принимают новые тревоги по поводу ада и воздаяния, без гарантий получить эмоциональный покой, который испытывали их предки от религиозных бдений.
Также не найдет искомого уюта человек ХХ века в веке XVIII. Если мы охвачены неврозом на почве ненависти к грязи и запахам, мы не найдем утешения в жизни в зловонной выгребной яме или просто на улицах колониального Вильямсбурга. Современный Вильямсбург снабжен водопроводом и канализацией — это милое место для уик-энда, но не место жительства человека технического века.13
Задумчивая оглядка на блага других цивилизаций только исказит наш взгляд и помешает в поиске жизненного решения проблем нашей культуры. Какими бы ни были удовольствия от охоты, они не могут исцелить человека от вреда, наносимого технологической эрой. Более того техника проникает и в сферу развлечений, но и там она в лучшем случае дает возможность уйти от проблем. Ведь сколько не повторяй медовый месяц, он не исправит плохой брак, но приведет к бессмысленным повторам и росту дискомфорта.
Сколь долгим не был бы отдых от машин, он не устранит машины из жизни, где они доминируют. Выход может быть в том, чтобы доминировала человечность, а полезность машин была бы сообразной этой человечности. У каждого времени и у каждой цивилизации свои проблемы и свои неврозы, также как и свои методы их разрешения. Пока мы не будет учитывать этот факт, мы будем предписывать неподходящие для конкретного времени и общества лекарства.
Чтобы выжить в эпоху проповеди об адском огне и воздаянии, необходима соответствующая вера в воскресение и спасение. Вопрос нашего времени состоит в том, что же нам необходимо, чтобы выжить в современную эпоху техники с ее отчуждением человека от человека и человека от природы. Я не претендую на то, то найду ответ на этот вопрос, но стремление к этому — одна из целей данной книги.
Невольное рабство
В моей ежедневной работе с психически больными детьми и в моих попытках создать условия для возвращения их к здоровью я столкнулся с проблемой, как наилучшим образом использовать достижения науки и техники для понимания человека, при этом без попадания к ним в рабство.
Конечно, что-то выходило лучше без машин, но при правильном их использовании возможно устроение более свободной жизни, ведь машины были придуманы, чтобы освободить людей от рабства. Но не все так просто.
При использовании новых технологий мы должны проверять их применение самым тщательным образом. Удобство от новой машины всегда очевидно. Зависимость же, в которую мы можем попасть при ее использовании, не всегда видна даже при длительном использовании. И незначительные неудобства при использовании кажутся слишком мелкими для отказа от машины или от изменения шаблона операции. Тем не менее, при сочетании каких-либо иных недостатков мы приходим к необходимости значительного и нежелательного изменения в области нашей жизни или работы.
Это то, что я называю «обольщением». Преимущество машин так очевидно и так желаемо, что мы постепенно, шаг за шагом обольщаемся и игнорируем цену, которую платим за их бездумное использование. Я ставлю акцент именно на бездумном использовании, поскольку у каждой машины есть и разумное использование. Но для этого, как и для того, чтобы сохранить свою свободу, необходимо самое тщательное обдумывание и планирование.
Если нужен пример, то это телевидение. Много говорилось про содержание программ, но я хочу сказать не об этом, а о том, что продолжительный просмотр телепрограмм влияет на способность детей к общению с реальными людьми, к самостоятельности и к осмыслению своей жизни без обращения к экранным стереотипам.
Многие дети от 4 до 6 лет в общении прибегают к лексике из их любимых шоу и обращаются больше к телеэкрану, нежели к родителям. Некоторые из них кажутся неспособными к восприятию речи, если она не похожа на эмоционально окрашенную и неестественно искаженную речь теле-героев. Более того, сами взрослые проводят много времени у телеэкрана, а если и говорят о чем-то, то их голоса перекрывает звук из телевизора.
Привыкнув к яркой, но упрощенной телереальности, дети становятся не способными к восприятию обычной, но более сложной жизни, ведь в итоге никто не придет и не объяснит все, как в кино. Теле-дети ждут объяснений, не пытаясь сами докопаться до них, и теряются, когда не могут уловить смысла происходящего в их жизни, а затем снова погружаются в предсказуемость сюжета теле-историй.
И, если позже эта инерция не будет снята, то эмоциональная изоляция, зародившаяся у телеэкрана, будет продолжаться в школе. И приведет, если не к неспособности, то, по меньшей мере, к нежеланию быть активным в учебе или в общении с другими людьми. В подростковом возрасте эта замкнутость может привести к более серьезным последствиям под давлением сексуальных эмоций, когда личность может начать разрушаться, не умея вытеснять или сублимировать их, или же удовлетворять через личностные отношения.
И в этом обольщении пассивностью или неуверенностью перед лицом жизни (а вовсе не в содержании омерзительных шоу) заключается настоящая опасность телевидения, но эта «ТВ-пассивность» всего лишь один из аспектов всеобщего мнения «пусть это делают машины».
Конечно, нет и речи о том, чтобы выкинуть ТВ из дома. Но надо знать, чем мы за это заплатим. Если ребенок пассивен перед ТВ, надо создать для него активную деятельность (при чем помимо физкультуры). Дети должны учиться жить и принимать решения непосредственно, а также отстаивать их, не принимая с готовностью чужого правильного решения.
Может нечто, менее противоречивое, чем ТВ, может дать более конкретный пример. Я не могу себе представить домохозяйку, которая не была бы довольной появлению посудомоечной машины. Но в некоторых семьях электрическая посудомойка устранила нечто ежедневно объединяющее семью — в то время, как один мыл, другой вытирал посуду. Посудомойка же не просто лишила усталости, она еще и подарила свободное время. Хотя домохозяйка скажет с тоской: «Да, это было мило, когда мы, уложив детей спать, каждый вечер мыли вдвоем посуду».
Эта необходимая рутина объединяла супругов. Очевидно посудомойка предпочтительнее ручной мойки посуды, да и у семьи появляется время на какое-нибудь совместное дело. И в этом, конечно, машина, помогает, если только не разлучает людей. Но в каких семьях это действительно очевидно?
В Ортогенической школе у нас не было выбора. Исходя из наших задач, мы использовали достижения современной науки и техники, не идя с ними на компромисс. От ошибок нас оберегало осознание того, что техника помогает нам понять невротические симптомы и их причины, а, следовательно, устранить препятствия к подлинной человеческой свободе и искренности.
Иллюзии современности
Если невротические или психические отклонения укоренены во внутренних проблемах человека, то внешние их проявления или симптомы отражают природу общества. Тотальная дисфункция и крайняя тревожность свидетельствуют о психических нарушениях. Зачастую в преувеличенной форме они выражают то, что тревожит всех нас. И более, чем невротическое поведение, они могут рассказать о том, в чем происходит сбой при решении той или иной проблемы.
В средневековье, когда человек не мог справиться с встающими перед ним проблемами и убегал в иллюзорность, то он называл это состояние одержимостью. Но при этом, он считал, что его может исцелить помощь святых или ангелов. Во все времена и во всех культурах были люди, считавшие, что они одержимы или преследуемы какими-то потусторонними силами. Мы думаем, что такая нужда приписывать внутренний конфликт внешним силам возникает, когда индивидуум чувствует, что он не в силах решить проблему силами своей собственной психики.
Сексуальное обольщение демоном не часто использовалось, пока абсолютное целомудрие не стало внутренней целью, признанной как обществом, так и индивидуумом. Так верование, что для соблазна женщины нужен демон-искуситель, отражает тот факт, что внутренний стандарт целомудрия был столь строгим, что для его нарушения требовались сверхчеловеческие силы (злые духи). Но то же верование показывало, что для снятия неразрешимых внутренних противоречий общество прибегало к добрым духам.
В новое время решение проблем общество стало видеть в культе великих людей, о чем говорит преобладание мегаломанического бреда о мнении себя Наполеоном и т. п. Ангелы и демоны были сверхъестественными существами, но в человеческом образе. А великий человек — всего лишь апофеоз среднего человека. Даже если у человека мания преследования, то преследователь представляется в образе собаки или иного живого существа. А что можно сказать о страхах времени, в которое не верят ни в ангела, ни в великого человека, но считают, что все проблемы решаются механическими «мозгами» или управляемыми ракетами?
Современный человек больше не ищет решения своих неразрешимых проблем в нирване или на небесах, но с надеждой взирает на космическое пространство. В той мере, в какой он уповает на ядерное оружие и баллистические ракеты, в той же мере его преследует страх атомной бомбардировки. Действительно новое в чаяниях и страхах машинного века то, что спаситель и разрушитель больше не предстают в человеческом облике, они больше не являются носителями человеческих качеств.14
Кроме того, сверхъестественные силы не воспринимались как слуги, а научные открытия и машины как рациональные создания человека призваны ему служить. Переход от полезной, но неразумной машины к машине-манипулятору и даже машине-убийце рассматривается не как изменение типа, а как изменение параметра или уровня.
Типичный пример можно привести из немецкого опыта с Kartenmensch — картотечным существованием. Картотека из перфокарт, обрабатываемая машиной, превращает каждого из нас в простой набор полезных характеристик, согласно которым нас отбирают заинтересованные лица. Случается, что мы бываем востребованы как целостные личности.
Возможно апокрифичная история из «Нью-Йоркера» проиллюстрирует это положение лучше длинных рассуждений. Одна дама записалась в книжный клуб, дела его пошли неважно, и она покинула его. Но ей продолжали приходить перфокарты с требованием оплатить счета несуществующих заказов. Она многократно разъясняла, что больше не состоит в клубе и ничего не должна. Карты продолжали поступать. Тогда она взяла карту своего сына и пробила там несколько дырок. Это машину устроило. Карты больше не приходили. Машинная организация смогла понять только машинный ответ.
Это забавная история. Наша готовность подчиняться требованию не портить перфокарты должна заставить нас задуматься. Большинство из нас, не задумываясь, мнет рукописные письма, а к требованиям машины мы относимся с большим уважением. Я понимаю, что нельзя ждать от машины приспособления к человеческим прихотям. Но чего ждать от будущего, когда мы все больше должны отвечать на перфокарты и все меньше на рукописные письма, запросы и даже чеки. Невозможность отреагировать свободно (например, смять или согнуть перфокарту как письмо) нарушает нашу основную способность реагировать искренне. Чем больше мы должны будем сдерживать спонтанность, тем быстрее она выйдет из употребления.
Кажется, что изменение уровня сложности принятия решения меняет природу процесса принятия решения и лишает его человеческих качеств. Гораздо проще задействовать перфокарту или номер ей соответствующий, чем обратиться к человеку. Много манипуляций, обычно вызывающих сопротивление, теперь спокойно проходят, поскольку все, что нужно сделать манипулятору, — это вставить безликие карточки в сортирующую машину. После сортировки остается лишь предписать выбранным машиной людям выполнение задания.
Люди, которые рассматриваются начальством как цифры на перфокарте, и сами начинают смотреть на себя как на цифры. Как заметил Дж. Х. Мэд, наш образ, создаваемый другими, меняет нас самих. Психоанализ указывает, что, каковы бы ни были рациональные причины действий, есть также и бессознательные мотивации. Каковы бы ни были рациональные обоснования использования перфокарт (избежание человеческих ошибок, экономия времени, рационализация процесса), есть еще и иррациональный аспект.
Ответ можно найти в методе восстановления личности по психоанализу: нельзя отрицать опасность или пренебрегать ею, нельзя убегать от трудностей путем разрушения или отказа от преимуществ. Нужно понять опасность и встретить ее осознанным действием, обоснованным личным решением. Это нейтрализует опасность и позволяет нам воспользоваться преимуществами технологий, не позволяя им лишить нас человечности.
В том же контексте можно рассмотреть проблему изобретения. С одной стороны машины изобретаются ради пользы. С другой стороны изобретатель проецирует в них человеческое тело либо его части. Получается, что человеческое тело и его функции или движения бессознательно использовались для изобретений.
В современном массовом производстве рабочий выполняет повторные узкие задачи и не в состоянии воспроизвести весь производственный процесс.
Как только современные машины больше не признаются как очевидные продолжения наших функций, так мы все больше и больше приходим к нечеловеческим проекциям. Например, характерная черта современного безумия — «влияющая машина» — аппарат, вкладывающий в голову мысли или принуждающий действовать против свободной воли. Такие машины, как форма иллюзий, появились только после того, как электрические машины стали не просто обыденным явлением, но способом ответить на важные социальные проблемы. Сегодня все чаще для решения личных проблем требуются психологические навыки и влияния. Появился термин «промывание мозгов», и широко распространилось мнение, что мысли и убеждения могут быть вложены в голову посредством психологических техник, что вызывает иррациональную тревогу. Усиливающаяся вера в спасительную и разрушительную силу психологии заменяет веру в святых, демонов и даже влияющих машин. Это выражение иллюзорных чувств, беспомощности перед подавлением воли или манипулированием ей.
«Влияющие машины» появились как человеческая проекция, но, усложнившись, утратили человекоподобие, что вызывает еще большую тревогу у психотических персон, боящихся зависимости от них. Так современный человек, здоровый или нет, стал страшиться преследования машинами, в то же время возлагая на них функции защиты или спасения.
Машинные боги
Все эти достижения описаны в популярной научной фантастике. Если машины могут делать все больше и больше, то человек все меньше и меньше. Можно вспомнить древнее философское суждение, что если бы у коров и свиней были боги, то они были бы похожи на свиней и коров, только с более совершенными чертами. Учение о том, что человек сотворен по образу Бога, или наоборот, многое говорит о страхах и чаяниях самого человека. Также и машинный бог говорит нам о надеждах опасениях человека машинной эпохи. В такой перспективе можно найти в научной фантастике «проблемы пространства и времени, реальности и идентичности, длительной изоляции и личной экзистенции и все это в непрерывной смертельной схватке с машинами».15
Даже в сравнении с материалом вестернов, насыщенных сексуальными и агрессивными желаниями, современная фантастика описывает высокотехнологичным мир с примитивными эмоциональными состояниями. На космическом корабле человек обеспечивается всем жизненно необходимым наподобие эмбриона в утробе матери. Как эмбрион его волнуют только проблемы ориентации в пространстве, равновесия, гравитации и т. п.
Идеи о безграничном пространстве и царящих в нем невообразимых опасностях вызывают чувство безразличия и страх перед утратой идентичности. Машиноподобие, навязываемое человеку миром машин только усугубляет это состояние.
К подобным заключениям приходят и другие исследователи данного феномена. Например, Бернабо пишет, «что в век механических мозгов, спутников, межпланетных полетов эти научные фантазии вызывают гораздо большую тревожность и соответственно более глубокую регрессивную защиту, нежели во времена веры в полубогов, злых духов и магию».
Я не специалист в научной фантастике. Но мне кажется, что даже те авторы, которые предвидят многие научные достижения и их роль в покорении природы, также предугадывают и негативные плоды прогресса. Выходит, что те, чьи надежды связаны с новейшими достижениями науки и техники, сами томятся тревогой технического уничтожения человечества.
Кроме того, развитие научной фантастики меняет и взгляд человека на самого себя. Её герои практически лишены человеческих качеств. Обезличивание выражается в таких именах, как Ог или М-331, а также в отсутствии тела или в пренебрежении к нему, не говоря уже об интимных отношениях. Истории о чудесах прогресса заканчиваются фантазиями о разрушении мира.
Что же делать…
Если изначально машина мыслилась как слуга человека, то теперь появился страх, что она может стать его господином. Но в машине есть только то, что мы вкладываем в неё, и важно понять, что же мы можем в нее вложить, что она станет управлять нами в реальности, а не только в фантазиях. Здесь можно вспомнить роман Дж. Оруэлла «1984 год».
Современный шизофреник, боящийся умных машин — не в худшем и не в лучшем (разве, что имеет доступ к психотерапии) положении, чем средневековый человек, боящийся преследования демонами. Но наука, а не вера в ангелов, спасла нас от этого. У машины единственное происхождение — человеческий разум и он должен помочь понять, что может нас защитить от власти машин.
В завершение этой главы повторю, что у каждой цивилизации есть свои плюсы и минусы. Живя в нашей, мы должны максимально использовать доступные нам блага и минимизировать негативные стороны. Тупик в дилемме между свободой и рабством непродуктивен. Наподобие случая с арабским кочевником, который может выбрать либо свободу с дискомфортом и незащищенностью, либо рабство с неудовлетворенностью и большей безопасностью. Перед нами этот выбор встает, когда мы думаем о машинной эпохе, массовом обществе или опасности атомной катастрофы.
Решение может быть найдено при противопоставлении внешней и внутренней свободы, эмоциональной свободы и свободы скитания или выброса агрессии. Опасность состоит еще и в том, что машинный век предоставляет материальный комфорт практически каждому, но в силу своей доступности он иском не в добавление к душевному покою, а вместо него. И тогда мы становимся зависимыми от комфорта и нуждаемся все больше и больше в технологическом прогрессе, чтобы заполнить им душевную пустоту. И в этом, как мне кажется главная опасность машинной эпохи, но это не значит, что мы обречены на нее.
Глава 3. Осознание свободы
Где пролегает грань, препятствующая вторжению во внутреннюю жизнь? Этот вопрос терзает человека с момента понимания человеком себя как члена общества. Он становится еще труднее, если мы признаем подвижность этой грани как для адаптации к законным, но не статичным, нуждам общества, так и к своим внутренним, меняющимся с ходом жизни, требованиям.
Были времена, когда сознание руководствовалась религиозными нормами, и тогда возникал конфликт между государством и церковью — за право заботиться о человеке. Бывали и тупики с шаткими перемириями — забота о телесном вверялась государству, а попечение о духовном — церкви. Но с утратой дуалистичного взгляда на человека такое разделение перестало быть обоснованным. Когда религия перестала быть источником знания о человеке, ему осталось уповать только на самого себя в поиске барьеров, ограждающих его от вторжения социума.
Западный человек вырос не желающим вверять свое сознание кому бы то ни было — будь это священник, философ или партийный лидер. Только он сам может развивать, владеть и охранять его. Но тогда проблема насколько можно позволять государству вторгаться в чью-то жизнь становится очень личным делом, которое каждый вынужден решать по-своему. И именно поэтому современная наука выращивает менеджеров общества от политики, экономики, социологии и психологии, последствия чего еще недавно казались невообразимыми. Современные технологические достижения требуют кооперации больших групп людей, но ради успеха дела их нужно постоянно контролировать. Для этого также используются технологии, но при этом совершенно не учитывается психическое благополучие людей.
Технику (в том числе и технику управления) как таковую можно использовать и на благо и во зло. Поэтому считается, что контроль ради благих целей (как в случае с правлением философов) это хорошо, по меньшей мере, не плохо. Но такое мнение опасно. Оно не учитывает комплексных и зачастую серьезных последствий внешнего контроля. К тому же, когда слишком уменьшается сфера принятия свободных решений, сокращается и область личной ответственности, а значит, и автономности. При этом считается неважным, как были достигнуты «правильные» решения.
Все это вытекает из убеждения, что, если человек еще не целиком разумное животное, он должен им стать. Он должен быть мотивирован только рационально. Но самочувствие человека зависит и от его душевных переживаний. Считается же, что относительное удовлетворение человек получит от максимально рационально организованного общества. Однако, в действительности во всяком обществе, как бы оно ни было устроено, всегда есть деление на счастливых и несчастных.
Принятие решения
Историческое высказывание «налогообложение без представительства — тирания» заключает больше смысла, чем принято считать. Речь здесь не о том, какие и как собирать налоги, или на какие цели их тратить. И не о том, что налоги посягают на частнособственнические права и не должны взиматься без согласия собственника. Собственность и доход, в конце концов, — продукт общества и зависят от его структуры. Поэтому они не столь уж частное дело, как утверждают любители этой цитаты. Судя по первому взгляду, она призвана защитить право на собственность, но по сути она устанавливает тесную связь между принятием решения и тиранией. Достаточно вспомнить исходную фразу, в которой нет речи о тирании: «ни одна часть из владений Его Величества не может облагаться налогом без согласия их представителей».
Согласие на взимание налогов — это одно дело, и изначально не большой важности. Но запрещение кому-либо участвовать в принятии решения по глубоко касающимся его вопросам, вызывает чувство беспомощности и подводит человека под тиранию. Человек чувствует тиранию, когда он не в состоянии принимать свободные решения и предпринимать свободные действия. В одни времена это касается денег и собственности, в другие — чувства независимости с правом на свободу мысли, речи и вероисповедания, или, как сейчас, со свободами, все больше вытекающими из страхов или желаний.
Нужно осознать как действительность, что же заставляет человека чувствовать себя под гнетом тирании в том или ином народе, сообществе или группе. Как писал Гегель, «история мира — ничто иное, как прогресс осознания свободы». Очевидно, есть разные уровни этого осознания, в разные времена и в разных странах оно либо заостренное, либо притупленное. Так утверждение о налогах и тирании относится ко времени американской революции, когда вопросы права на собственность были первостепенными для колонистов.
И действительно революции и войны (в том числе и «холодные») возникают именно потому, что внутри общества (или между обществами) сложились разные уровни сознания. Возможно, многое из того, что нас сегодня тревожит, связано с тем, что в одной части мира вопросы борьбы с нуждой преобладают над вопросам свободы мысли, в то время, как в другой части мира экономические проблемы уменьшились настолько, что человек больше думает о свободе передвижения, карьере или смене занятий или же о свободном выражении своих политических или эстетических воззрений.
Решение вопроса, является ли то или иное устроение государства и общества тираническим, зависит в основном от того, насколько его члены обеспечены относительной свободой выбора и свободой принятия решения по основополагающим для их понимания свободы пунктам. При этом можно подумать, что чем больше важных сфер жизни пронизано таким пониманием, тем большего прогресса достигло данное общество. Но, увы, кто будет решать какие сферы жизни важные, а какие нет? То, что одним воспримется как тирания, для другого будет простым неудобством, а для третьего глупым вопросом. И, если сознание свободы варьируется от типов людей и типов сфер свободы, что определяет принятие решения, то чувство автономности зависит от убеждения, что человек может принимать важные решения и поступать так, когда это большего всего требуется.
Если в детстве или в юности кто-то находит этот процесс невозможным по причинам социального или физического плана, то позже трудно будет это изменить, что может повредить, если не разрушить личность человека. Но не все, что вышло хорошо, сперва было легким и приятным. Принятие решения — трудный и рискованный процесс, в силу чего его зачастую избегают, даже там, где в этом нет необходимости. Однако, какими бы давящими не были обстоятельства, у человека всегда есть свобода преодолеет их. И, исходя из этого, человек внутренне смиряется или сопротивляется давлению среды. Да, конечно, в экстремально подавляющем окружении эти внутренние решения могут не привести (или почти не привести) к каким-либо практическим результатам. Поэтому, такие ни к чему не ведущие внутренние усилия человек склонен рассматривать как совершенно напрасную трату сил и, следовательно, отказываться от принятия решений.
С другой стороны, чем больше другие заботятся о чьем-либо благополучии, тем меньше поводов самому трудиться над принятием решений. Таким образом, затруднения с формированием сильной личности испытывают в равной мере как дети, живущие на всем готовеньком, так и сильно заброшенные или обездоленные дети. Многие из них либо склоняются к бессмысленному бунту (против бесцельности или тотальной спланированности их будущего), либо вообще перестают принимать решения, поскольку в их ситуации это пустая трата сил.
Занять позицию — внутреннюю (без явных последствий) или лучше — выраженную в действии — требует усилий. И если это не ведет к полезному результату, то хотя бы к сохранению сил, и так будет до тех пор, пока человек не осознает необходимость поддерживать «осознание свободы». Как было сказано, бессмысленность принятия решений обусловливается либо экстремальными обстоятельствами (когда принятие решения опасно для жизни), либо когда все жизненно важные решения принимаются другими согласно их представлениям о наилучшем благе (будь это родители в детстве или религиозные и государственные власти в зрелом возрасте).
Подобно нервам или мышцам способность принятия решений без постоянного использования атрофируется. В терминах психоанализа это значит, что эта способность собственно не функция эго, а наоборот, его источник, создающий, поддерживающий и развивающий эго.
А раз так, то любой внешний контроль, даже ради блага индивида, нежелателен, когда он слишком сурово препятствует развитию эго, то есть, когда он предупреждает первые шаги в принятии решений, а значит, и первые действия в сферах наиболее важных для развития и сохранения самостоятельности.
В теории это легко, но на практике трудно провести черту, до которой управление чьими-то делами возможно без вмешательства в автономность и вторжения в область личной свободы.
Конечно, эти вопросы имеют универсальное значение для всех времен и культур, но я хотел бы рассмотреть их на примере современности… Наибольшая опасность для развития самостоятельности, возможно, существует именно в наше время, поскольку, чем сложнее становится общество, тем больше нужна личная автономность как отражение большей эволюции «осознания свободы». Кроме того, мы острее чувствуем страдание, когда это сложное общество посягает на нашу внутреннюю и внешнюю свободу, но менее чувствительны к осознанию того, что тщательно разработанная стратегия развития нашего мира делает нас не способными к поиску, нахождению и сохранению этих ценностей, а также к острой боязни их утратить. Общество — это не раб, но и не свободнорожденный. Оба эти состояния зреют в нем одновременно.
Очевидно, что современный западный человек, вполне разумно наделив общество правом в определенной сфере принимать решения за него, позволил управлять некоторыми сторонами своей жизни. Современные технологии, массовое производство, массовое общество привнесли столько ощутимой пользы, так что отказ от них (даже из опасения, что они ведут к утрате самостоятельности) будет равнозначен самоликвидации. С другой стороны, мы доверили многие стороны жизни специалистам, что подталкивает нас отдать им еще больше из того, что еще могло бы сохранить сферу личной свободы.
Это не значит, что современный человек спешит отдать свою свободу обществу, или то, что в доброе старое время он был больше самостоятелен. Речь идет скорее о том, что научно-технический прогресс освободил человека от разрешения такого груза забот, который раньше он нес сам ради элементарного выживания. К тому же сейчас открылось немыслимое раньше количество возможностей. Итак, одновременно существуют: меньшая потребность в развитии самостоятельности, ибо можно выжить и без нее; и наибольшая её необходимость ради возможности самому за себя принимать решения. Чем меньше значимых решений нужно для выживания, тем меньше человек нуждается в развитии способности принятия решений.
Это как в психоанализе неразвитое и беспомощное эго послушно энергии id и суперэго. И если человек не использует и не укрепляет свою способность к принятию решений, то он становится ведомым своими инстинктивными желаниями или же общественными институтами. В первом случае, поскольку он не в состоянии организовывать и контролировать свои импульсы он стремится их удовлетворить и чувствует себя обманутым, когда общество не потворствует ему в этом — это «битниковский» стиль жизни. Во втором случае общество вынуждено вести его, поскольку он сам не руководит своей жизнью.
Если же человек прекращает развивать свое осознание свободы, оно ослабевает. Я имею в виду не просто деловую активность, а принятие решений, связанных с отношением к чему-либо. Сравним два отношения «Я хочу жить таким образом» и «Что проку быть другим» — они противоположны, хотя могут выражаться в одинаковом поведении. Вот почему даже из благих побуждений нельзя лишать человека возможности личного принятия решений, поскольку при этом быстро угасает самостоятельность.
Автономность
Я надеюсь, понятно, что термин «автономность» (самостоятельность, самоуправление) мало общего имеет с так называемым «бурным индивидуализмом», культом личности или шумным самоутверждением. Я имею в виду внутреннюю способность к самоуправлению с сознательным поиском смысла жизни даже там, где его не может быть. Это понятие подразумевает не бунт против власти как таковой, спокойный поступок, исходящий из внутреннего убеждения, а не из приспособления, чувства обиды, внешнего давления или контроля.
Простой пример — человек следует правилам дорожного движения не из страха перед ДПС, а из любви к себе и своей жизни. Автономность не значит вольность. Любое общество для развития и самосохранения нуждается в равновесии между индивидуальным самоутверждением и общим благополучием. Если инстинкты не сдерживать, общество погибнет. Баланс между противоречиями— внутри личностными и социальными — и разрешение их с учетом личных ценностей, просвещенного интереса к самому себе и к окружающим — все это ведет к повышению осознания свободы и формирует основу для углубленного чувства самосознания, самоуважения, внутренней свободы, короче, самостоятельности.
Отсюда же проистекает и сознание уникальности жизни, глубокие и значимые отношения с другими людьми, особенности биографии, сформированной человеком и формирующей его, уважение к труду и отдыху, личные воспоминания, цели, вкусы и удовольствия — все, что образует сердцевину самостоятельного существования. Они не просто позволяют приноровиться к разумным требованиям общества без утраты идентичности, но и вознаграждают человека бесценным, творческим опытом.
Человек, который может себе позволить получать удовольствие от изобильного питания, нуждается в более крепком желудке, нежели его собрат, довольствующийся простой пищей. Также и человек, пользующийся большими возможностями и свободой в устроении своей жизни, нуждается в более развитой личности, чтобы делать разумный выбор и уметь мудро сдерживать себя, нежели человек с маленькими возможностями и в силу этого не имеющий нужды во внутренней силе для пользования ими или воздержания от них. Впрочем, общество изобилия представляет проблему не для того, у кого хороший желудок или сильная воля, а для того, кто любит хорошо поесть и сильно выпить.
Возможно, пример из моей практики пояснит, почему в век прогресса, человек нуждается в более развитой личности. Всегда есть некоторое количество родителей, которые отказываются от одного из детей, и еще меньше тех, у которых психическая двойственность по отношению к одному из детей. И, несмотря на некую утрату, многие дети с этим справлялись. Мы теперь понимаем, что такое родительское отношение не может не вызвать негативных последствий в психике ребенка. И поэтому многие образованные родители сегодня испытывают чувство вины и пытаются что-либо изменить, когда выплескивают на ребенка отрицательные эмоции. Но чувство вины еще больше усиливает негатив, и ребенок страдает вдвойне, еще и оттого, что он стал причиной родительского чувства вины и их тревоги из-за этого. Зная это, родителю нужно развить более сильный характер, чтобы преодолеть вину. В прошлом же родители думали лишь о том, как накормить и обиходить ребенка. Ныне же, чтобы освободиться от чувства вины, родители готовы обосновать его недостатками или дефектами ребенка. Если бы в прошлом от такого ребенка просто отказались бы, то теперь, чтобы избавиться от комплекса вины, родители настаивают на том, что их ребенок поврежден в уме или что-нибудь в этом роде. Итак, здесь шагом к большей сознательности (без чего нет настоящего прогресса) будет осознание потенциально разрушительной природы некоторых человеческих эмоций.
Сама по себе ситуация отказа от ребенка — нежелательна, но лучше будет и для ребенка и для бросившего его родителя, если у родителя не будет по этому поводу комплекса вины. Если выбора не было, то нельзя обременять этим чувством ни ребенка, ни кого бы то ни было. Либо изначально устранить причины отказа, либо не отказывать, либо не чувствовать вины. Но, когда родитель только признает, что отказ разрушителен для психики и никак внутренне не меняется, то мы понимаем, что прогресс вместо ожидаемой пользы приносит ущерб — ведь, казалось бы, он должен приводить к большей сознательности и развитости личности, связанными с личностным саморегулированием и осознанием свободы.
Этим несоответствием внешнего и внутреннего прогресса вызван пессимистический взгляд на будущее человечества, разделяемый многими исследователями социальных и технологических изменений. Но у этих пессимистов изначально заниженный подход к оценке человеческого потенциала. Им не хватает понимания того, что, как только человек стал жить в социуме, он постоянно сталкивался с подобными трудностями и успешно их преодолевал.
В предыдущей главе я рассуждал об отношении кочевника к поселенцам. Да, бывший кочевник не станет преуспевающим горожанином, пока не научится сдерживать себя от перемещений по случайному порыву или малейшему неудовольствию, пока он не обуздает привычку к кровной мести за любую обиду. Также он не достигнет самоконтроля, пока не научится устанавливать постоянные и близкие отношениями с людьми, не принадлежащими только его клану или семье, и пока культурные и экономические преимущества города не станут привлекательными для него. И возможно ради этих благ он захочет сдерживать себя и начать развивать в себе новые социальные качества, короче, личностно совершенствоваться.
Многие кочевые племена так и поступали в новых поколениях. И поэтому не вызывает сомнений способность человека к внутреннему совершенствованию, обусловленному новыми условиями жизни, обеспечивающими большую свободу и независимость, а также многими ценными преимуществами, привлекательными как город для кочевника. В то, что это могут сделать новые технологии — нет сомнений. Сомнения есть в том, насколько они подойдут для успешной совместной жизни человека с человеком, поскольку только это определяет ценность дальнейшего развития.
Именно направление этого развития и помехи, возникающие на его пути в современном массовом обществе, я и стремился рассмотреть в этой книге.
Отсутствие равновесия
Ныне внешний прогресс сильно опережает соответствующее ему внутреннее развитие, и этот зазор вызывает у многих граждан эмоциональные расстройства, которые, как известно, связаны с неразрешенными конфликтами. Но именно разносторонне развитая личность способна разрешать конфликты успешно, что в свою очередь зависит от опыта преодоления трудностей. Сравним с подростковым «неврозом» — подросток слишком юн, чтобы иметь опыт разрешения внешних и внутренних проблем и быть уверенным в успешном их преодолении — отсюда вытекают многие сложности с подростками.
По сравнению с подростком прошлого, у современного тинейджера столько возможностей и соблазнов, а значит и необходимость быстрого взросления для противодействия с этим связанным опасностям. Будучи подростком, мне не нужно было сильной воли, чтобы противостоять искушению украсть машину. Никто из знакомых парней не разъезжал в чужих авто, и никто из знакомых девчонок не просил прокатить с ветерком. Просто в нашем окружении не было автомобилей. Сейчас же кражи автомашин самое распространенное преступление среди подростков. Это еще один пример тому, что прогресс требует личностного роста.
Если человек терпит неудачи в решении своих проблем, он теряет веру, что и в будущем сможет их успешно разрешить. Что затрудняет его решение? Это необходимость постоянно выбирать: в списках неподходящих работ, в списках несовершенных партийных программ, в рекламах несущественной всякой всячины. Редко такой выбор может действительно удовлетворить чаемые ожидания. А на выработку решения уходит психическая энергия, и человек чувствует, что все это впустую.16
По существу, выработка решения и устранение конфликта зависят от способности отсечь все варианты, однозначно не соответствующие ценностям и уровню данной личности. Из оставшихся довольно легко выбрать верный ответ. В силу неразвитости или отсутствия иерархии ценностей поиск решения может потребовать изнурительного внутреннего труда.
Довольно-таки странно, что обилие возможностей теоретически есть выражение свободы, но психологически оно затрудняет свободный выбор. Выбор же наугад оставляет смутное неудовлетворение. С другой стороны, когда точно знаешь, чего ты не хочешь, и из оставшегося выбираешь лучшее, или наиболее тебе подходящее — это вызывает удовлетворение.
Неясная самоидентификации, ограничение самостоятельности вызываются в современном массовом обществе разными моментами, включая следующие: (1) человеку стало труднее вырабатывать свои собственные стандарты, а значит, и жить по ним. Ведь, если возможен огромный выбор стилей жизни, значит, чей-то один стиль не так важен, и нет смысла ему следовать; (2) иллюзия большей свободы позволяет удовлетворять самые вредоносные желания; (3) затруднение в разумном выборе на свое усмотрение из большого числа предлагаемых вариантов; (4) система воспитания и образования почти не предоставляет примеров и руководств по правильному отношению к удовлетворению естественных потребностей и инстинктов. Не научившись самостоятельно регулировать их удовлетворения, человек попадает под механизмы решения этих проблем, принятые в данном обществе. Например, став зависимым от общественных моделей интимной жизни, человек не сможет почувствовать свою уникальную индивидуальность в отношениях любви.
При быстрой смене социальных изменений, человек не успевает адекватно осмыслить (согласно своим принципам) постоянно изменяющуюся среду, что порождает в нем «бестолковость» и неуверенность. Чем чаще это происходит, тем чаще он начинает следить, как делают другие и повторять за ними. Но такое скопированное поведение, не укорененное в его собственном укладе жизни, ослабляет его развитие, делая все менее и менее способным к самостоятельному ответу на новые изменения.17
Нас пугает массовое общество, где человек склонен некритически, с готовностью принимать чужие решения, которые к тому же направлены только на технологический прогресс, без учета необходимости соответствующего внутреннего развития. Некритическое приятие навязываемого относительно внешней жизни переходит и на внутреннюю, поскольку они тесно переплетены. Положившись на других во внешнем, человек затем предоставляет им и внутреннее. И если такая дезинтеграция захватит большинство людей, то ничто не сдержит быстроты социальных изменений, и чем скорее они будут происходить, тем труднее будет достигать нового развития личности, необходимого для их поддержания.
Само по себе совершенствование — медленный процесс. Согласно законам психической экономии, если привычный тип поведения уже сформирован, то к новому человек переходит, если уверен, что он гораздо лучше прежнего, или если его единственный путь сам поддерживает новый вызов. Все это — как осознание, так и реализация перемены поведения — требует времени и тяжелого внутреннего труда (чтобы новое стало органичной частью тебя). И только после этого человек может быть готов встретить следующий вызов самостоятельно, то есть всей своей целостностью. Поэтому быстрые скачки в экономической и социальной жизни затруднительны для формирования и сохранения самостоятельной личности. Напротив, люди с небольшой степенью саморегулирования охотнее привыкают к быстрому темпу изменений. Таким образом, нужно с серьезностью подойти к этой проблеме: быстрые перемены в значимых социальных сферах могут сформировать людей с нехваткой истинной самостоятельности, а это в свою очередь может спровоцировать увеличение темпа преобразований.
Чем меньше человек способен разрешать конфликты — будь то внутренние или внешние (между личными желаниями и требованиями общества), тем больше он уповает на общество при новых вызовах. И здесь нет разницы в том, откуда он черпает стереотипы — со страниц газет, из рекламных роликов или от психиатра. Чем больше он принимает их ответы, как свои собственные, тем меньше у него шансов встретить новый вызов независимо. И трудно сказать на какой стадии эволюции массового государства мы сейчас находимся.
Мир работы
Что касается внешних вещей то, чем больше расслаивается общество и чем больше технологии «нагружают человека», тем меньше он становится способным самостоятельно определять степень важности, порядок и осуществление чего-либо. А ведь для само-поддержания общества крайне важна способность принимать решения и нести ответственность за свои действия, что весьма трудно делать, многие наши действия зависят от взаимодействия с другими людьми или регулируются ими.
Таким «зависимым» можно быть, когда не знаешь конечной цели своего труда или когда руководствуешься чужими решениями как основой для своих собственных. Это относится ко всему классу рабочих, квалифицированных и нет. Впрочем, некоторые ученые, работавшие над первой атомной бомбой, позже осознали, что работали именно в таком ключе. С этим связана фрустрация и личностный тупик заводских рабочих, рутинно выполняющих неинтересную им работу. Зачастую они даже не высказывают своих эмоций по этому поводу или не могут повлиять на признание их существенными.
В нашем обществе многие наемные рабочие выбирают себе занятие не по наклонностям, а в силу тех или иных невротических причин. И еще хуже то, что многие даже этого не осознают, поскольку в их сознании занятие по интересу отделилось от зарабатывания на жизнь. Это ведет к противоречию, психологически опасному, подрывающему уважение к себе, радость от своего труда, и чувство, что этот труд — важное и значимое дело.
Поясню — такие люди думают, что работа, как заработок, поддерживает существование их самих и их семей и дает возможность тратить досуг на занятия по интересам, и поэтому она важна. Но зачастую их «работа» — скучный и неблагодарный труд, далекий от их истинных интересов, и поэтому она — не важна. Досуг тоже важен (ради него работают) и не важен одновременно (ведь важным может быть лишь заработок на жизнь). Такое противоречие порождает серьезные конфликты и неудовлетворение, пожирающие много жизненной силы, хотя многие даже этого не осознают.
Вот параллель — подросток ненавидит школу, но пытается учиться ради будущей карьеры. Но нельзя хорошо делать дело, которое не любишь или не презираешь. Поэтому у многих школьников не выходит продвинуться в учебе. Другой пример — среди представителей среднего класса популярна критика существующей системы образования, но их дети продолжают учиться в школах, никуда ни годных, по их мнению. Чудо, что, несмотря на это, дети учатся довольно-таки хорошо. Одно удивляет, а к чему ненужная эмоциональная растрата?
Работа, более «безопасная», то есть интеллектуальная, также таит в себе опасность неврозов, особенно в период экономических кризисов или политических переворотов. Хотя эта работа приносит больше удовлетворения и независимости, всегда есть зазор между невысокой платой за нее и истинным ее статусом, а значит несоответствие между внешней и внутренней обеспеченностью. И все еще усугубляется кажущейся свободой в выборе занятия.
Во все времена внешние силы — реальные или воображаемые — довлели над человеком. К этому век техники добавил ощущение слабости человека по сравнению с машиной, незначительности его в сложных технологических процессах (а значит и его быстрой заменимости, как на конвейере, так и в больших исследовательских коллективах), а также чувство неуверенности — как его личные способности могут быть востребованы во всеобъемлющем производственном процессе.
Однажды в беседе с сотрудниками МИДа я узнал, что самой трудной для них является работа по огромному количеству, как им казалось, необоснованных циркуляров из Вашингтона. У них не было ни времени, ни возможности разбираться во всех перипетиях распоряжений. На всех уровнях номенклатуры сотрудники все меньше способны были судить, когда приказы отдавались ради самих приказов, а когда ради какой-либо задачи. Обширность их организации и сложность отношений в современном мире заставляли их чувствовать себя простыми винтиками в системе, что, как я понял, вызывало у них наибольшую фрустрацию.
Дистанционное управление
Обширность политической и бюрократической системы, громадность современных предприятий порождает еще один момент — дистанцирование. И это вызывает личностную дезинтеграцию, поскольку человек чувствует, что он теряет контроль над своей собственной жизнью, и готов снять с себя ответственность, будучи постоянно ведомым. Сложность массового общества заставляет человека оправдывать свою беспомощность, ведь он не понимает своей роли в сложных политических и производственных процессах. Но этим самооправданием он только уменьшает его доверие к самому себе.
Так многие немцы оправдывали свое незнание об ужасах фашизма: «Ведь я маленький человек, что я мог сделать?»18 Но с реальностью не поспоришь, и такой отказ — просто новый шаг на пути к личностной дезинтеграции, отрицающий то, что всегда было предметом гордости европейца: сохранение независимости перед лицом внешнего давления.
Подобным образом снимали с себя ответственность и работавшие над созданием атомной бомбы, появление которой вызвало сперва гордость за мощь страны и правительства, а затем переросло в чувство тревоги и еще большей беспомощности. В силу чего простой человек еще больше стал надеяться на общество и правительство (и делегировать им еще больше прав), как гарантов его защиты от новой опасности. Началось противостояние между рациональным контролем чувства страха («ничто не спасет от ядерной войны, кроме мирового сотрудничества») и механизмами компенсации, агрессивными по природе, а именно упование на правительство («давайте применим бомбу первым!»).
Чувство беспомощности, зависимости вызывает у маленького человека необходимость в компенсации. Ребенок, полностью зависящий от родителей, должен верить в доброту, ибо только так он может быть уверен, что они будут заботиться о нем. Критические или негативные чувства по отношению к родителям в свою очередь вызывают чувство вины «за бунт». Подобно этому, чем более беспомощным чувствует себя индивид в массовом государстве — социально, экономически, политически, — тем более значимыми кажутся власть придержащие: человек нуждается в вере, что они способны позаботиться о нем. Отсутствие же справедливости перекладывается на «крайнего».
Современный человек находится в странном противоречии. С одной стороны, человек чувствует себя беспомощным винтиком в громадной системе, с другой стороны, чем сильнее общество, тем сильнее должен быть и он как его часть. Это противоречие очень вредно для человека.
Ядерная энергия, — с одной стороны, — величайшее достижение науки и техники, а с другой, — сила, находящаяся за пределами нашего понимания и контроля. Как достижение в покорении природы она должна приносить человеку глубокое удовлетворение, но вместо этого вызывает сильную тревогу. Человечество одновременно и могущественно и тревожно, как никогда прежде. И поэтому гражданин связывает свое выживание с мудростью правителей.
Дистанцированность правителей и масс затрудняет верификацию тех добродетелей, которыми наделяет его народ. В истории такая вера трансформировала правителя в героя или полубога. Чем больше власть, тем большее зло может из нее выйти. Чем большая угроза может исходить от власти, тем больше для снятия ее нужна вера в добродетельность правителей.
Поясню на примере. Гитлер появлялся на публике только по большим праздникам в окружении охранников. Это устанавливало двойную дистанцию между ним и людьми. Массы ожидали лидера часами, напряжение росло, проходили демонстрации, звучала громкая музыка, усиливалась давка. Появление лидера воспринималось, как громадное облегчение, как будто он сам обладал властью снимать стресс. Это укрепляло веру в его волшебную власть над людьми. Но это происходило только при томительном ожидании и личном присутствии диктатора, а транслируемые по радио речи такого эффекта не производили.
Сознательно или бессознательно такое дистанцирование используется начальством и в нашем обществе, когда посетитель долго выдерживается в приемной. Если такие отношения становятся постоянными, то у подчиненного формируется чувство беспомощности и он постепенно сдает свои позиции. И наоборот, прямой и быстрый доступ к начальнику помогает установить дружеский контакт. Кроме того, если человек не беспокоится об исходе встречи, он может выдержать это ожидание без тревоги и напряжения. Таким образом, способность быть самим собой в ситуации, когда тобой управляют, напрямую связана с уровнем личностного развития.
Сходные проблемы появляются и у наемного рабочего, который боится потерять работу, потому что считает, что его легко заменить. Защищая себя от увольнения, рабочий скорее склонен ссылаться на длительность работы на этом месте, а не на свои реальные знания и умения. Так внутренняя уверенность заменяется упованием на некие внешние изменчивые реалии.
После работы
Следствием всего этого становится то, что человек ищет самоуважения и автономности в частной жизни. Но для этого ему нужна свобода устраивать свою личную жизнь по своим предпочтениям. Казалось бы, техника и призвана высвободить время для личной жизни.
К сожалению, эта свобода более видимая, чем реальная. Современный досуг менее всего связан с самовыражением. Например, я считаю, что хорошее кино должно заставить зрителя задуматься о своей жизни и ее смысле. Большинство же фильмов и телешоу эту цель просто не преследуют, свободное движение мысли они игнорируют. Выбор, который они предлагают — ограничен или лишен смысла. Это — псевдо-выбор. Они настолько пусты либо однозначны, что не вызывают эмоционального или интеллектуального участия и не могут обогатить внутренней жизни. Рекламные ролики «зомбируют» публику на покупку тех или иных товаров. Обмениваясь шаблонными мнениями, люди радуются такой похожести, пока не начинают чувствовать пустоту жизни, не проявляющей ничьих особенностей.
Даже проводя активно досуг, многие ныне следуют образцам, предлагаемым масс-медиа. Потеряв свободу в самостоятельном управлении своим трудом, человек утратил и самостоятельность в отдыхе. Они больше не являются продолжением личного, полного смысла образа жизни. Подражание — это не свободный выбор, даже если нет принуждения. Регламентированные действия так и остаются коллекцией разнообразного опыта, необъединенными внутренним смыслом. Такая жизнь фрагментарна и проживается как «пустая», даже, если она заполнена большой активностью.
Многие из нас носят похожую одежду, покупают похожую мебель и автомобили. Несомненно, массовое производство — одно из важных достижений западной цивилизации. Но факт остается фактом: ощущение значимости при покупке новой мебели, машины или дома настолько важно, что вопрос о цене не ставится.
Человек мечтает жить в собственном доме и поэтому готов ютиться в однотипной квартирке многоэтажки, где все говорит об однообразии быта. Здесь его дом не крепость, защищающая его внутренний мир, а витрина, выставляющая этот мир на всеобщее обозрение. Это еще одна черта массового общества — наблюдать за другими и быть наблюдаемым ими.19 Фасады домов даже могут отличаться, как бы подчеркивая разнообразие вкусов, которое на самом деле отсутствует в отношении самого существенного.
Зачастую горожане бегут от городской безликости и суеты в пригороды. Но это самое отсутствие безликости может также ограничивать. Все ничего, когда соседи обсуждают особенности приготовления пищи. Но все усложняется, когда темой бесед становится воспитание детей, поведение их в школе или советы по поводу личной жизни.20
Когда же внешний контроль в той или иной форме начинает касаться интимной жизни человека (как это было в гитлеровском государстве), становится непонятным, что остается в человеке личного, особенного, уникального. Тотальный контроль над всеми сферами жизни человека, вплоть до сексуальной, оставляет человеку только возможность некоего отношения к подобной эмаскуляции.
В интимной жизни с её большей свободой, насыщенностью и спонтанностью человек противопоставляет себя растущей сложности социальной и производственной сферы. К сожалению, по многим причинам внутреннее богатство личной жизни не так легко достижимо в наше время. С одной стороны отношение к сексу стало очень либеральным, а с другой — человеку кажется, что стало труднее удовлетворять его сексуальные желания, чем справиться с агрессивными наклонностями.
В прошлые времена в поселениях мир людей и мир животных тесно переплетались. Спаривание животных было важной частью хозяйственной жизни, оно обсуждалось и наблюдалось, и для детей эта часть жизни не была секретом. В городах также любовные отношения не скрывались от детей, как сейчас. Я не хочу сказать, что собственно наблюдение за половыми отношениями других есть желаемый выход. Важно не внешнее наблюдение, но внутренне отношение к тому, что сопутствует любви. Когда интимные отношения родителей сопровождаются враждебностью, чувством вины или стыда, это может стать для ребенка серьезным препятствием для успешного развития интимных отношений в будущем. Для знакомства ребенка с интимной стороной жизни, недостаточно просто показать ее ему. Важен эмоциональный фон, на котором строятся отношения друг с другом, с детьми, с работой изо дня в день. И именно это могут и с готовностью впитывают дети. Важно, чтобы ребенок почувствовал эмоционально заботу о нем. Как заметил один из моих детей (13 лет) о работе одной сотрудницы лагеря: «Её родители плохо заботились о ней, поэтому она плохо заботится о себе и не может хорошо заботиться обо мне».
Многообразие современных средств развлечения искушает родителей меньше уделять времени, сил и чувств заботе о детях, хотя технологический прогресс облегчает эту задачу, как никогда раньше. Не получив эмоциональной поддержки в детстве (хотя физическая не менее важна), став взрослым, такой человек будет плохо подготовлен для выстраивания своих интимных отношений.
Многие пытаются любить, подражая героям популярных изданий, но это бесполезно, так как говорится об известном и предсказуемом поведении при ухаживании, но в жизни многое неизвестно и поведение не всегда прогнозируемо, особенно, когда речь идет о зрелом человеке. Если же молодой человек будет пробовать установить отношения сразу с несколькими партнерами, то это не позволит развить ему чувство само-идентичности и искренности в отношениях.
Беспорядочные половые сношения не способствуют получению сексуального удовольствия из-за перемены партнера. Зачастую на многих неудачах человек учится строить свою интимную жизнь. Редко можно встретить единственную любовь («Я люблю тебя, потому что ты понимаешь меня, как никто другой — люби меня, ибо только я могу оценить твою любовь»). Чаще побуждением к интимным отношениям выступает желание быть не хуже других. («Я покажу тебе, что я не хуже и даже лучше других», а в подтексте — «уверь меня, что я выгодно отличаюсь от моих соперников, и я постараюсь тебя не разочаровать»).
Человек в массовом обществе настолько зависим от внешних образцов и так неуверен при встрече с вызовами извне, чтобы решить их на свой манер, что постоянно нуждается во внешнем одобрении кого-нибудь — будь то сосед, какой-нибудь «эксперт» или психолог. И это касается не только проблем в сексуальных отношениях, но и проблем, связанных с путями выхода агрессивных импульсов.
В итоге, с ростом внешнего контроля, не только индивид, но и само общество перестает развиваться и становится негибким. Самое лучшее, что может обеспечить такой контроль, так это равенство возможностей, а в массовом обществе — разнообразие и изобилие безликих товаров. И только наличие личного самоопределения может позволить по-настоящему этим воспользоваться. Свобода предполагает не только равенство возможностей, но и их разнообразие. Однако она подразумевает еще и терпимость к тем, кто не смог приспособиться к общепринятым стандартам. И именно этого качества не хватает современному обществу.
Внутренний контроль
Достижение самостоятельности связано с путями осуществления контроля. Обычно контроль осуществлялся в личностной форме — родителями, учителями, священниками. Глубокие отношения с ними позволяли усвоению принятых норм как своих собственных. Случаи же личного убеждения или контроля заставляли думать человека о своей собственной исключительности.21
Внутренние нормы формируется только на основе прямых личных отношений, а не просто подчинением требованиям общества. Причем они становятся внутренним достоянием, когда их усвоение сопровождается любовью, уважением и восхищением.22 Если же человек поверхностно приобщается к нормам общества — из соображений пользы или страха, то тем менее он сможет насадить их в своих детях.
Ребенок развивает свою личность, прежде всего, идентификацией с родителями (или людьми столь же авторитетными) и усваивает их требования, пока они не станут его собственными. Во-вторых, личность развивается при противодействии внешним вызовам в рамках системы воспитания и обучения. Если родители просто соблюдают внешние требования, без внимания к их внутреннему содержанию, и не меняются в связи с ним, то ребенок усвоит как правильный тип личности, так и его поверхностные проявления.
То же касается и внешних приемов воспитания. Они важны не сами по себе, а с учетом полезности их для развития внутренней зрелости в связи с талантами, интересами и обстоятельствами развития данной личности.
Например, ребенок может не понять противоречия в поведении родителей, когда они с одной стороны утверждают, что нельзя судить о людях по их достатку, а с другой — заискивают перед богачом, которого ругали за отсутствие культуры или нравственности. Такое поведение может быть оправдано в глазах родителя, который, действительно, считает, что достаток не повод для осуждения, но, тем не менее, чувствует себя обязанным посмеиваться над человеком, от которого зависит его работа. Раскаяние помогает такому человеку разрядиться. Но ребенок, не ведающий обо всем этом, пытается руководствоваться в своем поведении мнением о неважности денег и мнением о важности заискивания перед богачом. Это невозможно. Тогда он перестает вырабатывать независимые суждения, собственные принципы и становится ведомым, прямо или косвенно, обществом.
Чем меньше новые поколения способны по-настоящему усваивать ценности общества через успешную идентификацию с родителями и учителями, тем больше внешнего контроля вынуждено общество осуществлять для нормального функционирования, как самого общества, так и индивида. Вопрос в том, как он производится — командой или убеждением. Вот уже два поколения подряд, как усугубляется внешний контроль, со все возрастающим давлением, необходимым для осуществления требуемого прогрессом взаимодействия.
Контроль над массами не может быть переложен на индивидуальную ответственность. Если индивидуальное поведение определяется внешними стандартами, то оно уже не результат личного акта усвоения общественных норм, и потому несовместимо с самоопределением.
Тот, кто не терпит массовый контроль (хотя зачастую не в силах ему противостоять) обычно утверждает, что он отрицает человеческую уникальность. А как же тогда смотреть на контроль и влияние, привлекающие личный контакт? Ведь и они могут служить целям массового контроля.
Действительно, не имя развитой личной идентичности, человек ищет внешней точки опоры, в пределе, например, это — нация, государство. Они могут дать человеку видимость индивидуальности, защищенности и силы. Чтобы быть привлекательным, массовое общество должно быть сильным. Если оно слабо, оно не просто отталкивает, но и вызывает тревогу и депрессию.23 Вот почему массовое общество должно постоянно демонстрировать свою мощь. Сила же порождает безопасность.
Типичными средствами контроля служат безликая бюрократия, безликий надзор и безликие средства массовой информации — отсутствие личной ответственности скрывается за экраном объективности и служения обществу. Масс-медиа внушают мысль, что то, что навязывают человеку, именно ему и нужно. Для того, чтобы выйти из противоречия между внешним и внутренним миром, необходимо осознать, что же действительно человеку нужно и сделать личный выбор. Но вместо этого с легкостью принимается решение, согласно которому смутные желания могут быть удовлетворены любым взаимозаменяющим способом.
Такое многообразие путей, уводящих от формирования личной идентичности требует равноценного усиления этого самого чувства идентичности. В век машин нужно четко осознавать, что существенно, а что второстепенно для человеческого существования. Такое понимание не так необходимо, когда вокруг мало второстепенного.
Поскольку для демократического общества требуются более образованные и сознательные граждане, постольку современный человек должен быть более развит, особенно в душевной сфере, что немаловажно в век техники. Чем больше нас окружают машины, тем больше нам надо развивать и проявлять человечность и человеческие отношения. Тем больше мы живем в массовом обществе, тем больше мы должны осознавать необходимость теплых отношений.
До сих пор гитлеровский рейх служит примером тоталитарного государства, ослабляющего развитие личности. Оно существовало десяток лет, культивируя в человеке один из инстинктов, а именно, — враждебность. Но выпускание на волю инстинкта нельзя смешивать с удовлетворением стремления к чему-либо. Первое может только временно заменить отсутствие второго.
Рейх дал своим последователям псевдо идентичность, через идентификацию с исключительным германским государством, и псевдо самоуважение через идеологию превосходства арийской расы. Эти приемы нужны были для достижения полного контроля над людьми без применения быстрой и крайней дезинтеграции.
В слабо развитых странах относительная сила внутреннего контроля может быть основана на относительном отсутствии выбора. Нормы жизни строго подчинены традиции и передаются из поколения в поколение. Поэтому человек уверен в себе и в своем деле. Он чувствует согласие со своими родителями и современниками, что повышает его самоуважение. Такое общество также поощряет удовлетворение инстинктов — агрессивных и сексуальных. Отсутствие свободы (в нашем понимании) компенсируется спонтанным удовлетворением в семейной сфере. Более того, относительная отсталость в технологии дает человеку возможность проявить свою самостоятельность.
Теоретически, в «хорошем» массовом государстве индивидуальные свободы не должны подавляться или манипулироваться. Оно не должно вызывать бунты и общественный хаос, поскольку в нем достаточно удовлетворения можно получить в частной либо семейной жизни, а также награду за достижения в разных областях. Оно гарантирует самоуважение, самостоятельность и рост осознания свободы, несмотря на коллизии массового общества.
Но в «массовом» государстве, как мы его знаем, внутренние нормы и глубокое внутреннее удовлетворение уменьшаются с каждым новым поколением. И если так будет продолжаться, и если это всего лишь не временное следствие изменений, привнесенных техникой, то эти процессы компенсируются все увеличивающимся внешним контролем. Ослабление же способности самостоятельно контролировать свои чувства может привести к опасной инерции, к взрывам насилия на почве инстинктов. Больший отдых также не может компенсировать глубокой фрустрации на работе. Только эмоционально насыщенная жизнь, даже при тяжелом режиме работы, может быть восполнена отдыхом, который тоже способен принести разнообразное удовлетворение.
Заполняя пробел
Потенциально опустошительная сила массового государства была проявлена в гитлеровском рейхе. Попав под государственный контроль, человек уже не мог вырваться из порочного круга. Человек уже был не способен сам строить свою жизнь и принимать собственные решения. Он не получал даже ожидаемого вознаграждения, что вызывало у него тревогу по поводу «заботы» о нем государства и в дальнейшем — фрустрацию. Он доверил государству все аспекты своей жизни и даже, как в среде партийной элиты — выбор спутника жизни. Также рейх пытался ограничить сферу личной свободы выбором времени и обстоятельств кончины, чтобы собственное уничтожение было бы только актом самоутверждения. Но в концлагере даже эта свобода была не доступна, а в лагере уничтожения вообще отменена.
Попытки объяснить возникновение нацистского государства, исходя из особенностей национального немецкого характера или особенной истории Германии — вполне академичны. Экономическое возрождение Германии после 1 Мировой войны и появление в ней первого массового государства предполагает ослабление личностной структуры, но не присущую ей слабость. Вместо борьбы за большую личную самостоятельность, вся энергия была направлена на построение массового государства, несмотря на неблагоприятные экономические и социальные условия. Последовавшая за тем личностная дезинтеграция была не причиной, а результатом почти внезапного поворота к массовому государству.
Этот поворот был настолько быстрым, что средний человек не смог найти адекватных путей, чтобы справиться с ним. Более того, Германия, также как Италия, Испания и дореволюционная Россия были полуфеодальными государствами, в которых индустриализация развивалась не так быстро, как в Западной Европе. Их граждане имели меньше шансов развить новые черты, необходимые для приспособления к новому социальному порядку.
В течение этого перехода от позднего капитализма с его относительной свободой к массовому государству с его мерами подавления центральной проблемой была проблема принуждения и вынуждения человека к приспосабливанию. Такое государство зависит от граждан, которые охотно отказываются от личной идентичности и своеобразия и позволяют управлять ими. Для такого государства нет ничего опаснее, чем сопротивляющиеся такой судьбе. Их нужно либо контролировать, либо приручить, либо устранить. Лучшей формой приручения во все времена было приручение по доброй воле. С другой стороны, для тех, кто хочет сохранить индивидуальную свободу, важно найти пути ее защиты, несмотря на всю мощь современного контроля и воздействия. Только исходя из этого, становится понятна система террора в гитлеровском рейхе.
В истории тираны всегда уничтожали своих врагов, что рационально понятно, но по-человечески непростительно. В истории известны пытки и мучения, они были придуманы не в концлагерях. Чингисхан, с которым себя сравнивал Гитлер, был более изощренным в пытках. Что было действительно новым, так это применение этих средств к своим подданным.
Нацистское государство развивалось по определенному плану: оно соединило в себе эффективность современных технологий, презрение к общечеловеческим ценностям, нигилистический национал-социализм, бесчеловечность и стремление к власти любой ценой. Все эти черты взаимно усугублялись, что и привело к развязыванию тотальной войны. Это произошло в Германии и, самое странное, не встретило серьезного противодействия.
Самой интересной реакцией на мои первые статьи о концлагерях было странное чувство облегчения, испытанное некоторыми читателями, несмотря на депрессивное содержание. Это показало, что даже на самые мрачные моменты самой эффективной защитой является интеллектуальное понимание, которое делает вывод, что не все так безнадежно, и поэтому может сохранить личность даже в ситуации крайней опасности для жизни.
Эта реакция совпала с некоторыми находками, связанными психоаналитическими наблюдениями, описанными ниже. Она подтверждает гипотезу, что развитая личность и сильная внутренняя убежденность, воспитанная личными отношениями — лучшая защита против подавления. А другая значимая защита — интеллектуальное господство над происходящими событиями.
Завершая эту главу, я хотел бы подчеркнуть, что, хотя книга написана о тоталитарном режиме, я считаю, что феномен гитлеризма — дело прошлое. Чем больше мы понимаем его, тем больше в нас уверенности, что он не образ для будущего. Несмотря на временные регрессы (включая крушение античного мира), совершенствование человека ведет его к высшему развитию и более глубокому осознанию свободы. Только это может изменить технический прогресс в истинно человеческий прогресс.
Не нужно отчаиваться, когда мы не можем справиться с вызовами времени. Технологический прогресс безусловно движется быстрее личностного развития. Вот почему я думаю о грядущем, а не о прошлом, хотя мы всегда догоняем самих себя. И в это нам нужно твердо верить, хотя будущее всегда неясно.
Глава 4. Поведение в экстремальной ситуации: насилие
Я начал интересоваться феноменом немецких концентрационных лагерей со времени их возникновения, задолго до того, как оказался их узником. Когда же это случилось, я стал интенсивно изучать лагерь изнутри. Вскоре после освобождения я попытался проанализировать, главным образом психологически, мой опыт заключения и сформулировать некоторые теоретические положения, вытекающие из него.24 Толчком к работе послужило, во-первых, распространенное в то время непонимание сущности концентрационных лагерей, которые виделись как взрыв садистских импульсов, лишенный всякого смысла; и, во-вторых, открытие мною изменений личности заключенных под воздействием лагерей.
Дальнейшие размышления убедили меня в том, что мой анализ имеет более широкий смысл, чем я предполагал вначале. Его можно использовать для объяснения тоталитаризма, для поиска путей сохранения автономии личности в государстве. Если существование в определенных условиях, которые я назвал экстремальными, способно так сильно деформировать личность человека, то мы должны, по-видимому, лучше понимать, почему и как это происходит. Не только чтобы знать, что могут сделать с человеком эти самые экстремальные условия, но и потому, что всякое общество формирует личность, хотя, может быть, другими способами и в других направлениях.
Немецкие концентрационные лагеря, бывшие реальностью в 1943 году, когда появилась моя первая статья, теперь вспоминаются лишь как один из самых горьких эпизодов истории человечества. Но они показали нам, насколько окружение влияет на личность человека, оставив после себя урок, который мы должны хорошо усвоить.
Чтобы понять роль лагерей, не следует заострять внимание ни на зверствах как таковых, ни на отдельных человеческих судьбах. Лагерь в данном случае важен как пример, обнажающий сущность государства массового подавления, причем, пример очень наглядный. Поэтому я не собираюсь пересказывать ужасы концентрационных лагерей, тем более, что теперь уже широко известно, каким чудовищным лишениям и пыткам подвергались заключенные.25 Достаточно напомнить несколько фактов.
Заключенные проводили на жаре, под дождем и на морозе по семнадцать часов в день, все семь дней в неделю. Условия жизни, еда и одежда были такими, чтобы держать узников на грани выживания. При полуголодном существовании они должны были выполнять тяжелые работы. Каждое мгновение их жизни строго регламентировалось и отслеживалось. Ни минуты уединения, никаких свиданий, адвокатов или священников. Медицинская помощь не гарантировалась, иногда заключенные получали ее, иногда нет. Заключенные не знали, за что они попали в лагерь и на какой срок. Теперь, надеюсь, понятно, почему я говорю о них, как о людях, очутившихся в «экстремальной» ситуации.
В 1943 году я описывал лагеря, исходя из личного опыта. Теперь можно опираться и на другие источники.26
Лагеря служили нескольким различным, хотя и связанным между собой целям.
Главная — разрушить личность заключенных и превратить их в послушную массу, где невозможно ни индивидуальное, ни групповое сопротивление. Другая цель — терроризировать остальное население, используя заключенных и как заложников, и как устрашающий пример в случае сопротивления.
Лагеря служили также испытательным полигоном для СС. Здесь их учили освобождаться от своих прежних человеческих реакций и эмоций, ломать сопротивление беззащитного гражданского населения. Лагеря были экспериментальной лабораторией, где отрабатывались методы наиболее «эффективного» управления массами. Там определялись минимальные потребности в еде, гигиене и медицинском обслуживании, необходимые, чтобы поддерживать в узниках жизнь и способность к тяжелому труду, когда страх наказания заменяет все нормальные стимулы. Такие эксперименты были в дальнейшем дополнены «медицинскими» опытами, в которых заключенные выступали в качестве подопытных животных.
Сегодня немецкие концентрационные лагеря принадлежат истории. Однако у нас нет уверенности, что идея насильственного изменения личности человека в угоду государству умерла вместе с ними. Вот почему главная тема этой моей работы — концентрационные лагеря как средство создания субъектов, идеально подходящих для тоталитарного государства.
Почему я начал исследовать поведение заключенных
Когда, готовя публикацию, я в первый раз собрал и проанализировал свои соображения о лагерях, мои действия можно было бы объяснить важностью проблемы, которая, насколько я знал, еще ни разу не привлекала внимания научной общественности.
В действительности все обстояло совсем иначе. Находясь в лагере, я изучал свое поведение и поведение моих товарищей по несчастью не потому, что эта проблема возбудила мой научный интерес. Не отстраненная любознательность, а инстинкт самосохранения подтолкнул меня к анализу. Желание наблюдать и пытаться придать смысл увиденному возникло спонтанно и стало средством убедить себя в том, что моя собственная жизнь еще имеет какое-то значение, что я еще не потерял те интересы, на которых раньше строилось мое самоуважение. А это, в свою очередь, помогло мне выжить в лагере.
Хотя минуло уже более двадцати лет, я ясно помню тот момент, когда ко мне пришло решение изучать заключенных. Было раннее утро в конце моего первого месяца в Дахау. Вместо того, чтобы воспользоваться редкими минутами отдыха, я погрузился в любимое нами тогда обсуждение кошмарных предчувствий и слухов о возможных изменениях в лагере и о нашем освобождении. Как и прежде в подобные мгновения, я несколько раз переходил от яростной надежды к глубочайшему отчаянью и был эмоционально опустошен еще до начала рабочего дня. Предстоявшие же семнадцать длиннейших часов требовали всей внутренней энергии, чтобы выжить. «Это сведет меня с ума», — внезапно промелькнуло в мозгу. Я почувствовал, что если и дальше буду продолжать в том же духе, то действительно «свихнусь». Именно тогда возникла мысль: не погружаться в эти сплетни, а попытаться понять их психологическую подоплеку.
Я не утверждаю, что с этого момента потерял всякий интерес к подобным обсуждениям. Но, по крайней мере, я перестал участвовать в них эмоционально, поскольку пытался понять, что же происходит в душе тех, кто слушает или выдумывает и распространяет слухи. Тем самым я доказывал себе, что не теряю рассудок (то есть мою прежнюю личность), что для меня изучение — это защита, что я не принимаю за истину то, что на самом деле является болезненным бредом.
Следовательно, моя попытка осмыслить психологическую подоплеку происходящего была спонтанной защитой личности от воздействия экстремальной ситуации. Эта защита была выношена лично мной, не была связана с приказом СС или советом другого узника. Она базировалась на моем профессиональном образовании и опыте. И, хотя вначале я не задумывался об этом, новое отношение к окружающему уберегло мою личность от разрушения.
Наблюдая изменения, происходящие со мной и с другими, я старался понять, почему некоторые узники генерировали слухи, и как это влияло на них самих.
Поглощенный, насколько было возможно, интересующей меня проблемой, разговаривая и обмениваясь впечатлениями с товарищами по несчастью, я чувствовал, что делаю что-то конструктивное, и делаю это независимо ни от кого. Мое исследование помогало вынести бесконечные часы изнуряющей работы, не требующей умственной концентрации. Забыть на время, что находишься в лагере, и знать, что занимаешься тем, что тебя всегда интересовало — казалось мне тогда наивысшей наградой. Постепенно ко мне вернулось самоуважение, и это обстоятельство само по себе со временем приобретало все большую ценность.
Запоминание
Делать записи в лагере невозможно — для этого не было времени, как не было и места, чтобы их спрятать. Заключенные подвергались частым обыскам и сурово наказывались, если у них обнаруживались какие-либо заметки. Рисковать было бессмысленно — записи все равно не удалось бы вынести за пределы лагеря, так как при освобождении заключенного раздевали догола и обыскивали с особым тщанием.27
Единственный способ обойти эту проблему — стараться запомнить все происходящее. В этом мне особенно мешали катастрофическое недоедание и другие факторы, разрушающие память. Наиважнейшим среди них было никогда не оставлявшее тебя чувство: «К чему все это — ты никогда не выйдешь отсюда живым». Такое настроение постоянно усиливалось при виде каждой новой смерти.
Поэтому я часто сомневался, смогу ли когда-нибудь вспомнить все, что заучиваю. Тем не менее, я старался выделить что-то характерное или особенное и сконцентрироваться на нем, повторяя свои соображения снова и снова. У меня стали привычкой эти бесконечные повторения, впечатывания в память. Оказалось, что такой метод работает.
Хотя лагерными правилами разговоры за работой строго запрещались, они были единственной отдушиной при тяжелом, изнуряющем труде. Свободное время в основном уходило на отдых и сон, но те, кто не утратил интереса к жизни, предпочитали беседу.
Заключенных переводили из рабочей группы в другую, и из барака в барак, чтобы не могли устанавливаться близкие отношения. Я, например сменил около 20 групп и 5 бараков (по 200–300 заключенных в каждом). Так я познакомился примерно с 600 заключенными в Дахау (из 6000) и с 900 в Бухенвальде (из 8000). Только заключенные одной категории (уголовные, политические, гомосексуалисты) жили все время вместе, но на время работ смешивались с другими категориями. Так что, если был интерес, на работе можно было побеседовать с заключенным из любой категории.
Предвзятость слушателя
Среди заключенных мне удалось найти двух человек, которые были не против заниматься психоаналитическими наблюдениями и делиться ими, например, во время утренней переклички. Мне они очень помогли в сборе материала.28
После освобождения из лагеря, когда мое здоровье поправилось, а главное, я почувствовал себя в безопасности, эмигрировав в Америку, многое из, казалось бы, забытого, вернулось ко мне. Я начал переносить все это на бумагу.
Проблема была и в том, чтобы не было свидетелей при психоаналитическом опросе наблюдаемого. Еще труднее было оставаться объективным, когда обсуждались вопросы, вызывающие сильные эмоции. Надеюсь, что понимание этого позволило мне избежать наиболее очевидных просчетов.
ТРАВМАТИЗАЦИЯ
Шок от заключения
Внезапные личностные изменения связаны с травматическими воздействиями. Первый такой шок человек получает при аресте, второй при крайне жестком обращении с ним. Они могут сочетаться, а могут быть разделены во времени. Транспортировка в лагерь также является инициацией в мучения.
Восприятие же травматической ситуации зависит от личности человека, от его социального происхождения и политических взглядов. Также важно был ли уже опыт отсидки за уголовные или политические преступления.29
Неполитические из среднего класса (меньшинство в концлагере) труднее всего переживали заключение. Они долго не могли понять, что случилось с ними и почему. При наказаниях они уверяли СС, что никогда не сопротивлялись нацизму и были послушны закону. Они считали свое заключение ошибкой. Эсэсовцы издевались над ними, как хотели. Этих заключенных больше всего подавляло, когда к ним относились, как к обычным уголовникам. Их поведение показывает, насколько слаб был аполитичный средний немецкий класс в противостоянии национал-социализму. У этого класса не было принципиальности ни по философским, ни по этическим, ни по политическим, ни по социальным вопросам. Их самоуважение покоилось на семейном или профессиональном благополучии. В лагере их больше всего унижало обращение на ты и презрение к их статусу. И именно эта утрата статуса разрушала их личность. Часто самоубийства происходили среди людей этой группы. Многие из них впадали в депрессию, бытовые дрязги, постоянное саможаление. Их третировали и обкрадывали, что поощрялось эсэсовцами. Они были неспособны к самостоятельности и копировали поведение других, в основном, уголовников. Некоторые прислуживали эсэсовцам, становясь их шпионами (обычно в лагере шпионили только уголовники). СС покрывала информатора, пока он был необходим, затем с ним расправлялись заключенные.
Что касается политических, они были психологически готовы к заключению. Они принимали его осознанно. Конечно, они тревожились за свою судьбу, за судьбу своих семей и друзей, но они не деградировали только от одного факта заключения. Такие узники совести, как Свидетели Иеговы стойко переносили заключение, благодаря строгой религиозности. Поскольку их преступление заключалось в отказе от службы в армии, им предлагали взять оружие в руки в обмен на свободу. Они упорно отказывались.
Свидетели Иеговы были хорошими товарищами, корректными и отзывчивыми и спорили только по религиозным вопросам. За их трудолюбие и исполнительность их часто назначали старостами, при этом они никогда не издевались над другими заключенными и не пользовались положением для достижения привилегий.
Уголовники меньше всех испытывали шок от заключения. Большинство из них ненавидело лагерь. Они вели себя так, будто были наравне с воротилами политики и бизнеса, с адвокатами и судьями, с теми, кто засадил их в тюрьму. Это их стремление к главенству эсэсовцы использовали, чтобы уголовники контролировали других заключенных, которых уголовники всячески обирали.
«Инициация» в лагере
Обычно стандартная «инициация» в заключенные происходила во время транспортировки их из местной тюрьмы в лагерь. Чем короче было расстояние, тем медленнее приходилось ехать: нужно было какое-то время, чтобы «сломать» заключенных. На всем пути до лагеря они подвергались почти непрерывным пыткам. Характер пыток зависел от фантазии эсэсовца-конвоира. Но и здесь был обязательный набор: избиение плеткой, удары в лицо, живот и пах, огнестрельные и штыковые ранения. Все это перемежалось процедурами, вызывающими предельное утомление, например, заключенных часами заставляли стоять на коленях и т. п.
Время от времени кого-нибудь расстреливали. Запрещалось перевязывать раны себе или своим товарищам. Охранники вынуждали заключенных оскорблять и избивать друг друга, богохульствовать, обливать грязью своих жен и т. п. Я не встречал ни одного заключенного, которому удалось бы избежать процедуры «инициации», продолжавшейся обычно не менее двенадцати часов, а зачастую и много дольше. Все это время любое неисполнение приказа (скажем, ударить другого заключенного) или попытка оказать помощь раненому, карались смертью на месте.
Цель такой начальной массовой травматизации — сломать сопротивление заключенных, изменить если не их личности, то хотя бы поведение. Пытки становились все менее и менее жестокими по мере того, как заключенные прекращали сопротивляться и немедленно подчинялись любому приказу эсэсовцев, каким бы изощренным он ни был.
Несомненно, «инициация» была частью хорошо разработанного плана.
Случалось, что узники вызывались в штаб-квартиру гестапо или на суд в качестве свидетелей. По пути обратно в лагерь их никто даже пальцем не трогал. Даже когда они возвращались вместе с новичками, эсэсовцы оставляли их в покое, как только выяснялся их статус. Из тысячи австрийцев, арестованных в Вене и доставленных в Бухенвальд, десятки были убиты и многие покалечены; практически никто из нас не избежал телесных повреждений. Но когда почти столько же заключенных переводились из Дахау в Бухенвальд, на этапе, который, как мы опасались, будет повторением первого, никто из нас не только не погиб, но и не получил, насколько мне известно, никаких повреждений.
Трудно сказать, насколько процесс изменения личности ускорялся «инициацией». Большинство заключенных довольно быстро оказывалось в состоянии полного истощения: физического — от издевательств, потери крови, жажды и т. д., психологического — от необходимости подавлять свою ярость и чувство безысходности, чтобы не сорваться и, следовательно, не погибнуть тут же. В результате происходящее слабо фиксировалось в затуманенном сознании.
Я помню состояние крайней слабости, охватившей меня от легкой штыковой раны, полученной в самом начале, и от страшного удара по голове. Я потерял много крови, тем не менее ясно помню некоторые свои мысли и эмоции во время этапа. Меня удивляло, почему эсэсовцы не убили нас всех сразу. Я поражался, что человек может столько выдержать и не сойти с ума или не покончить жизнь самоубийством, хотя некоторые так и поступили, выбросившись из окна поезда.
Главное — и было отрадно это сознавать — я не «свихнулся» от пыток (чего очень боялся) и сохранил способность мыслить и некий главный ориентир.
Теперь издалека все это кажется не столь существенным, но тогда для меня было крайне важно. Можно попытаться сформулировать в одной фразе главную проблему всего периода заключения: защитить свою душу так, что если посчастливится выйти из лагеря, то вернуться на свободу тем же человеком, каким был до заключения. Теперь я знаю, что подсознательно как бы раскололся на внутреннее «Я», которое пыталось себя сохранить, и тот остаток личности, который должен был подчиниться и приспособиться, чтобы выжить.
Кроме травматизации, гестапо использовало чаще всего еще три метода уничтожения всякой личной автономии. Первый — насильственно привить каждому заключенному психологию и поведение ребенка. Второй — заставить заключенного подавить свою индивидуальность, чтобы все слились в единую аморфную массу.
Третий — разрушить способность человека к самополаганию, предвидению и, следовательно, его готовность к будущему.
ПРОЦЕСС ИЗМЕНЕНИЯ
Превращение в детей
В детстве ребенка часто охватывает чувство бессильной ярости, но для взрослого такое состояние губительно. Заключенный тем более должен как-то справляться со своей агрессивностью, и один из самых безопасных способов — обратить ее на себя самого. При этом усиливаются мазохистские, пассивно-зависимые, детские стереотипы поведения, внешне безопасные, поскольку они якобы предохраняют заключенного от конфликтов с СС. Однако именно такой психологический механизм и отвечает задаче СС — превратить заключенного в подобие несмышленого и зависимого ребенка.
Обращение с заключенными в лагере часто напоминало отношение жестокого и властного отца к своим беспомощным детям. Даже самый суровый родитель угрожает наказанием значительно чаще, чем действительно применяет его. И в лагере наиболее эффективным методом воспитания чувства детской беззащитности были непрекращающиеся угрозы расправы.
Лишь немногие заключенные подвергались публичному наказанию розгами, но не проходило и часа без угрозы получить «двадцать пять в задницу». Смириться с возможностью такого детского наказания означало для взрослого неминуемую потерю самоуважения.
Угрозы и ругательства со стороны эсэсовцев и капо почти всегда касались анальной сферы. Очень редко к заключенному обращались иначе, чем «дерьмо» или «жена». Все усилия как бы направлялись на то, чтобы свести заключенного до уровня ребенка, еще не научившегося пользоваться горшком.
Так, заключенные справляли нужду только по приказу в соответствии со строгими лагерными правилами, и это превращалось в важное событие дня, подробно обсуждавшееся. В Бухенвальде запрещалось пользоваться туалетом в течение всего рабочего дня. Даже когда для заключенного делалось исключение, он должен был просить разрешение у охранника, а после отчитываться перед ним в такой форме, которая подрывала его самоуважение.
Другим средством регрессии к детскому поведению была работа. Заключенных, особенно новичков, заставляли делать абсолютно бессмысленную работу, например, перетаскивать камни с одного места на другое, а затем обратно. Или рыть ямы голыми руками, когда лопаты лежали рядом. Заключенные ненавидели бессмысленную работу, хотя, казалось бы, им должно было наплевать, есть ли от их работы вообще какая-то польза. Взрослый человек чувствует себя униженным, когда его заставляют выполнять «детскую» или дурацкую работу, и заключенные часто предпочитали даже более тяжелые задания, если в итоге получалось что-то похожее на результат. Еще больше оскорбляло людей, когда их запрягали, как лошадей, в тяжелые вагонетки и заставляли бежать галопом.
Более осмысленная работа чаще поручалась «старикам». Значит, действительно, принуждение к бессмысленной работе сознательно использовалось как метод превращения уважающего себя взрослого в послушного ребенка. Нет никакого сомнения в том, что работа, которую выполняли заключенные, и издевательства, которым они подвергались, разрушали самоуважение и не позволяли им видеть в себе и в своих товарищах полноценных взрослых людей.
Коллективная ответственность
Сравнение некоторых элементов внутреннего распорядка в Дахау (организованном в 1933 году) и в Бухенвальде (1937 год) дает картину растущей деперсонализации всей лагерной жизни за этот период. В Дахау, например, официальное наказание, в отличие от рядового издевательства, всегда было направлено на конкретного человека. Вначале его дело слушалось в присутствии специального офицера СС. По западным юридическим стандартам подобное слушание было не более чем фарсом, но по сравнению с более поздней лагерной практикой оно свидетельствовало все же об известной степени уважения к личности. По крайней мере, заключенному говорили, в чем он обвиняется, и давали возможность опровергнуть обвинение.
Перед наказанием розгами заключенного осматривал лагерный врач — тоже лишняя процедура, так как врач редко отменял розги, но иногда мог уменьшить число ударов.
Подобное отношение к заключенному — как к личности — было уже абсолютно исключено в Бухенвальде, что соответствовало поздней фазе национал-социализма. Здесь за все отвечала группа, а не индивидуум. В Дахау наказывался заключенный, старавшийся перетаскивать камни поменьше. В Бухенвальде в такой ситуации наказанию подверглась бы вся группа, включая начальника.
У заключенных не было иного выхода, как подчиниться давлению СС, которое вынуждало их быть пассивными внутри безликой массы. И чувство самосохранения, и давление СС работали в одном направлении. Оставаться независимым значило обречь себя на трудную и опасную жизнь. Подчиниться СС, казалось бы, соответствовало интересам самого заключенного, поскольку это автоматически делало его жизнь легче. Похожие механизмы работали и вне лагеря, хотя и не в такой очевидной форме.
Всюду, где возможно, заключенных наказывали группой, и вся группа страдала вместе с человеком, который вызвал наказание Гестапо использовало этот метод как антииндивидуалистический, поскольку считалось, что группа будет стараться контролировать своих членов. Именно в интересах группы было сдерживать всякого, кто своим поведением мог бы ей навредить. Как уже отмечалось, угроза наказания возникала чаще, чем само наказание, что вынуждало группу утверждать свою власть над индивидуумом чаще и иногда даже эффективнее, чем это делало СС. Во многих отношениях давление группы было практически постоянным. Причем в лагере жизнь заключенного особенно зависела от помощи его товарищей по несчастью, что еще более способствовало постоянному контролю группы над индивидуумом.
Следующий пример может пояснить это.
Безопасность в массе
Однажды зимой в лютую непогоду заключенные в течение нескольких часов проходили перекличку на плацу. Таково было наказание за побег: все стоят на плацу пока не найдут беглецов. Это было настоящим мучением. Видеть, как рядом умирают товарищи и ничего не мочь сделать. Остается — раствориться в безликой толпе, ничего не видеть и не чувствовать.
Но наступает момент, когда эта безликая толпа понимает, что «все равно Гестапо всех не убьет», и страх исчезает. Люди становятся безразличны к охране, пыткам, всех охватывает неимоверное чувство счастья свободы от страха. Утратив надежду на личное выживание, человек с легкостью и героизмом помогает ближнему. Такая помощь одухотворяет.
И то ли из-за этого (беспомощность охраны перед самозабвенной толпой), то ли из-за того, что уже скончалось от ожидания полсотни заключенных, всех распускают по баракам. Теперь каждый облегченно вздыхает — он жив, но уже нет того чувства безопасности, которое он ощутил, пребывая в толпе.
Судьба героя
В только что приведенном примере, мы видели, как группа страдает за индивидуалистических поступок самозащиты (бегство). Но вот другой пример, где давление группы не менее эффективно, но уже на заключенного, который пытался защитить другого. Иногда героизм становится наивысшим моментом самоутверждения. Но героями в лагере считаются не те, кто умер мученически за политические или религиозные убеждения, а тот, кто умер, пытаясь защитить других.
СС всячески стремилось устранить героизм, как проявление индивидуальности. За защиту других обычно расстреливали. Могла пострадать и вся группа, к которой принадлежал защитник.
Вот какой случай произошел однажды в октябре 1940 года.30
Рабочая команда, состоявшая из заключенных евреев «мирно» возвращалась после доставки груза. Именно в такие моменты можно было немного расслабиться и поговорить. Им повстречался сержант СС по имени Авраам, который особо не любил евреев, за то, что над его именем подсмеивались сослуживцы. Увидев праздно идущих заключенных, он приказал им несколько раз упасть лицом в грязь. В группе были два брата из Вены по фамилии Хамбер. При падении один из них потерял очки, которые упали в придорожную канаву, наполненную водой. Он попросил сержанта разрешить ему найти свои очки. Обычно в лагере такие просьбы удовлетворялись. Но здесь на дороге просьба выйти из колонны становилась индивидуалистичным актом.
Получив разрешении Хамбер нырнул в воду, но очков не нашел. Еще раз нырнул — безрезультатно. Он уже махнул на них рукой и хотел вылезать, но сержант напомнил ему, что он просил разрешения найти очки и приказал ему нырять, пока он их не найдет. В результате, так ничего и не найдя, изнеможенный ныряниями заключенный скончался. Такова была расплата за «слишком личную» просьбу.
Что было потом, не вполне ясно. Известно, что эту сцену видел какой-то штатский и доложил об этом к неудовольствию лагерного начальства. Началось следствие. Комендант допрашивал всю рабочую группу. Все говорили, что ничего не видели и ничего не знают. Только второй Хамбер, желая отомстить за смерть брата, рассказал как всё было. После чего группу отпустили. Казалось все сошло на нет, как это обычно и бывало, когда кто-то из гражданских был очевидцем лагерной расправы. Но было и исключение — в этом деле свидетельствовал заключенный.
Тем же вечером Хамбера вызвали к помощнику коменданта, после чего он исчез. Своим заявлением он поставил под удар не только рабочую группу, но и капо. Группу могли расформировать, а для евреев много значило — попасть в «хорошую» группу, ведь такие команды для них были закрыты. За время короткой встречи в бараке Хамбер понял чего стоил его героический вызов, но забрать обратно свое заявление означало оклеветать эсэсовца, за что полагалась смерть. А ему обещали, что с ним ничего не произойдет, если он даст правдивые показания.
Хамбера посадили в бункер (одиночную камеру пыток), где он пробыл десять дней, после чего его уже видели в покойницкой, но без следов насилия на теле. Официальная версия была — самоповешение.
Спустя примерно неделю на допрос вызвали троих из его команды. Через три дня их тела оказались в морге. Их умертвили уколом. Еще через неделю та же участь постигла еще троих из той же команды. Можно представить, что они чувствовали, зная о своей судьбе. Но ни один из них не совершил самоубийства.
Такими мерами СС укрепляли воздействие группы на индивида. Боясь даже оправданных вспышек индивидуализма, группа принуждала индивида сдерживаться.
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ Воля к жизни
При изучении статистики возникает вопрос, почему в концентрационных лагерях был большой процент просто умерших людей. В рапортах цифры колеблются от 20 % до 50 % и не дают возможности вывести общее число.
Дело в том, что, например, в Бухенвальде тысячами умирали в первый же год заключения от физического и морального истощения, а также от утраты воли к жизни. Но кто жил в лагере дольше получал и больше шансов на выживание. Как правило, широкомасштабные наказания «стариков» были редки (как случай с Хамбером). Среди освобожденных в 1945 году тысячи провели в лагере пять, а то и десять лет. Что говорит о том, что обобщающие данные о лагерной смертности не могут быть однозначными (у нас есть точные данные только за 6 месяцев 1942 года).
Я думаю, что уровень смертности «стариков» редко превышал 10 % в год, в то время как смертность среди «новичков» была примерно 15 % в месяц. Такой террор достигал невыносимого предела в середе «новичков» и во многих развивал стремление к смерти. Кроме того, «новичков» размещали в худших условиях по сравнению с условиями жизни «стариков». Их пища была скуднее. Месяцами им не передавали присланных денег или почты. Все это усугубляло их деградацию.
Непредсказуемая обстановка
Изучение лагерной жизни позволяет предположить, что в условиях крайней изоляции влияние окружающей обстановки на личность может стать тотальным. Выживание человека тогда зависит от его способности сохранить за собой некоторую область свободного поведения, удержать контроль над какими-то важными аспектами жизни, несмотря на условия, которые кажутся непреодолимыми. Чтобы остаться человеком, не стать тенью СС, необходимо было выявить достаточно важные для вас жизненные ситуации, которыми вы могли бы управлять.
Этому меня научил немецкий политзаключенный, рабочий-коммунист, сидевший в Дахау уже четыре года. После инициации на этапе я прибыл туда в жалком состоянии. Мне кажется, «старик», оценив мое положение, решил, что у меня мало шансов выжить без посторонней помощи. Он заметил, как я с отвращением отвернулся от пищи, и поделился со мной своим богатым опытом: «Послушай, реши твердо, что ты хочешь: жить или умереть? Если тебе все равно — можешь не есть. Но если ты решил выжить, то путь один — ешь всегда и все, что дают, как бы ни было противно. При любой возможности испражняйся, чтобы убедиться — твой организм работает! Как только появится свободная минутка, читай или ложись и спи, а не пережевывай лагерные слухи».
Я усвоил этот урок, и очень вовремя. Я стал изучать происходящее, что заняло место предложенного чтения. Вскоре я убедился, как важен был урок. Но прошли годы, прежде чем я полностью осознал его психологическую ценность.
Для выживания необходимо, невзирая ни на что, овладеть некоторой свободой действия и свободой мысли, пусть даже незначительной. Две свободы — действия и бездействия — наши самые глубинные духовные потребности, в то время как поглощение и выделение, умственная активность и отдых — наиболее глубинные физиологические потребности. Даже незначительная, символическая возможность действовать или не действовать, но по своей воле (причем к духу и к телу это относится в одинаковой мере) позволяла выжить мне и таким, как я.
Бессмысленные задания, почти полное отсутствие личного времени, невозможность что-либо планировать из-за постоянных и непредсказуемых перемен в лагерных порядках — все это действовало глубоко разлагающе.
Пропадала уверенность, что твои поступки имеют хоть какой-то смысл, поэтому многие заключенные просто переставали действовать. Но, переставая действовать, они вскоре переставали жить. По-видимому, имело принципиальное значение, допускала ли обстановка — при всей ее экстремальности — хотя бы малейший выбор, минимальную возможность как-то прореагировать, пусть объективно такая возможность и была незначительной по сравнению с огромными лишениями.
Возможно, поэтому СС перемежало жестокие репрессии с некоторыми послаблениями: истязание заключенных изредка заменялось наказанием особо бесчеловечной охраны; неожиданно проявлялось уважение и даже вручалась награда кому-то из тех заключенных, кто отстаивал свое достоинство; внезапно объявлялся день отдыха и т. д. Большинство из умерших в лагере своей смертью — это те, кто перестал надеяться на такие послабления и использовать их, хотя они случались даже в самые черные дни, то есть умирали люди, полностью утратившие волю к жизни.
Искусство, с которым СС использовало данный механизм уничтожения человеческой веры в будущее и способность его прогнозировать, производит глубокое впечатление. Не имея доказательств, я не могу утверждать, применялся ли этот механизм намеренно или бессознательно, но работал он с ужасающей эффективностью. Если СС хотело, чтобы некая группа людей (норвежцы, политзаключенные и т. д.) приспособилась, выжила и работала в лагере, объявлялось, что их поведение может повлиять на их судьбу. Тем группам, которые СС хотело уничтожить (восточные евреи, поляки, украинцы и т. д.), давали ясно понять, что не имеет ни малейшего значения, насколько добросовестно они работают или стараются угодить начальству.
Другой способ разрушить веру и надежду заключенных в то, что они могут повлиять на свою судьбу, лишить воли к жизни — резко менять условия их жизни. В одном лагере, например, группа чешских заключенных была полностью уничтожена следующим образом. На некоторое время их выделили как «благородных», имеющих право на определенные привилегии, дали жить в относительном комфорте без работы и лишений. Затем чехов внезапно бросили на работу в карьер, где были самые плохие условия труда и наибольшая смертность, урезав в то же время пищевой рацион. Потом обратно — в хорошее жилище и легкую работу, через несколько месяцев — снова в карьер на мизерный паек, и т. д. Вскоре все они умерли.
Меня, например, трижды «отпускали» на свободу, переодев в штатское.
Наказание за суицид
Основной целью СС было контролирование способности принятия решений. Решение остаться в живых или умереть, — возможно, высшее проявление самоопределения. В этом плане в лагере базовый принцип был такой: чем больше самоубийств, тем лучше, но и здесь решение должно исходить не от заключенного. Если эсэсовец спровоцировал заключенного броситься на проволоку под напряжением — все в порядке. Для тех же, кто самостоятельно решает совершить попытку самоубийства, существует специальный приказ (в Дахау с 1933 года): неудачно совершившим самоубийство — наказание 25 ударов и длительное одиночное заключение.
Такое же наказание применялось к тем, кто пытался предотвратить самоубийство или вернуть человека к жизни после попытки самоубийства. Мне кажется, СС интересовало не само наказание, а его угроза с целью уничтожить самоопределение.
«Мусульмане» — ходячие трупы.
Заключенные, усвоившие постоянно внушаемую СС мысль, что им не на что надеяться, что они смогут выйти из лагеря только в виде трупа, поверившие, что они никак не могут влиять на свое положение — такие заключенные становились, в буквальном смысле слова, ходячими трупами.
В лагерях их называли «мусульманами», ошибочно приписывая последователям Магомета фатализм в отношении своей судьбы.
Но, в отличие от настоящих мусульман, эти люди принимали решение подчиниться судьбе не по своей воле. Это были заключенные, настолько утратившие желания, самоуважение и побуждения в каких бы то ни было формах, настолько истощенные физически и морально, что полностью подчинялись обстановке и прекращали любые попытки изменить свою жизнь и свое окружение.
Процесс превращения в «мусульманина» был достаточно нагляден. Вначале человек переставал действовать по своей воле. Когда другие замечали случившееся, то старались больше с ним не общаться, так как любой контакт с «отмеченным» мог привести только к саморазрушению На данной стадии такие люди еще подчинялись приказам, но слепо и автоматически, без избирательности или внутренних оговорок, без ненависти к издевательствам. Они еще смотрели по сторонам, или, по крайней мере, «двигали глазами». Смотреть прекращали много позже, хотя и тогда продолжали двигаться по приказу, но уже никогда не делали ничего по своей воле. Прекращение собственных действий, как правило, совпадало по времени с тем, что они переставали поднимать ноги при ходьбе — получалась характерная шаркающая походка. Наконец, они переставали смотреть вокруг, и вскоре наступала смерть.
Не сметь смотреть!
Превращение человека в «мусульманина» было также не случайно. Это можно показать на примере правила «не сметь смотреть». Видеть и анализировать происходящее в лагере было совершенно необходимо для выживания, но еще более опасно, чем «высовываться». Хотя часто и пассивного «не видеть, не знать» оказывалось недостаточно. Чтобы выжить, приходилось активно делать вид, что не замечаешь, не знаешь того, что СС требовало не знать.
Одна из самых больших ошибок в лагере — наблюдать, как измываются или убивают другого заключенного: наблюдающего может постигнуть та же участь. Но совершенно не исключено, что тут же эсэсовец заставит этого же заключенного смотреть на убитого, выкрикивая, что такое произойдет с каждым, кто посмеет ослушаться. Здесь нет противоречия, просто — впечатляющий урок. Ты можешь замечать только то, что мы хотим, чтобы ты видел, и ты умрешь, если будешь наблюдать происходящее, исходя из своих внутренних побуждений. Идея все та же — свою волю иметь запрещено.
И другие примеры показывают, что все происходившее в лагере было не случайно, а имело свои причины и цель. Скажем, эсэсовец пришел в неистовство из-за якобы сопротивления и неповиновения, он избивает или даже убивает узника. Но посреди этого занятия он может крикнуть «Молодцы!» проходящей мимо рабочей колонне, которая, заметив экзекуцию, срывается в галоп, отворачивая головы в сторону, чтобы как можно скорее миновать злополучное место, «не заметив». И внезапный переход на бег, и повернутые в сторону головы совершенно ясно обозначают, что они «заметили». Но это неважно, поскольку они продемонстрировали, что усвоили правило «не знать, чего не положено».
Знать только разрешенное — свойственно именно детям. Самостоятельное существование начинается со способности наблюдать и делать собственные выводы.
Не видеть того, что важнее всего, не знать, когда хочется знать так много, — самое разрушительное для функционирования личности. Более того, способность к верным наблюдениям и правильным умозаключениям, раньше служившая опорой личной безопасности, не только теряет смысл, но и создает реальную угрозу для жизни. Вынужденный отказ от способности наблюдать, в отличие от временной невнимательности, ведет к отмиранию этой способности.
На самом же деле, ситуация была еще сложнее. Заключенный, «заметивший» издевательство, наказывался, но это было ничто в сравнении с тем, что его ждало, если он хотел помочь потерпевшему. Такая эмоциональная реакция была равносильна самоубийству. И поскольку порой не реагировать было невозможно, то оставался только один выход: не наблюдать. Таким образом, обе способности — наблюдать и реагировать — необходимо было заблокировать в целях самосохранения. Но ведь если кто-то перестает наблюдать, реагировать и действовать, он прекращает жить. Чего как раз и добивалось СС.
Последняя черта.
Даже тому, кто не стал «мусульманином», кто как-то сумел сохранить контроль за некоей маленькой частичкой собственной жизни, неизбежно приходилось идти на уступки своему окружению. Чтобы просто выжить, не следовало задаваться вопросом: платить ли кесарю или не платить, и даже, за редким исключением, сколько платить? Но, чтобы не превратиться в «ходячий труп», а остаться человеком, пусть униженным и деградировавшим, необходимо было все время сознавать, где проходит та черта, из-за которой нет возврата, черта, дальше которой нельзя отступать ни при каких обстоятельствах, даже если это значит рисковать жизнью. Сознавать, что если ты выжил ценой перехода за эту черту, то будешь продолжать жизнь, уже потерявшую свое значение.
Эта черта, из-за которой нет возврата, была у всех у нас разной и подвижной. В начале своего заключения большинство считало «за чертой» служить СС в качестве капо или начальника блока. Позже, после нескольких лет в лагере, такие относительно внешние вещи уступали место значительно более глубоким убеждениям, составившим потом основу сопротивления. Этих убеждений необходимо было придерживаться с крайним упорством. Приходилось постоянно держать их в памяти, только тогда они могли служить оплотом пусть сильно съежившейся, но все же сохранившейся человечности.
Следующим по важности было понимание того, как уступать, когда не затрагивается «последняя черта». Это, хотя и не столь принципиальное, но не менее важное знание своего отношения к уступкам требовалось почти постоянно.
Если ты хотел выжить, подчиняясь унизительным и аморальным командам, то должен был сознавать, что делаешь это, чтобы остаться живым и неизменным как личность. Поэтому для каждого предполагаемого поступка нужно было решить, действительно ли он необходим для твоей безопасности или безопасности других, будет ли хорошо, нейтрально или плохо его совершить. Осознание собственных поступков не могло их изменить, но их оценка давала какую-то внутреннюю свободу и помогала узнику оставаться человеком. Заключенный превращался в «мусульманина» в том случае, если отбрасывал все чувства, все внутренние оговорки по отношению к собственным поступкам и приходил к состоянию, когда он мог принять все, что угодно.
Те, кто выжили, поняли то, чего раньше не осознавали: они обладают последней, но, может быть, самой важной человеческой свободой — в любых обстоятельствах выбирать свое собственное отношение к происходящему.31
НАСТРОЙ НА ВЫЖИВАНИЕ
«Старики» и «новички»
Термин «новичок» относится к заключенным, находящимся в лагере не более года. «Стариками» называли тех, кто отсидел больше трех лет. «Новичков» встречали словами: «если ты продержишься в первые три недели, то у тебя есть шанс прожить год, если — три месяца, то выживешь и в следующие три года. За первый месяц пребывания в лагере умирало от 10 до 15 % вновьприбывших. Во второй месяц, если не было массовых казней — в два раза меньше. В третий месяц уровень составлял 3 % и далее для оставшихся 75 % выживших он опускался до 1 %. Выживали, как правило, физически крепкие и изначально здоровые люди. «Новички» обычно старались подольше сохранить свои силы, надеясь скоро выйти из лагеря. «Старики» же думали только о том, как максимально приспособиться к жизни в лагере, не питая уже надежды выйти из него. Некоторые даже ставили себе некий максимальный предел пребывания в лагере, после чего кончали жизнь самоубийством. Со временем жизненный порыв «новичков» затухал, сменяясь уступками, покорностью, зависимостью и пассивностью. Характерным отличием «новичков» от «стариков» было отношение к лагерной жизни — для первых он чем-то нереальным (по сравнению с внешним миром), а для вторых — единственной реальностью. Эмоциональный разрыв с теми, кто остался в «прошлой жизни» ускорял деградацию личности. «Новички» тратили деньги на установление связи с близкими, «старики» — на устроение «теплого местечка» в лагере. «Новички» интересовались новостями из внешнего мира, «стариков» же интересовали только лагерные новости. СС специально создавало условия для разрыва эмоциональных связей с близкими. Родные всячески третировались в общественной жизни, при этом им объясняли, что их родственник не выходит из лагеря из-за каких-то новых проступков. Такое постоянное откладывание сроков освобождения вселяло в них апатию.
К «внешнему мир» у «стариков» вырабатывалось неприятие, даже ненависть («они там наслаждаются жизнью, а мы тут страдаем», а затем равнодушие, забвение и безразличие. «Новички» же любили поговорить о своих семьях, друзьях, работе и положении в обществе.
Конечно, было у них и нечто общее. Это мечты и фантазии о грядущих мировых катаклизмах, только в силу которых они могут быть освобождены. Они мечтали, что станут выдающимися лидерами нового мира. Но мало думали о будущей встрече с семьей и детьми. Вероятно, мечты о высоком положении были связаны с желанием вернуть себе чувство само уважения. Безобидные фантазии о личной жизни оставались без реакции. Но если заключенный начинал мнить себя ребенком, капризничать и не слушаться, что могло навлечь наказание на всю группу — на него воздействовали доступными способами. «Детское» поведение выражалось в удовлетворении элементарных потребностей в еде, сне и отдыхе, а также в заботе только о текущем моменте. Такие люди становились неспособны к длительным отношениям, были вспыльчивы и легко отходчивы, в драке кусались и царапались. Они любили похвастаться и приврать и не стыдились этого.
Окончательный результат
Психические изменения, происходившие со всеми «стариками», формировали личности, способные и желающие принять внушаемые СС ценности и поведение, как свои собственные. Причем немецкий национализм и нацистская расовая идеология принимались легче всего. Удивительно, как далеко продвигались по этому пути даже высокообразованные политзаключенные.
Одно время, например, американские и английские газеты были полны историй о жестокостях, творимых в немецких концлагерях. Верное своей методике коллективной ответственности, СС наказывало весь лагерь за появление подобных статей, которые, очевидно, основывались на показаниях бывших заключенных. Обсуждая эти события, «старики» настаивали на том, что иностранные газеты не должны вмешиваться во внутренние дела Германии, и выражали свою ненависть к журналистам, которые объективно хотели им помочь.
В 1938 году в лагере я опросил более ста «стариков — политзаключенных.
Многие из них не были уверены, что следует освещать лагерную тему в иностранных газетах. На вопрос, приняли бы они участие в войне других государств против нацизма, только двое четко заявили, что каждый, сумевший выбраться из Германии, должен бороться с нацизмом, не щадя своих сил.
Почти все заключенные, исключая евреев, верили в превосходство германской расы. Почти все они гордились так называемыми достижениями национал-социалистического государства, особенно его политикой аннексии чужих территорий. Большинство «стариков» заимствовало у гестапо и отношение к так называемым «неполноценным» заключенным. Гестапо проводило ликвидацию отдельных групп «неполноценных» еще до вступления в силу общей программы уничтожения.
У заключенных были по этому поводу свои собственные соображения. Дело в том, что «новички» создавали для «стариков» сложные проблемы. Их жалобы на убогость лагерной жизни, их неприспособленность вносили дополнительную напряженность в и без того сложную жизнь бараков. Их неправильное поведение в бараке или в рабочей команде угрожало всем. «Высовываться», обращать на себя внимание всегда было опасно, и обычно вся группа, в которой находился «заметный» человек, выбиралась СС для специального наблюдения. Так что «новички» оказывались помехой для всех остальных.
Более того, самые слабые из «новичков» чаще становились доносчиками.
Слабые обычно умирали в течение первых недель, поэтому казалось, что от них можно избавиться и раньше. «Старики» иногда этому содействовали, давая «новичкам» опасные задания или отказывая им в помощи. Избавляясь от «неполноценных», они поступали согласно идеологии СС. Таким же образом «старики» обращались с доносчиками. Самозащита требовала их устранения, но метод, по которому их мучили целыми днями и медленно убивали, был заимствован у гестапо.
Иногда кто-нибудь из эсэсовцев, повинуясь минутной прихоти, отдавал бессмысленный приказ. Обычно приказ быстро забывался, но всегда находились «старики», которые еще долго его соблюдали и принуждали к этому других.
Однажды, например, эсэсовец, осматривая одежду узников, нашел, что какие-то ботинки внутри грязные. Он приказал мыть ботинки снаружи и внутри водой с мылом. После такой процедуры тяжелые ботинки становились твердыми как камень. Приказ больше никогда не повторялся, и многие не выполнили его и в первый раз, потому что эсэсовец, как это часто случалось, отдав приказ и постояв немного, вскоре удалился. Тем не менее, некоторые «старики» не только продолжали каждый день мыть изнутри свои ботинки, но и ругали всех, кто этого не делал, за нерадивость и грязь. Такие заключенные твердо верили, что все правила, устанавливаемые СС, являются стандартами поведения — по крайней мере в лагере.
Так как «старики» усвоили, или были вынуждены усвоить детскую зависимость от СС, то у многих из них появлялась потребность хотя бы некоторых из офицеров считать справедливыми и добрыми. Поэтому, как это ни покажется странным, они испытывали и положительные чувства к СС. Подобные чувства обычно концентрировались на офицерах, занимающих относительно высокое положение в лагерной иерархии (но почти никогда — на самом коменданте).
Заключенные утверждали, что за грубостью эти офицеры скрывают справедливость и порядочность, что они искренне интересуются заключенными и даже стараются понемногу им помогать. Их помощь внешне не заметна, но это потому, что «хорошим» эсэсовцам приходится тщательно скрывать свои чувства, чтобы себя не выдать.
Настойчивость, с которой узники пытались обосновать подобные утверждения, вызывала у меня жалость. Целая легенда могла быть сплетена вокруг случая, когда один из двух эсэсовцев, инспектировавших барак, вытер ноги, прежде чем войти. Скорее всего, он сделал это автоматически, но действие интерпретировалось как отпор второму эсэсовцу и явная демонстрация своего отношения к концлагерю. Подобные примеры говорят о том, каким образом и до какой степени «старики» становились похожими на своего врага, и как они пытались оправдаться в собственных глазах. Но было ли СС только врагом? Если да, то такую трансформацию взглядов трудно понять. СС не менялось, оставаясь действительно жестоким, непредсказуемым врагом. Но чем дольше заключенному удавалось выжить, то есть чем в большей степени он становился «стариком», потерявшим надежду жить иначе и старавшимся «преуспеть» в лагере, тем больше он находил общих точек с СС. Причем для обеих сторон кооперация была выгоднее, нежели противостояние. Совместная жизнь, если можно ее так назвать, с неизбежностью формировала общие интересы.
К примеру, у одного или нескольких бараков был надсмотрщик из унтер-офицеров СС — блокфюрер. Каждый блокфюрер хотел, чтобы его бараки были безупречны — образцовый порядок и никаких ЧП. Это избавляло его от неприятностей с начальством и давало шанс на повышение в чине. Но в том же были заинтересованы и жившие в этих бараках заключенные. Абсолютный порядок тоже избавлял их от сурового наказания, и в этом смысле их интересы совпадали.
Заканчивая краткое описание характерных черт, приобретаемых «стариками» в процессе адаптации, я хочу снова подчеркнуть, что все изменения происходили только в определенных границах. Существовало много индивидуальных вариантов, и реально резкую грань между «стариками» и «новичками» провести было трудно.
Все, что я говорил о психологических причинах, заставляющих «стариков» приспосабливаться и становиться похожими на СС, — лишь часть общей картины.
У заключенных имелись мощные способы внутренней защиты, которые действовали в противоположном направлении. Все заключенные, включая и тех «стариков», которые идентифицировались с СС, временами нарушали ее правила. При этом случалось, что некоторые заключенные проявляли выдающуюся храбрость, а многие другие в течение всего лагерного срока сохраняли цельность и порядочность.
Глава 5. Поведение в экстремальной ситуации:
Защитные реакции
Жизнь в концентрационном лагере была чрезвычайно сложной. Давление СС принуждало узников подчиняться, приспосабливаться, изменять свою личность и поведение. Это было очевидно. В то же время все усилия, действующие в обратном направлении, — попытки изменить что-то в лагере, уберечь свой внутренний мир и т. п., должны были быть тайными и психологически достаточно изощренными.
Часто эти попытки приводили к тому, что заключенные еще глубже «увязали» в гестаповской системе. Чтобы защититься более эффективно, нужно было как-то сплотиться, а любая организация работала на руку СС. Так была устроена вся система. Получался парадокс: чем эффективнее организация узников, тем лучше она служит целям СС.
Но как все же работала такая система? Почему лагерем в значительной степени управляли сами заключенные? Как в их среде возникала сложная иерархия, которая делала еще более несчастной, а зачастую буквально невыносимой жизнь тех, кто не смог подняться из низшего слоя? Почему заключенные, стремясь попасть на более высокий уровень, предавали, использовали в своих целях, жестоко издевались над своими же товарищами? Почему различные группы (политические, уголовники и т. п.) составляли целые заговоры друг против друга с целью выиграть или удержать более выгодное положение, перенимая при этом многое из представлений и поведения СС?
Элита заключенных
Зачатки иерархических структур появились в концентрационных лагерях уже в 1936 году, когда заключенных стали использовать на стройках, для содержания лагерей и для других более сложных задач.
Всякая работа требует управляющих. Но СС сторонилась физического труда — это была каста воинов, достойная только командовать рабочей массой. Поэтому заключенный мог выбиться в начальники, причем, некоторые назначения таили в себе, казалось, непреодолимый соблазн власти, некоторой безопасности и привилегий. Однако разделение на «классы» не базировалось на их экономической роли и, следовательно, не определялось важностью их функций.
«Классы» возвышались и падали лишь по прихоти СС.
Так, деление на квалифицированный и неквалифицированный труд, которое для заключенного было вопросом жизни и смерти, основывалось не на квалификации, а на принадлежности к «классу» в лагерном расслоении. Заключенные из среднего «класса» назначались в команды для квалифицированного труда независимо от того, имели они нужную квалификацию или нет. Если имели — хорошо, если нет — получат в лагере. Именно так заключенные становились электриками или хирургами; например, войдя в «почти средний класс», сорок политических заключенных-евреев стали каменщиками. Капо назначали на работу, преследуя обычно внутрилагерные политические интересы или личные цели.
Но квалифицированная работа была исключением и оставлялась только для привилегированного меньшинства. Неквалифицированный труд, наиболее трудный и опасный, был постоянным уделом большинства, и избежать его полностью не удавалось почти никому.
Неквалифицированного рабочего всегда можно было заменить на другого, поскольку не требовалось предварительного обучения, а с потерями не считались. На этом и основывалась власть лагерной элиты.
Функционирование иерархии заключенных на практике показало, как горстка эсэсовцев может манипулировать десятками тысяч враждебно настроенных людей.
И не только подчинить их себе, но заставить работать и управлять другими заключенными без всякой опасности для себя. Само существование «классов» в условиях, когда большинство лидеров заключенных было коммунистами, приверженными идее бесклассового общества, показывает, что даже наиболее стойкие группы населения не выдерживают давления тоталитарного общества, если оно достаточно сильно. И тому есть несколько причин.
Как я уже говорил, начальники из числа заключенных могли использовать свое положение для облегчения участи товарищей, но чтобы остаться «в должности», они должны были прежде всего служить СС. Личные интересы требовали сохранения власти любой ценой. Так как они отвечали за порядок в бараке или в рабочей команде, то старались защитить себя, предупреждая любое возможное требование СС. Часто это кончалось тем, что в жестокой придирчивости они превосходили СС. Так вело себя большинство «руководящих» заключенных. Однако некоторые выдающиеся личности использовали свое положение с пользой для простых узников, проявляя отвагу и бескорыстие.
Находились и такие капо, которые успешно противостояли рядовым эсэсовцам, но они были исключением, так как их действия требовали чрезвычайной смелости.
Чем больше заключенных попадало в лагеря, тем меньше была их «ценность», и тем важнее становилась протекция у представителя «аристократии». Когда началась политика массового уничтожения, подобная протекция стала для каждого узника практически единственным средством спасения своей жизни.
Двусмысленная власть
Власть элиты — палка о двух концах. Чтобы спасти себя, своих друзей и членов своей группы, элите приходилось жертвовать другими заключенными. Все считалось допустимым, даже уничтожение целых групп заключенных, если это помогало удержать власть. Некоторые политические группы, созданные для защиты, кончали тем, что во имя спасения собственных членов участвовали в уничтожении тысяч заключенных.
Но поведение элиты нельзя объяснить только стремлением к собственной безопасности и к материальным преимуществам. Часто столь же большое значение имело и само желание властвовать.
Во-первых, все заключенные, включая и элиту, были настолько лишены подлинной самостоятельности и самоуважения, что стремились к ним всеми возможными способами Сила и влияние — сила любой ценой и влияние все равно для каких целей — были в высшей степени привлекательны в условиях, целиком направленных на выхолащивание индивидуальности.
Во-вторых, презрение к более низким «классам» заключенных служило важной психологической защитой от собственных страхов. Я, как и прибывшие со мной в Бухенвальд товарищи, испытали буквально шок, увидев так много людей, неспособных работать, похожих на ходячие скелеты. Вид этих людей, поедающих отбросы, вызвал у нас отвращение.
Видя эти ходячие скелеты, каждый заключенный испытывал страх превратиться во что-то подобное. Становилось легче, если удавалось себя убедить, что ты сделан из другого материала и никогда не сможешь так низко пасть. Страх опуститься до нечеловеческого состояния — до «мусульман» — был мощной побудительной причиной, чтобы развернуть против них «классовую» войну. И это можно оправдать, поскольку они действительно были опасны, превращаясь в разносчиков болезней, воров (ведь заключенные даже «среднего класса» имели так мало, что потеря свитера или буханки хлеба могла означать смерть), а их отчаяние и нежелание бороться за жизнь были заразительны. В подобных условиях трудно ожидать нравственного поведения — «мусульман» ненавидели, поскольку боялись стать такими же.
Как это свойственно большинству правящих классов и в особенности тем группам, которые недавно пришли к власти, элита (в том числе и коммунисты) теряла способность сочувствовать судьбе, страданиям заключенных более низких «классов» или ставить себя на их место. Она уже не понимала, что значит испытывать лагерную нищету, изнурительный труд в любую погоду без отдыха и без минимальной медицинской помощи Но главное, она не могла позволить себе это понимать, ибо любое смягчение отношения к простым заключенным было бы сразу замечено СС и привело бы к немедленному отстранению от власти. Так что собственное выживание зависело от того, в какой степени члены элиты приобретут и сохранят бесчувственность. Защищая себя, они искали и находили причины для того, чтобы отстраниться от рядовых заключенных. Они ругали их за неряшливость, которая грозила лагерю загрязнением и эпидемиями. Они презирали их, потому что те пили грязную воду, хотя следовало пользоваться только кипяченой.
Привилегированные заключенные не могли позволить себе признать тот факт, что они значительно лучше питались и имели вдоволь кипяченой воды, в то время как остальные настолько страдали от голода и жажды, что гигиенические соображения часто не играли для них никакой роли.
Характерный пример — отношение старост блоков к тем голодающим, кто собирал картофельные очистки в контейнерах с отбросами. Здоровяки, весом под 90 кг, избивали (якобы для их же пользы) несчастных людей, похожих на тени, весивших едва ли 45 кг, за нарушение лагерного закона, запрещавшего есть отбросы. Действительно, многие заключенные, проглотив полуразложившиеся объедки, получали серьезные расстройства желудка. Тем не менее подобная праведность сытых возмущала тех, кто голодал.
Вот еще одно соображение по поводу известной лагерной истины: самый большой враг заключенного — не СС, а свой же брат заключенный. СС, уверенная в своем превосходстве, менее нуждалась в его демонстрации и подтверждении, чем элита, которая никогда не чувствовала себя в безопасности. СС обрушивалась на заключенных как всесокрушающее торнадо по нескольку раз в день, и каждый жил в постоянном страхе, но при этом всегда были часы передышки. Давление же начальников из заключенных чувствовалось непрерывно — днем во время работы и всю ночь в бараке.
Достаточно просто показать, что именно так и должно происходить: одна всесильная организация выступает против другой, очень слабой, члены которой чувствуют, что могут преуспеть, только скооперировавшись с могущественным противником. Сложнее понять, почему та же ситуация складывалась и в отношении индивидуальной психологической защиты заключенного.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
Первая рационализация
Прежде, чем как-то объединяться, каждый попавший в лагерь человек пробовал защищаться от его воздействия собственными средствами. Естественно, вначале это были привычные методы, дававшие безопасность в прошлом. Заключенные, особенно из тех, кто принадлежал ранее к среднему классу, пытались произвести впечатление на охрану своим положением, которое они занимали до ареста, или вкладом в развитие страны.
Но любые попытки в этом направлении только провоцировали охрану на новые издевательства.
Ведь, в конечном счете, СС вполне серьезно хотела построить новое общество.
Глубокая неудовлетворенность многих немцев состоянием общества до прихода Гитлера была основной причиной вступления в СС. Поэтому говорить эсэсовцу, что ты был одним из столпов ненавистного ему общества, и на этом основании требовать к себе уважения, было не просто бесполезно, но и вызывало лютую злобу. Некоторым заключенным из среднего класса был нужен не один урок, чтобы это усвоить.
Вначале они были склонны считать, что дело только в конкретном эсэсовце, неспособном понять, что они заслуживают лучшего обращения. Однако даже поверхностный анализ мог бы убедить их в том, что былые заслуги ничего не значат. Для эсэсовцев общество, в котором многие из них имели весьма низкий статус, умерло. Впрочем, была и другая причина верить в старые способы защиты: просто люди, попав в лагерь, не видели других возможностей.
Заключенные, занимавшиеся раньше политической деятельностью, находили почву для самоутверждения в самом факте ареста, считая, что гестапо выбрало их для мести. К такого рода рассуждениям прибегали члены различных партий.
Для левых радикалов заключение доказывало их опасность для нацистов. Бывшим членам либеральных групп казалось, что раз их арестовали, то очевидна несправедливость обвинений в адрес их политики, и что именно этой политики более всего боятся нацисты.
Подобные рассуждения поддерживали и сильно пошатнувшуюся самооценку небольшого числа заключенных из высших классов. Они переживали свою неволю так же остро, как и заключенные среднего класса, но первое время еще продолжали чувствовать уважение окружающих Во всяком случае, особое отношение если не СС, то многих заключенных давало им возможность рассматривать себя как исключение. Поэтому какое-то ограниченное время они не признавали «реальность» произошедшего и не ощущали необходимости приспосабливаться к лагерю, считая, что будут вскоре освобождены в силу своей необходимости для общества. Это было отчасти верно для высшей аристократии и для некоторых заключенных, имевших в недавнем прошлом очень сильные политические позиции или огромные состояния.
Уверенность представителей высшего класса в собственном превосходстве и почтение к ним со стороны других приводило к тому, что некоторые заключенные из среднего класса шли к ним в услужение, надеясь, что после освобождения патрон поможет им получить свободу, а затем позаботится и о будущем. В результате заключенные из высшего класса не объединялись в группы; большинство из них оставалось, как правило, в одиночестве, в окружении лишь своей «челяди». Однако это продолжалось только до тех пор, пока сохранялась вера в скорое освобождение и возможность свободно тратить деньги. Когда же сами заключенные из высших классов и их окружение убеждались, что их свобода не ближе, чем у всех других, особый статус отпадал, и никаких преимуществ перед остальными не оставалось.
Несколько по-другому обстояло дело с очень немногими заключенными из самых высоких классов, в основном, членами бывших королевских фамилий. Их, правда, было слишком мало для обобщения. Они не собирали «свиты», не тратили деньги ради расположения других заключенных, не обсуждали свои надежды на освобождение. Они смотрели свысока как на всех остальных заключенных, так и на СС. Находясь в лагере, они, казалось, выработали такое чувство превосходства, что их ничего не трогало. С самого начала эти люди держались с тем чувством отчужденности, отрицания «реальности» ситуации, которое приходило к большинству других только после мучительного опыта. Их стойкость была совершенно замечательной, но то был особый случай.
СС со всеми заключенными обращалась как с «номерами», но подобное отношение к членам бывших королевских фамилий было скорее показным.
Непонятно, как СС, не желая, а, возможно, и не сознавая, выделяла таких людей. Какое-то время я работал бок о бок с неким графом, отпрыском одной из самых аристократических фамилий Германии. С ним обращались точно так же, как и с остальными заключенными Но, например, герцога Гогенбергского, внучатого племянника австрийского императора, унижали и жестоко избивали, выражая свое отношение словами: «Я тебе покажу сейчас, что ты ничем не отличаешься от прочих заключенных!» Словом, члены королевских фамилий действительно выделялись, хотя бы большим презрением СС. Для них существовали особые оскорбления, они не были перемешаны со всеми остальными заключенными.
Возможно, потому их самооценка не подвергалась таким испытаниям, как у других. Оставаясь особыми, пусть только в смысле оскорблений, они оставались индивидуальностями.
Расплата за других
Один из способов защиты состоял в том, чтобы считать свои страдания не напрасными, почувствовать себя необходимым, поскольку твой арест — избавление для других. Ты — жертва, выбранная из многих для наказания.
Подобные мысли возникали у многих заключенных, они смягчали внутреннее чувство вины за их агрессивное поведение в лагере. Его якобы оправдывали и действительно невыносимые условия жизни. Когда один заключенный, пользуясь своим физическим преимуществом, избивал другого за непристойный разговор, грязь или какую-либо нерадивость, то, пытаясь снять с себя вину, обычно говорил: «Я не могу быть нормальным, когда приходится жить в таких условиях».
Рассуждая подобным образом, заключенные приходили к мысли, что они уже искупили не только свои ошибки в прошлом, но и все будущие прегрешения.
Часто они спокойно отрицали свою ответственность или вину, чувствуя себя вправе ненавидеть других людей, включая собственные семьи, даже если трудности возникали явно по их собственной вине.
Такой способ сохранить самоуважение в действительности ослаблял заключенного. Обвиняя внешние силы, он отрицал персональную ответственность не только за свою жизнь, но и за последствия своих действий. Обвинять других людей или обстоятельства за собственное неправильное поведение свойственно детям. Отказ взрослого человека от ответственности за собственные поступки — шаг к разложению личности.
Эмоциональные связи
Уже говорилось, что связи с семьей были одной из сил, поддерживающих у заключенных волю к жизни. Но поскольку сам заключенный никак не мог влиять на сохранение этих связей, он жил в постоянном страхе.
Страх поддерживался историями о женах, которые развелись со своими арестованными мужьями (такое решение поощрялось СС), или изменяли им.
Тревога и раздвоение чувств были неразрывно связаны с получением письма из дома.
Заключенные могли плакать, когда в письме рассказывалось, как родственники пытаются добиться их освобождения. Но в следующий момент они начинали ругаться, прочитав, что какая-то собственность была продана без их разрешения, пусть даже с целью купить для них свободу. Они проклинали свои семьи, которые, «очевидно», считали их «уже мертвыми», раз распоряжались их собственностью без их согласия. Даже самое малое изменение в прежнем мире приобретало для заключенных огромную важность.
Психологическая защита требовала избавиться от эмоциональных привязанностей, вызывающих чувство вины, огорчения, сильной боли. Поэтому человек эмоционально отдалялся от своей семьи и других людей из внешнего мира, к которым был сильно привязан. Но хотя эмоциональные привязанности и делали жизнь в лагере более сложной, отказываясь от них, подавляя или теряя, заключенный лишал себя, быть может, самого важного источника силы.
Как и в других случаях, эмоциональная черствость возникала не только как спонтанная внутренняя защита, но и была результатом действий СС.
Во-первых, заключенному позволялось получать только два очень коротких письма в месяц. Очень часто как наказание обмен письмами прекращался, иногда на месяцы. Но даже если разрешение было, процедура переписки обставлялась так, что становилась страшно болезненной, и письма теряли цену. Через некоторое время начинало казаться, что вообще не стоит обращать слишком много внимания на вести из дома.
Например, приходит эсэсовец с большим мешком почты и читает имена заключенных, которым пришли письма. Окончив перечисление, он со словами: «Теперь вы, свиньи, знаете, что получили почту», сжигает весь мешок. Или иначе: офицер СС говорит заключенному, не показывая самого сообщения, что его брат умер. Заключенный смиренно спрашивает, кто именно из его братьев умер. Ответ: «Ты можешь выбрать, кто из них более подходит». И никакой другой информации по этому поводу за все время заключения.
Несмотря на постепенную утрату старых эмоциональных связей, замены им в лагере не было. Вся эмоциональная энергия уходила на борьбу за элементарное выживание. Уходящие связи не могли быть восполнены дружбой с другими заключенными, так как сил для этого почти не оставалось, зато было очень много возможностей для трений, если не для настоящей ненависти. Таким образом, семья оставалась чуть ли не единственным источником пополнения эмоциональных сил. Но все снаружи и внутри лагеря способствовало эмоциональной изоляции.
Частичная потеря памяти
Многие в лагере начинали забывать имена, места, события из жизни до заключения. Это вызывало у заключенных беспокойство, страх потерять память и даже рассудок. Страх усиливался, если обнаруживалось, что они неспособны рассуждать объективно, что постоянно находятся во власти отрицательных эмоций, чаще всего тревоги. Поэтому они пытались как-то сохранить память и доказать себе, что еще не потеряли рассудок. Например, старались вспомнить школьные знания.
Интересно, что лучше всего в подобных случаях вспоминалось некогда выученное наизусть, не имеющее никакого отношения к лагерной жизни. Проверяя память, заключенные пытались повторять имена германских императоров или римских пап, даты их правления и тому подобные вещи, заученные в школьные годы. Эти попытки, в результате, снова приближали их к детскому возрасту, к механическим, а не спонтанным действиям.
Часто заключенные могли вызвать из памяти сведения, не имеющие никакого значения в данный момент, но были не в состоянии вспомнить крайне нужные факты, чтобы оценить ответственный момент и принять правильное решение.
Подобная ситуация потрясала их. Даже собственный ум, казалось, не мог им помочь, в памяти сохранялось только то, что когда-то ведено было выучить, а не то, что люди хотели бы сохранить для себя сами.
Анализируя подобные переживания, можно сделать важный вывод: то, что поддерживает в человеке уверенность в себе и истинную независимость, не является чем-то неизменным, а зависит от условий. Каждое окружение требует своих механизмов сохранения автономности, обеспечивающих жизненный успех в соответствии с критериями ценностей данного человека в конкретной ситуации.
Механическое запоминание поддерживало уверенность в себе и было признанием адекватности в школе, но не в лагере.
Сексуальная потенция
В лагере подавлялись и притуплялись всякие чувства, в том числе и сексуальные. Заключенные боялись стать импотентами и стремились проверить свое состояние в этом плане. Но в лагере было только два способа — гомосексуализм и мастурбация. Большинство предпочитало второй. Психологически, это означало регресс к подростковому поведению, что приводило к усилению чувства вины и понижению самоуважения. За сексуальные излишества СС наказывало кастрацией или стерилизацией, но такие случаи были редки. Правда, эти угрозы использовали «старики», из зависти подталкивая «новичков» к этой операции разговорами, что она производится над всеми вновьприбывшими. Кроме того, это была психологическая защита от вопроса: «Как человек может смириться с такой жизнью?!» «Старики» отвечали, что, мол, из-за кастрации они утратили мужество и способность к восстанию. Это было на руку эсэсовцам, так как ослабляло у новичков волю к сопротивлению.
Мечтания
Склонность старых заключенных к мечтам уже упоминалась.
Добавлю, что они витали в мечтах почти беспрерывно, стараясь уйти от угнетающей действительности. Беда заключалась в том, что зачастую они теряли грань между мечтой и реальностью. В лагере постоянно возникали слухи об улучшении условий или скором освобождении. Их содержание во многом зависело от образа мыслей конкретного заключенного. Но несмотря на различия в деталях, почти все заключенные находили удовольствие в самом обсуждении слухов, часто принимавших форму коллективных грез или помешательства на двоих, троих, четверых и т. д.
Доверчивость большинства заключенных простиралась далеко за пределы разумного, и ее можно объяснить только необходимостью поддерживать моральный дух. Благоприятным слухам верили наперекор здравому смыслу. Но и плохие слухи, подтверждающие чье-либо полное уныние в обычном для заключенного депрессивном состоянии, казалось, приносили временное облегчение.
Некоторые слухи регулярно возрождались, хотя никогда не оправдывались.
Например, одним из таких был слух о всеобщей амнистии по случаю пятой, седьмой или десятой годовщины Третьего Рейха, дня рождения Гитлера,32 победы на Востоке и т. д.
Сюда же можно отнести слухи типа: концентрационные лагеря должны перейти в ведомство Министерства юстиции, которое собирается пересмотреть причины заключения каждого узника, все лагеря вскоре будут закрыты и т. д.
Противоположными по смыслу, но столь же «достоверными» были слухи о том, что все заключенные или определенные их группы будут уничтожены в начале войны, в конце войны, по какой-либо другой подходящей причине и т. д.
Некоторое время люди верили в эти фантазии и радовались хорошим слухам, но убеждаясь в их ложности, чувствовали себя еще хуже. Слухи придумывались для облегчения жизни, но в действительности они снижали человеческую способность правильно оценивать ситуацию. В сущности, это было проявлением общей тенденции к отрицанию реальности лагерного мира.
Грезы и фантазии могли бы быть полезным и вполне безопасным развлечением в тюрьме, даже в одиночном заключении. Но не в лагере, особенно если заключенные предавались им столь пылко, что это становилось опасно: воображая, будто их прежний мир не разлетелся в прах, что они еще живут в старой обстановке, люди забывали о лагерной реальности. Коварство такого ухода от действительности заключалось в том, что это был еще один путь не смотреть вокруг, не наблюдать самому окружающее, «не замечать». Внутренняя защита опять-таки действовала в одном направлении с внешним нажимом — привести заключенного в состояние пассивности.
Деморализующее влияние на заключенных нередко оказывала и противоречивость многих мечтаний. Все заключенные ненавидели нацистский режим, хотя бессознательно и переняли некоторые его представления. Конец нацистского режима означал бы конец концентрационных лагерей. Но конец режима означал и конец Германии. Для многих заключенных-немцев это была слишком дорогая цена. В то же время существовала возможность, что прежде, чем СС будет сметена, она успеет уничтожить всех заключенных.
Перед заключенными-евреями стояла другая дилемма. До 1940 года многих из них выпускали из лагерей, если они соглашались немедленно эмигрировать.
Постепенно становилось ясно: евреев освобождали только тогда, когда нацистский режим чувствовал себя относительно сильным, и уничтожали в большом количестве, когда режим чувствовал себя под угрозой. Так что у заключенных-евреев было, с одной стороны, страстное желание гибели нацистского режима, и в то же время (до 1940 г.), чтобы он оставался в силе, пока они не эмигрируют. Или (после 1940 г.) — сохранился, чтобы удалось спасти себя и свои семьи.
Подобные дилеммы, конечно, были неразрешимы и нарушали эмоциональное равновесие. Противоречивая же природа мечтаний и грез, связанная с той странной действительностью, в которой жили заключенные, и заменявшая им точную оценку действительности, заставляла сделать еще один шаг к детскому поведению.
Отношение к хлебу
В лагере все силы души уходили только на поддержание жизни. Это была главная забота. Поэтому самым страшным преступлением, за которое наказывало и начальство и сами заключенные, была кража хлеба. Хлеб ценился выше всего. Если качество другой пищи постоянно были жалобы, то на хлеб почти никогда. Кодекс чести заключенного требовал выдачи укравшего хлеб. Этим пользовались эсэсовцы для сокращения численности в лагере. Кроме того, вора избить прямо в бараке и подвергали социальному остракизму.
Был такой случай. «Новичок» в разговоре упомянул, что у него украли хлеб (и он знает, кто это сделал), но это для него не критически, так как он может купить на имевшиеся у него деньги продукты в столовой. От него «старики» стали требовать, чтобы он назвал виновного. Он отказывался, говоря, что это пустяки, мол, укравший был голоднее. Ему стали угрожать расстрелом за укрывательство и даже потащили, избивая, к начальству. Но на полдороге, выплеснув гнев и устыдившись своего поступка, оставили и больше об этом не вспоминали.
Этот случай показывает, как новичок пытался сохранить человечность, усвоенную на свободе. В лагере прощение кражи хлеба вело к физическому голоду, хотя противоположное отношение вызывало голод нравственный. Но в итоге большинство заключенных предпочитали самоуважению кусок хлеба.
Работа
Особенно сложно было точно провести черту между внутренними и внешними условиями выживания в случае, когда системы защиты строились вокруг рабочей ситуации. Более того, не всегда было возможно сказать, когда отношение к работе было психологической защитой против распада личности, а когда внутренним принятием ценностей СС. Часть заключенных возмущалась тем, что их принуждают заниматься бессмысленным трудом. Но в то же время, другие старались хорошо работать, укрепляя тем самым самоуважение, хотя обычно они обосновывали свое поведение как-то иначе, говоря, например, что производимая ими продукция служит всем немцам, а не только СС.
Строительство зданий для СС сопровождалось спорами, надо ли строить хорошо. Новые заключенные были за саботаж, большинство старых — за качественное строительство. Это вновь обосновывалось тем, что здания могут быть использованы в новой Германии. Старые заключенные объясняли, что неважно, кто в конце концов будет использовать результаты их труда, важно хорошо работать, чтобы чувствовать себя человеком. Наконец, они заявляли, что любую работу, которую приходится делать, надо делать хорошо.
Большинство старых заключенных понимало, что иначе они не смогут продолжать работать на СС. Некоторые даже утверждали, что добросовестная и качественная работа покажет СС, что вопреки ее уверениям заключенные не являются «отбросами». Заключенные, делающие подобные заявления, до опасного близко подходили в своих представлениях к СС.
Выбор тяжелого физического труда в качестве основного наказания в концентрационных лагерях не был случаен. Немецкий рабочий класс, находясь под влиянием социалистических, коммунистических и, наконец, нацистских лозунгов, долгое время обвинял средние классы в том, что они не несут «честной» доли тяжелой работы и считают физический труд унизительным.
Если бы лагерная администрация была заинтересована в результатах труда заключенных, то и придирок со стороны эсэсовцев во время работы было бы значительно меньше, так как слишком жестокое обращение снижало выход продукции. Когда заключенных заставляли тащить тяжелые повозки вместо того, чтобы прицепить их к трактору, это было неоправданно с точки зрения продуктивности, но все же некоторый интерес к конечному результату сохранялся. Эсэсовец мог, скажем, унизить и наказать заключенных, сделать работу более трудной, приказав им бросить лопаты и грузить песок в повозку руками. Однако повозка в конце концов должна была быть наполнена и доставлена туда, где был нужен песок. Поэтому, продемонстрировав свою власть и убедившись в должном подчинении, эсэсовец приказывал взять лопаты снова.
По другому обстояло дело, когда вся работа планировалась как наказание.
Тогда давались «спортивные» или бессмысленные задания. Темным туманным утром видимость была столь слабой, что СС не могла позволить заключенным покинуть огороженную территорию. Тогда всем командам, которые должны были работать за пределами лагеря, в ожидании улучшения видимости приказывалось заниматься «спортом». Занятия могли включать подтягивания, ползание на четвереньках и кувырки в грязи, снеге, на льду и т. д. Одно время на плацу Бухенвальда лежали большие кучи гравия. Заключенных заставляли скатываться с них до тех пор, пока тела их не превращались в сплошную рану. Час такого «спорта» обычно был опаснее целого дня тяжелой работы.
Поэтому заключенные часто старались хорошо работать, надеясь на назначение в команду, в результатах труда которой была заинтересована СС.
Однако существовало два исключения. Первое — команды, где темп работы зависел от скорости машин, второе — работы, для которых был установлен срок выполнения. Это всегда были самые страшные команды. В этой книге уже обсуждалось одно из противоречий современной технологии, что машины, призванные улучшить положение человека, часто становятся его хозяином. В лагерях эта тенденция не сдерживалась гуманными соображениями или стремлением сохранить человеческую жизнь и поэтому проявлялась явственнее.
Например, скорость работы в каменоломнях определялась темпом дробильного устройства. Это были воистину пожирающие людей машины. Говорят, что в Дахау эсэсовцы бросали заключенных в бетономешалку. Это действительно могло иметь место. Но еще важнее, что эсэсовцы часто грозили наказать таким способом за плохую работу, а заключенные им верили.
Работать при наличии контрольного срока было также ужасно. Типичный пример — участок железной дороги, который Гиммлер в 1943 году приказал построить между Бухенвальдом и городом Веймар. Между ними было около 13 километров при разнице Высот около 300 метров. Гиммлер дал три месяца до первого пробного прохода поезда. Ответственный за проект офицер СС заявил, что это невозможно. Тогда его сместили и поручили проведение работ другому офицеру, заработавшему свою репутацию в Заксенхаузене. Он установил две смены по 12 часов, во время которых заключенных постоянно избивали и травили собаками.
Эта команда буквально поглощала заключенных. Серьезные несчастные случаи (на мелкие травмы внимание вообще не обращалось) исчислялись десятками в день, однако, участок был закончен к сроку. Но как только по рельсам пошла первая тяжелая машина, они просели. Частичный ремонт оказался недостаточным, и пришлось практически переделывать все заново, что заняло 6 месяцев. Такова эффективность рабского труда.
Суть работы в лагерях можно понять неверно, если допустить, что она была сама по себе невыносимой и являлась главной причиной высокой смертности.
Наоборот, СС и капо сравнительно редко требовали невозможного, а труд был невыносим прежде всего из-за физического и психологического истощения заключенных. Плохое питание, недостаточный отдых и т. п. делали вполне выполнимую работу смертельной. Работа была невыносимой также и потому, что отсутствовали какие-либо поощрения, имеющие место даже на самых механизированных предприятиях: жалование, которое можно потратить с некоторой свободой, предвкушение продвижения по службе. Труд противоречил желаниям и ценностям заключенных, так как шел на пользу мучителям, то есть был бесцельным, надоедливым, принудительным, не вознаграждаемым, однообразным, его результаты не приносили ни удовлетворения, ни признания.
Анонимность
Не привлекать внимание, быть незаметным — один из основных способов выживания в лагере. Но именно этот способ более, чем какой-либо другой, помогал СС «вывести» массу по-детски покорных, легко управляемых существ.
Подчинение всем командам и запретам было несовместимо с выживанием в лагере. Все время что-то приходилось нарушать, но не попадаться. Это правило довольно быстро усваивали все заключенные, но его же внушала СС. Снова и снова все эсэсовцы, начиная с коменданта лагеря, повторяли: «Не смей выделяться», «не смей попадаться мне на глаза». Таким образом, традиционных добродетелей «хорошего» ребенка типа — «видим, но не слышим» — было недостаточно. Заключенный должен был стать «еще более ребенком»: его не только не должно быть слышно, но и не видно. Ему настолько нужно было слиться с массой, в такой степени лишиться индивидуальности, чтобы ни на миг не выделиться из толпы.
Случаев, подтверждающих пользу такого поведения, было множество.
Например, во время утреннего построения начальники помещений и блоков, и еще хуже СС, вымещали свою злобу прежде всего на тех, кто стоял поближе. Если они могли придраться к чистоте обуви или одежды или считали, что кто-то плохо стоит по стойке «смирно», то раздавали тычки и удары в основном тем заключенным, до кого можно было добраться, не ломая строя. Опасность была меньше, когда со всех сторон тебя окружали другие заключенные. Поэтому обычно построение сопровождалось дракой за наименее заметное место в строю.
Были и другие причины спрятаться среди людской массы. Стоя впереди, нельзя было не видеть того, что происходило на плацу. Здесь, там, — везде начальники и эсэсовцы оскорбляли и били всех, кто шевелился или выступал из строя. Не видеть всего этого было не только безопаснее, но и избавляло от бессильной ярости, клокотавшей внутри.
Построения иногда длились часами: если не все сходилось по счету, если зимняя темнота или густой туман не позволяли выйти на работу. Все время заключенных заставляли стоять строго по стойке смирно. Людей внутри строя было труднее проверить, они могли позволить себе стоять вольно, а то и скоротать время за разговором.
Каждое утро после построения заключенные, не имевшие определенного рабочего задания на этот день, бежали в страхе через плац, чтобы побыстрее присоединиться к большим группам таких же заключенных. Быстрота была необходима, ибо истощенный заключенный с шаркающей походкой привлекал внимание, и его как негодного могли определить в самую плохую команду. С таким же успехом его могли просто прикончить, считая обузой для лагеря.
Шансы избегнуть подобной участи повышались, если удавалось быстро затеряться в толпе.
Стать невидимым — первое правило самозащиты в любой ситуации. Но потребность чувствовать себя невидимым низводит человека до состояния ребенка, который прячет свое лицо от испуга. Анонимность была способом борьбы с лагерными опасностями. Но она же означала, что человек сознательно старается избавиться от своей индивидуальности и инициативности, столь нужных в постоянно меняющихся лагерных условиях.
Если нет воли, то не нужно подавлять собственные желания. Если отсутствует индивидуальность, то ее не придется прятать, не придется бояться, что в любой момент она может заявить о себе и привести к гибели.
Анонимность давала относительную безопасность, но вела к утрате собственной личности. Когда же возникшая вдруг ситуация требовала ясного понимания, независимости действия, наконец, решения, — тогда те, кто жертвовал личностью ради сохранения тела, оказывались наименее способными остаться в живых, несмотря на уплаченную огромную цену.
Пробуждение в лагере
Тяжелейшим испытанием для человека в лагере становилась его собственная агрессивность. Преодолеть ее было намного сложнее, чем противостоять враждебности со стороны других заключенных. Любое твое слово или поступок моментально вызывали возражение или сопротивление либо охранников, либо других заключенных. В результате заключенные постоянно находились в состоянии жесточайшего раздражения. Процедура утреннего подъема в лагере иллюстрирует это неотступное давление окружающей обстановки, направленное на разрушение каждого человека как личности.
Каждое утро заключенных будили задолго до того, как они успевали отдохнуть. В Дахау сирена ревела летом в 3.15 утра, зимой немного позже.
После этого полагалось около 45 минут на уборку. В нормальных условиях времени, кажется, вполне достаточно. Однако в лагере все иначе. Сразу после сирены начиналась ожесточенная борьба между заключенными за то, чтобы успеть сделать все необходимые дела в отведенное время. Первое ощущение нового дня: мы существуем, чтобы подчиняться, спущенные сверху правила важнее естественной потребности позаботиться о своем теле.
Как и во многих других случаях, дружеская взаимопомощь и поддержка начальников помещений и блоков приобретали очень большое значение. Но в данный момент существовавшая довольно часто кооперация между немногими друзьями была обычно неэффективной на фоне дикого беспорядка, царившего среди остальных. В эти крайне напряженные моменты старым, уже опытным заключенным всегда мешали и новенькие, и те, кто так и не смог приспособиться к строгой дисциплине.
Утренний период проходил организованно, без напряжения, беспокойства, драк и разного рода других проявлений взаимного раздражения лишь в некоторых блоках, где жили старые заключенные, проведшие годы в лагерях, или там, где командовали приличные начальники. Выполнение всех необходимых задач в отведенное время требовало от каждого заключенного большого опыта и умения, и даже несколько медлительных или неумелых людей расстраивали весь процесс.
Необходимая сноровка достигалась только после сотен повторений и только при условии хорошего здоровья. А в большинстве бараков таких условий не было.
Создавалась ситуация, когда заключенные восставали друг против друга без единого слова СС, требовавшей лишь абсолютного порядка и чистоты в бараках.
Эти требования — порядок и чистота — были вообще одним из тяжелейших лагерных мучений, усугублявшихся постоянным страхом наказания за чужие упущения.
Две основные утренние задачи — застелить постель (если таковая имелась) и убрать свой шкафчик. Первая из них была столь сложна, что иногда заключенные предпочитали спать, приткнувшись где-нибудь в углу, боясь смять хорошо застеленную постель, которую не удастся утром восстановить. Уборка кровати даже у опытного и ловкого человека занимала 10–15 минут. Некоторые так и не смогли научиться этому искусству, — особенно те, кто был постарше и не умел балансировать на краю нижней полки, застилая верхнюю.
Как только звучала сирена (раньше свет был погашен, и делать что-либо было вообще невозможно), заключенные выпрыгивали из коек, и спавшие в верхнем ряду начинали процедуру. Им надоедали соседи снизу, требуя не уродовать их матрасы, хотя избежать этого было практически невозможно. Они все время торопили верхних, спеша начать свою уборку. То же самое делали и соседи сбоку, так как при уборке одной из постелей можно было легко повредить соседнюю.
От заключенных требовалось, чтобы соломенный матрас был взбит и выровнен так, чтобы в результате его бока стали прямоугольными, а поверхность ровной как стол. Подушка, если таковая имелась, должна была располагаться сверху матраса в виде идеального куба. Подушка вместе с матрасом покрывались бело-голубым клетчатым покрывалом. Клетки были довольно мелкими, но все равно требовалось расположить их в строгом соответствии с формой подушки и матраса. Для усложнения дела эти требования распространялись на весь ряд нар и матрасов. Некоторые эсэсовцы для проверки углов и прямых пользовались измерительными линейками и уровнями, другие стреляли поверх кроватей.
Если кровать заключенного не была в абсолютном порядке, он жестоко наказывался; если недостатки находились у нескольких — страдало все подразделение. Многим заключенным, так и не научившимся застилать свою кровать, приходилось каждый день платить деньгами, работой или пищей тем, кто соглашался это делать за них.
Подобный способ давления был еще одним средством заставить человека действовать с механической аккуратностью автомата, соревнуясь с другими в скорости и эффективности. Он не позволял человеку делать хоть что-то в соответствии со своим внутренним ритмом и желанием. Все регулировалось извне так, чтобы не допустить какой-либо самостоятельности со стороны заключенного.
Мыться несколько лишних минут значило обычно не успеть почистить зубы, выпить утренний кофе или сходить в туалет. Вторая попытка застелить постель, при неудачной первой, могла быть сделана только за счет умывания и кофе.
Заключенным разрешалось пользоваться туалетом и умывальной комнатой только первые полчаса после подъема. Позже, обычно до вечера, они уже не имели возможности сходить в туалет. И было абсолютно необходимо облегчиться до выхода из барака. В среднем 6–8 открытых уборных приходилось на 100–200 человек, в условиях лагеря страдающих, как правило, расстройством пищеварения. Заключенные, едва кончившие воевать друг с другом по поводу уборки кроватей, набрасывались на тех, кто, как им казалось, слишком долго сидел в туалете. Наблюдение друг за другом в такой ситуации тоже явно не способствовало взаимному расположению.
Так начинался любой день. Борьба каждого заключенного со всеми остальными возникала еще до восхода солнца, до появления в лагере охраны. Даже отсутствующая, невидимая СС уже сеяла вражду в массе людей, неспособных преодолеть свою злость и разрушаемых этой неспособностью.
Мишени для злости
Направлять свою агрессивность на тех, кто на самом деле ее вызывал, — СС и начальников-заключенных — в лагере равносильно самоубийству. Следовало искать другой выход. Некоторые заключенные винили во всем внешние обстоятельства. Но это приносило мало облегчения, так как внешний мир был недосягаем.
Оставались лишь окружающие — товарищи по несчастью. Но круг общения был столь ограничен, что каждый раз злоба, направленная на кого-либо из окружения, порождала ответную агрессию, которую в свою очередь нужно было как-то разряжать. Вдобавок обычно возникало и чувство вины, так как каждый понимал, что другие заключенные страдают не меньше. Для того чтобы сублимировать копившуюся враждебность или как-то трансформировать ее, не было сил. Ее можно было подавлять, и некоторые заключенные пытались это делать. Но и подавление требовало слишком много эмоциональной энергии и решимости. Даже если они в какой-то момент и появлялись, то быстро уходили на новые вспышки злости и раздражения.
Эта постоянно возникавшая потребность разрядить напряженность может частично объяснить ожесточенность заключенных по отношению друг к другу: внутрилагерную борьбу между различными группами, жестокость к шпионам, рукоприкладство начальников-заключенных.
Был только один более или менее открытый выход: агрессивность по отношению к членам меньшинств. Сначала к ним относили только заключенных-евреев, позже людей и других национальностей. Они не могли ответить на агрессию контрагрессией, так как их положение было много хуже.
Заключенные-немцы, которые не могли не видеть действительного положения вещей, оправдывали свое поведение, принимая расистские взгляды.
Проекция
Агрессивность по отношению к меньшинствам все же не бьйа выходом для всех заключенных. Одни сами принадлежали к таким группам, другие не могли считать ее правомерной ни для СС, ни для себя. Им оставалось экстраполировать свою агрессивность, перенося ее на эсэсовцев. Это в какой-то степени уменьшало их ненависть и, в то же время, защищало от прямых агрессивных действий по отношению к врагу, чью, как казалось, сверхъестественную силу они постоянно чувствовали на себе.
Заключенным было необходимо считать СС всемогущей, чтобы сдерживать себя.
Реальная проверка могла бы разрушить эту иллюзию, но ее нужно было избегать любой ценой, так как любая попытка угрожала жизни. Все эти противоречия и сложное взаимодействие внутренних конструкций с реальностью почти неизбежно приводили к каким-то нарушениям психики. Система защиты строилась на инфантильных чувствах страха и ярости — реакции заключенного на то, что его заставляют быть инфантильным. Эти чувства переносились на абстрактных эсэсовцев. И вся система защиты противостояла реальному, ничем не ограниченному могуществу СС. Реальная беспомощность, необходимость блокировать любые порывы отомстить, потребность сохранить самооценку — эти чувства лежали в основе создания образа палача.
Многие, прошедшие школу дискриминации, замечали: жертва часто реагирует столь же неправильно, сколь и агрессор. На это обращают обычно меньше внимания, потому что, во-первых, защищающегося легче оправдать, чем обидчика, и, во-вторых, допуская, что реакция жертвы прекращается вместе с агрессией. Вряд ли такой подход помогает преследуемому. Конечно, главное для него — прекратить преследование. Но именно это маловероятно, если он не поймет самого феномена преследования, не поймет, насколько тесно психологически связаны жертва и палач.
Позвольте привести в качестве иллюстрации следующий пример. В 1938 году польский еврей убил фон Рата — немецкого атташе в Париже. Гестапо, воспользовавшись этим событием, усилило репрессии против евреев, в частности, появился приказ, запрещающий в концлагерях оказывать евреям медицинскую помощь во всех случаях, кроме производственных травм.
Почти каждый заключенный страдал от обморожений, которые часто приводили к гангрене, а затем и к ампутации. Чтобы избежать этого, нужно было обратиться в лазарет, допуск в который зависел от прихоти особого эсэсовца.
У входа заключенный объяснял характер своего заболевания этому эсэсовцу, который решал, лечить его или нет.
Я тоже был обморожен. Сначала я не пробовал добиваться медицинской помощи, зная, что другие заключенные-евреи получали оскорбления вместо лечения. В конце концов дела стали плохи, дальнейшее промедление могло привести к ампутации. Я решил попытаться.
Около лазарета я увидел довольно большую группу заключенных, в том числе и евреев с сильными обморожениями. Обсуждались главным образом шансы попасть в лазарет. Почти все евреи детально планировали свой разговор с эсэсовцем.
Кто-то хотел сделать акцент на своей службе в армии во время первой мировой войны, на полученных ранах и знаках отличия. Другие собирались продемонстрировать тяжесть обморожения или рассказать какую-нибудь небылицу.
Большинство, похоже, было убеждено, что эсэсовец не поймет их ухищрений.
Спросили и о моих планах. Не имея ничего определенного, я сказал, что буду действовать, исходя из того, как обойдется эсэсовец с другими заключенными-евреями с обморожениями, подобными моим. Я усомнился, правильно ли вообще следовать заранее составленному плану, ведь трудно предвидеть реакцию незнакомого человека.
Заключенные реагировали на мои слова так же, как и раньше в подобных случаях. Они стали настаивать на том, что все эсэсовцы похожи друг на друга — злобные и глупые. В соответствующих выражениях меня обругали за нежелание поделиться своим планом или воспользоваться чужим. Их злило, что я собирался встретить врага без подготовки.
Ни один из людей, стоявших впереди меня, не был допущен в лазарет. Чем больше заключенный упрашивал, тем раздраженнее и злее становился эсэсовец.
Проявления боли доставляли ему удовольствие, истории о предыдущих заслугах перед Германией раздражали. Он высокомерно заметил, что его евреи не проведут, и что прошло, к счастью, то время, когда евреи могли чего-либо добиться своими жалобами.
Когда подошла моя очередь, он рявкнул: «Единственная причина допуска евреев в лазарет — травма на работе, знаешь ли ты это?» Я ответил: «Да, я знаю правила, но не могу работать, пока мои руки покрыты омертвевшими тканями. Так как ножи нам иметь не полагается, я прошу их срезать». Я старался говорить сухо, избегая при этом заинтересованности или высокомерия.
Эсэсовец ответил: «Если это все, что ты хочешь, я сделаю сам». И он начал тянуть за гноящуюся кожу. Но она не отходила так легко, как он, вероятно, ожидал, и, в конце концов, он махнул мне, чтобы я зашел в лазарет.
Внутри он бросил на меня злорадный взгляд, втолкнул в комнату и велел заключенному-санитару обработать рану. Во время процедуры охранник пристально следил за мной, но я оказался в состоянии скрыть боль. Как только все было срезано, я собрался уходить. Эсэсовец удивился и спросил, почему я не жду дальнейшего лечения. Услышав мой ответ: «Я получил все, что просил», он велел санитару в виде исключения обработать мою руку. Когда я вышел, он позвал меня назад и выдал карточку, дающую право на посещение лазарета и лечение, минуя проверку на входе.
Психология жертвы
Этот случай может служить отправной точкой для анализа такого широко распространенного в лагерях вида психологической защиты, как дискриминация меньшинства.
Естественно, агрессор и жертва прибегают к такой защите по разным причинам. Как отмечают многие исследователи, агрессор защищает себя большей частью от опасностей, источник которых в нем самом. Жертва же противостоит, в основном, окружению, спасается от преследования. Однако со временем зачастую защитные реакции и тех, и других начинают все более зависеть от внутренних причин, подчиняются внутренним импульсам, хотя люди продолжают думать, что причина только вовне. С этого момента действия обеих сторон приобретают общие черты.
Например, и евреи, и эсэсовцы вели себя в каком-то смысле как параноики. И первые, и вторые считали людей из другой группы несдержанными, неинтеллигентными, даже садистами и сексуальными извращенцами, вообще представителями низшей расы. Они обвиняли друг друга в стремлении только к материальным благам и пренебрежении к идеалам, моральным и интеллектуальным ценностям. Вероятно, и у тех, и у других были основания так думать. Но странное подобие взглядов говорит о том, что обе группы пользовались аналогичными механизмами защиты. Более того, подход был настолько стереотипным, что мешал реалистичной оценке какого-либо члена другой группы, а значит и собственной ситуации. К несчастью, членам меньшинств, в моем примере — евреям, здравомыслие было куда нужнее.
Я не раз поражался нежеланию большинства узников лагеря принять тот факт, что враг состоит из индивидуальностей. Причем, заключенные имели достаточно близкий контакт со многими эсэсовцами, и вполне могли бы заметить большие различия между ними. Евреи понимали, что СС создала для себя бессмысленную стереотипную фигуру еврея, предполагая, что все они одинаковы. Зная, насколько неверна эта картина, они, однако, сами делали аналогичную ошибку, оценивая эсэсовца.
Почему же заключенные не принимали во внимание индивидуальные различия между эсэсовцами? Что мешало им, скажем, взять в расчет личность солдата? Можно ответить на эти вопросы, если вспомнить их ярость по поводу отсутствия у меня предварительной подготовки.
По-видимому, люди испытывали некоторое ощущение безопасности и эмоциональное облегчение от своих, пусть предвзятых, но более или менее разработанных планов. Но планы строились на предположении, что все офицеры СС реагируют одинаково. Любое же сомнение, нарушающее стереотип, вызывало страх. Казалось, что планы не будут иметь успеха, что придется встретиться с опасной ситуацией безоружным, в жалком состоянии страха и неизвестности.
Заключенные не хотели и не могли выдержать этот страх, поэтому они убеждали себя в том, что могут предвидеть реакцию эсэсовца и, следовательно, планировать свои действия. Настаивая на индивидуальности каждого эсэсовца, я угрожал иллюзии их безопасности. Ответом на угрозу и была их злобная реакция на мои слова.
Всеохватывающая тревога, без сомнения, — главная причина стереотипного мышления заключенных. Но была и другая, тоже весьма важная. Такие характеристики эсэсовцев, как неинтеллигентность, малообразованность и т. п., верные для отдельных членов СС, приписывались всем, потому что иначе не так-то просто было пренебречь презрением СС к заключенным. Можно не считаться с мнением глупой или безнравственной личности. Но если о нас плохо думает умный и честный человек, наше самолюбие под угрозой. Значит, агрессор всегда должен считаться глупым, чтобы заключенный сохранял хотя бы минимальное самоуважение.
К несчастью, заключенные находились во власти СС. Смирять себя в принципе достаточно опасно для чувства самоуважения. Еще хуже унижаться перед человеком, которого считаешь плохим. Перед заключенными все время вставала дилемма: либо эсэсовцы по меньшей мере равны им, скажем, по уму, — тогда обвинения в адрес заключенных имеют какой-то смысл, либо они дураки, — и их обвинениями можно пренебречь. Но тогда заключенные оказывались в подчинении у людей ниже себя. Они так считать не могли, если хотели сохранить внутреннее равновесие. Многие приказы СС были неразумны и аморальны, но в то же время СС обладала реальной силой, которой заключенные были вынуждены подчиняться.
Заключенные решали этот конфликт, считая эсэсовцев чрезвычайно низкими людьми по интеллекту и морали, но признавая в них очень сильного противника.
Эсэсовцы наделялись при этом даже какими-то нечеловеческими чертами. Тогда узники могли, не теряя самоуважения, простить себе неспособность противостоять нечеловеческой жестокости всемогущего противника.
В лагере заключенные контактировали с СС достаточно часто. Но понять, что же на самом деле творится в головах охранников, было трудно. Единственный путь, который помогал понять и объяснить действия СС, — это использовать собственный опыт. Поэтому заключенные переносили на эсэсовцев большинство (если не все) отрицательных мотиваций и черт характера, которые они знали.
Они приписывали им все, что считалось злом, делая, таким образом, СС еще более могущественной и устрашающей. Такой «перенос» мешал заключенным хоть в какой-то степени видеть в эсэсовцах реальных людей; они становились воплощением чистого зла.
Поэтому эсэсовцы представлялись заключенным более жестокими, кровожадными и опасными, чем вообще может быть человек. На самом деле многие из них действительно были опасными, некоторые жестокими, но только очень немногие — извращенцами, тупицами, жаждущими крови, или убийцами-маньяками. В действительности они убивали или калечили только по приказу, либо когда считалось, что этого ждет начальство. Но «вымышленный эсэсовец» жаждал убийства всегда и при всех обстоятельствах.
Следовательно, страх перед СС во многих случаях был необоснован и не нужен. Но большинство заключенных избегали встреч с СС любой ценой, зачастую рискуя даже больше, чем при контакте. Например, некоторые заключенные бросались прятаться, когда им приказывалось предстать перед СС. За бегство их всегда жестоко наказывали, часто расстреливали. Если же заключенный являлся по приказу, наказание никогда не было столь тяжелым. Удивительно, но даже самоубийцы не пытались сначала прикончить кого-либо из охраны.
По-видимому, действовал сложившийся стереотип СС, но чаще, потеряв интерес к жизни, исчерпав жизненные силы, они не находили достаточно сил даже для мести.
Принцип экономии психики требует, чтобы процессы компенсации и защиты обеспечивались, по возможности, одной психологической структурой, а не несколькими, пусть скоординированными. С этих позиций могущественная фигура вымышленного эсэсовца также вполне подходила для самооправдания. Подчиняясь громадной силе СС, заключенный мог продолжать ощущать себя личностью и даже утешаться чувством некоторой ограниченной безопасности, которое являлось следствием полного подчинения, и таким извращенным образом как бы разделять могущество СС.
Подобный способ поддержки был очень ненадежным и временным. Кроме того, жизненная энергия, потраченная на подобную психическую проекцию, составляла существенную часть общего запаса жизненных сил, в то время как более всего они были нужны для осознания реальности и для борьбы с врагом.
Преследователь
Преследователю жертва тоже казалась гораздо более опасной, чем была в действительности. Стремясь избавиться от внутреннего конфликта, эсэсовцы наделяли заключенных своими собственными отрицательными качествами, создавая стереотип, например, еврея. Антисемит боится ведь не какого-то конкретного еврея, а стереотипа, в котором как бы сконцентрировано все нехорошее, что видит в себе человек. Качества, вменявшиеся в вину евреям, были именно теми качествами, наличие которых у себя СС старалась отрицать. Но вместо того, чтобы преодолевать свои недостатки, СС боролась с ними, преследуя евреев.
Чем сильнее заявляли о себе отрицательные наклонности, тем яростнее было преследование. Антисемитам приходилось смотреть на евреев как на очень опасных людей, и, следовательно, они действовали точно так же, как заключенные, создающие искаженный образ СС.
СС не могла, конечно, считать, что ведет войну на уничтожение с беспомощным меньшинством. Для оправдания своей жестокости эсэсовцы должны были верить в могущество групп, попавших в заключение, и в опасный заговор против гитлеровской системы, а, следовательно, и против СС. Самооправдание принимало форму обвинений, которые в своей, даже самой мягкой, форме включали пункт о расовой неполноценности малых групп, угрожающей чистоте крови преследователей. Самым большим преувеличением была убежденность СС в существовании международного заговора еврейской плутократии, ведущей борьбу против Германии.
СС не могла опереться на сколько-нибудь ощутимое доказательство существования могущественной организации, так как у евреев не было ни армии, ни флота, они не занимали лидирующего положения среди великих наций. Поэтому существование тайной организации следовало постулировать, что СС и делала.
Здесь снова обнажаются механизмы, обусловливающие этот вид преследования.
Стремясь обосновать наличие тайного заговора, антисемит уподобляется больному параноику: тот факт, что никто другой не признает существование его врагов, больной считает доказательством их коварства.
Чем жестче действует преследователь, тем сильнее для оправдания своих действий он должен верить в опасность жертвы. Чем больше он в нее верит, тем сильнее беспокойство, толкающее его на еще большую жестокость. Таким образом, замыкается порочный круг, и гонение возобновляется снова и снова.
Существовали и другие причины, по которым особенно удобно было переносить собственные подавляемые наклонности на заключенных-евреев. Наклонности, которые подавляются с трудом, и должны подвергнуться «переносу», чтобы не привести к внутреннему конфликту — это «внутренний враг» личности. Евреи же, хотя и «внешний» враг, и удобный объект для переноса, но в то же время враг, живущий внутри общества, с которым он как бы не слился полностью. Здесь напрашивается сравнение с инстинктивными наклонностями: они хотя и являются частью личности, но осуждаются сознанием.
Некоторые качества, которые часто приписываются евреям антисемитами (и не только СС) и используются для оправдания своего отношения к ним, разоблачают подобный подход. Антисемиты провозглашают, что евреи «хитры», «коварны», «предприимчивы» и «делают все исподтишка». Но представим себе, как порочные инстинкты сопротивляются подавлению. В своей жажде самоудовлетворения они сначала пытаются «потеснить» совесть человека так, чтобы она их не блокировала. Если совесть или самоуважение запрещают удовлетворение прямым путем, асоциальные или подавляемые совестью наклонности все же ищут удовлетворения окольными путями, стараясь как-то «перехитрить» совесть.
Некоторые из таких путей вполне могут быть названы коварными.
Теперь мы снова можем вспомнить охранника СС у входа в лазарет и попробовать понять, почему он обошелся со мною иначе, чем с другими. Можно предположить, что он действовал, исходя из собственного понимания стереотипа еврея. Он был склонен верить, что все евреи трусы и жулики. Заключенные же, желая попасть в лазарет, пытались убедить пропустить их вопреки приказу, рассказывая неправдоподобные истории. Это соответствовало его ожиданиям.
Охранник предполагал, что евреи будут плакать, жаловаться и стараться любым способом заставить его нарушить правила. Поэтому подойти к нему с доводами, которые, совершенно очевидно, хорошо продуманы, — означало поступить в соответствии именно с этими предположениями.
Стереотип «хитрого еврея» — создание антисемита. Если евреи действительно провели бы эсэсовца, это означало бы, что он обманут собственной химерой.
Ведь дурные наклонности субъекта проецируются на кого-либо с целью избавиться от них и почувствовать себя в безопасности. Вот почему эсэсовец не мог допустить обмана и столь резко реагировал на все попытки упросить его.
Возможно также, он знал, что не столь умен, как многие заключенные, поэтому его бесило умение, с которым были составлены их истории. Ум заключенных угрожал его гордости, и он должен был доказать себе, что его все равно не проведешь. Когда евреи взывали к его жалости, угроза для него была еще больше. В соответствии с идеалами СС ему приходилось подавлять все человеческие чувства. И каждый, кто пытался пробудить у него жалость, угрожал его самооценке как образцового солдата СС. Ставки на «жалость» он тоже ждал. Только те, кто видел резкую реакцию человека, которого просят уступить подавляемому желанию, могут полностью понять тревогу охранника, почувствовавшего некоторую жалость к своей жертве. Эта тревога проявлялась в агрессивности по отношению к заключенным, пытавшимся вызвать у него жалость.
Агрессивность более чем что-либо другое обнажала спрятанные глубоко внутри человеческие чувства, которые эсэсовец старался подавить, проявляя показную жестокость.
Возможно, здесь уместно сделать общее замечание по поводу жестокости СС.
Настоящий эсэсовец-садист получал удовольствие, либо причиняя боль, либо, по крайней мере, доказывая свою способность ее причинить. Призывы к состраданию в значительной мере способствовали этому удовольствию. Поскольку он получал удовольствие от реакции заключенного, у него не было причин быть еще жестче.
Садисту достаточно продолжать мучить заключенного. Но если эсэсовец просто выполнял предписанный ему долг и при этом сталкивался с просьбами, вызывающими у него жалость, он приходил в бешенство. Заключенный затрагивал его чувства, провоцируя конфликт между желанием выполнить свой долг и ощущением, что нехорошо так обращаться с людьми. Проявляя жестокость, эсэсовец пытался снять этот конфликт, давая в то же время выход своей ярости. Чем больше заключенный затрагивал чувства эсэсовца, тем злее тот становился, и тем сильнее проявлялась его злость.
Я не пытался взывать к состраданию эсэсовца у входа в лазарет и тем избавил его от внутреннего психологического конфликта. Я не сделал попытки провести его, проявив умственное превосходство, и это не соответствовало его ожиданиям. Подтвердив свое знание правил, я ясно показал, что не пытаюсь его обмануть. Я не старался воспользоваться его доверчивостью, рассказывая трогательные истории. Изложение дела носило характер, приемлемый для эсэсовца. Отвергнуть заключенного, ведущего себя таким образом, значило отказаться от собственной системы ценностей, принятого образа действий и мышления. Этого он либо не мог, либо не чувствовал необходимости делать.
Поскольку мое поведение не соответствовало ожиданиям, он не смог использовать известные ему способы подавить сострадание, и я не вызвал тревогу. Однако он продолжал следить за мной во время моего лечения, видимо, ожидая, что рано или поздно я стану вести себя в соответствии с привычным стереотипом еврея, и тогда нужно будет защищаться от «ужасной» силы, которой он ранее наделил этот образ.
Таким образом, большинство контактов заключенных с СС один на один превращались в столкновение стереотипов — особенно, если СС имела дело не со своими соотечественниками, а с евреями, русскими и т. д. Но противостояние одной иллюзорной системы другой делало невозможным реальный контакт между реальными людьми, и шансы у заключенных были при этом всегда плохи.
Дружба
Только немногие заключенные и только недавно попавшие в лагерь хотели работать вместе со своими друзьями или с соседями по бараку.
Большинство, казалось, стремятся к возможно более широкому общению и избегают слишком глубоких привязанностей. Однако, как правило, заключенные жили достаточно обособленно и общались лишь с узким кругом людей. В своей части барака каждый заключенный, хотевший выжить, имел где-то от трех до пяти «товарищей». Разумеется, это были не настоящие друзья, скорее компаньоны по работе, а точнее по нищете. Остальные были просто знакомыми.
Но если нищета любит компанию, то с дружбой все обстоит иначе. Истинные привязанности не росли на бесплодной почве лагеря, питаемой только расстройством и отчаянием.
Чтобы сохранить хоть бы видимость товарищества, лучше было его лишний раз не испытывать. Даже при самых благих намерениях оно постоянно находилось под угрозой, поскольку любое разочарование вымещалось на ближайших соседях, причем реакция часто была подобна взрыву. Человеку становилось легче, он снимал раздражение, накопившееся на работе, если мог рассказать о нем своим товарищам в бараке. Но далеко не всегда им хотелось слушать про чьи-то неприятности, ибо они сами недавно испытали такие же.
После вечера, ночи и утра в бараке заключенный был рад встретить новые лица и новых людей, желающих выслушать его жалобы на начальников барака и на отсутствие товарищества между людьми, с которыми он живет. Люди готовы были его выслушать, если он, в свою очередь, слушал их.
На работе, как и в бараке, даже самое небольшое раздражение также легко приводило к взрыву. Во всяком случае, после десяти и более напряженных часов работы каждому хотелось поскорее избавиться от надоевших лиц, не слышать повторяющиеся шутки, непристойности, не сочувствовать все тем же недугам. И возвращение в барак, где атмосфера казалась не столь напряженной, как в рабочей команде, снова на какое-то время приносило облегчение.
Вообще говоря, в лагере не было ничего хуже, чем попасть в окружение пессимистов, поскольку среди них очень трудно поддерживать свое моральное состояние. Угнетающе действовали также люди, которые постоянно жаловались на мелочи, совершенно не понимая, где они находятся.
В лагере почти полностью отсутствовали те, пусть внешние, проявления вежливости и доброты, которые в обычной жизни делают терпимым даже негативное отношение. Ответы всегда облекались в наиболее грубую форму.
Редко слышалось «спасибо», обычно только «идиот», «пошел к черту», «заткнись», а то и хуже, даже при ответе на самый нейтральный вопрос. Люди не упускали любую возможность выплеснуть свое скрытое раздражение и злость, что давало им хоть небольшое облегчение. Если человек еще мог что-то чувствовать, значит, был жив, не уступил всему и всем, еще не стал «мусульманином». Оскорбляя или обижая кого-то, узник доказывал себе, что он еще имеет какое-то значение, способен произвести эффект, пусть даже болезненный. Но таким образом, опять же, делался шаг к сближению с СС.
Разговоры
Когда разговор был возможен, он, как и любой поступок в лагере, мог облегчить жизнь либо сделать ее невыносимой. Темы разговоров были столь же разнообразны, сколь и заключенные, но всегда присутствовала тема освобождения (у новеньких) и детали лагерной жизни (среди старых заключенных). Чаще всего говорили о еде: вспоминали о том, чем наслаждались до заключения, и мечтали о разных блюдах, которые съедят после освобождения.
Разговоры о том, что можно получить или купить сегодня в лагерном магазине, длились часами. Почти столь же серьезно обсуждались надежды и слухи об улучшении питания. Несмотря на повторения, подобные разговоры почти всегда преобладали, как будто мечты о еде могли заменить саму еду, уменьшить постоянное чувство голода.
Эти несбыточные и инфантильные мечты усиливали внутреннее смятение.
Самолюбие людей, гордившихся широтой своих интересов, сильно страдало, когда обнаруживалось, насколько они поглощены проблемой еды. Они пытались с этим бороться, принуждая себя к интеллектуальным разговорам и стараясь отогнать тоску. Но отсутствие внешних стимулов, безнадежность и угнетающий характер общей ситуации быстро истощали их интеллектуальные ресурсы.
Обычно люди снова и снова повторяли одни и те же истории, досаждая слушателям и доводя их порой до отупения. Даже в благополучных командах (например, штопальщиков носков, где заключенные во вполне комфортабельных условиях сидели за столами и спокойно выполняли очень легкую работу) редко случалось, чтобы двое заключенных говорили о чем-либо по-настоящему интересном хотя бы несколько часов.
Многознающие и высокопрофессиональные люди иногда стремились поделиться своими знаниями, но быстро уставали, когда обсуждение каких-либо проблем, скажем медицины или истории, прерывалось вдруг слухом о том, что в лагерном магазине появились сардины или яблоки. После нескольких подобных опытов заключенный понимал, что еда значит для всех (причем, ему приходилось признать, что и для него тоже) значительно больше, чем работа его жизни, и постепенно он переставал о ней говорить.
Из-за подобных ситуаций и общей угнетающей атмосферы обычно интеллектуальные разговоры наскучивали и прекращались после двух-трех недель общения одних и тех же людей. Потом и сами заключенные впадали в депрессию: все, имевшее еще недавно такое значение, вдруг начинало казаться скучным и неважным. Иногда человеку хотелось поговорить о своей жене и детях, но внезапно ему со злобой приказывали заткнуться, ибо такой разговор вызывал у кого-то невыносимую тоску. Эти и многие другие причины ограничивали общение.
Заключенные знали, как быстро исчерпывает себя любой разговор, превращаясь из средства против скуки и депрессии в свою противоположность. И все же разговор оставался наиболее приемлемым способом времяпровождения в лагере.
Баланс сил
В конечном счете, рассказ о самозащите заключенных в концентрационных лагерях — это не только перечисление различных попыток, приведших в итоге к прямо противоположному результату. Несмотря на совершенно неблагоприятные условия иногда между людьми все же возникала дружба. Стремясь сохранить самоуважение, заключенные часто стремились к обмену мнениями, взаимному обучению и стимулировали друг у друга желание читать.
Стремление защитить друзей с помощью организации заключенных и сотрудничества с СС уже рассматривались выше. Здесь следует сказать, что, несмотря на свой саморазрушающий характер, эти организации, возможно, все же спасли некоторых заключенных, принеся, правда, в жертву других. Позиция властей была такова, что малые преимущества для некоторых должны были оплачиваться многими услугами СС.
Типичный пример — эксперименты над людьми. Заключенные, принимавшие в них участие, помогали убивать сотни людей. Но они могли при случае спрятать на несколько дней обреченного или спасти друга, заменив его другим заключенным.
Внутри столь жесткой системы, как концентрационный лагерь, любая защита, действующая в рамках этой системы, способствовала целям лагеря, а не целям защиты. Видимо, такой институт как концентрационный лагерь не допускает по-настоящему действенной защиты. Единственный путь не покориться — уничтожить лагерь как систему.
Глава 6. Неустойчивая ценность жизни
В предыдущих главах я говорил о том, что жизнь — всегда компромисс между противоположными стремлениями, причем «хорошая жизнь» достигается в результате удачного сочетания противоборствующих сил. И неважно, какое имя этому сочетанию дают мода или обычай. В данной книге я использовал термины «автономность личности» и «целостность».
Если вследствие какой-то особой восприимчивости человека или давления общественных требований невозможен жизнеспособный компромисс между обществом и личностью, то и люди, и общество естественным образом постепенно перестают существовать На первый взгляд, кажется, что это неверно, поскольку жизнь вроде бы идет нормально при различных социальных устройствах и человек — существо чрезвычайно пластичное, способное приспосабливаться. Тем не менее, когда взаимный компромисс не достигается, скорость распада личности и общества зависит от многих обстоятельств и главное из них — насколько упорно общество или личность отказываются изменяться.
Если тоталитарное государство навязывает свою власть в такой степени, что не остается места для удовлетворения хотя бы первоочередных потребностей личности, то, как утверждалось в предыдущей главе, единственный путь выжить — разрушить (или изменить) данное общество. Следовательно, если государство достигает полного господства над личностью, оно ее уничтожает. Гитлеровское государство уничтожило только несколько миллионов своих граждан, а не всех лишь потому, что не успело этого сделать. Само же государство продолжало существовать, поскольку ему приходилось идти на временные компромиссы с большинством своих граждан, хотя эти компромиссы и были враждебны основным принципам системы.
Но и многие из самых преданных приверженцев гитлеровского государства, во всем шедшие на компромисс, были тем не менее уничтожены как личности в нашем понимании. Примером служат судьбы Рэма33 и Гесса — коменданта Освенцима Будучи истинным наци, Гесс считал для себя обязательным безусловное подчинение. В результате, отказавшись существовать как самостоятельная личность, он превратился в простого исполнителя приказов. С момента принятия командования над Освенцимом он представлял собой живой труп. Гесс не стал «мусульманином» только потому, что его хорошо кормили и одевали. Но ему пришлось в такой степени лишить себя самолюбия и самоуважения, чувств и характера, что он, практически, уже мало отличался от машины, начинающей работать только после щелчка командного переключателя.
Руководящий принцип, на котором основано тоталитарное государство, — жить и принимать решения разрешается только одной личности — лидеру. Но так как государству необходимы преданные помощники, следовать этому принципу абсолютно строго было невозможно, особенно вначале, хотя от этого его сущность не менялась. Чем выше в иерархии стоял человек, тем меньше, а не больше влиял он на решения и тем в большей степени он жил волей лидера.
Высшие деятели нацистского государства были марионетками Гитлера. Многие из них в такой степени подчинились, что жили только своим лидером, и, в конце концов, они уже не знали как жить, а только как умереть.
Нацистское государство, объединявшее миллионы немцев, представляло собой весьма разнородное общество. Это обстоятельство правители считали основным препятствием на пути к успеху, хотя в действительности именно оно помогало государству удержаться. «Маленькие» немцы отстаивали свое право на компромисс во многом против логики системы. Их терпели якобы до тех пор, пока подрастало новое, воспитанное системой, поколение. После этого, наконец, и должно было выйти на арену настоящее тоталитарное государство, не сдерживаемое более необходимостью допускать хотя бы маленькие компромиссы даже со своими лояльными гражданами.
Я убежден как раз в обратном. Только большое количество людей, с которыми государству приходилось идти на компромисс, и позволяло ему существовать.
Тоталитарное государство, где все граждане полностью подчинены лидеру, в результате состоит из накормленных, обутых, одетых, хорошо функционирующих трупов, знающих только как умирать, а не как жить. Но такое государство и его граждане должны быстро исчезнуть.
Конечная цель тоталитарной системы — деперсонализация, причем политика уничтожения логически следует из этой цели. Подобная политика — наиболее отталкивающее и наиболее характерное выражение сути системы. По документам, найденным после войны, можно проследить процесс дегуманизации, крайней точкой которого стали лагеря смерти. В настоящее время эти факты общеизвестны, я хотел бы прокомментировать только некоторые моменты.
Отдельные расовые и евгенические представления гитлеровских идеологов начали проявляться в лагерях уже в 1937 году. В то время стерилизации подверглись не более дюжины заключенных, в основном сексуальные извращенцы и гомосексуалисты. Впоследствии стерилизация, призванная улучшить расу, постепенно заменялась уничтожением тех, у кого подозревали наличие нежелательных генов.
Первый опыт не вызвал возмущения ни внутри Германии, ни вне ее. Это прибавило смелости, нацисты стали действовать более открыто. Чем более усиливался режим, тем меньше он сталкивался со свободным общественным мнением. И, в конце концов, государство перешло к прямой реализации своих принципов путем неограниченной антигуманной практики.
Наиболее явно эти принципы претворялись в жизнь в концентрационных лагерях. С каждым годом становилось все понятнее, как осуществляется задача «стирания» индивидуальности. Тирании прошлого, обрекая человека на страдания, предполагали, что страдания как-то воздействуют на него как на личность. В нацистских концентрационных лагерях даже мучения и смерть более не имели прямой связи с жизнью определенного человека или конкретным событием.
Например, однажды заключенный, которому полагалась порка, был освобожден до ее исполнения. Новенькому заключенному присвоили его номер, а затем он получил и порку, поскольку вся акция числилась за номером.
Экзекутор совершенно не интересовался, за что и кому полагается наказание. Пороли просто «заключенного». Конечно, такое наказание имело определенную цель: увеличить число наказанных, унизить и напугать заключенных, дать гестапо еще раз почувствовать свою власть. Для таких целей подходил любой заключенный, поэтому даже самые сильные страдания заключенного вовсе не должны были быть связаны с ним как таковым.
Заключенный умирал, либо потому что евреи стали ненужными, либо оказалось слишком много поляков или людям на свободе надо было преподать урок.
Заключенным было трудно понять все проявления процесса дегуманизации.
Даже СС принимала их с немалыми усилиями. Например, будучи в лагерях, я часто удивлялся одной, как мне казалось, особо глупой деталью поведения охраны. Почти ежедневно какой-нибудь охранник, играя своим пистолетом, говорил заключенному, что пристрелил бы его, если бы пуля не стоила три пфеннига, и это не было бы для Германии столь разорительно.
Подобные заявления повторялись слишком часто и слишком многими охранниками, чтобы не иметь особого значения или цели. Я удивлялся, почему эти слова должны, по мнению охраны, как-то особенно меня унижать. Только потом я понял: заявление, как и многие другие элементы поведения, служило лишь для обучения охраны.
Эсэсовцы столь часто повторяли эти слова, потому что столь же часто слышали их на инструктаже. Трудные для восприятия, они, возможно, производили на эсэсовцев глубокое впечатление. Для рядового солдата было трудно считать человеческую жизнь не стоящей ни гроша. Их поражало, что начальники оценивают ее ниже пустячной стоимости пули. Поэтому для самоубеждения они снова и снова повторяли эту мысль, ожидая такой же реакции от заключенных, хотя, как правило, заключенные находили ее смешной.
Необходимо было приложить массу усилий, чтобы для охраны пуля стала дороже человека. В то же время сила государства, запросто расправляющегося с человеком, внушала благоговейный страх. Только когда эсэсовцы принимали такое отношение к личности — всегда после некоторого колебания (исключая «мальчиков-убийц») — они уже могли не видеть в заключенных людей и начинали обращаться с ними как с номерами.
Функциональные решения
Начало войны с Россией положило конец тому, что еще оставалось от официальной идеи перевоспитания людей в концлагерях и открыло путь для уничтожения миллионов людей. Для ведения тотальной войны была крайне необходима рабочая сила, потому изменилась политика по отношению к тем людям в лагерях и вне их, кто, как казалось, не имел ценности для государства. Все нежелательные, но физически годные лица должны были работать до полного истощения и смерти. Неспособных к работе надо было убить сразу. В результате было решено истребить в Европе всех евреев, калек, сумасшедших и т. п.
Таким образом, последние годы существования лагерей (с 1942 года и до конца войны) характеризовались тотальным контролем над громадной рабочей силой, исчисляемой миллионами. Теоретически она должна была включать всех, кроме малочисленного управляющего класса. Таким представлялся апофеоз нацистского государства — небольшое число лишенных индивидуальности руководителей и миллионы лишенных человеческого облика рабов. Над ними — божественный лидер, единственная «личность», единственный по-настоящему живой человек.
С функциональной точки зрения использовать, заключенных для рабского труда было выгоднее, чем просто содержать их, пусть даже в самых плохих условиях. Переход к рабскому труду представлял собой важный шаг по пути дегуманизации. Пока гитлеровское государство хотело переделать заключенного в соответствии со своими целями, оно еще в какой-то степени рассматривало его как личность, которую стоит «спасать». Убивали при этом якобы только «неспособных» к обучению.
Новая политика рабского труда и уничтожения избавилась уже от всех понятий ценности жизни, даже в терминах рабовладельческого общества. В ранних обществах рабы обычно были капиталовложением. Несомненно, их эксплуатировали, особо не размышляя о принадлежности рабов к человеческому роду. Но рабы в государстве Гитлера потеряли даже материальную ценность. В этом большое различие между эксплуатацией частными лицами и эксплуатацией государством в его собственных целях.
Первой группой, выбранной для полного истребления, были цыгане. Все цыгане Бухенвальда в 1941 году были убиты с помощью инъекций. Но это массовое убийство все же не было еще специально спланировано) или выполнено «фабричным» способом. Последний шаг был сделан в 1942 году созданием лагерей уничтожения, когда к списку подлежащих истреблению прибавились русские и поляки.
Человек как товар
Концентрационные лагеря, лагеря смерти и все, что в них происходило, стали доведенным до абсурда воплощением в жизнь тезиса — труд есть товар. В лагерях товаром становился не только труд человека, но и он сам. С людьми «обращались» так, как будто они были созданы только для использования. Их эксплуатировали и меняли в соответствии с желанием покупателя, в данном случае государства. Если они становились бесполезными, от них избавлялись, стараясь при этом сохранить все, что может еще пригодиться из материальных «ценностей». Для этих целей специально были разработаны современные технологии.
Взгляд на человека, как на полезный предмет, к тому времени уже присутствовал в идеологии нацистского государства. Если охрана убивала или собиралась убить заключенного, употреблялось выражение fertig machen, которое означает не «убить» или «прикончить», а скорее «закончить» и «подготовить». Это выражение часто использовалось в производстве для обозначения операций с товаром, предшествующих его поступлению к покупателю.
В немецком языке не было принято обозначать этими словами убийство человека.
После того, как политика массового уничтожения была санкционирована сверху, назначенный для руководства ею чиновник приступил к делу и произвел инспекцию существующих объектов с целью внедрения и новых методов, и оборудования. До 1940 года каждый концентрационный лагерь был более или менее самостоятельным «предприятием», которое, получая исходный материал — заключенных, сортировало их, использовало как рабочую силу, а затем избавлялось от них, освобождая или убивая. Позднее была введена специализация. В производстве «продукции» стали участвовать по крайней мере три вида «предприятий»: пересыльные лагеря, трудовые лагеря и лагеря уничтожения. Как все современные предприятия, каждый лагерь имел свой «исследовательский» отдел, но везде заключенный, будучи лишь «исследовательским материалом», рассматривался как представитель массовой «продукции», допускающий замену на любой другой экземпляр.
В частности, если допускались ошибки при подсчете, скажем, новых арестов, разница восполнялась путем дополнительных арестов или ликвидации необходимого числа арестованных. Ошибки в делопроизводстве исправлялись на живых объектах бюрократических операций, а не в книгах.
Не обошли вниманием и упаковку. Всех заключенных одевали в одинаковую полосатую тюремную одежду, а головы брили. Униформа каждой группы и даже подгруппы имела свой цвет и знаки отличия. Таким образом, индивидуумы становились похожими друг на друга, в то время как группы различались.
Заключенные, кроме того, нумеровались, и, представляясь лагерным начальникам, каждый называл свой номер, группу и подгруппу, но никогда не имя.
Каждое государство массового подавления стремится реорганизовывать свои структуры до тех пор, пока каждый его член не будет правильно причислен к своей категории. Если к тому же это государство классовое, то требуется, чтобы каждый его член был фиксирован в своем классе возможно прочнее и не угрожал руководящей элите попытками повысить свой статус. СС хотела бы раз и навсегда расклассифицировать всех заключенных. Первым шагом на пути к этой цели были цветные знаки отличия и номера, следующим — запись категории на теле несмываемыми чернилами. В лагерях уничтожения заключенным уже ставили клеймо.
Это снова пример того, как в лагерях доводились до логического конца те установки, которые в обществе существовали только как тенденции. Идеал нацистов — пометить всех граждан в соответствии с их статусом. Элита носила знаки отличия СС, члены партии — партийную эмблему, евреи — желтую звезду.
Иностранных рабочих тоже пытались заставить носить отличительные знаки, но из-за их сопротивления попытки провалились. В случае победы Германия вполне могла принудить каждого носить символ своей группы, как это было сделано в концентрационных лагерях.
Характерно, что многие в СС, даже из лагерной администрации, не любили свою работу, а занимались ею из чувства долга. Гесс, возглавивший, в конце концов, самый крупный лагерь уничтожения, был прежде членом полумистической группы Artamanen. Это была группа, включившаяся в движение «назад-к-земле» с тем, чтобы спасти немецких юношей и девушек от «коррупции» городов и заводов, вернуть их к простой жизни на фермах, к земле и природе. Вступив в СС, Гесс отрекся от всех своих личных убеждений и склонностей и превратился в хорошо функционирующее колесико государственной машины.
Его назначили руководить Освенцимом, он хотел делать это квалифицированно, вести аккуратное, эффективное предприятие, и его не беспокоило, что оно «обрабатывало» людей, а не сталь или алюминий. Просто случайно его работой оказалось истребление людей. Один из журналистов, наблюдавший Гесса на Нюрнбергском процессе, так описал свои впечатления: «Гесс, не моргнув глазом, докладывал точные факты о том, как он «обработал» примерно два или три миллиона евреев в газовых камерах и крематориях концентрационных лагерей. Внешность и манеры Гесса соответствовали представлению о человеке, который в любой среде, будь то правительство или бизнес, имеет репутацию чрезвычайно компетентного и ответственного руководителя, хотя и лишенного воображения. Предельно корректный как свидетель, он не произнес ни слова, способного оскорбить. Он говорил о массовых убийствах, используя технические термины, без ужасных деталей, без какого-либо красноречия моралиста или садиста… Фанатичный приверженец напряженной работы, эффективности, порядка, дисциплины и чистоты, Гесс высказывал недовольство сбоями в снабжении своих жертв нужным транспортом, пищей, медицинскими и санитарными принадлежностями, надзирателями. Он постоянно требовал от берлинского начальства лучшего снабжения, менее развращенного и жестокого персонала и, главное, снижения потока новых узников, которое позволило бы ему создать более эффективное хозяйство: газовые камеры и крематории для не занятых работой, удобства для работающих в его трудовых лагерях».
Деловая корреспонденция Освенцима похожа на переписку любого другого предприятия. Вот несколько отрывков из писем химического треста «Фарбен» в Освенцим: «В связи с предполагаемыми опытами с новыми снотворными таблетками, мы были бы признательны Вам за предоставление некоторого числа женщин».
«Мы получили Ваш ответ, но считаем чрезмерной цену в 200 марок за женщину. Мы предлагаем не более 170 марок за голову. В случае Вашего согласия мы их возьмем. Нам нужно примерно 150».
«Мы получили Ваше согласие. Подготовьте для нас 150 наиболее здоровых женщин, и как только Вы сообщите о готовности, мы их заберем».
«Получили заказанных 150 женщин. Несмотря на их истощенное состояние, они нам подойдут. Будем сообщать Вам о ходе эксперимента».
«Испытания проведены. Все подопытные умерли. Вскоре мы войдем с Вами в контакт относительно новой партии».
Поведение в лагерях уничтожения
Анализ поведения людей в лагерях уничтожения, при всем их ужасе, менее интересен психологу, так как заключенные в этих лагерях не имели ни времени, ни условий для сколько-нибудь заметных изменений.
Единственный психологический феномен, который, по-видимому, имеет отношение к этой книге, заключается в том, что заключенные почти не сопротивлялись, хотя и знали о своей неминуемой смерти. Я не принимаю сейчас во внимание немногие исключения — не более горстки среди миллионов.
Иногда всего один или два немецких охранника конвоировали до четырехсот заключенных в лагеря уничтожения по безлюдной дороге. Без сомнения, четыреста человек могли справиться с такой охраной. Даже если кого-нибудь и убили бы при побеге, большая часть смогла бы присоединиться к партизанским группам. В самом худшем случае эти смертники хотя бы порадовались своей мести безо всякой для себя потери.
Обычный, не психологический анализ не может удовлетворительно объяснить такое послушание. Чтобы понять, почему эти люди не сопротивлялись, надо учесть, что наиболее активные личности к тому времени уже сделали попытки бороться с национал-социализмом и были либо мертвы, либо истощены до крайности. Большинство в лагерях уничтожения составляли поляки и евреи, которым по какой-либо причине не удалось ускользнуть и которые уже не имели сил для сопротивления.
Их ощущение поражения не означало, однако, что они не чувствовали ненависти к своим притеснителям. Слабость и подчинение часто насыщены большей ненавистью, чем открытая контр-агрессия. В открытой борьбе, например в партизанских отрядах или движении сопротивления, противники германского фашизма находили хотя бы отчасти выход для своей ненависти. Внутри же подавленных, несопротивляющихся личностей ненависть, которую никак нельзя было разрядить, лишь накапливалась. Заключенные боялись даже словами как-то облегчить свое состояние, так как СС карала смертью любое проявление эмоций.
Таким образом, в лагерях уничтожения заключенные были лишены всего, что могло восстановить их самоуважение или волю к жизни.
Все это может объяснить покорность заключенных, которые шли в газовые камеры или сами копали себе могилы, а затем выстраивались так, чтобы упасть в них после выстрела Другими словами, большая часть таких заключенных были самоубийцами. Идти в газовую камеру — значило совершить самоубийство путем, не требующим энергии, обычно необходимой для выполнения такого решения. С точки зрения психологии, большинство заключенных в лагерях уничтожения совершали самоубийство, не сопротивляясь смерти.
Если это рассуждение верно, значит в лагерях уничтожения цели СС нашли свое законченное выражение. Миллионы людей приняли смерть, потому что СС заставила их увидеть в ней единственный способ положить конец той жизни, в которой они больше не чувствовали себя людьми.
Эти замечания, возможно, могут показаться надуманными, поэтому необходимо добавить, что подобный процесс наблюдается у психически больных людей.
Аналогия между заключенными и психически больными людьми основана на наблюдениях за заключенными после их освобождения. Симптомы зависели, естественно, от исходной индивидуальности и событий после освобождения. У некоторых людей эти симптомы выражались сильнее, у других слабее, в некоторых случаях изменения были обратимы, в других — нет.
Сразу после освобождения почти все заключенные вели себя асоциально, что можно объяснить только далеко зашедшим распадом их личности. Их связь с реальностью была очень слабой, некоторые страдали манией преследования, другие — манией величия. Последнее было вызвано, очевидно, чувством вины за то, что судьба их пощадила, тогда как близкие люди погибли. Они пытались оправдаться и объяснить это, преувеличивая собственную значимость. Мания величия позволяла также компенсировать огромный урон, нанесенный их самооценке лагерным опытом.
Привычная жизнь
Обнародование информации о концентрационных лагерях и происходящих в них ужасах вызвало шок во всем мире. Люди были потрясены тем, что в странах, считавшихся цивилизованными, могла существовать подобная бесчеловечная практика. Неспособность современного человека обуздать массовые проявления жестокости была воспринята как угроза человечеству.
Однако, постепенно отношение к феномену концентрационных лагерей менялось, и, в конце концов, к настоящему моменту сложились три основных подхода: а) — существование концлагерей в человеческом обществе в целом считается невозможным (вопреки имеющимся доказательствам), потому что акты жестокости якобы совершались небольшой группой сумасшедших; б) — информация о лагерях считается специальной пропагандой, далекой от действительности. Этот подход поощрялся германским правительством, называвшим все сообщения о лагерном терроре пропагандой ужаса; в) — информация считается правдивой, но обо всех ужасах стараются поскорее забыть.
Психологические механизмы, обеспечивающие все три подхода, можно было увидеть в действии после окончания войны. Вначале, после «открытия» лагерей, поднялась волна страшной ярости. Но довольно быстро за ней последовало всеобщее забвение. По-видимому, подобная реакция широкой публики была вызвана не только шоком от осознания того факта, что жестокость все еще широко распространена среди людей. Возможно, люди не хотели думать о лагерях, смутно понимая, что современное государство владеет способами воздействия на личность. А если на самом деле личность может быть изменена против ее воли? Принять такую мысль — огромная угроза для самоуважения.
Поэтому надо с этим либо бороться, либо забыть.
Всеобщий успех «Дневника Анны Франк» показывает, насколько живуче в нас желание «не видеть», хотя именно ее трагическая история демонстрирует, как подобное желание ускоряет распад нашей личности. Анализ истории Анны Франк, вызвавшей к ней столь большое сочувствие в мире, сам по себе — весьма тягостная задача. Однако, я считаю, что подобное отношение к ней можно объяснить только нашим желанием забыть газовые камеры и ценить больше всего личную жизнь, привычные отношения даже в условиях катастрофы. Дневник Анны Франк заслуживает внимания именно потому, что показывает, как продолжение привычной жизни в экстремальных обстоятельствах принесло гибель.
Пока семья Анны Франк готовилась спрятаться в укрытие, тысячи евреев в Голландии и во всей Европе пытались пробиться в свободный мир, более подходящий для выживания или для борьбы. Кто не мог уехать, уходил в подполье. Не просто прятался от СС, пассивно ожидая дня, когда его схватят, но уходил бороться с немцами, защищая тем самым гуманизм. Семья Франк же хотела лишь продолжать свою обычную жизнь, как можно меньше меняя ее.
Маленькая Анна тоже хотела жить по-прежнему, и никто не может ее за это упрекнуть. Но в результате она погибла, и в этом не было необходимости и тем более героизма. Франки могли бы встретить жизнь лицом к лицу и выжить, подобно многим другим голландским евреям.
Очевидно, что труднее всего было спрятаться всей семьей. Франки, имевшие добрые отношения со многими голландскими семьями, могли укрыться поодиночке в разных семьях. Но они не хотели отказаться от привычного образа жизни семьи, стараясь продлить его как можно дольше. Любой другой путь значил для них не просто расставание с любимой семейной жизнью, но и принятие антигуманных отношений между людьми. Между тем, приняв их, они, возможно, смогли бы избежать гибели.
Франки, способные столь основательно себя обеспечить, могли бы, конечно, при желании достать один или два пистолета и пристрелить по меньшей мере одного или двух солдат из «зеленой полиции», пришедших за ними. Эта полиция была не слишком многочисленна, и потеря пусть даже одного эсэсовца при каждом аресте стала бы для нее непозволительной роскошью. Судьба семьи Франк от этого не изменилась бы, но они могли дорого продать свои жизни, вместо того, чтобы безропотно идти навстречу смерти.
Пьеса об Анне Франк, имевшая в свое время шумный успех, не случайно заканчивается сценой, где Анна выражает свою веру в людей, в их доброе начало. Она говорит, что не нужно признавать реальность газовых камер, чтобы они никогда не появились снова. Если все люди в основе своей хорошие, если самое дорогое — это сохранение семейной жизни независимо от происходящего вокруг, то мы действительно должны держаться за привычную жизнь и забыть Освенцим. Но, однако, Анна Франк умерла, ибо ее родители не поверили в Освенцим. И ее история получила широкое одобрение, потому что и теперь люди не хотят внутренне смириться с тем, что Освенцим когда-то существовал. Если все люди хорошие, Освенцима никогда не было.
Время действовать
В различных местах этой книги я показал, как подчинение тоталитарному государству приводит к распаду казавшейся вначале вполне цельной личности и к проявлению в ней многих инфантильных черт.
Здесь, возможно, окажется полезным некое теоретическое рассуждение. Много лет назад Фрейд постулировал две противоположные тенденции в человеке: жизнеутверждающую — инстинкт жизни, который он назвал «эросом» или «сексом», и разрушительную, названную им «инстинкт смерти». Чем более развита личность, тем сильнее взаимодействуют в ней эти две противоположные тенденции, формируя восприятие действительности.
Чем менее развита личность, тем сильнее эти тенденции управляют ею независимо друг от друга и, зачастую, в разных направлениях. Примером может служить так называемое детское дружелюбие некоторых примитивных людей, за которым иногда в следующий миг следует крайняя жестокость.
Распад единства этих двух противоположных тенденций, или лучше сказать, их разделение в условиях крайнего стресса — в один момент чисто разрушительное желание: пусть все будет позади, неважно как, а в следующий момент «бессмысленное» стремление жить: добыть что-нибудь поесть сейчас, пусть даже ценой скорой смерти — это только один из аспектов примитивизации человека в тоталитарном государстве. Другой, о котором уже шла речь — инфантильное мышление, например, мечты вместо зрелой оценки реальности и легкомысленное неверие в собственную смерть. Многие, скажем, считали себя избранниками, которые непременно выживут, а еще большее число просто не верило в возможность собственной смерти. Не веря, они не готовились ни к ней, ни к защите собственной жизни.
С другой стороны, защита своей жизни могла приблизить смерть. Поэтому до поры до времени такое «перекатывание под ударами» действительно защищало жизнь. Но перед лицом неминуемой смерти инфантильное поведение становилось фатальным и по отношению к собственной жизни, и к жизни других заключенных, чьи шансы выжить повышались, если кто-то рисковал. Однако, чем дольше человек «перекатывался под ударами», тем менее вероятным становилось сопротивление при приближении смерти. Особенно, если уступки врагу сопровождались не внутренним усилением личности (как это должно было быть), а ее распадом.
Те же, кто не отрицал, не отгонял от себя мысль о возможности смерти, кто не верил по-детски в собственную неуязвимость, вовремя подготавливался.
Такой человек был готов рисковать собою ради самостоятельно выбранной цели и пытаться спасти свою собственную жизнь или жизнь других людей.
Когда были введены ограничения на передвижение евреев в Германии, те, кто не поддался инертности, воспринял это как сигнал, что настало время уйти в подполье, присоединиться к движению сопротивления, обзавестись поддельными документами и т. д. (если все это не было уже давно сделано). Большинство таких людей выжило.
Иллюстрацией может служить пример моих дальних родственников. В самом начале войны молодой человек, проживавший в небольшом венгерском городе, объединился с другими евреями, готовясь к вторжению немцев. Как только нацисты установили комендантский час, его группа отправилась в Будапешт, поскольку в большом городе легче скрыться. Там они сошлись с подобными группами из других городов и из самого Будапешта. Из этих групп были выбраны мужчины типично «арийской» внешности, которые, добыв фальшивые документы, вступили в венгерскую СС, чтобы иметь возможность предупреждать своих о готовящихся акциях, районах проведения облав и т. п. Система столь хорошо работала, что большинство членов этих групп остались живы. Кроме того, они обзавелись оружием и были готовы в случае необходимости сопротивляться, чтобы гибель немногих в бою дала бы большинству возможность скрыться.
Некоторые вступившие в СС евреи были все же разоблачены и немедленно расстреляны, но такая смерть, надо полагать, предпочтительней газовых камер.
Тем не менее, большинство членов этих групп, скрывавшихся до последнего момента среди СС, уцелело.
Мой молодой родственник не сумел убедить свою семью последовать за ним.
Три раза, страшно рискуя, он возвращался домой и рассказывал сперва о растущем преследовании евреев, затем о начавшемся их уничтожении и газовых камерах, но не смог убедить родных покинуть свой дом, свое имущество. С каждым приездом он все настойчивее уговаривал их, но с отчаянием видел, что они все менее хотят или способны действовать. С каждым разом они как бы все дальше продвигались по пути в крематорий, где потом все действительно и погибли.
Чем больше была угроза, тем сильнее его семья цеплялась за старый распорядок, за накопленное имущество. В этом истощающем жизненные силы процессе уверенность в завтрашнем дне, державшаяся ранее на планировании жизни, постепенно заменялась иллюзией безопасности, которую давало им имущество. Опять таки как дети, они отчаянно цеплялись за предметы, наделяя их тем смыслом, которого они более не видели в окружающей жизни. Постепенно отказываясь от борьбы за выживание, они все более и более сосредоточивались на этих мертвых предметах, шаг за шагом теряя свою личность.
В Бухенвальде я разговаривал с сотнями немецких евреев, привезенных туда осенью 1938 года. Я спрашивал их, почему они не покинули Германию, ведь жизнь стала уже совершенно невыносимой. Ответ был: «Как мы могли уехать? Это значило бы бросить свои дела, свой бизнес». Земные блага приобрели над ними такую власть, что приковали их к месту. Вместо того, чтобы использовать имеющиеся у них средства для своего спасения, люди попали к ним в подчинение.
Постепенный распад личности, для которой вся жизнь сосредоточена в материальных ценностях, можно увидеть также и через призму изменявшейся политики нацистов по отношению к евреям. Во время первых бойкотов и погромов еврейских магазинов единственной видимой целью нацистов было имущество евреев. Они даже позволяли евреям взять что-то с собой, если те соглашались немедленно уехать. Достаточно долго нацисты с помощью дискриминационных законов старались принудить к эмиграции людей, принадлежавших к нежелательным для них меньшинствам, в том числе и евреев. Политика уничтожения, несмотря на свое соответствие внутренней логике нацизма, была введена только после того, как не оправдался расчет на эмиграцию. Не встречая сопротивления, преследование евреев потихоньку усиливалось.
Возможно, что именно покорность евреев привела нацистов к мысли, что их можно довести до состояния, когда они сами пойдут в газовые камеры.
Большинство польских евреев, не веривших, что все останется по-прежнему, пережило Вторую мировую войну. При приближении немцев они бросали все и бежали в Россию, хотя многие из них не доверяли советской системе. Но в России, где они были гражданами второго сорта, их все же считали людьми. Ну, а те, кто остался и продолжал обычную жизнь, пошли по пути распада и гибели.
Так что, в сущности, путь в газовую камеру был следствием философии бездействия. Это был последний шаг на пути несопротивления инстинкту смерти, который можно назвать иначе — принцип инерции. Первый шаг в лагерь смерти человек делал задолго до того, как туда попадал.
С другой стороны, поведение самоубийц показывает, что принуждение имеет свой предел. Дойдя до определенной черты, человек предпочитает смерть животному существованию. Но путь к этому ужасному выбору начинается с инерции. Те, кто ей поддался, кто перестал черпать жизненную энергию в окружающем мире, не мог больше проявлять инициативу и боялся ее в других.
Такие люди не могли уже адекватно воспринимать реальность. Они как дети старались лишь отрицать неприятное и верить в собственное бессмертие.
Очень показательны с этой точки зрения воспоминания бывшей узницы концлагерей Ленжиель. Она рассказывает, что хотя заключенные жили в нескольких сотнях метров от крематория и газовых камер и не могли не знать, что к чему, большинство из них не признавали очевидного даже спустя месяцы.
Понимание истинной ситуации могло бы помочь им спасти либо свою, практически обреченную жизнь, либо жизнь других. Но они уже не хотели этого понимания.
Когда Ленжиель вместе со многими другими заключенными была отобрана для отправки в газовую камеру, она единственная пыталась вырваться, и ей это удалось. Поразительно, но среди находившихся рядом с ней таких же обреченных, нашлись люди, которые донесли начальству о попытке ее побега.
Ленжиель не знает, почему люди отрицали существование газовых камер, когда они видели целыми днями дым над крематорием и чувствовали запах горящей плоти. Как могли они не верить в смерть только ради того, чтобы не пришлось защищать собственную жизнь? Причем заключенные ненавидели всякого, кто пытался избежать общей участи, тогда как сами они не имели для этого достаточно храбрости. Я думаю, причина — потеря воли к жизни, подчинение инстинкту смерти. И в итоге, такие заключенные были ближе к СС, чем к тем своим товарищам, которые, цепляясь за жизнь, иногда ухитрялись избежать смерти.
Компетенция человека — для чего?
Когда заключенные начинали служить своим палачам, по собственной воле помогать им умерщвлять себе подобных, дело было уже не просто в инерции. К ней добавлялся возобладавший в них инстинкт смерти. Если служба становилась продолжением их обычной профессиональной деятельности, попыткой жить своей прежней жизнью, то такой выбор открывал дверь смерти.
Согласно описанию Ленжиель, деятельность доктора Менгеле — врача-эсэсовца в Освенциме — это типичный случай «обычной работы». Он, к примеру, выполнял весьма тщательно все медицинские манипуляции при приеме родов: соблюдал антисептику, очень осторожно перерезал пуповину и т. д., а полчаса спустя отправлял в крематорий и мать, и ребенка.
Сделав выбор, доктор Менгеле и ему подобные были вынуждены все время обманывать себя, чтобы сохранять внутреннее равновесие. Мне в руки попало письменное свидетельство такого рода. В нем доктор Нисли — заключенный, исполнявший функции врача-исследователя в Освенциме — снова и снова говорит о себе как о враче, хотя по сути эта его деятельность была преступной. Он говорит об Институте расовых, биологических и антропологических исследований, как об «одном из наиболее квалифицированных медицинских центров Третьего рейха», тогда как главная задача этого института была — оправдывать ложь. Хотя Нисли был врачом, он, подобно другим заключенным, служившим СС не хуже самих эсэсовцев, стал участником и сообщником преступлений СС. Как все-таки он мог с этим жить? По-видимому, главным для него оставалось профессиональное мастерство, независимо от его применения. Доктор Нисли, доктор Менгеле и сотни других, значительно лучших врачей, получили образование задолго до прихода Гитлера к власти, и, тем не менее, они приняли участие в экспериментах над людьми. Вот к чему приводят профессиональные знания и мастерство, не контролируемые моралью. И хотя крематориев и лагерей больше нет, современное общество, как и раньше, ориентировано прежде всего на профессиональные знания, и до тех пор, пока неуважение к жизни как к таковой остается, мы не будем в безопасности.
Легко согласиться с тем, что сбалансированное равновесие между крайностями идеально для жизни. Сложнее принять это в случае концентрационного лагеря. И в экстремальных условиях руководствоваться только эмоциями или только разумом — плохой путь и для жизни, и для выживания. Даже такая любовь, как у господина Франка, не помогла ему сохранить семью, в то время как более разумное сердце, возможно, нашло бы выход из положения. Доктор Нисли, напротив, предельно гордый своим профессиональным уровнем, смирил голос сердца и в итоге обрек себя на такое унижение, что вряд ли от него как от человека осталось что-либо, кроме телесной оболочки.
Я встречал много и евреев, и антинацистов других национальностей, оставшихся в живых в Германии и в оккупированных ею странах, подобно венгерской группе, о которой я рассказал выше. Все эти люди поняли вовремя, что когда мир разлетается вдребезги, когда воцаряется бесчеловечность, нельзя продолжать жить как обычно. Нужно радикально переоценить все, что ты делаешь, во что веришь, за что борешься. Короче, надо занять позицию в новой реальности, сильную позицию, а не прятаться в личную жизнь.
Сегодня негры в Африке идут против полиции, защищающей апартеид, и даже если сотни из них будут убиты, а десятки тысяч посажены в концентрационные лагеря — эти демонстрации, эта борьба рано или поздно докажут возможность для них свободы и равенства. Те миллионы евреев Европы, кто вовремя не бежал или не ушел в подполье, могли, по крайней мере, выступить против СС как свободные люди. Вместо этого они сначала пресмыкались, затем дождались, пока их изолируют, и, в конце концов, сами пошли в газовые камеры.
Все же опыт лагерей смерти показывает, что даже в таком безнадежном положении существует определенная самозащита. Главное — понять, что с человеком происходит и почему. Проанализировав окружающую обстановку, человек не станет, как я полагаю, обманывать себя верой в то, что приспосабливаясь, он сможет выжить. Он тогда способен понять, что многое, внешне кажущееся защитой, в действительности приводит к распаду. Крайний пример — заключенные, вызвавшиеся добровольно работать в газовых камерах в надежде, что это каким-то образом спасет им жизнь. Однако многие из них и умерли быстрее обычных заключенных, и прожили более страшную жизнь.
Сопротивление
Действительно ли ни один из обреченных на смерть людей не сопротивлялся? Неужели никто не предпочел умереть, борясь против СС? Увы, только очень немногие. К ним принадлежит, например, двенадцатая зондеркоманда — одна из тех, которые работали в газовых камерах. Заключенные в этих командах знали свою участь, так как первой их задачей всегда была кремация тел предыдущей команды, уничтоженной за несколько часов до этого.
Во время бунта двенадцатой зондеркоманды было убито 70 эсэсовцев, в том числе один офицер и 17 унтер-офицеров, полностью выведен из строя один крематорий и серьезно повреждены несколько других. Правда, все 853 члена команды погибли. Но соотношение эсэсовцев и заключенных 1:10 — гораздо больше, чем в обычном концентрационном лагере.
Единственная восставшая зондеркоманда, нанесшая врагу столь большой урон, погибла почти так же, как все остальные. Почему же тогда миллионы других заключенных, имея перед собой такие примеры, шли, не сопротивляясь, к своей смерти? Почему лишь немногие гибли как люди, как эта единственная из многих команда? Почему остальные команды не восстали, а пошли сами на смерть? Или — чем тогда вызвано исключение? Возможно, еще один замечательный пример самоутверждения способен прояснить этот вопрос. Однажды группа заключенных, уже раздетых догола, была выстроена перед входом в газовую камеру. Каким-то образом распоряжавшийся там эсэсовец узнал, что одна из заключенных была в прошлом танцовщицей, и приказал ей станцевать для него. Женщина начала танцевать, во время танца приблизилась к эсэсовцу, выхватила у него пистолет и застрелила его. Она, конечно, была тут же убита.
Может быть, танец позволил ей снова почувствовать себя человеком? Она была выделена из толпы, от нее потребовалось сделать то, в чем раньше было ее призвание. Танцуя, она перестала быть номером, безличным заключенным, стала как прежде танцовщицей. В этот момент в ней возродилось ее прежнее «я», и она уничтожила врага, пусть даже ценой собственной жизни.
Несмотря на сотни тысяч живых трупов, безропотно шедших к своей могиле, один этот пример, а были и другие подобные случаи, показывает, что если мы сами решаем перестать быть частью системы, прежняя личность может быть восстановлена в одно мгновение. Воспользовавшись последней свободой каждого, которую не может отобрать даже концентрационный лагерь — самому воспринимать и оценивать свою жизнь, — эта танцовщица вырвалась из тюрьмы. Она сама захотела рискнуть жизнью ради того, чтобы вернуть свою личность. Поступая так же, мы, даже если не сумеем жить, то хотя бы умрем как люди.
Глава 7. Люди — не муравьи
В предыдущих главах я рассматривал влияние, которое оказывали немецкие концентрационные лагеря на заключенных в них людей.
Остался открытым не менее важный вопрос: какую роль играли лагеря в запугивании свободных немецких граждан и в изменении их личности. В этом отношении, к счастью, лагеря не добились полного успеха. Однако нынешнему поколению людей, и американцам в особенности, трудно понять, каким образом свободно живущий народ оказался полностью во власти национал-социализма.
Пожалуй, лучше начать с тех жертв нацистского государства, которые погибли, в буквальном смысле слова, под грузом своего имущества. Похожие события, хотя и с менее трагическими последствиями, происходили также во Франции. Беженцы, спасавшиеся от наступавших немецких армий, были фактически погребены под вещами, которые они везли в повозках, тачках, тащили на себе, потому что не могли представить себе жизнь без них.
Я повторял в этой книге уже много раз, что процветание или гибель любого общества зависит от того, насколько человек, как член этого общества, способен преобразить свою личность так, чтобы придать обществу «человеческое лицо». В нашем случае это означает, в частности: не мы должны быть порабощены техникой, а она служить нашим целям. Для приспособления к новой технологической реальности необходимо ясно осознать, что вещи — мертвые предметы — сейчас несравненно менее важны для человека, чем раньше: не требуется работать целый год, чтобы приобрести новый костюм или новую кровать. Такое осознание послужит углублению нашей свободы и приведет к меньшей эмоциональной зависимости от вещей. С другой стороны, степень нашей привязанности к имуществу может помочь американцам, столь гордящимся своими свободами, понять жизнь Германии под властью Гитлера.
Никто не желает отказываться от свободы. Но вопрос становится значительно более сложным, когда нужно решить: какой частью своего имущества я согласен рисковать, чтобы остаться свободным, и насколько радикальным изменениям готов подвергнуть свою жизнь для сохранения автономии.
Когда речь идет о жизни и смерти или о физической свободе, то для человека, еще полного сил, сравнительно легко принимать решения и действовать. Если же дело касается личной независимости, выбор теряет свою определенность. Мало кто захочет рисковать жизнью из-за мелких нарушений своей автономии. И когда государство совершает такие нарушения одно за другим, то где та черта, после которой человек должен сказать: «Все, хватит! «, даже если это будет стоить ему жизни? И очень скоро мелкие, но многочисленные уступки так высосут решимость из человека, что у него уже не останется смелости действовать.
То же самое можно сказать о человеке, охваченном страхом за свою жизнь и (или) свободу. Совершить поступок при первом сигнале тревоги относительно легко, так как тревога — сильный стимул к действию. Но если действие откладывается, то чем дольше длится страх и чем больше энергии и жизненных сил затрачивается, чтобы его успокоить, не совершая поступка, тем меньше человек чувствует себя способным на какой-либо поступок.
При становлении режима нацистской тирании, чем дольше откладывалось противодействие ей, тем слабее становилась способность людей к сопротивлению. А такой процесс «обезволивания» стоит только запустить, и он быстро набирает скорость. Многие были уверены, что уже при следующем нарушении государством их автономии, ущемлении свободы, при еще одном признаке деградации, они наверняка предпримут решительные действия. Однако к этому времени они уже не были ни на что способны. Слишком поздно им пришлось убедиться в том, что дорога к разложению личности и даже в лагерь смерти вымощена не совершенными в нужное время поступками.
Влияние концентрационных лагерей на автономию свободных граждан также шло постепенно. В первые годы режима (1933–1936) смысл лагерей заключался в наказании и обезвреживании отдельных активных антифашистов. Однако затем возобладало стремление покончить с личностью как таковой. Я уже рассказывал, как это делалось в лагерях. Теперь хочу показать, как то же самое происходило с остальными немцами, и насколько серьезно гестапо полагалось на спланированные и хорошо «рекламируемые» мероприятия.
После 1936 года, когда политическая оппозиция была сломлена и власть Гитлера окончательно укрепилась, в Германии уже не осталось отдельных людей или организаций, которые могли бы серьезно угрожать существованию нацизма.
Хотя по-прежнему имели место индивидуальные акты протеста, подавляющее большинство сосланных в лагеря в последующие годы выбирались по причине их принадлежности к какой-либо группе. Их наказывали, поскольку данная группа почему-либо вызвала недовольство режима, или могла вызвать его в будущем.
Главным стало наказать и запугать не отдельного человека и его семью, а определенный слой населения. Такой перенос внимания с индивидуума на группу, хотя и совпал с приготовлением к войне, нужен был, в основном, для обеспечения тотального контроля над людьми, еще не полностью лишенными свободы действия. Иными словами, индивидуальность следовало растворить в полностью послушной массе.
К тому времени, хотя недовольные еще оставались, подавляющее большинство немцев приняли гитлеровское государство и всю систему. Однако их лояльность к режиму расценивалась как акт свободной воли, совершенный людьми, которые все еще обладали значительной внешней свободой и чувством внутренней независимости. Оставалась также власть отца над своим домом. Про человека, который на деле и полностью распоряжается жизнью своей семьи, и черпает самоуважение и чувство надежности в своей работе, нельзя сказать, что он полностью потерял независимость.
Поэтому следующая задача государственной тирании — покончить и с этими свободами, мешающими созданию общества, состоящего целиком из существ, полностью лишенных индивидуальности. Те профессиональные и социальные группы, которые хотя и приняли идеологию национал-социализма, но протестовали против ее вмешательства в сферу своих личных интересов, должны были научиться стоять по стойке смирно и усвоить, что в тоталитарном государстве нет места для личных устремлений.
Уничтожить все группы, которые еще обладали какой-то степенью свободы, было бы нерентабельно — это могло бы повредить государству и нарушить работу промышленности, жизненно важной ввиду надвигавшейся войны. Следовательно, их надо было принудить к полному подчинению путем запугивания. Гестапо называло такие групповые меры «акциями» и применило их первый раз в 1937 году.
Вначале фашистская система развивалась медленно и разрушала личность скорее своими качествами, типичными для тоталитарного государства, чем заранее продуманными акциями. Только позднее, когда эти акции доказали свою эффективность, они сознательно планировались для уничтожения автономии больших групп.
Народный контроль
Во время первых акций наказанию подвергались только лидеры «беспокойных» групп. Это было естественно, поскольку нацистская система, основанная на принципе единоначалия, подразумевала, что начальники несут ответственность за все, что происходит, а подчиненные должны лишь беспрекословно выполнять приказы. Однако этот принцип работает лишь в том случае, когда начальников немного, или группа представляет собой хорошо слаженную команду. Он не соблюдается для расплывчатых групп с неясной структурой подчинения. Современному обществу вообще присуща сложная система группировок. При этом даже группы, созданные самим государством, проявляют тенденцию к укреплению своей независимости, к борьбе за свои интересы против других таких же групп.
Поэтому задача заключалась не только в том, чтобы подчинить старые, уже существующие группы, но и сделать вновь создаваемые полностью подконтрольными. Оба типа групп были необходимы для существования государства. Это обстоятельство осознавалось членами этих групп и укрепляло их независимость. Более того, если подчиненные слепо следовали за своими начальниками, как им это предписывалось, государство все равно не чувствовало себя в безопасности, поскольку кто-то из лидеров групп мог уклониться от «генеральной линии». Требовалось найти способ полного контроля над всеми, и начальниками, и подчиненными, который не нарушал бы, однако, принципа единоначалия. Решение заключалось в следующем: надо было запугать членов группы до такой степени, чтобы их страх за собственную жизнь уравновешивал стремление полностью подчиниться начальнику.
Этого можно было достигнуть с помощью контроля снизу, который, тем не менее, не должен был укреплять низы. Наоборот, их нужно было, насколько возможно, ослабить, для чего использовались чувства озлобления и тревоги.
Действия, вызванные этими чувствами, даже если они приводят к успеху, не прибавляют силы и защищенности. В некоторых группах злобы на начальника было достаточно, чтобы обеспечить нужный контроль снизу. В других группах интересы подчиненных настолько совпадали с интересами начальника, что для получения нужного эффекта требовалось добавить тревогу.
Семья не только наиболее важная, но во многих отношениях типичная маленькая группа, и на ее примере удобно рассмотреть, как же осуществлялся контроль снизу. Внутри семьи родители — это начальники, дети — подчиненные.
Исторически сложилось так, что родительская власть в немецкой семье была очень велика. И хотя члены семьи имели много общих интересов, ее жесткая иерархия допускала существование довольно сильных чувств страха и озлобления. Поэтому, если заменить у детей страх перед родителями страхом перед государством, или поддержать детей против родителей, или сделать и то, и другое, можно сравнительно легко вызвать и подогревать озлобление детей против родителей. Манипулируя этим чувством, государство устанавливало полный и разрушительный контроль над всей семьей.
Доносительство на родителей со стороны детей или супругов друг на друга не было распространено настолько, чтобы нанести большой ущерб всем супружеским парам или вообще разрушить семью как последнее убежище человека.
Однако немногие реальные случаи и их ужасные последствия были разрекламированы достаточно широко, чтобы посеять в семье недоверие друг к другу. Особенно разрушительно на психику родителей действовала мысль о тех последствиях, которые могут иметь их поступки или слова, совершенные или сказанные при детях.
Страх, разрушая чувство безопасности в собственном доме, лишал человека главного источника самоутверждения, который придавал смысл жизни и обеспечивал внутреннюю автономию. Более чем само предательство, этот страх заставлял быть постоянно начеку даже в своих четырех стенах. Безусловное доверие — главная ценность в отношениях между близкими людьми — перестало их поддерживать и превратилось в опасность. Семейная жизнь требовала непрерывной настороженности, напряжения, почти открытого недоверия. Она лишала людей силы, тогда как должна была бы служить им защитой.
Можно еще добавить, что хотя известно лишь немного случаев, когда дети доносили на своих родителей, довольно часто они грозили сделать это. Такой способ самоутверждения, однако, не делал их сильнее: стремясь заглушить чувство вины, ребенок оправдывал предательство необходимостью подчинения «высшему отцу», обожествляя фюрера (или государство). Так что, самоутверждаясь столь неприглядным способом, вынуждая себя рассматривать требования государства как высшие, абсолютные и непреложные, доносчик мало что выигрывал в автономии, терял же многое.
Похвала тайной полиции, публичное прославление на собрании гитлерюгенда или в газете могло вызвать временное чувство приподнятости. Но это чувство не компенсировало тот молчаливый остракизм, которому подвергались доносчики в своих семьях. Не говоря уже о потере отца, брошенного в тюрьму, и материальных трудностях, связанных с отсутствием кормильца. Таким образом, усилия детей достичь независимости приводили к еще большему их подчинению, но уже не родителям, а обожествленному государству.
Все, сказанное здесь о семье, относится, хотя и в меньшей степени, к другим объединениям людей. Например, по доносу уничтожается один начальник.
Его заменяют другим, обязанным этим повышением не уважению своих коллег или профессиональным успехам, а все тому же государству. Легко понять, что он вызывал ненависть у окружающих и обвинялся в смерти человека, которого он заменил. Такому начальнику трудно было рассчитывать на поддержку своих подчиненных, и ему оставалось лишь доказывать свою преданность государству, полностью подчиняясь его требованиям. Таково было запугивание снизу — «народный контроль» в гитлеровской Германии.
Групповые акции
Довольно быстро выяснилось, что запугивание непокорных начальников не решало всех задач. У рядовых членов групп создавалось впечатление, что, не совершая заметных поступков и не выражая личного мнения, можно чувствовать себя в безопасности. Гестапо пришлось пересмотреть свою практику и вместо простого ареста начальника посылать в концентрационный лагерь целую «выборку» из представителей неугодной группы.
Такое нововведение позволяло гестапо терроризировать всех членов группы, лишая их независимости и не трогая, если это было нежелательно, ее начальника.
Так было, например, с движением протеста против регламентации в области искусства. Это движение, выступившее в защиту так называемого декадентства, группировалось вокруг известного дирижера Фуртвенглера. Он скрыто вдохновлял его, не высказываясь, однако, публично. Фуртвенглера не тронули, но движение было уничтожено, а деятели искусства всерьез запуганы арестом ряда своих коллег. Даже если бы Фуртвенглер захотел сыграть более активную роль в этом движении, он оказался бы в положении полководца без войска, и движение неминуемо распалось бы. Важно отметить, что наказанию подверглись также и те деятели искусства, которые не имели никакого отношения к движению протеста.
В результате мало кто задавался вопросом «За что?», и были запуганы все деятели искусства, независимо от убеждений.
На первых порах лишь несколько профессиональных групп, например врачи и адвокаты, были «прорежены» подобным образом за неприятие нового, непривычного для них положения в обществе. Это неприятие было естественным, ибо на протяжении более ста лет они гордились своим образованием, превосходными знаниями, своим вкладом в жизнь общества и своим положением, которое отсюда вытекало. Они считали, что имеют право на уважение и определенные привилегии, которые выражались, прежде всего, в особом к ним отношении. Члены привилегированных групп признавали, что многие действия нацистского государства были необходимы ему, чтобы завоевать поддержку масс и держать их в узде, но считали, что все это не может и не должно касаться их самих. Они сами способны рассуждать и решать, что лучше для них и для всей нации. «Акции» против этих групп сразу поставили их на колени, показав, насколько теперь опасно даже для них иметь собственное мнение или ощущать себя личностью.
Групповые акции оказались настолько эффективными, что вскоре стали использоваться для полного уничтожения профессиональных групп, признанных ненужными или нежелательными. Вновь первыми в этом списке стали цыгане — люди, традиционно сопротивлявшиеся любым покушениям на свободу передвижения или поведения. Когда попытки принудить их к оседлости и подчинить контролю провалились, а арест нескольких сотен не привел в чувство остальных, все цыгане были отправлены в концентрационный лагерь. Так прозвучало новое предупреждение: если «прореживание» не дает нужного результата, вся группа целиком будет уничтожена.
Поэтому такое радикальное решение уже не требовалось для других нежелательных групп, таких как содержатели ночных клубов или профессиональные танцоры. Именно танцоры были первой группой, предупрежденной заранее через газеты и с помощью специально распространяемых слухов о необходимости сменить профессию на более полезную для государства.
После того, как некоторые из них были заключены в концентрационные лагеря, оставшиеся сразу показали, что прекрасно усвоили урок: они «добровольно» распустили свои организации и нашли себе другую работу. С тех пор одного намека на желательность найти более «полезное» занятие было достаточно, чтобы вызвать требуемую для государства переквалификацию.
Сложнее обстояло дело с группами, более значимыми для общества, чем содержатели публичных домов, сводники, графологи или ночные танцоры. Труд не был еще жестко регламентирован. Рабочий по-прежнему обладал некими юридическими правами: мог менять место работы, критиковать плохие условия труда и требовать повышения жалованья. Вскоре и эти возможности для самоутверждения были ограничены, и не столько из-за мелких неудобств, причиняемых ими промышленности или рынку рабочей силы, сколько из-за того, что они оставляли рабочему некоторую автономию. С другой стороны, беспрекословное подчинение государству поощрялось с помощью сложной системы различных подачек, среди которых можно отметить, к примеру, широко разрекламированные путевки на отдых, которые вручались организацией «Сила через радость».
Население Германии испытывало страх перед концентрационными лагерями с момента их появления. Однако до введения групповых акций «маленький человек» мог убеждать себя, что лагеря созданы не для таких незначительных людей, как он. Не «примеряли» их к себе и члены нацистской партии, считавшие, что их положение позволит им открыто выражать недовольство или совершать мелкие нарушения дисциплины.
Однако тоталитарное государство неизбежно со временем начинает осознавать важность запугивания своих же приверженцев. Первые сподвижники национал-социализма пытались «несвоевременно» проводить в жизнь принципы системы в соответствии со своими убеждениями или другими способами отклонялись от «генеральной линии». Такие люди были признаны столь же опасными для государства, сколь и его активные противники. Потому что вновь, как и в других случаях, опасность заключалась не в конкретном мнении, которого придерживался какой-то человек, а в том, что он вообще имел личное мнение. Групповые акции показали членам партии, что и их жизнь висит на волоске. Еще раньше они поняли, как опасно отклоняться от норм, установленных гестапо. Теперь же им нужно было осознать, что не менее опасно вообще иметь личные убеждения.34
Террор «наугад»
Групповые акции использовались не только для того, чтобы приструнить членов организованных групп. Они служили также средством подавления любого неорганизованного стремления к независимости и самоутверждению. Взять, к примеру, слушание зарубежных радиостанций. Вначале просто поощрялось доносительство на людей, слушающих по вечерам радио, хотя слушание зарубежных станций было запрещено законом и каралось тюремным заключением только во время войны. Поскольку в данном случае нельзя было рассчитывать на поголовное уничтожение всех нарушителей, и тактика случайной выборки также не имела смысла, собирались доносы на несколько сотен «нарушителей» и их всех одновременно отправляли в концентрационные лагеря. И вновь не имело значения, что некоторые пострадавшие никогда не слушали зарубежных радиостанций. Эффект запугивания остального населения был от этого ничуть не меньше.
Акция против «слушателей», проведенная задолго до принятия закона, была широко разрекламирована, и эта реклама увеличивала страх «домашних» доносов.
Казалось, что они случались очень часто и имели ужасные последствия.
Я хочу подчеркнуть, что «акции» карали тех, кто не нарушал никаких законов. Ведь государственному аппарату не составляло труда издать любой запретительный закон. Но смысл «акций» не в том, чтобы наказать нарушителей.
Они должны были принудить всех граждан добровольно вести себя так, как того требовало государство. Без сомнения, главной причиной конформизма становилось не стремление следовать букве закона, а страх. Страх, сидевший в самом человеке и принуждавший его к конформизму. Каким бы несущественным ни казалось это различие, оно очень значимо психологически.
Дело здесь вовсе не в том, есть или нет у «человека с улицы» юридические основания для выбора. Юридические тонкости обычно не имеют никакого, или почти никакого, психологического эффекта. Решающее различие заключается в том, что когда закон опубликован, каждому ясно, на что он может рассчитывать. В случае же групповых акций человек никогда не знает, что будет караться завтра. Тех, кто постоянно опасался попасть, впросак, групповые акции вынуждали предугадывать желания государства задолго до того, как они высказывались. Страх рождал в воображении человека все новые «акции», захватывающие все более обширные области поведения, причем такие, какие даже тоталитарное государство на самом деле не могло бы себе позволить без ущерба для себя. Так что, в результате подданные должны были вести себя значительно «правильней», чем того требовали реально проводимые акции.
Чтобы предугадывать будущие события, человек должен знать тайные мысли, мотивы, желания других людей (или групп). «Человек с улицы» мог получить такое «интуитивное» знание лишь одним способом — путем полного слияния с государством, с его настоящими и будущими целями. Именно непредсказуемость акций, определявших высшую меру за поступки, которые человек, «не имевший доступа», считал допустимыми и даже безопасными, вынуждали его становиться человеком, «имеющим доступ». Спасая свою жизнь, и, следовательно, по своей собственной воле он должен был до такой степени стать частью тоталитарного государства, чтобы предугадывать и быть готовым к тому, что оно, возможно, потребует от него завтра.
Результаты были впечатляющими. Примерно к концу 1939 года число серьезных диссидентов так упало, что просто слушание зарубежного радио стало столь же тяжелым политическим преступлением, каким несколькими годами ранее было печатание и распространение подстрекательских листовок.
В 1938 году, например, была проведена весьма нашумевшая кампания против так называемых «ворчунов», позволявших себе в кругу своих знакомых критиковать своих начальников или правительство. Кампании против «ворчунов» и слушающих зарубежное радио практически положили начало государственному контролю над поведением человека, нарушили неприкосновенность его дома.
Следует, правда, отметить, что еще раньше состоялась акция против нарушителей «расовой чистоты». Она имела целью контроль над наиболее интимными, сексуальными отношениями. Но эта акция была направлена только против немцев, имеющих связи с евреями (неграми и т. д.). Поэтому она коснулась лишь очень небольшой группы граждан. Кампания против гомосексуалистов еще глубже затрагивала личную жизнь человека, однако, из-за резко отрицательного отношения к ним большинства населения, она также задела лишь небольшое число «заинтересованных» лиц.
Преследование «ворчунов» резко изменило всю ситуацию. Теперь ни один немец не мог больше чувствовать себя в безопасности в своем доме — акции разрушили неприкосновенность жилища в Германии. К тому времени значительно окреп гитлеровский союз молодежи. Подростки стали достаточно «подкованными», чтобы, отбросив страх или уважение к родителям, шпионить за ними и их друзьями. Дети сообщали в полицию о наиболее интимных разговорах и поступках родителей или угрожали это сделать.
Вскоре на первый план вышла война, и под угрозой истребления оказалась новая группа — люди, которые якобы «подрывали» военные усилия страны. Это мероприятие также было названо групповой акцией и коснулось, главным образом, пацифистов, среди которых большинство составляли члены секты Свидетелей Иеговы.
Каждый в Германии знал из газетных сообщений о существовании концентрационных лагерей и их карательном характере, однако подробная информация отсутствовала. Это только усиливало ужас, поскольку психологически легче перенести мысль о самой страшной пытке, если точно знать, в чем она состоит. (Иногда удается эту мысль прогнать, придать ей не столь угрожающий характер.) Неизвестность действует на нас более устрашающе: ее не обманешь, она непрерывно преследует нас. Если мы не можем справиться со своим страхом, он заполняет нашу духовную жизнь, наше сознание или подсознание, превращая жизнь в пытку. Эти рассуждения могут объяснить, почему концентрационные лагеря наводили такой ужас не только на противников режима, но и на тех, кто никогда не нарушал ни малейшего приказа.
Однако многие были парализованы страхом не только из-за угрозы угодить в концентрационный лагерь, но также из-за своей неспособности принимать жизненно важные решения и действовать в соответствии с ними. А ведь речь шла не о самоуважении, а о самой жизни. Чем больше страх, тем сильнее необходимость действовать. Однако страх истощает. Как я уже говорил в начале этой главы, совершить поступок при первом приступе страха сравнительно легко, ибо он является мощным раздражителем и стимулом к действию.
Кроме страха за жизнь угроза лагеря порождала еще одно чувство, которое может быть названо страхом за свою душу. Перед человеком неизбежно вставал вопрос: если сопротивление государству лишает меня положения в обществе и семье, лишает меня дома и имущества, смогу ли я жить без всего этого? Только тот, кто точно знал, что главное останется с ним несмотря ни на какие испытания, мог позволить себе бросить вызов этому страху. Такие люди выбирали или борьбу, или бегство из Германии. (…) Вызов в гестапо многие воспринимали как избавление. У одних при этом приступ страха побеждал, наконец, нерешительность и вызывал активные действия. У других возникало желание поскорее отдаться в руки гестапо. Это означало для них конец душевной агонии. Не нужно больше задавать себе мучительный вопрос: «Что придает мне силы? Мои внутренние убеждения или мое положение по службе, мое имущество, которое я смог скопить?» Постоянное повторение таких вопросов само по себе оказывало разрушающее воздействие на психику. А ведь еще оставались мучительные сомнения — как поведут себя жена и дети, если ты лишишься социального положения и благополучия. Можно понять, почему человек так цеплялся за эти внешние символы, когда стремительно падал запас его внутренних сил.
Многие немцы, зная или предполагая, что гестапо рано или поздно ими займется, обдумывали планы побега. Тем не менее они оставались дома и ждали повестки, и когда, наконец, она приходила, у них уже не было внутренней решимости совершить побег. Были и другие причины парализующего действия гестапо на немецкое население. Их мы и обсудим далее.
Боже, лиши меня речи!
Почти все граждане Германии, как и узники концентрационных лагерей, должны были выработать защитные механизмы против висящей над ними угрозы со стороны гестапо. В отличие от заключенных, они не создавали организаций, чувствуя, что это только приблизит арест. В этом смысле заключенные имели «преимущество» перед «свободными» гражданами.
Понимая это, заключенные говорили, что лагерь — единственное место в Германии, где можно обсуждать политические проблемы, не боясь немедленного доноса и тюрьмы. Поскольку создание организаций было крайне рискованным предприятием, немецкие граждане полагались, в основном, на психологическую самозащиту, сродни той, которая вырабатывалась у узников лагерей, хотя, возможно, не столь глубокую и изощренную.
В частности, у граждан Германии в первые годы было не так уж много способов справиться с проблемой лагерей. Пытаться отрицать их существование было бессмысленно, так как само гестапо их рекламировало. Убедить себя в том, что они не так уж и страшны? Многие немцы старались в это поверить, но без особого успеха, поскольку газеты постоянно предупреждали: либо они будут вести себя «как следует», либо кончат жизнь в концентрационном лагере. Проще всего было решить, что туда попадают лишь отбросы общества, и вполне заслуженно. Но немногие могли заставить себя поверить в такую версию.
Тот, кто негодовал по поводу террора со стороны государства, должен был отдавать себе отчет, что правительство его страны порочно, и это еще больше подрывало его самоуважение. Каждый человек, для которого имели смысл понятия совести и достоинства, осознав истинный характер концентрационных лагерей, должен был решить: либо бороться с режимом, породившим их, либо, по крайней мере, занять твердую внутреннюю позицию против него.
В отсутствие эффективно организованного сопротивления (которое появилось, лишь когда военное поражение Германии стало очевидным), открытая борьба была бессмысленным самоубийством. Но находились люди, в частности, небольшая группа студентов университета, которые предпочли неимоверный риск борьбы компромиссу со своей совестью. Кроме открытой борьбы существовали и другие пути сопротивления, например, помощь или укрывание антифашистов или евреев.
Выбор молчаливой внутренней оппозиции все равно требовал от человека отказаться от карьеры, рискнуть своим экономическим благополучием или эмоциональным комфортом налаженной жизни. И вновь такой риск могли позволить себе лишь те немногие, кто обладал внутренними ценностями, кто знал, как мало значат в действительности благосостояние и положение в обществе, кто не сомневался в привязанности близких. Пока большинство из нас не достигло такой духовной цельности, необходимой для жизни в массовом государстве, сделать подобный выбор способны лишь единицы.
Мы видим, таким образом, что жизнь в условиях тоталитарного гнета разрушает цельность и достоинство личности, и, в конце концов, приводит к ее разложению. Глубокий раскол личности неизбежно уничтожает ее автономию.
Под гнетом террора каждый немец, не обладавший твердой внутренней позицией, хотел лишиться не только дара речи, но и возможности делать что-либо, способное вызвать недовольство властей. Опять хочу вспомнить поговорку: хорошего ребенка можно увидеть, но нельзя услышать. Как и заключенные в лагерях, немецкие граждане должны были стать невидимыми и неслышимыми.
Но одно дело вести себя подобно ребенку, если ты действительно ребенок: зависимый, не умеющий предвидеть и понимать события, окруженный заботой взрослых, которые старше и умнее тебя, которые заставляют вести себя как следует, хотя иногда тебе удается безнаказанно восстать против них. Здесь важно ощущение уверенности в том, что со временем, когда ты тоже станешь взрослым, справедливость будет восстановлена. Совершенно другое дело, будучи взрослым, заставлять себя усваивать поведение ребенка, и жить так всю жизнь.
Такая необходимость имеет для взрослого глубокие психологические последствия.
Таким образом, жизнь в условиях террора делала человека беспомощным и зависимым, и, в конечном счете, приводила к расколу личности. Тревога, стремление защитить свою жизнь вынуждали его отказываться от необходимой для человека способности правильно реагировать на события и принимать решения, хотя именно эта способность давала ему наилучшие шансы на спасение. Лишаясь ее, взрослый человек неизбежно превращается в ребенка. Сознание, что для выживания нужно принимать решения и действовать, и в то же время попытка спастись, пряча голову в песок — такая противоречивая комбинация истощала человека настолько, что он окончательно лишался всякого самоуважения и чувства независимости.
Вновь амнезия
После победы над Германией общественное мнение в Америке было изумлено и возмущено тем отношением к лагерям, которое преобладало среди немецкого населения. Оказалось, немцы отрицали какое бы то ни было знание о существовании и характере концентрационных лагерей. Офицеры союзных армий были потрясены увиденным и испытывали ненависть к немцам, заявлявшим, что они ничего не знали. Такое отношение немцев послужило основанием для военных властей союзников начать после войны кампанию по широкому распространению информации о лагерях. Немецких граждан насильно заставляли посещать и осматривать их. Однако эта кампания явно не была результатом глубокого психологического анализа.
Обвиняя немцев, чаще всего предполагали, что они должны были знать о существовании и ужасах концентрационных лагерей. Но на самом деле следовало, видимо, задаться совсем другим вопросом: могли ли они предотвратить эти ужасы, и если могли, то почему они этого не сделали? Разумеется, немцы знали о лагерях. Гестапо специально об этом заботилось.
Постоянная угроза очутиться в одном из них принуждала к покорности. Те немногие, кто рискнул бороться в одиночку, погибли. Другие, пытавшиеся организовать движение сопротивления, оказались среди моих товарищей по заключению. Конечно, можно обвинять обычного немца в том, что он не был одним из этих героев. Но часто ли в истории можно встретить народ, чей средний представитель был бы героем? Да, действительно, очень немногие немцы отважились на открытую борьбу против гестапо. Но я хорошо помню, как ликовали узники Бухенвальда, когда узнали, что гестаповцы из частей «Мертвая голова» одалживали форменную одежду в других частях, отправляясь в соседний Веймар, так как городские девушки отказывались с ними знакомиться. Девушки дали им прозвище «кровавые мальчики» за их обращение с заключенными. Гестапо пробовало угрожать жителям Веймара, но безуспешно. Конечно, поведение жителей нельзя считать героической борьбой. Но это было недвусмысленным выражением отвращения к гестапо в городе, где нацистская партия победила на выборах еще до захвата власти фашистами.
Мы не можем обвинять парализованных страхом немцев в том, что они не противостояли гестапо, так же, как мы не ставим в вину безоружным свидетелям ограбления банка, что они не защитили кассира. Но и это сравнение недостаточно справедливо. Свидетель ограбления все же знает, что полиция — на его стороне, причем она вооружена лучше грабителей. Житель же Германии, наоборот, знал, что если он попробует помешать гестапо, его не спасет никакая сила.
Что реально мог сделать обычный немец в стране, уже охваченной террором? Покинуть Германию? Многие пытались, но лишь немногие смогли. Большинство было либо слишком напугано, чтобы решиться на бегство, либо не имело возможности это сделать. Да и какая страна открыла свои границы и сказала: «Придите ко мне все, кто страждет»? Что было делать тем, кто был вынужден остаться? Лишь день и ночь думать об ужасах гестапо, пребывая в состоянии постоянной тревоги? Можно сказать себе: «Моя страна — преисподняя», но к чему такие мысли приводят человека, я уже пытался объяснить ранее.
Конечно, немцы были до глубины души потрясены, увидев горы мертвых тел в лагерях. Их реакция, во всяком случае, доказала, что двенадцати лет фашистской тирании все же недостаточно, чтобы уничтожить все человеческие чувства. Но кампания, организованная союзниками, не достигла своей цели.
По-видимому, главный ее результат в том, что немцы воочию убедились, насколько в действительности они были правы, не решаясь выступить против гестапо. До того они еще могли думать, что гестапо преувеличивало свои возможности; теперь же полностью оправдывалось стремление подавить и прогнать от себя даже мысль о лагерях.
Попытки обвинить всех немцев в преступлениях гестапо имеют и другие, более серьезные аспекты. Один из наиболее эффективных методов авторитарного режима — возлагать ответственность на группу, а не на отдельного человека, вначале, чтобы принудить его к подчинению, а затем уничтожить как личность.
Противники демократии сознательно избегают упоминания об индивидууме, предпочитая говорить обо всем в терминах группы. Они обвиняют евреев, католиков, капиталистов, так как обвинить отдельного человека противоречило бы их главному тезису — неприятию автономии индивидуума.
Одно из главных условий независимого существования личности — ответственность за свои поступки. Если мы выбираем группу немецких граждан, показываем им концентрационный лагерь и говорим: «Вы виноваты», тем самым мы утверждаем фашистскую идеологию. Тот, кто принимает доктрину вины целого народа, выступает против истинной демократии, основанной на индивидуальной автономии и ответственности.
С точки зрения психоанализа очевидно — именно потому, что немцы слишком старались загнать лагеря в подсознание, большинство из них было просто не в состоянии смотреть правде в глаза. Как солдат перед сражением старается верить, что с ним ничего не случится (без этого убеждения, чувствуя, как велика опасность, он не смог бы пойти в бой), так и житель Германии, страшившийся концентрационных лагерей, более всего хотел верить в то, что они не существуют.
Из всего сказанного следует вывод: интенсивность отрицания действительности (несмотря на легко доступную и даже насильственно внушаемую информацию) прямо пропорциональна силе и глубине тревоги, вызывающей это отрицание. Не следует считать всех немцев, отрицавших существование лагерей, просто лгунами. Это было бы верно лишь с точки зрения формальной морали. На более глубоком уровне рассуждения мы должны заключить, что принципы морали к ним не приложимы, ибо их личности были настолько разрушены, что они перестали адекватно воспринимать действительность, и были не в состоянии отличить реальный факт от убеждения, порожденного страхом. Разрушение личности зашло так далеко, что люди потеряли автономию — единственное средство для адекватной и самостоятельной оценки событий.
По-видимому, и в реакции американцев существовало два уровня. Их раздражение, чтобы не сказать возмущение, немцами основывалось на молчаливом предположении, что они лгали специально для нас, пытаясь доказать свое алиби; лгали, чтобы избежать наказания. Другими словами, ложь как бы рождалась в момент ее произнесения. Конечно, как победители, мы имели для них большое значение, но, быть может, мы переоценивали его? Я думаю, здесь, как в ситуации с маленьким ребенком, который говорит, что «не разбивал эту чашку», он лжет не потому, что просто хочет нас обмануть.
Так же, если не сильнее, он хочет обмануть самого себя. Ребенок боится наказания, зная, что правда рано или поздно обнаружится, и стремится не столько обмануть нас, сколько убедить себя, что не совершал «преступления».
Только поверив в свою невиновность, он сможет чувствовать себя в безопасности, ибо знает (после определенного возраста), что если обман раскроется, наказание будет еще более суровым.
Это, кстати, одна из причин, почему слишком строгие наказания часто бывают вредны для формирования личности: ребенок, охваченный страхом перед наказанием, уже не в состоянии оценить свой поступок. Если страх слишком велик, он заставит себя поверить в то, что поступил хорошо, когда поступил плохо, или, наоборот, — почувствовать за собой вину, даже если он не сделал ничего предосудительного. Такая внутренняя неуверенность оказывает значительно более разрушительное воздействие на формирование личности, чем наказание.
Возможно мы — американцы — переоценивали свой вес в глазах немцев. Но наша ошибка заключалась не только в этом. Значительно важнее другое: мы сами боялись осознать — здесь я вновь возвращаюсь к основной мысли этой книги, — что репрессивный режим способен разрушить личность взрослого человека до такой степени, когда он сможет не знать того, что ему страшно не хочется знать.
«Хайль Гитлер!»
Все сказанное о внутренней реакции немцев на существование концлагерей имеет отношение и к их общему восприятию тоталитарного режима. В гитлеровском государстве страх за собственную жизнь был не единственной причиной, делавшей для человека невозможным внутреннее сопротивление системе. Каждый нонконформист неизбежно сталкивался со многими другими проблемами. Вот одна из них: ты можешь поступать либо как диссидент и, следовательно, навлечь на себя репрессии, либо, стремясь их избежать, публично высказать преданность тому, во что на самом деле не только не веришь, но презираешь и ненавидишь.
Подданный тоталитарного государства, несогласный с режимом, был вынужден встать на путь самообмана, подыскивая себе лазейки и оправдания. Но тем самым он как раз терял уважение к себе, которое так старался сохранить. Как это происходило, видно на примере приветствия «Хайль Гитлер!». Оно преследовало человека повсюду — в пивной, в электричке, на работе, на улице, и позволяло легко выявить тех, кто придерживался старых «демократических» форм приветствия.
Для сторонников Гитлера это приветствие было символом власти и самоутверждения. Произнося его, лояльный подданный ощущал прилив гордости.
Для противника режима «Хайль Гитлер!» выполняло прямо противоположную роль: каждый раз, когда ему приходилось публично здороваться так с кем-нибудь, он тут же осознавал, что предает самые глубокие свои убеждения. Пытаясь сохранить самоуважение, человек должен был убеждать себя, что «Хайль Гитлер!» для него ничего не значит, что он не может изменить свое поведение и должен отдавать гитлеровское приветствие. Самоуважение человека основывается на возможности действовать в соответствии со своими убеждениями, и единственный простой способ сохранить его — изменить убеждения. Задача облегчается тем, что большинство из нас испытывает огромное желание быть «как все». Каждый знает, как нелегко вести себя «странно» даже по отношению к случайному знакомому, встреченному на улице; но в тысячу раз тяжелее быть «особенным», когда это угрожает твоей собственной жизни. Таким образом, много раз в день антинацист должен был стать мучеником или потерять самоуважение.
Все сказанное по поводу гитлеровского приветствия относится также и к другим проявлениям нацистского режима. Всеохватывающая мощь тоталитарной системы состоит именно в этом: она не только вторгается в наиболее интимные стороны каждодневной жизни человека, но, самое главное, разрушает целостность его личности, если он пробует сопротивляться. Большинство людей, подчиняясь требованиям системы, принуждающей их к конформизму, начинает ее ненавидеть, а в конечном итоге испытывает еще большую ненависть к самому себе. И если система может противостоять этой ненависти, то человек — нет, поскольку ненависть к себе разрушает личность.
Притягательная сила тирании
Человек не может измениться за один день.
Привычки, заложенные в нас с раннего детства, продолжают служить для нас мотивациями, даже если они более не соответствуют тем изменениям, которые произошли в окружающей нас действительности. Нелегко перестать искать защиту там, где десятилетиями мы ее находили. Поэтому немцы продолжали искать ее у себя дома и в семейных отношениях, хотя уже знали, что ее там больше нет.
Тем не менее, в конце концов, человек был вынужден осознать, что все его попытки сохранить автономию в ситуациях, когда это в принципе невозможно, все такие попытки — тщетны. Теперь мы подошли к пониманию еще одного феномена — психологической притягательности тирании.
Ясно, что чем менее мы парализованы страхом, тем больше уверены в самих себе, тем легче нам противостоять враждебному миру. И наоборот, чем меньше у нас сил, и если они к тому же не подкрепляются более уважением нашей семьи, защитой и спокойствием, которые мы черпаем в собственном доме, тем менее мы способны встретить лицом к лицу опасности окружающего мира. Но если человек не может рассчитывать на защищенность в своей семье, в отношениях с близкими, он должен быть уверен, что окружающий его мир преисполнен дружбы и поддержки.
Тирания государства подталкивает своих подданных к мысли: стань таким, каким хочет видеть тебя государство, и ты избавишься от всех трудностей, восстановишь ощущение безопасности во внешней и внутренней жизни. Ты обретешь спокойствие и поддержку в своем доме и получишь возможность восполнять запасы эмоциональной энергии.
Можно суммировать следующим образом: чем сильнее тирания, тем более деградирует ее подданный, тем притягательней для него возможность «обрести» силу через слияние с тиранией и через ее мощь восстановить свою внутреннюю целостность. Но это возможно лишь ценой полной идентификации с тиранией, т. е. отказа от собственной автономии.
Для некоторых людей выбор пути был настолько тяжел, что они кончали жизнь самоубийством. Причем, у них даже не было необходимости самим себя убивать — достаточно было неосторожно брошенной фразы, остальное происходило автоматически. Многие так и поступали. Другие покорно ждали прихода СС, не пытаясь скрыться, поскольку подсознательно желали покончить со всем этим, даже попав в концлагерь.
Выжить в концлагере было значительно труднее, но внутренний разлад личности был там уже не столь велик. Не требовалось, скажем, ни гитлеровского приветствия, ни любого другого проявления любви к фюреру.
Можно было разрядить свою ненависть к режиму в любых словах без боязни, что на тебя донесут. Но главное, что ты попадал в руки врага вопреки своему желанию и был бессилен что-либо сделать. Человек оказывался в роли ребенка, неспособного сопротивляться воле родителей, тогда как до заключения он вынужден был добровольно низводить себя до состояния детской зависимости и послушания. Конечно, и заключенного насильственно приводили в то же состояние, но уже по воле СС. Если же и в концлагере человек сам, добровольно старался превратиться в ребенка, то различие улетучивалось — он становился «стариком», слившимся с лагерной жизнью.
До заключения раскол был в душе: одна ее часть требовала сопротивления, другая — покорности, в лагере же лишь внешний мир требовал подчинения.
Внутренний конфликт превращался в конфликт с внешним миром, и в этом — и только в этом — смысле заключение приносило временное облегчение. Временное — поскольку очень скоро проблема выживания в лагере ввергала человека в новые неразрешимые конфликты.
Нон-конформист
Конечно, нацистское приветствие — нечто внешнее. Также как портрет Гитлера или Сталина на стене. Но тогда они давили на сознание, напоминая о системе, не давая человеку жить согласно своим убеждениям и желаниям. Необходимость «соблюдать правила игры» приводила человека к внутреннему конфликту. Он становился похожим на ребенка, волю которого сковывает внешний авторитет, даже отсутствующего родителя, вызывая при этом внутренне смятение.
Тоталитарная власть обладает такой же силой создавать внутренние конфликты в умах и душах своих подданных. Но сильная власть притягивает. А если она еще и успешная, то ее нормы лучше усваиваются.
Можно возразить, что родительский авторитаризм действует, когда ребенок биологически беспомощен. Но с возрастом, с личностным развитием, он уже не зависит так сильно от внешней власти. Нет нужды усваивать все новые навязываемые нормы.
Но при рассмотрении сути тоталитарного государства, этот аргумент не проходит, ведь задача такого государства состоит в том, чтобы разрушить индивидуальную автономию. Навязывая свою «заботу» во всех сферах жизни, оно подавляет всякое сопротивление.
Даже если у рабочего остается автономность в том, как выполнить свою работу, эта свобода мысли уничтожается в рабочих лагерях, после чего, усвоив нормы и ценности государства, он возвращается на свое гражданское рабочее место.
Не надо отчаиваться
Таким образом, большинство, если не все немцы, которые не были убежденными фашистами, теряли уважение к себе по следующим причинам: они делали вид, что не знают, что творится вокруг; они жили в постоянном страхе; они не боролись, хотя чувствовали себя обязанными сопротивляться. Потеря самоуважения могла компенсироваться двумя путями: самоутверждением в семейной жизни или признанием в работе.
Оба источника были перекрыты для тех, кто отрицал нацизм. Их домашняя жизнь была отравлена вмешательством государства. Их детей принуждали шпионить за ними, разрушая даже стабильные и счастливые семьи. Социальный статус и профессиональный успех полностью контролировались партией и государством. Даже продвижение в тех сферах, которые во многих странах рассматриваются как частное предпринимательство и свободные профессии, жестко регламентировалось государством.
Для них оставался лишь один способ укрепить пошатнувшееся самоуважение и сохранить хотя бы видимость цельной личности быть немцем, гражданином великой страны, которая день ото дня наращивала свои политические и военные успехи. Чем меньше было ощущение собственной значимости, тем более настойчивой становилась потребность в источнике внешней силы, на которую можно опереться. И большинство немцев, внутри и вне концентрационных лагерей, припадали к этому «отравленному источнику» удовлетворения и самоуважения.
Лишь немногие немецкие граждане могли выдержать давление тирании и выжить в условиях моральной изоляции и одиночества. Для этого необходимо было быть очень крепко выстроенной личностью и сохранить ее с помощью близких людей, или иметь такие достижения, которыми можно гордиться и которые дают удовлетворение, даже когда никто другой не знает о них.
У большинства немцев, которые не были убежденными нацистами, само существование лагерей вызывало, хотя и опосредованно, серьезные изменения личности. Эти изменения не были столь радикальными, как у заключенных в лагере, но вполне устраивали государство. Новый тип личности характеризовался чрезвычайно низким уровнем собственного достоинства.
Собственно, для большинства людей, когда они вынуждены выбирать между понижением человеческого уровня и невыносимым внутренним напряжением, неизбежным будет выбор в пользу первого для сохранения внутреннего покоя. Но великая правда состоит в том, что в условиях тирании это не покой человеческого существования, а покой смерти.
Отсюда вывод: не надо отчаиваться. По моему глубокому убеждению, в переживаемый нами период технологической, индустриальной и социальной революции, как и в эпохи других великих революций человечества, после некоторой задержки человек вновь найдет в себе необходимые внутренние ориентиры и достигнет еще большей целостности, чтобы справиться с новыми условиями существования. Очень часто мы не приемлем новые социальные и технологические преобразования, ибо боимся, что они поработят человека.
Подобный страх испытали, в частности, Маркс и его современники в период начала индустриальной революции, когда казалось, что рабочих ждет постоянная эксплуатация и обнищание. Однако вместо этого мы видим, как растущая механизация производства все более освобождает их от тяжелого труда и как растет жизненный уровень в развитых обществах.
Революционные изменения действительно приводят к социальному кризису, который продолжается до тех пор, пока человек не достигнет более высокой ступени интеграции, позволяющей не только адаптироваться к новой ситуации, но и овладеть ею.
Если кому-то этот взгляд покажется слишком оптимистичным, он может обратиться к гитлеровскому государству, многие жертвы которого сами рыли себе могилы и ложились в них, или добровольно шли в газовые камеры. Все они были в авангарде шествия к спокойствию смерти, о чем я уже говорил. Люди — не муравьи. Они предпочитают смерть муравьиному существованию. И в этом состоит смысл жертв СС, решивших покончить с жизнью, переставшей быть человеческой. И для человечества это — главное.
Во времена великих кризисов, внутренних и внешних революций в любых сферах жизни может случиться, что человек будет иметь лишь такой выбор; либо покончить с жизнью, либо достичь высшей самоорганизации. Мы, разумеется, ее еще не достигли, но это не означает, что у нас осталась только первая возможность. Если я правильно читаю знаки нашего времени, мы делаем лишь первые шаги к овладению новыми условиями существования. Но не стоит и обманывать себя: борьба будет долгой и тяжелой, и потребует от нас всех интеллектуальных и моральных сил. Если, конечно, мы хотим очутиться в мире разума и человечности, а не в «1984».
От издательства
Об авторе
Бруно Беттельхейм (1903–1990 г.) — всемирно известный психоаналитик, основатель и директор (до 1973 года) Ортогенической школы при Чикагском университете. Родился в 1903 году в Вене. Защитил докторскую диссертацию в Венском университете. Был заключенным в концлагерях Дахау и Бухенвальд (о чем написал книгу «Просвещенное сердце»). После освобождения уехал в США, где сперва был профессором образования, а затем профессором психологии и психиатрии в Чикагском университете. Написал такие книги, как «Ребенок мечты», «Дом сердца», «Учась читать», «Детское очарование мыслью и жизнью», «Использование обаяния» и «Душа Фрейда и человека».
Бруно Беттельхейм умер в 1990 году. «Гардиан» написал о нем, что «пройдя концлагерь, он был уникальным целителем души и мудрым наставником, учащим людей не забывать о том, что нельзя добровольно и покорно расставаться с мудростью и широтой души, чтобы не возродились опять в человечестве «дикие пережитки».
1. Такая психологическая атмосфера и реакция на нее в виде тотальной безнадежности пронизывает произведения Кафки.
2. Американский журнал ортопсихиатрии, 26, 1956, с. 507–518.
3. Осознание этого факта привело психоанализ к созданию метода «средотерапии».
4. Об этом написано в моей книге «Символические раны», Иллинойс, Фри пресс, 1954, с 69 и далее.
5. Я далек от утверждения, что отчужденность или эмоциональная отстраненность желательные характеристики или что ригидность ведет к лучшему. Я только хочу сказать, что психоаналитическая теория личности недостаточна в определении того, что «желательно» для хорошо интегрированной личности в силу того психоанализ преувеличивает значение внутренней жизни и недооценивает всего человека как он действует в человеческой и социальной среде.
6. См. книгу Р. и Е. Стерба «Жизнь племянника Бетховена», Нью-Йорк, Пантеон Букс, 1954.
7. См. «Символические раны».
8. За время жизни с аутичными детьми я понял, среда и психоанализ не достаточны для лечения, и что детям не хватает родительского тепла.
9. Об этом я писал в своих книгах «Недостаточно только любить» и «Прогульщики жизни». Сам я порвал с психоаналитическими моделями во время написания работы «Символические раны», где я попытался показать, что многие факты не укладываются в психоаналитическую теорию.
10. Некоторые биографы Фрейда отмечают его нежелание покинуть Вену, несмотря на глубокое чувство дискомфорта. Я писал на это опровержения, а здесь добавлю, что Фрейд оставался закрытым для понимания того, как переезд и в целом изменение среды может повлиять на человека.
11. Например, психоаналитики мало пишут о влиянии на пациента войны, иммиграции и т. п.
12. Работа школы проходила благодаря щедрой и понимающей поддержке коллектива Чикагского университета.
13. Этим примером я обязан статье Даниэля Бурстина «Прошлое и настоящее Америки» в журнале «Комментарий» от 25 января 1958 г., где он пишет, что Вильямсбург стал популярным после появления в нем мотеля с бассейном.
14. Неверно рациональное мнение, что атомная бомба действительно разрушает, в то время как злой дух — всего лишь относительно вредоносная фантазия. Те, кто за колдовство сжигались на костре или в страхе перед вторым пришествием накануне 1000 года кончали жизнь самоубийством умирали, на самом деле. В религиозную эпоху страхи и чаяния людей были связаны с религиозным знанием: пришествием Христа, в век науки они связаны с научным знанием: атомной энергией.
15. Бернабо Э.П. «Научная фантастика» // Психоаналитический ежеквартальник, 26, 1957, c.527 и далее.
16. В эту главу вошли отрывки из статьи «Индивидуальное саморегулирование и контроль над массами», изданной в Frankfurter Beitrage zur Soziologie. Vol.1: Sociologica, 1955, Frankfurt am Main.
17. Многое из сказанного здесь гораздо полнее изложено, хотя и с другими акцентами и выводами в книге Дэвида Райсмана «Одинокая толпа», Нью-Хэвен, 1950.
18. О том, что тоталитарное государство решает все в судьбе маленького человека есть книга и поставленный по ней фильм — «Маленький человек, что теперь?» (автор Ганс Фаллада, Гамбург, 1932, 1950)
19. Это наиболее удручает в деревнях и городках, где все всё друг о друге знают. Хорошо, когда у соседей есть симпатия и взаимопомощь. Можно жить в близких отношениях, как в большой семье. Плохо, когда этого нет, а царит двусмысленность и мелочность.
20. Сама жизнь на природе может вызвать позитив и негатив. Одно дело наслаждаться крестьянским трудом по желанию, а другое — заниматься им по необходимости. Одно дело не иметь дела с соседями по площадке в городском доме, и другое — ежедневные стычки с соседом по даче из-за лужайки или чего-нибудь еще.
21. Методы безличностной системы в образовании не применимы. Если менять учителей как винтики каждые полгода, то ни к чему хорошему это не приведет. Только постоянный личный контакт может повлиять на хорошее усвоение учебного материала.
22. Конечно, идентификация может проходить и на фоне страха, но ее последствия будут губительны и не полезны ни индивиду, ни обществу.
23. Исключением в нем может быть реформатор или святой, призванный спасти его.
24. «Индивидуальное и массовое поведение в экстремальной ситуации» / Журнал аномальной и социальной психологии, 38, 1943, с. 417–452.
25. Первые рапорты о жизни в концлагерях были: «Записки о содержании заключенных в нацистских лагерях в Германии, Лондон, 1939; материалы Нюрнбергского процесса — «Нацистский заговор и агрессия», Вашингтон, 1946.
26. В 1942 году, спустя 3 года после моего освобождения, установилась политика массового уничтожения и все лагеря были поделены на три группы. Первая группа — рабочие лагеря, в которых рабочие работали до изнемождения, но имели некоторую свободу в устроении своей жизни. Вторая группа — похожа на лагеря в которых я содержался — Дахау и Бухенвальд. Третья группа — лагеря смерти, где речь шла только об эффективном уничтожении заключенных.
27. К концу войны, когда увеличилась дезорганизация, многим привилегированным заключенным удавалось прятать свои дневники. После освобождения союзниками их удалось вынести. Мне попались два таких дневника: Одд Нансен, «Изо дня вдень», Нью-Йорк, 1949 и Эдгар Капфер, «Последние дни Дахау» (микрофильм рукописи в Чикагском университете).
28. Одним из них был Альфред Фишер. Другой — Эрнст Федерн, эмигрировавший в США и издавший статью «Террор как система: концентрационный лагерь» / Дополнения к Психиатрическому ежеквартальнику, 22, 1948, с. 52–86.
29. Во время моего заключения были следующие категории заключенных: политические — социал-демократы, коммунисты, монархисты (аристократы); асоциальные — «отказники» от работы; еврейские политические; бывшие бойцы французского Иностранного легиона, Свидетели Иеговы и другие «узники совести»; профессиональные уголовники, еврейские саботажники; последователи Рэма; извращенцы и осквернители расы; а также заключенные ради конфискации имущества или ради мести.
30. К тому времени я уже освободился. Рассказ основывается на свидетельстве Эрнста Федерна, Бенедикта Каутски и Евгения Когона.
31. Вот одна история из лагерной жизни на тему о «последней черте». Однажды эсэсовец, надзиравший за командой заключенных-евреев, обратил внимание на двоих, которые, по его мнению, «сачковали» Он приказал им лечь в канаву, вызвал заключенного из работавшей неподалеку команды поляков и приказал ему закопать провинившихся живьем. Стшаска (так звали поляка), окаменев от ужаса, отказался подчиниться. Эсэсовец принялся его избивать, но Стшаска упорно отказывался. Тогда в бешенстве эсэсовец приказал им поменяться местами. Теперь те двое получили приказ закопать поляка. В смертельном страхе, надеясь избежать своей участи, они стали бросать землю на своего товарища. Когда голова Стшаски уже была еле видна, эсэсовец приказал им остановиться и выкопать его обратно. Евреям снова было приказано лечь в канаву, и на этот раз Стшаска подчинился, — возможно, из-за того, что они согласились его закопать, а, может быть, надеясь, что их тоже пощадят в последнюю минуту. Но на этот раз помилования не последовало, и эсэсовец притоптал сапогами землю над головами жертв. Когда пять минут спустя он приказал их отрыть, один уже был мертв, а другой умирал, и обоих отправили в крематорий.
32. Иногда в этих слухах была доля истины. По случаю 50-летия Гитлера было выпущено на свободу около 10 % заключенных Бухенвальда
33. Рэм — ярый приверженец нацистской системы, имевший собственное представление о том, как ее воплотить в жизнь, и уничтоженный именно в соответствии с основным принципом этой системы, запрещающим иметь собственную волю 9. Среди директоров клиник и руководителей отделений, сознательно участвовавших в экспериментах, были профессора Зауэрбрух из Мюнхенского университета и Эппингер из Венского университета, воспитавшие до прихода Гитлера целое поколение врачей. Среди них был и доктор Гебхард, президент германского общества Красного Креста.
34. Теперь становится ясно, почему в 1934 году Рэм и его ближайшие друзья были уничтожены, его сторонники запуганы, а нацистские деятели высокого ранга, включая офицеров СС, до последних дней войны отправлялись в концентрационные лагеря. Вина Рэма была не в противодействии системе, а в его желании реализовать ее принципы быстрее, чем того хотел фюрер. Рэм должен был умереть за попытку осуществить свои собственные представления в системе, главная задача которой — вообще уничтожить личные устремления.
Совершенно очевидна аналогия между судьбой Рэма и судьбами многих выдающихся деятелей коммунистической России. Так называемые московские процессы также ставили целью уничтожение людей, которые, полностью придерживаясь философии системы, сохранили индивидуальную свободу мнений и действий. Эти процессы происходили уже после возникновения немецких концентрационных лагерей.
Русская система исправительно-трудовых лагерей развивалась не столь стремительно, как немецкая, ибо террор был не главной задачей Советской власти, а лишь побочным эффектом ее системы рабского труда.

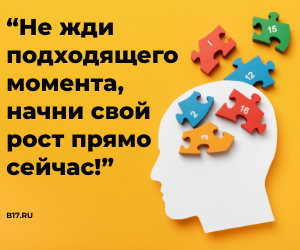

Комментарии к книге «Просвещенное сердце», Бруно Беттельгейм
Всего 0 комментариев