С. Г. Кара-Мурза Идеология и мать её наука
ГЛАВА ПЕРВАЯ Наука и идеология
Введение
Мы переживаем период, когда рушатся основные идеологии индустриальной цивилизации, но это – всего лишь одно из проявлений ее общего кризиса. Мы не можем, даже если бы захотели, избежать индустриального типа жизни, выпрыгнуть из рамок истории. Мы не можем «отменить» науку и вернуться в догалилеевские времена, пусть даже кто-то об этом и сожалеет. Мы можем преодолеть кризис, порожденный в том числе и наукой, лишь двигаясь вперед – с помощью науки. Для этого надо постараться понять, в чем заключается кризис цивилизации и как возникло то, что мы называем идеологией – комплекс идей и концепций, с помощью которого человек понимает общество, социальный порядок и самого себя в этом обществе и в мире.
Ключевым элементом той культуры, на которой базируется индустриальная цивилизация, является европейская наука (ее еще называют наукой Нового времени), возникшая менее четырех веков назад. Карл Мангейм, один из основателей социологии знания, утверждал в 1929 г., что сама научная методология была побочным продуктом мировоззрения поднимающейся буржуазии1. Не случайно свой фундаментальный труд, в котором описана духовная, культурная основа рыночной экономики, – «Протестантская этика и дух капитализма» – Макс Вебер начинает с вопроса: какое сцепление обстоятельств привело к тому, что только в Западной Европе возникло такое явление культуры, как наука [1, с. 44]? Совершенно очевидно, что это «сцепление обстоятельств» не только специфично – оно уникально. Не случайно, что возникновение «правового» общества в Европе совпало с утверждением конкуренции как механизма рыночной экономики и с рождением науки. Все это – элементы нового типа цивилизации, складывающегося в европейских странах в XVII-XVIII веках.
Современное западное общество возникло как единое целое, и одним из столпов, на которых оно стояло, был новый тип знания, познания и мышления – наука. Можно также сказать, что наука была одной из ипостасей этого общества, так как она «пропитывала» все его поры. Но для нашей темы важна одна сторона дела: наука заменила церковь как высший авторитет, легитимирующий, освящающий и политический строй, и социальный порядок. Таким образом, наука стала инструментом господства. Каким же способом власть использовала и использует науку в этих целях?
Вместе с наукой, как ее «сестра» и как продукт буржуазного общества, возникла идеология. Она быстро стала паразитировать на науке. Как отмечает видный философ науки, «большинство современных идеологий, независимо от их происхождения, утверждают, что основываются на науке или даже что составляют базу самой науки. Таким образом они стремятся обеспечить себе легитимацию наукой». Наука заняла место, ранее принадлежавшее божественному откровению или разуму». Вспомним слова философа Научной революции Бэкона: «Знание – сила» (или, точнее, «знание – власть»). Одна из составляющих этой силы (власти) – авторитет тех, кто владеет знанием. Ученые обладают такой же силой, как жрецы в Древнем Египте. Власть, привлекающая к себе эту силу, обретает важное средство господства. Как отмечал К. Ясперс, «если исчерпывающие сведения вначале давали людям освобождение, то теперь это обратилось в господство над людьми».
Во всех странах Запада, где произошли великие буржуазные революции, ученые, философы и гуманитарии внесли свою лепту в программирование поведения масс посредством идеологии. В Англии – Ньютон и его последователи, которые из новой картины мира выводили идеи о «естественном» (природном) характере конституции, что должна ограничить власть монарха («ведь Солнце подчиняется закону гравитации»). Ученый и философ Томас Гоббс развил главный и поныне для буржуазного общества миф о человеке как эгоистическом и одиноком атоме, ведущем «войну всех против всех» – bellum omnium сontra omnes.
Но в Англии революция почти слилась с протестантской Реформацией, так что в идейном багаже революционеров преобладают религиозные мотивы. В более чистом виде манипуляция сознанием как большая организованная кампания сложилась во Франции. Здесь общество было подготовлено к слому «старого порядка» полувековой работой Просвещения. Помимо великого дела по освобождению мышления человека и освоению им нового, научного мировоззрения, деятели Просвещения осуществили глубокое промывание мозгов в чисто политическом плане, подготовив поколение революционеров, с чистой совестью затопивших Францию реками крови (а потом начавших, по сути, мировую войну).
Поскольку во Франции «властители дум» образовали сплоченное сообщество, в нем довольно быстро возникло самосознание и началась теоретическая работа. Так здесь впервые появилось слово идеология и была создана влиятельная организация – Институт, в котором заправляли идеологи2. Они создавали «науку о мыслях людей», хотя в категорию мысли они включали также чувства, желания и воспоминания (основоположник этого движения Детют де Траси даже переиначил формулу Декарта «мыслю – значит, существую» в «чувствую – значит, существую»). Основатели Института утверждали, что «идеология должна изменить лицо мира». Де Траси написал учебник «Элементы идеологии» (1801), предназначенный для центральных школ, в которых готовилась буржуазная элита Франции. В нем идеология была представлена как наука о создании, выражении и распространении идей (говорилось, правда, что «идеология есть часть зоологии» – та часть, что занята изучением человека).
В декабре 1797 г. идеологи приняли в члены своего очень узкого кружка («Института») поднимающегося к власти Наполеона. В свою очередь и он правильно оценивал важность этого союза, так что даже будучи уже членом Директории, подписывался «генерал Наполеон Бонапарт, главнокомандующий, член Института». Вообще в духовном плане Наполеон был законченным продуктом Просвещения. Авторитет Руссо был для него так непререкаем, что во многих трактатах молодого Наполеона слова Руссо просто заменяют всякую аргументацию – она не нужна, если так сказал Руссо. Как писал в 1786 г. его старший брат, «он был страстным поклонником Жана-Жака и, что называется, обитателем идеального мира».
Позже, когда Наполеон стал Первым консулом, а идеологи продолжали претендовать на слишком большое участие во власти, он велел поставить их на место, дав необычно большое жалованье (он сказал о директоре Института и одном из основателей клуба якобинцев Э.-Ж. Сийесе: «Что касается денег, он реагирует очень положительно. За достаточно большую сумму забывает о своих конституционных мечтаниях»). Кое-кто из Института оказался, однако, строптивым – жалованье взял, но воду продолжал мутить. Тогда Наполеон опубликовал в газете блестящую, великолепную статью против идеологов – тех, кто «дурит людям голову». Опубликовал анонимно, но так, что все знали, кто действительный автор. Звезда тех идеологов закатилась, но дело продолжало жить, и место идеологов во власти определилось четко – получать большое жалованье, но быть в тени3.
К вопросу о том, как вырабатываются идеологии, мы еще вернемся, хотя и не вдаваясь в рассуждения об эволюции самого понятия идеологии. Здесь отметим только, что уже первые специалисты, которые назвали себя идеологами, совершенно правильно определили две главные сферы духовной деятельности человека, которые надо взять под контроль, чтобы программировать его мысли, – познание и общение. В том «курсе идеологии», который они собирались преподавать правящей элите Франции, было три части: естественные науки, языкознание («грамматика») и собственно идеология. Итак, основа, в которую надо закладывать свои идеи-вирусы, построена из знаний о мире (и самом человеке) и из обмена сообщениями (информацией).
В то же время было осознано влияние на мысли людей количественной меры, числа, заменяющего наполненные тайным, неподконтрольным смыслом качества. И одним из первых крупнейших дел Французской революции в создании нового мироощущения для масс была разработка метрической системы мер. В ней участвовали виднейшие ученые и идеологи. Через эту систему мер были связаны сферы познания и языка. С помощью этого нового «языка точности» правящий слой стал господствовать над мыслями и словами о самых фундаментальных категориях бытия – пространстве и времени. Сегодня, пройдя школу, говорящую на этом «языке точности», мы и представить себе не можем, какое значение это имело для программирования наших мыслей. Между тем виднейший ныне французский философ Мишель Фуко, который взялся за «раскопки смыслов», создавших современный Запад, утверждает определенно: «язык точности» (язык чисел) совершенно необходим для «господства посредством идеологии».
Тогда же современное общество стало создавать важнейший для будущего господства класса собственников механизм – школу нового типа. Эта школа с первого класса делила поток учеников на два «коридора» – одни воспитывались и обучались так, чтобы быть способными к манипуляции чужим сознанием, а другие (большинство) – чтобы быть готовыми легко поддаваться манипуляции. Учебники по одному и тому же предмету, написанные одними и теми же блестящими французскими учеными, но для разных «коридоров» школы, просто потрясают. Школа стала фабрикой, «производящей» классовое общество [3].
Весь XIX век – это история того, как идеологи всех направлений (но все они в рамках одной общей платформы – индустриализма, основанного на вере в прогресс и законы общественного развития) черпают доводы из неиссякаемого источника – науки. И превращают их в идеологическое оружие с помощью специально создаваемого языка слов и языка чисел.
Любая идеология стремится объяснить и обосновать тот социальный и политический порядок, который она защищает, через апелляцию к естественным законам. «Так устроен мир» и «такова природа человека» – вот конечные аргументы, которые безотказно действуют на обычную публику. Поэтому идеологи тщательно создают модель человека, используя всякий идущий в дело материал: научные сведения, легенды, верования, даже дичайшие предрассудки. Разумеется, для современного человека убедительнее всего звучат фразы, напоминающие смутно знакомые со школьной скамьи научные формулы и изречения великих ученых. А если под такими фразами стоит подпись академика, а то и Нобелевского лауреата (не Нобелевского лауреата мира, а просто Нобелевского лауреата), то тем лучше.
Понятно, что идеология сама становится фактором формирования человека, и созданные ею мифы, особенно если они внедряются с помощью системы образования и средств массовой информации, лепят человека по образу заданной формулы. А формулы идеологии, как и ее язык, создаются по образцу научных формул и научного языка. Чем больше идеолог и демагог похож на ученого, тем он убедительнее. Произошла «сантификация» науки, одно имя которой стало достаточным, чтобы убеждать в верности чисто идеологических утверждений. Как сказал великий физик Джеймс Клерк Максвелл, «так велико уважение, которое внушает наука, что самое абсурдное мнение может быть принято, если оно изложено таким языком, который напоминает нам какую-нибудь известную научную фразу».
Воздействие идеологии на науку
Взаимодействие науки и идеологии – очень большая тема. Нас от этой темы отвлекали несущественными и ложно представленными эпизодами конфликтов, которым придавался идеологический характер: церковь против Галилея или Джордано Бруно, Лысенко против генетиков. Возник целый важный жанр истории (и мифологии) – описание подвигов мучеников науки, ставших жертвами идеологической машины. Но даже драматические эпизоды суда над Галилеем или разгрома советской генетики были в большинстве популярных текстов превращены в примитивные идеологические мифы, которые не позволили нам извлечь из них важные уроки.
До сих пор наибольшее внимание привлекает то травмирующее воздействие, которое оказывает идеология на деятельность ученого. Здесь все понятно, любой политический режим ревниво следит за сферой, «производящей знание», – и именно потому, что она мощно влияет на идеологические основания режима. По мере того как наука через систему образования и воспитания, через средства массовой информации начинает все сильнее довлеть над общественным сознанием, слово ученого приобретает все большее политическое значение. Да и сами ученые приспосабливаются к господствующей идеологии, чтобы обеспечить своим идеям «защитную оболочку», облегчающую восприятие этих идей широкой публикой. И. Пригожин пишет:
«Не подлежит сомнению, что теологические аргументы (в различное для разных стран время) сделали умозрительные построения более социально приемлемыми и заслуживающими доверия. Ссылки на религиозные аргументы часто встречались в английских научных трудах даже в XIX в. Интересно, что для наблюдающегося ныне оживления интереса к мистицизму характерно прямо противоположное направление аргументации: в наши дни своим авторитетом наука придает вес мистическим утверждениям» [4, с. 93].
Интереснее и менее очевидно воздействие идеологии не на поведение ученого в обществе, а на сам познавательный процесс : на выбор тематики, формулировку проблемы, признание или отрицание тех или иных теорий. Почему Джордано Бруно стал страстным проповедником системы Коперника? Внимательное прочтение его текстов показывает, что Бруно еще до ознакомления с этой системой был радикальным политическим и религиозным реформатором, который в своей идеологии отталкивался от древних египетских культов, важнейшим из которых был культ Солнца. Теория Коперника, поставившая Солнце в центре Вселенной, была воспринята им как абсолютная истина, дающая неопровержимое и научное обоснование его идеологической цели. Как пишет Мирча Элиаде, «Коперник видел свое открытие глазами математика, Бруно же воспринимал его как иероглиф божественной мистерии». Страсть Бруно обязана своей силой синергизму научных и идеологических убеждений4.
Хорошо изучено влияние идеологических факторов на создание Дарвином его теории происхождения видов. Начав свой труд, он долго и тесно общался с английскими селекционерами-животноводами новой, капиталистической формации, которые сознательно изменяли природу в соответствии с требованиями рыночной экономики. Приложение политэкономии к живой природе породило в среде селекционеров своеобразную идеологию с набором выразительных понятий и метафор. Находясь под влиянием этой развитой идеологии, Дарвин даже перенес эти «ненаучные» понятия и метафоры на эволюцию видов в дикой природе, за что критиковался своими сторонниками (как отмечали многие авторы, сам язык «Происхождения видов» побуждает прикладывать изложенные в этом труде концепции и к человеческому обществу, то есть, объективно они изначально несут идеологическую нагрузку). Понятие «искусственного отбора» дало центральную метафору эволюционной теории Дарвина – «естественный отбор».
Другое мощное влияние на Дарвина оказали труды Мальтуса – идеологическое учение, объясняющее социальные бедствия, порожденные индустриализацией в условиях капиталистической экономики свободного предпринимательства. В начале XIX в. Мальтус был в Англии одним из наиболее читаемых и обсуждаемых авторов и выражал «стиль мышления» того времени. Представив как необходимый закон общества борьбу за существование, в которой уничтожаются «бедные и неспособные» и выживают наиболее приспособленные, Мальтус дал Дарвину вторую центральную метафору его теории эволюции – «борьбу за существование» [5]. Научное понятие, приложенное к дикой природе, пришло из идеологии, оправдывающей поведение людей в обществе. А уже из биологии вернулось в идеологию, снабженное ярлыком научности.
Влияние идеологических факторов ярко видно и в процессе восприятия дарвинизма в разных культурах и обществах. Широко известны продолжающиеся до сих пор столкновения с дарвинизмом на религиозной почве. Но вот непосредственно не связанный с религией случай: в России дарвинизм был исключительно быстро, практически не встретив оппозиции, воспринят как биологами, так и широкой культурной средой. Но идеологические воззрения этой среды в 60-70-х годах XIX в. были несовместимы с мальтузианской компонентой дарвинизма. В своих комментариях русские ученые предупреждали, что это английская теория, которая вдохновляется политэкономическими концепциями либеральной буржуазии. Произошла адаптация дарвинизма к русской культурной среде («Дарвин без Мальтуса»), так что концепция межвидовой борьбы за существование была дополнена, а порой и заменена теорией межвидовой взаимопомощи.
Главный тезис этой «немальтузианской» ветви дарвинизма, связанной прежде всего с именем П. А. Кропоткина, сводится к тому, что возможность выживания живых существ возрастает в той степени, в которой они адаптируются в гармоничной форме друг к другу и к окружающей среде5. Эту концепцию П. А. Кропоткин изложил в книге «Взаимная помощь как фактор эволюции», изданной в Лондоне в 1902 г. В работе «Мораль анархизма» он так резюмирует эту идею:
«Взаимопомощь, справедливость, мораль – таковы последовательные этапы, которые мы наблюдаем при изучении мира животных и человека. Они составляют органическую необходимость, которая содержит в самой себе свое оправдание и подтверждается всем тем, что мы видим в животном мире… Чувства взаимопомощи, справедливости и нравственности глубоко укоренены в человеке всей силой инстинктов. Первейший из этих инстинктов – инстинкт Взаимопомощи – является наиболее сильным» [6].
Здесь мы видим влияние идеологии, господствующей в той или иной культуре, на восприятие крупной научной теории. Излагая концепцию «освободительного дарвинизма» Кропоткина, испанский историк науки А. Гутьеррес Мартинес замечает: «Самоутверждение индивидуума было восславлено и стало подсознательной частью культурного наследия Запада. Напротив, идея взаимопомощи была забыта и отвергнута».
Влияние идеологического контекста общества на науку видно и через негативное воздействие – через запреты на определенные идеи и подавление интереса к определенным феноменам. Сейчас, в период кризиса идеологий и, соответственно, ломки многих научных представлений, это особенно хорошо видно. Лауреат Нобелевской премии Илья Пригожин обращает на это внимание в связи с феноменами нестабильности:
«У термина „нестабильность“ странная судьба. Введенный в широкое употребление совсем недавно, он используется порой с едва скрываемым негативным оттенком, и притом, как правило, для выражения содержания, которое следовало бы исключить из подлинно научного описания реальности. Чтобы проиллюстрировать это на материале физики, рассмотрим элементарный феномен, известный, по-видимому, уже не менее тысячи лет: обычный маятник…
Если расположить маятник так, чтобы груз оказался в точке, противоположной самому нижнему положению, то рано или поздно он упадет либо вправо, либо влево, причем достаточно будет очень малой вибрации, чтобы направить его падение в ту, а не в другую сторону. Так вот, верхнее (неустойчивое) положение маятника практически никогда не находилось в фокусе внимания исследователей, и это несмотря на то, что со времени первых работ по механике движение маятника изучалось с особой тщательностью. Можно сказать, что понятие нестабильности было, в некоем смысле, идеологически запрещено… Впрочем, сегодня мы можем согласиться: наука и есть в некотором смысле идеология – она ведь тоже укоренена в культуре» [4, с. 47, 49].
Господствующая в данный момент в обществе идеология всегда влияла на познавательную деятельность и через социальные механизмы науки (распределение средств, административная власть и пр.). Попытки представить эти явления специфическим свойством того или иного политического режима (например, советской власти в СССР) говорят в лучшем случае о незнании истории или политической корысти.
Неотъемлемой частью научной деятельности является конфликт, связанный с выбором конкурирующих концепций и методов. И использование учеными господствующих в обществе идеологических предпочтений как оружия в своем внутринаучном конфликте – распространенное явление. Когда какой-то группе или школе удается умело связать в общественном мнении позицию оппонента с непривлекательной в данный момент идеологией, победа в споре обеспечивается не только при явных изъянах научной позиции этой группы или школы, но даже при явных неладах с той самой идеологией, которая используется в качестве оружия.
Широкую известность получил конфликт в советской биологии в 1930-1940 гг., когда группа Т. Д. Лысенко, используя идеологические обвинения, разгромила имеющее высокий международный престиж научное сообщество советских генетиков, хотя их позиция в большей степени соответствовала идеям диалектического материализма, под знаменем которого велась на них атака. Попытка несколько позже осуществить подобную операцию в химии, обвинив теорию химического резонанса буржуазной и «англо-американской» (это было в разгар холодной войны), успеха практически не имела – ярлык не приклеился.
Распространенное представление Лысенко инфернальной личностью (независимо от того, насколько оно обосновано) отвлекает внимание от того факта, что похожими методами действовали и великие ученые. Вот вполне типичный случай, имевший место в т.н. демократическом обществе с участием достойных людей (он подробно описан в [7]). В течение XIX в. во Франции дважды велись дебаты о самопроизвольном зарождении жизни. Начиная с 1802 г. в течение 30 лет боролся с этой идеей Жорж Кювье. В конце концов он сумел связать в общественном мнении доктрину своего оппонента (Жоффри) с натурфилософией «вражеской Германии» и с материализмом, который у французской публики ассоциировался с террором и хаосом Французской революции. Это и решило исход спора, Кювье вышел победителем.
Еще более последовательно идеологическая аргументация была использована в 60-х гг. Пастером в его дебатах с Феликсом Пуше, который отстаивал концепцию самопроизвольного зарождения жизни. Пуше даже специально издал в 1859 г. книгу, в которой большой раздел был посвящен доказательству того, что его концепция не имеет ничего общего с материализмом и атеизмом и согласуется с ортодоксальными установками религии. То же самое он настойчиво и вполне искренне доказывал в своих выступлениях. Тем не менее Пастер, который придерживался весьма консервативных идеологических и религиозных взглядов, сумел убедить научную элиту в том, что концепция Пуше протаскивает материализм и отвергает божественный акт Творения. В условиях реакции и консерватизма, которыми была отмечена Вторая империя, Академия наук встала на сторону Пастера, и назначенные ею две научные комиссии проявили, мягко говоря, необъективность при анализе экспериментальных результатов обоих оппонентов.
В учебники биологии эти дебаты вошли как пример блестящей победы экспериментального метода Пастера над спекулятивными рассуждениями. Но дело обстояло иначе. Пастер использовал в своих опытах закрытые склянки с прокипяченным дрожжевым экстрактом. После того как он впускал в склянку воздух, в экстракте появлялась микрофлора. Пастер показал, что причина этого – в заражении внесенными с воздухом микроорганизмами. При проведении опыта на леднике в Альпах, с почти стерильным воздухом, жизнь в склянке не появлялась. Пуше применял склянки с прокипяченным экстрактом сена, изолированные от воздуха затвором с ртутью. В склянку впускался полученный химическим путем чистый кислород, заведомо не содержащий микроорганизмов, – и жизнь в экстракте зарождалась, возникала микрофлора. Чтобы повторить условия Пастера, Пуше поднялся на ледник в Пиренеях, но результаты не изменились, жизнь зарождалась. Воспроизводя эксперименты Пуше, Пастер потерпел неудачу – его старания предотвратить «зарождение жизни» были успешны лишь в одном случае из десяти, но именно эти случаи он считал надежными результатами, а остальные 90% опытов – ошибочными. Он не опубликовал эти результаты, хотя признал их в одной лекции.
Результаты опытов Пуше получили объяснение в 1876 г., когда в прокипяченном экстракте сена были обнаружены теплоустойчивые споры бацилл, которые не погибали при кипячении и начинали развиваться при поступлении кислорода. Но в момент спора с Пастером этого не знали, и результаты должны были трактоваться в пользу Пуше. Это было тем более логично, что утверждение Пуше было гораздо менее жестким, чем тезис Пастера, который утверждал, что жизнь не может самозарождаться никогда. Конечно, Пастер был в принципе глубоко прав, но суть в том, что он противоречил имевшимся в тот момент опытным данным, как они могли быть поняты. Исход спора решили внешние, идеологические факторы. В 1872 г. Пастер усилил идеологическое дискредитирование своих оппонентов: учитывая горечь французов от поражения в войне с Пруссией, он стал называть концепцию самопроизвольного зарождения жизни «германской» теорией. И последний штрих в этой истории: когда общий культурный и идеологический климат во Франции изменился и Пастер примирился с Третьей республикой, он стал гораздо благосклоннее относится к концепции самозарождения и в 1883 г. впервые признал, что тридцать лет назад сам пытался «имитировать природу» и создать «непосредственные, сущностные начала жизни» в своих экспериментах с асимметрией, магнетизмом и поляризованным светом6.
Когда говорится о влиянии идеологии на исследовательский процесс и восприятие идей научным сообществом, надо учитывать не только идеологию, доминирующую в обществе в целом (она, кстати, не всегда совпадает с так называемой «официальной» идеологией), но и воззрения, характерные для данной конкретной среды ученых. Неформальное или даже неявное неодобрение со стороны коллег-ученых затрудняет развитие концепции, даже если она отвечает официальной идеологии или воззрениям влиятельных социальных групп вне науки. Так, сравнительно недавно в научных кругах США велась напряженная полемика вокруг социобиологии – новой дисциплины, претендующей на описание сущности социальных феноменов путем сведения их к действию биологических факторов. Многие ученые США увидели в самой концепции социобиологии рецидив социал-дарвинизма как «онаученной» идеологии, оправдывающей реакционную социальную практику. Группа наиболее радикальных коллег («бостонские критики», объединившиеся в группу «Наука для народа») наряду с глубоким научным анализом слабостей и противоречий социобиологии организовали интенсивную идеологическую атаку. Независимо от того, чья позиция нам ближе, по структуре это ничем не отличается от идеологических атак на концепцию, которая впоследствии нами признается прогрессивной. Создатели социобиологии Вильсон и Ламсден писали в тот момент:
«Причислять оппонентов к той же группе, в которой находятся Рокфеллер и Гитлер, значит требовать их изгнания из университета… Это особенно верно в отношении Гарвардского университета, где профессор, обвиненный в симпатиях к фашизму, находится в таком же положении, как атеист в монастыре бенедиктинцев» [8].
Влияние идеологии не лишает исследователя значительной автономности. Нет прямой связи между прогрессивным или реакционным характером той или иной идеологии и ценностью результатов побуждаемого ею исследования. Так, движимый идеями научного материализма Просвещения, отрицавшего роль божественного провидения в возникновении жизни, французский натуралист Бюффон провел эксперименты с охлаждением металлических шаров разного состава и размеров и точно рассчитал даты, когда, по его понятиям, «должны были появиться те или иные морские животные на разных планетах Солнечной системы» (например, одно из таких животных – у полюса третьей луны Юпитера в 13 624 г. до н. э.). Ничего общего с реальностью! Напротив, стремясь доказать роль внутреннего божественного «импульса», Уильям Гарвей осуществил важные наблюдения над процессом оплодотворения и положил начало современной эмбриологии.
Бывают даже случаи, когда ценными оказываются именно результаты исследований, стимулированных той идеологией, которую ученый стремится опровергнуть. Убежденный креационист и фиксист (т. е. верящий в то, что виды созданы Богом и неизменны) Фредерик Кювье (сын Жоржа Кювье) занялся скрупулезными наблюдениями над приматами с целью опровергнуть эволюционную концепцию. Наблюдения такого рода не стал бы проводить эволюционист. И фиксист Ф. Кювье положил начало современной приматологии, сыгравшей важную роль в утверждении эволюционного учения.
Рассмотрим, однако, обратную ветвь во взаимодействии науки и идеологии, которую ученые стараются как бы не замечать.
Роль науки в формировании и трансформации идеологий
Особенно наглядна роль в становлении идеологий в переломные моменты в жизни общества, когда происходит ломка социальных структур, производственных отношений, системы власти. И сама наука, как часть культуры, в эти моменты испытывает глубокие преобразования. Американский философ О. Тоффлер пишет:
«Ньютоновская система возникла в эпоху крушения феодализма в Западной Европе, когда социальная система находилась, так сказать, в сильно неравновесном состоянии. Модель мироздания, предложенная представителями классической науки… нашла приложения в новых областях и распространилась весьма успешно не только вследствие ее научных достоинств или „правильности“, но и потому, что возникавшее тогда индустриальное общество, основанное на революционных принципах, представляло необычайно благодатную почву для восприятия новой модели» [9, с. 32].
Глубокие изменения в обществе невозможны без идеологического обоснования (даже если в этот момент говорится о «деидеологизации» жизни). При формировании этого идеологического обоснования «инженеры человеческих душ» обращаются к науке, как в донаучный период обращались к жрецам и философам. Что же может предложить им наука, как она участвует в создании самих основ идеологии? Главным образом, через воздействие на самого человека: путем изменения картины мира, путем внедрения научного метода (как метода познания, так и метода мышления), путем создания и внедрения нового языка.
Картина мироздания, «естественный порядок вещей» во все времена были важнейшим аргументом в воздействии на сознание. В любом обществе картина мироздания служит для человека тем основанием, на котором строятся представления об идеальном или допустимом устройстве общества. Уже в трудах первых древнейших философов (например, Анаксимандра) космологические концепции выполняли функцию легитимации (обоснования законности) общественного порядка. О том, какое влияние оказала ньютоновская картина мира на представления о политическом строе, обществе и хозяйстве во время буржуазных революций, написано море литературы. Из модели мироздания Ньютона, представившей мир как находящуюся в равновесии машину со всеми ее «сдержками и противовесами», прямо выводились либеральные концепции свобод, прав, разделения властей. «Переводом» этой модели на язык государственного и хозяйственного строительства были, например, Конституция США и политэкономическая теория Адама Смита.
Огромной силой внушения обладал вытекающий из картины мира Ньютона механицизм – представление любой реальности как машины. Лейбниц писал: «Процессы в теле человека и каждого живого существа являются такими же механическими, как и процессы в часах». Когда западного человека убедили, что он – машина и в то же время частичка другой огромной машины, это было важнейшим шагом к тому, чтобы превратить его в манипулируемого члена гражданского общества. Недавние рыцари, землепашцы и бродячие монахи Европы стали клерками, депутатами и рабочими у конвейера. Мир, бывший для человека Средневековья Храмом, стал Фабрикой – системой машин.
Наблюдается и обратное явление: идеальный тип человеческих отношений проецируется на природу. Интересно сравнение образов животных у Льва Толстого и Сетона-Томпсона. Толстой, с его утверждениями любви и братства, изображает животных бескорыстными и преданными друзьями человека, способными на самопожертвование. Рассказы Сетона-Томпсона написаны в рамках идеологии свободного предпринимательства в стадии его расцвета. И животные здесь наделены чертами оптимистичного и энергичного предпринимателя, идеального self-made man. Если они и вступают в сотрудничество с человеком, то как компаньоны во взаимовыгодной операции.
Идеология, обосновывающая политический порядок, производственные отношения и т.д., соотносится с понятиями, в которых человек мыслит свое существование в обществе. А они неразрывно связаны с картиной мира и пониманием места человека в этом мире. Предложив новую картину мира, зарождающаяся европейская наука наполнила эти понятия новым содержанием или даже впервые сформулировала их. Важнейшими по своему идеологическому значению стали понятия свобода и прогресс.
Понятие свободы
Это понятие играет ключевую роль в идеологиях буржуазного общества на протяжении всей его истории: в борьбе с феодализмом, при разрушении традиционных обществ в колонизуемых странах, для нейтрализации социалистических проектов. Наука выступила как освобождающая сила и законодатель в понимании свободы прежде всего по отношению к своей собственной деятельности. Свобода познания!
С момента своего возникновения и до настоящего времени европейская наука декларирует свой нейтралитет по отношению к идеалам и ценностям, свою полную свободу от идеологических и политических предпочтений. Наука, мол, беспристрастно изучает то, что есть и не претендует на то, чтобы указывать, как должно быть. «Знание – сила», – было сказано на заре науки. И не более того. Моральные ценности в момент становления науки оставлялись в ведении религии, и такое разделение было условием молчаливого пакта между Церковью и наукой. Так и возникла объективная наука, ориентированная на истину, а не на ценности.
Это было совершенно новым явлением в культуре. До этого акт познания был неразрывно связан с этической и даже религиозной позицией – он творился или во имя Добра, как шаг к постижению замысла Творца, или во имя зла, как черная магия, как богоборческое дело. Страстный защитник позитивной науки П. Н. Ткачев подчеркивает эту мысль в связи с конфликтом между Церковью и Галилеем. Он пишет в 1875 г.:
«Глубоко проникнутые сознанием, что каждое научное исследование всегда преследует и всегда должно преследовать какой-нибудь нравственный идеал, какую-нибудь определенную доктрину, эти люди ни на минуту не допускали мысли, чтобы Бруно и Галилей могли относиться объективно к интересующим их астрономическим вопросам. В их математических вычислениях, в их астрономических гипотезах они видели – и, с точки зрения господствующего субъективного метода, должны были видеть – некоторую нравственно-оппозиционную тенденцию. По их мнению, совершенно основательному, эта тенденция находилась в полнейшем противоречии с общепринятыми воззрениями, с общеустановленной догмой католического авторитета. И за нее-то он их осудил. Он их осудил не только как заблуждающихся ученых, но и как испорченных, безнравственных людей. Это было совершенно логично, хотя теперь нам это кажется возмутительным» [10, с. 150-151].
С развитием философии науки тезис о ее свободе от ценностей развивался. Кант концентрировал внимание на ограниченности компетенции науки, на существовании даже таких познавательных проблем, к которым неприложим научный метод («есть что-то там, за теми пределами, куда наука не может проникнуть»). В начале века Макс Вебер сформулировал этот тезис так: «Эмпирическая наука неспособна научить человека, что следует делать, а только может указать, что он в состоянии сделать и, в некоторых условиях, что он в действительности желает сделать».
Но ограниченность компетенции науки – это лишь один и далеко не главный аспект ее свободы от моральных ценностей. Главное, что наука (устами как философов, так и самих ученых) постоянно декларирует и доказывает необходимость автономии исследования от внешних идеологических и политических влияний, необходимость ограничения их компетенции в отношении науки. Без достижения такой автономии, как утверждают, невозможно было бы использование самого научного метода, предполагающего незаинтересованное изучение реальности. Все больше завися от общества (прежде всего от политической власти) в экономическом обеспечении, наука регулярно и тщательно предупреждает, что если предоставление средств будет сопровождаться идеологическими условиями, то производимый ею продукт (знание) потеряет ценность и для «заказчика».
Ученый утверждает, что для любой политической силы полезно располагать неискаженным, объективным знанием о действительности. Убедить в этом власть удается, разумеется, далеко не всегда. Галилей был приверженцем католической церкви и искренне считал, что его наука послужит укреплению ее могущества, даже если и создаст некоторые разрешимые затруднения. Дело, однако, менял тот факт, что научное знание по своей природе не может быть «закрытым». И политик, даже считая для себя ценным объективное знание, должен учитывать эффект от его распространения в обществе. Понятно, что оценка пользы и вреда для власти этого распространения знания может быть у политика и ученого очень различной.
Разумеется, и ценностный нейтралитет науки, и ее автономия от внешних интересов – идеализированные, предельные состояния, не реализуемые на практике. Нормы и идеалы важны, несмотря на то, что они постоянно нарушаются или недостижимы. Но необходимо знать и реальную степень отклонения от норм и идеалов, так как излишняя мифологизация науки опасна и для общества, и для нее самой. Очевидно, что по мере того, как политика и идеология «пропитываются» наукой, ей все сложнее поддерживать нейтралитет и автономию. Зависимость не бывает односторонней.
Главным условием для становления нового понятия свободы послужила новая картина мира. Точнее, само это выражение и могло только возникнуть вместе с наукой, когда мир и человек разделились как объект и субъект и человек смог отстраненно взглянуть на мир. M. Хайдеггер писал в статье «Эпоха картины мира»:
«Картина мира означает, по существу, не картину, изображающую мир, а мир, понимаемый как картина… Выражения „картина мира Нового времени“ и „современная картина мира“, повторяя дважды одно и то же, заставляют предполагать нечто такое, что никогда прежде не могло быть, а именно средневековую и античную картины мира. Нет, картина мира не превращается из прежней, средневековой, в новую, но то обстоятельство, что мир вообще становится картиной, характеризует существо Нового времени»7.
Возникновение индустрии и рыночной экономики требовало освобождения человека от сковывающих его политических, экономических и культурных структур, а подспудно и от ощущения включенности в упорядоченный и замкнутый Космос. По словам Н. А. Бердяева, «Замкнутое небо мира средневекового и мира античного разомкнулось, и открылась бесконечность миров, в которой потерялся человек с его притязаниями быть центром вселенной» [12, с. 309].
Наука разрушила этот Космос, представив человеку мир как бесконечную, познаваемую и описываемую на простом математическом языке машину. Человек был выведен за пределы этого мира и противопоставлен ему как исследователь и покоритель. Понятно, что человек европейской цивилизации, осознавший себя таким исследователем и покорителем, вкусивший этой свободы, просто не понимает страданий человека традиционного общества, вынужденного примириться с механистической картиной мира (это имеет прямое отношение и к модной ныне идее об отсутствии у русского народа вкуса к свободе). Вот как излагает мироощущение русского человека начала ХХ века А. Ф. Лосев:
«Не только гимназисты, но и все почтенные ученые не замечают, что мир их физики и астрономии есть довольно-таки скучное, порою отвратительное, порою же просто безумное марево… Все это как-то неуютно, все это какое-то неродное, злое, жестокое. То я был на земле, под родным небом, слушал о вселенной, „яже не подвижется“… А то вдруг ничего нет, ни земли, ни неба, ни „яже не подвижется“. Куда-то выгнали в шею, в какую-то пустоту, да еще и матерщину вслед пустили. „Вот-де твоя родина, – наплевать и размазать!“ Читая учебник астрономии, чувствую, что кто-то палкой выгоняет меня из собственного дома и еще готов плюнуть в физиономию» [13, с. 405].
К. А. Свасьян приводит слова немецкого философа Р. Штайнера:
«В ньютоновской физике мы впервые соприкасаемся с представлениями о природе, полностью оторванными от человека… Современная наука, стремясь подчинить себе природные явления с помощью математики, изолированной от человека и внутренне уже не переживаемой, способна в своем обособленном математическом созерцании и со своими оторванными от человека понятиями рассматривать только мертвое; с отторжением математики от живого ее можно применять лишь к мертвому» [14].
Надо подчеркнуть, что в культуре Запада разрушение Космоса и переход к рассмотрению мира как картины слилось, в отличие от других культур (в том числе России), с глубокой религиозной революцией – Реформацией. Для протестантов природа потеряла ценность, ибо она перестала быть посредницей между Богом и человеком. Как писал один философ, «тем самым протестантское мышление окажется лучше подготовленным к новому положению науки, которая увидит в природе бездушную механику, к новой физике, которая не будет более созерцанием форм, а будет использованием и эксплуатацией» [11].
Для познания мира, противопоставленного человеку, наука предложила метод, включающий рациональное теоретизирование, наблюдение и эксперимент («допрос Природы под пыткой»). Французский философ науки М. Фуко считает, что структура познавательного процесса экспериментальной науки сложилась под сильным влиянием процесса дознания в средневековом суде:
«Как математика в Греции родилась из процедур измерения и меры, так и науки о природе, во всяком случае частично, родились из техники допроса в конце средних веков. Великое эмпирическое познание… имеет, без сомнения, свою операциональную модель в Инквизиции – всеохватывающем изобретении, которое наша стыдливость упрятала в самые тайники нашей памяти» [15].
Лишь изредка ученые отбрасывают эту стыдливость и высказываются откровеннее, как Анри Пуанкаре: «Сгибать природу так и эдак, покуда она не приноровится к требованиям человеческого рассудка». И. Пригожин пишет:
«Миром, перед которым не испытываешь благоговения, управлять гораздо легче. Любая наука, исходящая из представления о мире, действующем по единому теоретическому плану и низводящем неисчерпаемое богатство и разнообразие явлений природы к унылому однообразию приложений общих законов, тем самым становится инструментом доминирования, а человек, чуждый окружающему его миру, выступает как хозяин этого мира» [9, с. 43].
Глашатай новой науки Френсис Бэкон, считая науку средством покорения природы, писал, что «два человеческих стремления – к знанию и могуществу – поистине совпадают в одном и том же». Фридрих Ницше говорит об этом с восторгом. В главе «Мы, ученые» своей книги «По ту сторону добра и зла» Ницше так видит роль ученых:
«…Они простирают творческую руку в будущее, и все, что есть и было, становится для них при этом средством, орудием, молотом. Их „познавание“ есть созидание, их созидание есть законодательство, их воля к истине есть воля к власти» [16, с. 336].
Конструктивное разрешение вызванного дегуманизацией мира культурного кризиса на первых порах обеспечивалось глубоким взаимодействием науки с христианством. Эту раздвоенность между механистической картиной мира и потребностью в теологии историк науки Нидхэм называет «характерной европейской шизофренией», Пригожин же предпочитает говорить о «резонансе» между теологией и наукой. Действительно, предложив человеку способ познания законов природы, наука в своем освободительном воздействии на человека вступала в синергическое взоимодействие с христианской верой, которая, по словам Элиаде, «обозначает полное освобождение от каких бы то ни было природных „законов“, а следовательно, наивысшую свободу, какую только может вообразить человек: свободу влиять на сам онтологический статус Вселенной».
Наука придала этой метафизической свободе практическое, осязаемое измерение. Но тем самым она и освободила человека от авторитета христианского Откровения, убедила человека в том, что он сам может постигать истину и переделывать мир. Это расщепление христианского в самой основе сознания заложило предпосылки кризиса культуры Нового времени, который как-то должен разрешиться на нынешнем переломном этапе.
А в то время механика Ньютона давала и прямое обоснование идеологическим лозунгам свободы, равенства и гражданских прав. Особое значение для этого имел третий закон Ньютона, который разрушал господствующее в Средние века представление о сугубо иерархических отношениях объекта и его окружения, в которых объект (в том числе человек) был пассивной стороной взаимодействия. Согласно механике Ньютона, в любой динамической ситуации взаимодействующие объекты являются активными частями. Это, например, сразу давало новый смысл отношениям гражданина с властью. Не случайно, что в бурных идеологических дебатах в Англии после революции вигов буквально все ньютонианцы находились по одну сторону баррикады.
Большое значение для освобождения человека имело новое представление о пространстве, новое понимание бесконечности. Хотя утверждение о бесконечности Вселенной, отрицающее замкнутый аристотелевский Космос, все сильнее звучало в трудах теологов начиная с конца XIII в. и было важной составной частью картины мироздания Джордано Бруно, лишь ньютоновская механика убедила человека в этой идее. Снятие пространственных ограничений изменило мироощущение людей, породило убежденность в возможности неограниченной экспансии, столь важную в идеологии индустриализма. Эту убежденность наука время от времени обязана была укреплять. Недавно «цивилизованные люди» с облегчением вздохнули, дав себя убедить, что возможности экспансии не ограничены, что когда на Земле кончатся ресурсы, люди построят электростанции и рудники в космосе, заселят другие планеты и т. д. А покуда следует просто ограничить потребление ресурсов «нецивилизованным большинством» человечества, а еще лучше сократить его численность.
Гораздо меньше внимания обращается на идеологическое значение двух важных аспектов механистической картины мира – обратимости процессов и линейности соотношений между действием и результатом. Чувство свободы становится доминирующим лишь в мире обратимых процессов. И в культурных нормах, и во врожденных инстинктах заложено мощное ограничение на свободу действий, ведущих к непоправимому. Чувство необратимости естественных и социальных процессов – или отсутствие такого чувства – во многом определяет приверженность человека к той или иной идеологии. При этом идеология оказывает столь сильное воздействие на человека, что даже его непосредственное бытие «в гуще» необратимых процессов слабо воздействует на поведение.
Когда в начале XX в. было организовано движение скаутов, предполагалось, что тесный контакт с природой воспитает у них «экологическое чувство», которое станет важным фактором изменения отношения общества к окружающей среде. Этого не произошло, скауты не стали «экологистами». Главная причина заключается в том, что социальной базой движения скаутов была городская элита, проникнутая идеологией индустриализма и урбанизма. Не возникло экологического сознания, которое ограничивало бы свободу, и в среде капиталистических фермеров, «эксплуатирующих» землю. Конрад Лоренц замечает:
«Способность человека интегрироваться в экосистему доказывает опыт крестьянина, который не ограничивается тем, что „живет, прилепившись к клочку земли“, а его любит. Местный крестьянин обладает запасом здоровых экологических знаний. Крестьянин старой закалки не допускает избыточной эксплуатации, а возмещает земле то, что земля ему дала» [17, с. 300].
Механицизм, атомизм и легитимация политического порядка
Любой претендующий на минимальную стабильность политический строй и даже режим нуждается в обосновании своей законности, соответствия «естественному порядку вещей», в таких аргументах, которые были бы убедительны для достаточно большой доли населения. Цивилизация отличается от первобытнообщинного строя, в частности, тем, что, как пишет немецкий философ Юрген Хабермас, в обществе «доминирует одна центральная концепция мироздания (миф, сложная религия), предназначенная для легитимации политической власти (превращая, таким образом, власть в авторитет)». Научная революция по-новому поставила вопрос о власти в общественном сознании.
«Современная физика, – пишет Хабермас, – положила начало философскому обоснованию, которое интерпретировало общество согласно модели, взятой из естествознания, и внедрило, если можно так выразиться, механистическое мировоззрение XVII века. В этих рамках была осуществлена реконструкция классического естественного права. Новое естественное право было основой буржуазных революций XVII, XVIII и XIX вв., которые в конце концов разрушили старые легитимации структуры власти» [18, с. 352].
Как пишет Хабермас, в традиционных формах легитимации власти «старые концепции мироздания – мифические, религиозные и философские, – отвечают на фундаментальные вопросы коллективного существования людей и истории жизни отдельной личности. Их темами являются справедливость и свобода, насилие и гнет, счастье и благодарность, болезни и смерть. Их категории – победа и поражение, любовь и ненависть, спасение и приговор…» [17, с. 349].
В индустриальной цивилизации обоснование власти дегуманизируется научной рациональностью точно так же, как Космос был дегуманизирован механистической картиной мира. Естественно, что крушение традиционной легитимации политического порядка сопровождается тяжелым культурным кризисом, тем более разрушительным, чем сильнее сжат во времени этот процесс. В Англии путем компромисса между буржуазией и аристократией была найдена «щадящая» формула. В буржуазной Французской революции этот кризис породил террор и Наполеона, но затем был растянут во времени чередой республик и монархий.
Наиболее острые проявления кризиса этого рода мы наблюдаем в наши дни при разрушении последней европейской державы с традиционным обществом – России. После попытки либерально-буржуазной революции в феврале 1917 г., которая была подавлена революцией (или, как говорили либералы, контрреволюцией) «архаического крестьянского коммунизма», произошла реставрация традиционного общества. В ходе индустриализации началась эволюция к модернизированным структурам, вплетаемым в культурную ткань традиционного общества. В конце 80-х годов этот сложный процесс сменился периодом радикальной ломки культурных норм и традиций с преувеличенной ориентацией на Гоббсово представление о человеке и обществе. Свойственный российской интеллигенции революционизм вновь победил инерцию традиционного мировоззрения масс [19].
Вернемся к взаимодействию науки и идеологии на этапе становления буржуазного общества. Из всей ньютоновской картины мироздания идеологи английской революции непосредственно выводили естественность конституционной монархии как наилучшей из форм политического порядка, поскольку власть короля, как и власть Солнца, умеряется законами. Разрушались иерархические структуры власти, скрепляющие людей солидарностью, основанной на образе жизни, традициях, религии. Возникало гражданское общество, основанное на индивидуализме людей-«атомов». Концепцию атомизированного общества, естественное право и характер власти в таком обществе изложил английский философ Томас Гоббс, свидетель и участник бурных событий ХVII в. Его философские основания индивидуализма не потеряли актуальности и сегодня, они пронизывают идеологические выступления всякий раз, как возникает необходимость легитимации свободной рыночной экономики и соответствующего ей политического порядка.
Становление механистической картины мира, утверждение атомизма и рационализация сознания позволили решить две основные задачи идеологии восходящего буржуазного общества: легитимацию нового политического порядка и легитимацию нового социально-экономического устройства общества. Важное идеологическое значение имели для этого атомистические представления о строении материи. Можно даже сказать, что эти представления, находившиеся много веков в «дремлющем» состоянии, были выведены на авансцену именно идеологами – прежде всего в лице философа XVII в. Пьера Гассенди, «великого реставратора атомизма». Уже затем атомистика была развита естествоиспытателями – Бойлем, Гюйгенсом и Ньютоном.
Атом, по Гассенди, – неизменное физическое тело, «неуязвимое для удара и неспособное испытывать никакого воздействия». Атомы «наделены энергией, благодаря которой движутся или постоянно стремятся к движению». Несмотря на все многообразие развивающихся частных научных концепций, механистическая картина мира глубоко и надолго укоренилась в общественном сознании. В начале XX в. английский философ Э. Карпентер пишет:
«Примечательно, что в течение этой механистической эры последнего столетия мы не только стали рассматривать общество через призму механистического мышления, как множество индивидуумов, изолированных и соединенных простым политэкономическим отношением, но и распространили эту идею на всю Вселенную в целом, видя в ней множество изолированных атомов, соединенных гравитацией или, может быть, взаимными столкновениями» [20, с. 808].
Возрождение атомизма объясняется, помимо его явной необходимости для создания целостной механистической картины мира, культурно-идеологическими потребностями, тенденцией к «атомизации» общества в XVII-XVIII вв. П. П. Гайденко пишет:
«Разрушается феодальная общественная структура, индивид освобождается от ранее определявших его образ жизни связей и ограничений. Происходит отделение производителя от средств производства, расширяются рыночные отношения. На первое место все больше выступает частный капитал, т.е. индивид ведет себя как отдельный атом, и из хаотического движения атомов складывается равнодействующая тенденция развития общества» [21, с. 17].
Тот индивидуализм, на котором основано в рыночной экономике свободное предпринимательство, не мог возникнуть без ощущения человеком себя как свободного атома человечества. Иначе был бы невыносим разрыв с коллективами, в которых существовал человек аграрного общества – с патриархальной семьей, родной деревней, церковью и т. д. Атомизм как естественный порядок вещей придал законность и освобождению от иерархических структур феодальной зависимости и государства, заложил философскую основу представительства в западной демократии («один человек – один голос»). Раньше голосом обладал не человек-атом, а полномочный представитель коллектива (отец семьи, старейшина клана или общины, феодал).
Гоббс представляет человека одиноким, зависящим только от себя самого и находящимся во враждебном окружении, где его признание другими измеряется лишь властью над этими другими. Сосуществование индивидуумов в обществе определяется фундаментальным условием – их исходным равенством. Но это равенство кардинально отлично от того, которое было декларировано в христианской религии: там все люди равны «по большому счету», ибо созданы по образу и подобию Божию. Здесь же, по Гоббсу, «равными являются те, кто в состоянии нанести друг другу одинаковый ущерб во взаимной борьбе». Равенство людей-«атомов» предполагает как идеал не любовь и солидарность, а непрерывную войну, причем войну всех против всех : «хотя блага этой жизни могут быть увеличены благодаря взаимной помощи, они достигаются гораздо успешнее подавляя других, чем объединяясь с ними», – пишет Гоббс. Такое состояние общества определяется естественным правом, в котором нет места моральным нормам:
«Природа дала каждому право на все. Это значит, что в чисто естественном состоянии, или до того, как люди связали друг друга какими-либо договорами, каждому было позволено делать все, что ему угодно и против кого угодно, а также владеть и пользоваться всем, что он хотел и мог обрести…» (см. [21, с. 17]).
Очевидно, что в неконтролируемом состоянии такая конкуренция индивидуумов означала бы самоуничтожение человечества. И политический порядок, по Гоббсу, является своеобразным договором между всеми «воюющими сторонами». То есть, политическая власть получает легитимацию «снизу», от совокупности свободных и равных граждан, а не «сверху», как иерархия, освященная традицией и религией.
Такое представление о человеке является специфическим порождением западной культуры. Оно стало едва ли не важнейшим инструментом идеологии в легитимации и политического, и социального порядка буржуазного общества. Для власти оно стало важнейшим средством господства через манипуляцию сознанием (подробнее см. в [22]). Американский специалист по СМИ Г. Шиллер придает мифу об индивидууме большое значение во всей системе господства в западном обществе:
«Самым крупным успехом манипуляции, наиболее очевидным на примере Соединенных Штатов, является удачное использование особых условий западного развития для увековечения, как единственно верного, определения свободы языком философии индивидуализма… На этом фундаменте и зиждется вся конструкция манипуляции» [23].
Видение общества как мира «атомов» вытекает из той научной рациональности, в основе которой лежит детерминизм – уверенность, что поведение любой системы подчиняется законам и его можно точно предсказать и выразить на математическом языке. И движение атомизированного «человеческого материала» поддается в научной политэкономии такому же точному описанию и прогнозированию, как движение атомов идеального газа в классической термодинамике. Солидарные же общественные структуры, в которых идут нелинейные и «иррациональные» процессы самоорганизации, движутся жаром человеческих страстей и во многом непредсказуемы. Об этом красноречиво и трагично говорит вся история и «вненаучная», гуманитарная культура.
Тот факт, что огромные массы людей через школы и средства массовой информации продолжают обрабатываться идеологиями, проникнутыми идеей детерминизма и классической научной рациональностью, в условиях нынешнего кризиса накладывает на ученых большую моральную ответственность – ведь в самой науке эти основания подвергаются пересмотру. Авторитетом науки фактически освящается идеология, уже противоречащая тому, что знают сами ученые. На это обращает внимание И. Пригожин:
«В 1986 г. сэр Джеймс Лайтхил, ставший позже президентом Международного союза чистой и прикладной математики, сделал удивительное заявление: он извинился от имени своих коллег за то, что „в течение трех веков образованная публика вводилась в заблуждение апологией детерминизма, основанного на системе Ньютона, тогда как можно считать доказанным, по крайней мере с 1960 года, что этот детерминизм является ошибочной позицией“. Не правда ли, крайне неожиданное заявление? Мы все совершаем ошибки и каемся в них, но есть нечто экстраординарное в том, что кто-то просит извинения от имени целого научного сообщества за распространение последним ошибочных идей в течение трех веков. Хотя, конечно, нельзя не признать, что данные, пусть ошибочные, идеи играли основополагающую роль во всех науках – чистых, социальных, экономических, и даже в философии. Более того, эти идеи задали тон практически всему западному мышлению, разрывающемуся между двумя образами: детерминистический внешний мир и индетерминистический внутренний» [4, с. 48].
Заметим, впрочем, что до российской «образованной публики» извинения научного сообщества не дошли, и никаких сомнений в легитимации нашего нового социального порядка она не испытывает. Стремясь войти в европейскую цивилизацию, наша интеллигенция упорно не желает видеть глубоких сдвигов в самих культурных основаниях этой цивилизации, рискуя, таким образом, снова выпасть из желанного цивилизационного процесса.
Рационализм и свобода. Нигилизм и страх
Идеологическое значение для установления нового представления о свободе имел не только продукт науки (картина мира), но и методология процесса познания. Наука активно перестраивала мышление человека на рациональной основе, разрушала традиционную культуру и традиционный тип сознания. Рационализм стал мощным средством освобождения человека от множества норм и запретов, зафиксированных в традициях, преданиях, табу.
«Никогда не принимать за истинное ничего, что я не познал бы таковым с очевидностью… включать в свои суждения только то, что представляется моему уму столь ясно и столь отчетливо, что не дает мне никакого повода подвергать это сомнению», – писал Декарт.
Это значит, что из мышления, из «оснащения ума» исключается знание, записанное на языке традиции (оно не познается с очевидностью и не является полностью ясным и отчетливым). Это и есть картезианский рационализм. Иной раз философы даже противопоставляют его мышлению (Хайдеггер сказал: «столетиями прославляемый разум, являющийся упрямым противником мышления»).
Этот рационализм был для буржуазного общества оружием в идеологической борьбе. Научный метод вышел за стены лабораторий и стал формировать способ мышления не только в других сферах деятельности, но и в обыденном сознании (хотя большинство проблем, с которыми оно оперирует, не являются ценностно нейтральными и не укладываются в формализуемые, а тем более механистические, модели). О разрушении традиций под натиском рационализма К. Лоренц пишет:
«В этом же направлении действует установка, совершенно законная в научном исследовании, не верить ничему, что не может быть доказано. Борн указывает на опасность такого скептицизма в приложении к культурным традициям. Они содержат огромный фонд информации, которая не может быть подтверждена научными методами. Поэтому молодежь „научной формации“ не доверяет культурной традиции. Такой скептицизм опасен для культурных традиций. Они содержат огромный фонд информации, которая не может быть подтверждена научными методами» [17, с. 258].
Чтобы сразу предотвратить кривотолки, обращаю внимание на очень важное уточнение К. Лоренца: установка рационализма совершенно законна в научном исследовании. Ее разрушительное воздействие на оснащение ума сказывается именно тогда, когда ум «выходит за стены научной лаборатории» – когда речь идет об осмыслении реальных, целостных проблем жизни. Приложение к таким проблемам чисто научного метода есть не наука, а научность – незаконная операция, имитация науки. Н. А. Бердяев пишет:
«Никто серьезно не сомневается в ценности науки. Наука – неоспоримый факт, нужный человеку. Но в ценности и нужности научности можно сомневаться. Научность есть перенесение критериев науки на другие области духовной жизни, чуждые науки. Научность покоится на вере в то, что наука есть верховный критерий всей жизни духа, что установленному ей распорядку все должны покоряться, что ее запреты и разрешения имеют решающее значение повсеместно… Критерий научности заключает в тюрьму и освобождает из тюрьмы все, что хочет и как хочет… Но научность не есть наука и добыта она не из науки. Никакая наука не дает директив научности для чуждых ей сфер» [12, с. 264].
Этот рационализм хотя и подвергался периодически нападкам критиков науки, одержал полный триумф в период расцвета механистической модели мира, которая так убедительно и в столь простых математических выражениях представила мироздание. В этот триумфальный период рецидивы антинаучных настроений лишь укрепляли рационализм. К. А. Свасьян пишет:
«Остановить эту „махину“, перемалывающую все встречное, было уже невозможно; нужно было бежать от нее в отбрасываемые ею тени „природы“ a la Руссо, мутной мистики ощущений, слащавых приторностей «иррационализма»; иррационализм – подчеркнем это – был не противостоянием рационализму, а желаемым эффектом чисто рационалистического оболванивания, рационализмом наизнанку, неким вывернутым нутром картезианского функционера, дополняющего «Рассуждение о методе» приступами сартровской «Тошноты», именно: отбросом рационализма, которому усилиями философских компиляторов довелось прослыть «оппозицией». Мошенничество набирало темп; тщась во что бы то ни стало переиграть «понимание», рационализм провоцировал фокус самоотвращения, играя на пару с иррационализмом и дурача сознание: здесь – игрой «прогресса», там – мистическими «невыразимостями», здесь – «кнутом» познания, там – пряником «морали» [14].
Если вернуться в XVII в., в период становления науки и, параллельно, буржуазного общества, то идеологическое значение рационального научного метода несомненно. Индивидууму было показано, что он может познавать и понимать мир сам, опираясь на свой разум, органы чувств и инструменты. Не случайно некоторые историки науки именно в этом видят суть конфликта Галилея с церковью, которая до сего времени выступала монопольным посредником между мирозданием и пытающимся понять его человеком.
Идеология, как оборотная сторона медали науки, породила и оборотную сторону научного рационализма – специфический «западный» страх и нигилизм. Десакрализация и дегуманизация мира, его свободное от этики, беспристрастное познание как внешнего по отношению к человеку объекта породили в культуре Запада огромный энтузиазм, но в то же время и глубокий кризис. Дегуманизация мира – глубокое культурное изменение, повлекшее раскол «двух культур». Она – источник тоски человека, осознавшего, по выражению Жака Моно, что он, «подобно цыгану, живет на краю чуждого ему мира. Мира, глухого к его музыке, безразличного к его чаяниям, равно как и к его страданиям или преступлениям». Но эта тоска и дает полное ощущение свободы.
Естественным спутником этой свободы стал «страх Запада». Он был первой реакцией на образ мира, данный Коперником. Даже великий мыслитель того времени Паскаль признавался: «Вечное безмолвие этих бесконечных пространств страшит меня» [24].
Открытие нового взгляда на мир воспринималось как конец света, как «последние времена». Ф. Бэкон в «Новом Органоне» напоминал пророчество Даниила о последних временах: «многие пройдут, и многообразно будет знание»8. В этом же смысле часто цитировал книгу пророка Даниила ряд творцов Научной революции. Крушение Космоса и картина мироздания как холодной бесконечной машины ужаснула человека и наполнила его пессимизмом. Шопенгауэр представил человечество в этой картине мира как плесенный налет на одной из планет одного из бесчисленных миров Вселенной. А. В. Ахутин в своей книге приводит слова, в которых Ницше так уточнил этот образ:
«В каком– то заброшенном уголке Вселенной, изливающей сияние бесчисленных солнечных систем, существовало однажды небесное тело, на котором разумное животное изобрело познание. Это была самая напыщенная и самая лживая минута „всемирной истории“ – но только минута. Через несколько мгновений природа заморозила это небесное тело и разумные животные должны были погибнуть» [11].
Разрушение космоса человеческого общежития, превращение человека в «атом» лишь усилили страх и пессимизм. Н. Бердяев, этот философ свободы, писал в книге «Смысл истории» (1923 г.):
«В Средние века человек жил в корпорациях, в органическом целом, в котором не чувствовал себя изолированным атомом, а был органической частью целого, с которым он чувствовал связанной свою судьбу. Все это прекращается в последний период новой истории. Новый человек изолируется. Когда он превращается в оторванный атом, его охватывает чувство невыразимого ужаса» [25].
Страх стал важнейшим фактором, консолидирующим гражданское общество. Гоббс писал: «Следует признать, что происхождение многочисленных и продолжительных человеческих сообществ связано… с их взаимным страхом». То есть, в отличие от А. Смита, он считал страх более важным регулятором поведения, чем поиск выгоды на рынке. При этом страх должен быть всеобщим. Кроме того, должно существовать равенство в страхе. Именно попыткой вырваться из этого страха индивида объясняет Э. Фромм культурную катастрофу Запада в ХХ веке:
«Человек, освободившийся от пут средневековой общинной жизни, страшился новой свободы, превратившей его в изолированный атом. Он нашел прибежище в новом идолопоклонстве крови и почве, к самым очевидным формам которого относятся национализм и расизм» [26, с. 474].
Когда человек Средневековья превращался в современного европейца, наука, перестраивая мышление на рациональной основе (оставляя Церкви душу, а не ум), разрушала традиционную культуру и традиционный тип сознания. Рационализм стал мощным средством освобождения человека от множества норм и запретов, зафиксированных в традициях, преданиях, табу. Так создавался необходимый для буржуазного общества свободный индивид9.
Научный метод вышел за стены лабораторий и стал формировать способ мышления не только в других сферах деятельности, но и в обыденном сознании. Уже этим создавалось уязвимое место, ибо большинство проблем, с которыми оперирует обыденное сознание, не укладываются в формализуемые, а тем более механистические, модели научного мышления.
Тенденция к «онаучиванию» и рационализации ценностных аспектов человеческой жизни беспокоили и русских философов. Н. А. Бердяев видел в этом признаки глубокого кризиса сознания.
«Ныне и идеализм, который прежде был метафизическим, стал наукообразным или мнит себя таким, – пишет он в 1914 г. в работе „Смысл творчества“. – Так создают для науки объект по существу вненаучный и сверхнаучный, а ценности исследуют методом, которому они неподсудны. Научно ценность не только нельзя исследовать, но нельзя и уловить» [12, с. 275].
В 1875 г. русский философ и публицист П. Н. Ткачев писал об интеллигентах-анархистах, стремящихся из рациональных соображений устранить дурные черты из «народного идеала»:
«На основании какого же критерия они находят дурным и ненормальным политический фатализм народа, выражающийся в некоторых местностях России верой в царя, его патриархальность (то есть весь строй его семейной жизни)… наконец, то подчинение лица миру, которое составляет один из основнейших принципов его общины? Очевидно, этот критерий почерпнут ими не «из недр народного сознания», очевидно, он основан не на «инстинктах и стремлениях народа». Он заимствован из той самой науки, из той чуждой предрассудков сознательной мысли меньшинства, к которым они относятся с таким пренебрежением, которые, по их мнению, не должны играть никакой роли в перестройке общественных отношений» [10, с. 185].
В периоды кризиса механицизма декартовский рационализм ставился под сомнение самими физиками (эмпириокритицизм), что сразу же находило отклик в идеологической борьбе и использовалось консерваторами. Иную природу носит критика рационализма науки экзистенционалистами (Хайдеггер, Сартр, Ясперс) в середине XX в. Уже чувствовались первые симптомы нынешнего кризиса индустриализма, и туманные предупреждения, что приобретшая огромную силу наука «опирается на интеллект, а не на разум», были в тот момент оценены далеко не в полной мере.
Мы не останавливаемся здесь на том факте, что даже революционная научная концепция, будучи интегрирована в идеологию и став парадигмой (сводом обязательных представлений), может оказывать и на саму науку обратное влияние, ограничивающее развитие некоторых ее ветвей. Такое влияние оказал механицизм, как доминирующая в культуре идея, на развитие биологии. Микроскоп был с энтузиазмом воспринят биологами в 60-х годах XVII в., но лишь на короткое время. Увиденная под микроскопом структура органов и анатомия насекомых не укладывались в механистические представления о живой материи. Возник острый конфликт между наблюдением и философской основой исследований. И биологи надолго отказались от микроскопа, сочтя что, лучше не видеть реальности, чем войти в конфликт с идеологией.
В XIX веке рационализм породил новый источник страхов, которые в дальнейшем предопределили, в качестве противоядия, тягу к иррациональному, интерес к подсознательному и даже оккультному. Культ рациональности в буржуазной культуре неожиданно породил в человеке его Другое – обострил иррациональное. Это иррациональное, «природное» в человеке трактовалось в буржуазной морали как нечто угрожающее и постыдное. Под воздействием этой морали в индивидууме возник «внутренний страх» – страх перед его собственной «непобежденной природой». Этому непредусмотренному эффекту от Просвещения посвящали свои труды многие философы XIX и ХХ веков. Уже наши современники Т. Адорно и М. Хоркхаймер считают, что именно сформулированное Просвещением требование тотального господства разума привело к раздвоению и самоотчуждению человека – болезни современного западного общества.
Вообще, свобода человека невозможна без наличия в его жизни некоторого минимального объема иррационального и неопределенного. Вторжение в эту область науки именно как рациональности ведет к полному доминированию социального порядка над личностью. С этим связано, например, трудно аргументируемое беспокойство начавшимся внедрением техники раннего определения пола будущего ребенка. Более понятная тревога вызвана начатой в Японии широкой программой исследований способов развлечения и праздников в разных странах с целью разработать, спланировать и внедрить в национальном масштабе рациональную систему проведения свободного времени японцами. Рационализация праздника, карнавала означает вытеснение наукой из целостного мироощущения человека еще одного важного элемента. Вероятно, впрочем, что японская программа – лишь повод для болезненной рефлексии европейского сознания, а собственно японская культура сумеет поглотить и «обезоружить» технократическую идею.
Рационализм, «вычистивший» из логического мышления этику и метафизику, выродился в нигилизм – отрицание ценностей («Запад – цивилизация, знающая цену всего и не знающая ценности ничего»). Рассматривая лежащую в основании механики Ньютона «мифологию нигилизма», русский философ А. Ф. Лосев указывает на ее прямую связь с мифологией социального нигилизма. Механике Ньютона, считает он, «вполне соответствует специфически новоевропейское учение о бесконечном прогрессе общества и культуры». Великим философом нигилизма был Ницше, в нашем веке его мысль продолжил Хайдеггер. Сам Хайдеггер прямо указывает на связь между нигилизмом и присущей западной цивилизации идеологии:
«Для Ницше нигилизм отнюдь не только явление упадка, – нигилизм как фундаментальный процесс западной истории вместе с тем и прежде всего есть закономерность этой истории. Поэтому и в размышлениях о нигилизме Ницше важно не столько описание того, как исторически протекает процесс обесценения высших ценностей, что дало бы затем возможность исчислять закат Европы, – нет, Ницше мыслит нигилизм как „внутреннюю логику“ исторического свершения Запада» [27, с. 150].
Ницше сказал западному обывателю: «Бог умер! Вы его убийцы, но дело в том, что вы даже не отдаете себе в этом отчета». Ницше еще верил, что после убийства Бога Запад найдет выход, породив из своих недр сверхчеловека. Такими и должны были стать фашисты. Но Хайдеггер, узнав их изнутри (он хотел стать философом фюрера), пришел к гораздо более тяжелому выводу: «сверхчеловек» Ницше – это средний западный гражданин, который голосует за тех, за кого «следует голосовать». Это индивидуум, который преодолел всякую потребность в смысле и прекрасно устроился в полном обессмысливании, в самом абсолютном абсурде, который совершенно невозмутимо воспринимает любое разрушение; который живет довольный в чудовищных джунглях аппаратов и технологий и пляшет на этом кладбище машин, всегда находя разумные и прагматические оправдания.
Хайдеггер усугубляет и понятие нигилизма: это не просто константа Запада, это активный принцип, который непрерывно атакует Запад, «падает» на него. Это – послание Западу. Хайдеггер нигде не дает и намека на совет человеку, не указывает путей выхода, и вывод его пессимистичен: Запад – мышеловка, в которой произошла полная утрата смысла бытия. И мышеловка такого типа, что из нее невозможно вырваться, она при этом выворачивается наизнанку, и ты вновь оказываешься внутри.
Как все это произошло с Западом – тайна. Философы сходятся в том, что убедительного объяснения этому нет, каждый дает существенные, но недостаточные причины. Здесь и утрата символов и традиций, и создание нового языка, и разрыв человеческих связей, что противопоставило культурную сущность человека его биологическому естеству. Как преломляется нигилизм в разных культурах – особая большая тема, которую мы не можем здесь развивать. Во всяком случае, в русской культуре он не раз приобретал взрывной характер как раз вследствие сочетания рационализма с глубокой, даже архаической верой. Об этом размышлял Достоевский, а Ницше даже ввел понятие об особом типе нигилизма – «нигилизм петербургского образца (т.е. вера в неверие, вплоть до мученичества за нее)».
Уязвимость «освобожденного от догм» рационального мышления (беззащитность разума перед происками дьявола) побуждала философов, например, Гёте к поиску особого типа научного мировоззрения, соединяющего знание и ценности. Путь, предложенный Гёте, оказался тупиковым, но важно само его предупреждение. Немецкий ученый В. Гейзенберг, наблюдавший соблазн фашизма, напоминает:
«Еще и сегодня Гёте может научить нас тому, что не следует допускать вырождения всех других познавательных органов за счет развития одного рационального анализа, что надо, напротив, постигать действительность всеми дарованными нам органами и уповать на то, что в таком случае и открывшаяся нам действительность отобразит сущностное, „единое, благое, истинное“ [28, с. 323].
В. Гейзенберг подчеркивает важную мысль: нигилизм, разрушая механизмы защиты сознания против манипуляции, может привести и не к рассыпанию общества, не к беспорядочному броуновскому движению потерявших ориентиры людей. Результатом может быть и соединение масс общей волей, направленной на странные, чуть ли не безумные цели. Он пишет:
«Характерной чертой любого нигилистического направления является отсутствие твердой общей основы, которая направляла бы деятельность личности. В жизни отдельного человека это проявляется в том, что человек теряет инстинктивное чувство правильного и ложного, иллюзорного и реального. В жизни народов это приводит к странным явлениям, когда огромные силы, собранные для достижения определенной цели, неожиданно изменяют свое направление и в своем разрушительном действии приводят к результатам, совершенно противоположным поставленной цели. При этом люди бывают настолько ослеплены ненавистью, что они с цинизмом наблюдают за всем этим, равнодушно пожимая плечами. Такое изменение воззрений людей, по-видимому, некоторым образом связано с развитием научного мышления» [28, с. 31].
Та картина мира и тот тип рациональности, которые послужили корнем науки Нового времени, с необходимостью сделали эту науку мощным инструментом отчуждения человека – и от природы, и от другого человека. Это особенно хорошо видно сейчас, когда наука, изменяясь сама и вырабатывая новую, преодолевающую механицизм картину мира, дает уже идеологические средства для поиска скрепляющих, а не атомизирующих механизмов. И. Пригожин пишет:
«Согласно известной формуле Фрейда, история науки есть история прогрессирующего отчуждения – открытия Галилея продемонстрировали, что человек не является центром планетарной системы, Дарвин показал, что человек – всего лишь одна из многочисленных биологических особей, населяющих землю… Однако [новые] представления о реальности предполагают обратное: в мире, основанном на нестабильности и созидательности, человечество опять оказывается в самом центре законов мироздания» [4, с. 52].
Сегодня впервые в истории науки господствующая идеология (неолиберализм) отрывается от современной научной картины мира и идет вспять, «к истокам», к механицизму и методологическому индивидуализму. Этот фундаментализм – признак глубокого культурного кризиса.
Но эта, разрушительная сторона рационализма в полной мере проявилась лишь сейчас, когда сила основанных на науке технологий превысила «сопротивляемость» человечества и среды его обитания. В 1966 г. Лоренц замечает:
«Рациональное мышление, основа и корень всех качеств и достижений, отличающих человека от других живых существ, дало ему исключительную власть над Природой. Среди возможностей, которые предоставила ему эта власть, имеется целая серия самых разных методов самоуничтожения» [17, с. 300].
Идея прогресса в идеологии
Идея прогресса, возникшая и развитая в науке, стала одним из оснований идеологий индустриального общества. Философ Р. Нисбет считает, что «на протяжении почти трех тысячелетий ни одна идея не была более важной или даже столь же важной, как идея прогресса в западной цивилизации». Так же, как в случае с идеей свободы, наука задала принципы легитимации прогресса, опираясь прежде всего на свой собственный образ. Свобода познания прямо вела к оправданию свободы неограниченного прогресса. Если, как говорилось выше, Кант концентрировал внимание на ограниченности компетенции науки, на существовании даже таких познавательных проблем, к которым неприложим научный метод, то уже в XIX веке положение изменилось – идеологи науки стали утверждать, что никто не вправе ограничивать компетенцию науки. Вначале говорилось о внутренней ограниченности способности науки к познанию. Сейчас акцент переместился на ограниченность прав общества предписывать нормы научному познанию.
Притязания науки как социального института на доминирующую роль в культуре и общественной жизни стали очевидны уже в викторианской Англии. Примечателен в этом отношении ритуал похорон Дарвина в Вестминстерском аббатстве почти в ранге святого. Историки обращают также внимание на все более явный церковный стиль в архитектуре зданий науки: конференц-залы многих викторианских университетов обзавелись готическими окнами и арками, большими органами; некоторые музеи естествознания были построены как «кафедральные соборы Природы».
Когда мы говорили об идеологии как инструменте легитимации экономической и политической системы современного общества, мы искусственно расчленяли целостную систему, важной частью которой стала наука10. Таким образом, наука, как часть этой системы, стала нуждаться в легитимации себя самой, собственного порядка. И здесь идея неограниченного прогресса как естественного закона развивающихся систем стала важнейшим аргументом в обосновании идеологических притязаний наук.
Как и в случае легитимации социального и политического порядка столь неравновесной системы, как рыночная экономика, обоснование полной свободы познания становится все более трудной задачей. Эта проблема мало волновала общество, когда наука была небольшой, удаленной от публики и безобидной, с точки зрения человека улицы, сферой интеллектуальной деятельности (хотя уже в середине XIX века воображение и женская интуиция создали образ доктора Франкенштейна). Да и философами и социологами вопрос о свободе науки от моральных ценностей ставился совсем иначе, чем сейчас.
Сразу отложим в сторону сравнительно простой вопрос: присутствие моральных ограничений, а значит, необходимость социального контроля в приложениях науки – в создании и использовании технологий. Сторонники свободы науки от ценностей не только признают эту проблему, но специально концентрируют на ней внимание, представляя сомнения в моральной автономии науки следствием смешения понятий. Как пишет физик П. Ходгсон, «может возникнуть оппозиция к науке… вследствие неумения различить собственно научное знание как таковое, которое всегда есть добро, от его приложений, которые не всегда осуществляются в согласии с высшими человеческими ценностями» [29, с. 137]. Слыша от современного физика, что научное знание всегда есть добро, нельзя не вспомнить саркастическую реплику Ницше: «Где древо познания – там всегда рай» – так вещают и старейшие и новейшие змеи».
Но положение уже невозможно спасти таким уходом в сторону технологии. Все больше и больше фактов говорит о том, что и знание как таковое не всегда есть добро, и на практике это проявляется в явной эволюции тех ограничений, которые мораль накладывает на научный эксперимент. Ведь он с самого начала был верно назван «допросом Природы под пыткой» (удивительно даже, как можно претендовать на свободу такой операции от моральных норм). Сейчас, например, никто не станет настаивать на ценностной нейтральности чисто научных экспериментов на человеке, наносящих ему вред. Между тем всего в 90-х годах XIX века хирурги пересаживали кусочки удаленной раковой опухоли в здоровую грудь пациентки и с интересом наблюдали, как возникает новая опухоль. И другие ученые заявляли в дебатах на международных научных конгрессах, что, хотя неэтично делать такие операции без согласия находившихся под наркозом пациентов, столь же неэтично игнорировать полученные ценные результаты.
Сейчас уже большинство экспериментов над животными, еще недавно вполне приемлемых для общественной морали, представляются недопустимыми – и ученые не решаются вступать по этому поводу в идеологические дебаты. Можно предвидеть, что весьма скоро с этической точки зрения будут оцениваться эксперименты с неживой природой. По мере того, как механистическая картина мира сдает свои позиции и экосистемы видятся в их неразрывной взаимосвязи с неживой природой, поле для экспериментов, не связанных с моральными нормами, неизбежно будет сокращаться. Академик Н. Н. Моисеев пишет:
«В самом деле, в основе основ любых исследований в физике, химии, других естественных науках лежит принцип повторяемости эксперимента, возможность многократного воспроизведения изучаемой ситуации. Что же касается биосферы, то она существует в единственном экземпляре, причем это объект непрерывно изменяющийся. Воспроизводимых ситуаций просто не существует! Наконец, производить эксперименты с биосферой нельзя: это аморально и бесконечно опасно» [30, с. 42].
Более того, не только эксперименты, представляющие собой вторжение в объект, его существенное изменение, но даже и наблюдения и измерения далеко не всегда являются ценностно нейтральными. Ибо неотъемлемой частью научного исследования является сообщение результатов, превращение их в отчуждаемое от исследователя знание. Исследователь, подобрав упавший с пиджака волос, определяет и обнародует генетический профиль человека. Налицо лишь появление некоторого нового знания о данном объекте, но оно может резко изменить жизнь человека (например, страховая компания не желает иметь с ним дела из-за повышенного риска преждевременной смерти; даже если результат сообщается лишь самому человеку, он небезобиден – обнародованный прогноз имеет тенденцию сбываться).
Чем больше человечество втягивается в «информационное общество», тем большее значение для жизни каждого приобретает информация – просто знание, до его приложения. Вот красноречивая иллюстрация.
«Любопытный пример политического табу в области демографической статистики, – пишет Яарон Эзраи, – представляет Ливан, политическая система которого основана на деликатном равновесии между христианским и мусульманским населением. Здесь в течение десятилетий откладывалось проведение переписи населения, поскольку обнародование с научной достоверностью образа социальной реальности, несовместимого с фикцией равновесия между религиозными сектами, могло бы иметь разрушительные последствия для политической системы» [31, с. 211].
Разве опыт Ливана не показывает, что это нежелание знать отнюдь не было абсурдным? Сторонники свободы науки от моральных ценностей, ссылаясь на аксиому о неизбежности и необходимости прогресса, предупреждают, что попытка связать науку с моралью будет означать сокращение эффективности познавательной деятельности. Вполне вероятно, что они правы, но этот аргумент лежит в совершенно иной плоскости. Большинство людей на земле отнюдь не считают прогресс науки наивысшей ценностью и не желают быть заложниками этой ценности. Как пишет Н. А. Бердяев, «у Достоевского есть потрясающие слова о том, что если бы на одной стороне была истина, а на другой Христос, то лучше отказаться от истины и пойти за Христом, т. е. пожертвовать мертвой истиной пассивного интеллекта во имя живой истины целостного духа». Но вопрос о выборе ценностей нет смысла обсуждать. Ценности человек выбирает в юном возрасте, и как это происходит – тайна. Но можно понять, что произойдет, если те или иные ценности и идеалы будут силой «продавливать» в том или ином конкретном обществе. Здесь для нас важно, что, как показала вся история науки, знание – сила. А накопление силы какой-то социальной группой, организацией или даже личностью не может быть процессом, свободным от моральных ценностей. И чем больше эта сила, тем опаснее ее претензия на автономию.
Но вернемся к становлению категории прогресса и роли науки в этом большом предприятии. Современный человек есть человек исторический. И нам кажется, что идеи длящегося времени и прогресса заложены в нашей структуре мышления естественным образом. Между тем, это – сравнительно недавние приобретения культуры. Лишь в христианстве человек одновременно открыл для себя понятие личной свободы и длящегося времени. Но эти понятия были освоены далеко не сразу. В Средние века, вплоть до XVII в., в сознании господствовала эсхатологическая концепция («сотворение мира – конец света»), дополненная понятием циклического времени, которое соответствовало как представлениям о небесных циклах, так и мироощущению человека аграрной цивилизации, жившего во времени естественных природных циклов.
Очень постепенно стала проникать в сознание идея линейного поступательного хода событий – сначала в теологию, затем в астрономию (у Тихо Браге, Кеплера и Дж. Бруно циклическое и линейное время уже сосуществуют). Но человек Возрождения еще не мыслил жизнь как прогресс, для него идеалы совершенства, к которым надо стремиться, остались в античности. Как пишет историк культуры и религии Мирча Элиаде, лишь «начиная с ХVII в. все больше утверждаются линейные толкования истории и прогрессистская концепция истории, распространяя веру в бесконечный прогресс – веру, провозглашенную уже Лейбницем, господствующую в век Просвещения и получившую особенно широкое распространение в ХIХ в. благодаря победе идей эволюционизма» [32, с. 131].
Рассматривая лежащую в основании механики Ньютона «мифологию нигилизма», русский философ А. Ф. Лосев указывает, что ей «вполне соответствует специфически новоевропейское учение о бесконечном прогрессе общества и культуры». Философы самых разных направлений приходят к выводу, что идея прогресса имеет под собой не рациональные, а именно религиозные основания и основана на специфической для европейской цивилизации вере. Н. А. Бердяев пишет:
«Психологию веры мы встречаем у самых крайних рационалистов, у самых фанатических сторонников научно-позитивного взгляда на мир. На это много раз уже указывалось. Люди „научного“ сознания полны всякого рода вер и даже суеверий: веры в прогресс, в закономерность природы, в справедливость, в социализм, веры в науку – именно веры» [33, с. 39].
В каких же основных направлениях питала идеологию постоянно доказываемая наукой идея прогресса? Капитализм впервые породил способ производства, обладающий самоподдерживающейся способностью к росту и экспансии. Стремление к расширению производства и повышению производительности труда не было естественным, вечным мотивом в деятельности людей. Традиционное производство было ориентировано на потребление (а если производство приносило прибыль, то она была лишь источником, средством для роскоши и наслаждений), и дух капитализма, ставящий высшей целью именно наживу, то есть возрастание достояния, был совершенно новым явлением.
Это новое качество, ставшее важным элементом социального порядка, требовало идеологического обоснования и нашло его в идее прогресса, которая приобрела силу естественного закона. Эта идея легитимировала и разрыв традиционных человеческих отношений, включая «любовь к отеческим гробам», и вытеснение чувств солидарности и сострадания. Страстный идеолог идеи прогресса Ницше поставил вопрос о замене этики «любви к ближнему» этикой «любви к дальнему». Исследователь Ницше русский философ С. Л. Франк пишет:
«Любовь к дальнему, стремление воплотить это „дальнее“ в жизнь имеет своим непременным условием разрыв с ближним. Этика любви к дальнему ввиду того, что всякое „дальнее“ для своего осуществления, для своего „приближения“ к реальной жизни требует времени и может произойти только в будущем, есть этика прогресса, и в этом смысле моральное миросозерцание Ницше есть типичное миросозерцание прогрессиста… Всякое же стремление к прогрессу основано на отрицании настоящего положения вещей и на полноте нравственной отчужденности от него. „Чужды и презренны мне люди настоящего, к которым еще так недавно влекло меня мое сердце; изгнан я из страны отцов и матерей моих“… Радикализм Ницше – его ненависть к существующему и его неутомимая жажда „разрушать могилы, сдвигать с места пограничные столбы и сбрасывать в крутые обрывы разбитые скрижали“ – не подлежит ни малейшему сомнению и делает его близким и понятным для всякого, кто хоть когда-либо и в каком-либо отношении испытывал такие же желания» [34, с. 18].
И все же и идея прогресса, и приложение дарвинизма к обществу, и механистическое представление о человеке-«атоме» являются лишь онаученным оправданием чисто идеологических установок, вытекающих из очень специфических религиозных ценностей основоположников капитализма. Их и вскрывает М. Вебер, изучая специфически буржуазное мировоззрение:
«В обладании милостью Божьей и Божьим благословением буржуазный предприниматель… мог и даже обязан был соблюдать свои деловые интересы. Более того, религиозная аскеза предоставляла в его распоряжение трезвых, добросовестных, чрезвычайно трудолюбивых рабочих, рассматривавших свою деятельность как угодную Богу цель жизни. Аскеза создавала и спокойную уверенность в том, что неравное распределение земных благ, так же как и предназначение к спасению лишь немногих, – дело божественного провидения, преследующего тем самым свои тайные, нам не известные цели. Уже Кальвину принадлежит часто цитируемое впоследствии изречение, что „народ“ (то есть рабочие и ремесленники) послушен воле Божьей лишь до той поры, пока он беден» [1, с. 202].
Насколько нетривиальным и не возникающим автоматически был этот буржуазный взгляд на мир, видно хотя бы из того, какой интеллектуальной изощренности потребовало разрешение целого ряда противоречий с христианской этикой. Надо внимательно вчитаться в то, что Вебер пишет далее:
«Чем больше космос современного капиталистического хозяйства следовал своим имманентным закономерностям, тем невозможнее оказывалась какая бы то ни было мыслимая связь с этикой религиозного братства. И она становилась все более невозможной, чем рациональнее и тем самым безличнее становился мир капиталистического хозяйства» [35, с. 317].
Одним из способов обойти это противоречие Вебер называет «парадокс профессиональной этики пуритан, которая в качестве религиозной виртуозности отказалась от универсализма любви, рационализировала всякую деятельность в миру как служение положительной воле Бога, в своем последнем смысле совершенно непонятной, но единственно в таком аспекте познаваемой, и тем самым приняла как подтверждение обладания божественным милосердием также экономический закон, отвергаемый вместе со всем миром как рукотворный и испорченный, в качестве угодного Богу материала для выполнения долга. Это было, по существу, принципиальным отказом от веры в спасение как цели, достижимой для людей и для каждого человека в отдельности, и заменой ее надеждой на милосердие Божие, даруемое без осознаваемой причины и всегда только в данном частном случае. Такое воззрение, не основанное на братстве, по существу уже не было подлинной „религией спасения“ [35, с. 317].
Вебер же указывает и на то, что сходство профессиональной этики буржуазного предпринимателя и нарождавшейся параллельно науки лежит не только в структурах мышления (рационализм), но и в сфере мотивации. Буржуа накапливает деньги ради денег, ученый – знание ради знания.
Идея прогресса настолько вошла в общественное сознание, что при обсуждении самых разных проблем в качестве бесспорного критерия прикидывают, в какой мере то или иное дело служит прогрессу. Как часто бывает при освоении идеологией какой-либо естественнонаучной концепции, ее содержание вульгаризируется или даже извращается. Эволюционная идея преломилась в общественном сознании буржуазного общества в убеждение, что все новое заведомо лучше старого, так что новизна стала самостоятельным важным параметром и целью. Так, прогресс в производстве товаров переориентировался с долговечности изделий на сокращение жизненного цикла производимой продукции, ускоренную смену ее поколений.
За рамки нашей темы выходит рассмотрение всего комплекса факторов, породивших столь искусственный социальный порядок, который получил название общество потребления. Известно только, что для его легитимации постоянно требуются очень большие идеологические усилия, и в них все сильнее эксплуатируется идея прогресса. Прогресс остановится, если мы не будем выбрасывать на свалку вполне пригодные автомобили и холодильники и покупать новые, содержащие еще одну крупицу науки. Без такой подспудной угрозы было бы недостаточно рекламы, обращающейся к эгоистическому сознанию («Купи его! Люби себя самого!» – вот реклама одного из автомобилей на Западе, а теперь варианты этой идеи мы видим в телевизионной рекламе и в России).
Искусственное создание потребностей в последние десятилетия в обществе, основанном на «экономике предложения», – это извращенное использование идеи прогресса в сочетании с представлением о бесконечности Вселенной во всех ее измерениях. Здесь возникает и существенный конфликт с идеей свободы : предполагая, что наши потомки будут более совершенными существами, чем мы, мы в то же время явно ограничиваем их будущую свободу, потребляя сегодня непропорциональное нашему месту в эволюции количество невозобновляемых ресурсов Земли.
Вплоть до недавнего времени все основные идеологии, кроме крайне консервативных (особенно фашизма в ХХ в.), находили основания в идее прогресса. Очень важной была эта идея для марксизма и всей западной социал-демократии. Малоизученным явлением является синергизм идеи прогресса с идеологиями, содержащими существенный религиозный компонент. Это явление наблюдается в странах, которые в силу исторических обстоятельств осуществляют индустриализацию и даже модернизацию в рамках структур традиционного общества. Из самых крупных подобных проектов можно назвать индустриализацию Японии, СССР и Китая. Во всех таких случаях внедрение идеи прогресса в культуру, не разложенную рационализмом рыночной экономики и «атомизации» человечества, придало ей характер огромной, в конечном счете религиозной цели. В литературной форме философский смысл этого явления выразил, например, Андрей Платонов (в повести «Ювенальное море»).
Однако лишь в самые последние десятилетия, когда стали очевидными естественные пределы индустриальной экспансии, сама центральная идея прогресса стала предметом сомнений. Лидер Социалистического Интернационала Вилли Брандт пишет:
«Возможности, идеал и условия того, что мы по традиции называем „прогрессом“, претерпели глубокие модификации, превратившись в объект политических разногласий. Прогресс – в технической, экономической и социальной областях – и социальная политика все чаще и чаще оказываются не только в состоянии конкуренции друг с другом, но даже в оппозиции» [36].
Будучи выразителем одной из центральных идеологий индустриализма – социал-демократии, Вилли Брандт делает акцент на том, что идея экспансии и прогресса пришла в противоречие с социальной политикой. В действительности дело обстоит гораздо сложнее – неразрывно связанные институты этой цивилизации (рыночная экономика, «атомизированная» демократия и рациональная наука) нуждаются в непрерывной экспансии в другие культуры (и даже в глубь человека). В период колониального господства казалось, что традиционные общества пали под ударами европейской цивилизации, но теперь видно, что процесс экспансии гораздо более длителен и болезнен. Устояла и вырвалась вперед Япония, огромный потенциал развития имеют Индия и Китай, отказавшиеся от разрушения своих культурных структур. Пережила катастрофу начала века и поднялась посредством социалистической модернизации Россия, и понадобилась нынешняя, гораздо более мощная революция, чтобы «вернуть ее в лоно цивилизации» в качестве провинции периферийного капитализма.
Наука и современный язык
Наука с ее сложной структурой, собственным труднодоступным языком, специфической системой норм поведения не может питать идеологию непосредственно. Предлагая человеку определенную картину мира и формируя тип его мышления, наука закладывает основания для принятия фундаментальных постулатов идеологии. Но этим роль науки не ограничивается – она помогает и «прикладной» идеологии. Прагматичная и гибкая идеологическая практика, включающая разработку объясняющих общество концепций и идей, превращение их в сообщения и внедрение этих сообщений в общественное сознание, нуждается в механизмах, стыкующих ее с наукой, «переводящих» продукт науки на язык идеологии. Этот стыковочный механизм развивался и обогащался усилиями обеих взаимодействующих систем – и наукой, и идеологией.
В том искусственном мире культуры, который окружает человека, выделяется особый мир слов – логосфера. Он включает в себя язык как средство общения и все формы «вербального мышления», в котором мысли облекаются в слова.
Язык как система понятий, слов (имен), в которых человек воспринимает мир и общество, есть самое главное средство подчинения (подробнее см. в [22]). «Мы – рабы слов», – сказал Маркс, а потом это буквально повторил Ницше. Этот вывод доказан множеством исследований, как теорема. В культурный багаж современного человека вошло представление, будто подчинение начинается с познания, которое служит основой убеждения. Слова у-бежденный и по-бежденный – однокоренные. Это идет из древности, из латинского, в котором слово «убеждать» (сonvinсere) буквально означает «заставлять быть вместе с победителем».
И вот одним из следствий научной революции XVI-XVII веков было немыслимое раньше явление: сознательное создание новых языков, с их морфологией, грамматикой и синтаксисом. В ходе Французской революции идеологи нового общества поняли, что главным средством власти будет в нем язык. Здесь сознательно пошли на поистине богоборческое дело – планомерное, как в лаборатории, создание нового языка. Первопроходцем здесь был Лавуазье, который создал язык химии, но философское значение этого далеко выходило за рамки науки (кстати, английских богобоязненных химиков смелость Лавуазье ужаснула). Предлагая новый, искусственно созданный язык химии, Лавуазье сказал: «Аналитический метод – это язык; язык – это аналитический метод; аналитический метод и язык – синонимы». Анализ значит расчленение, разделение (в противоположность синтезу – соединению); подчинять – значит разделять. Наука и возникла как разделение: вещей и слов, человека и мира, субъекта и объекта, знания и этики. Метод науки был воспринят идеологией нового общества – для объяснения мира, лишенного святости, нужен был новый язык.
Язык стал аналитическим, в то время как раньше он соединял – слова имели многослойный, множественный смысл. Они действовали во многом через коннотацию – порождение словом образов и чувств через ассоциации. Отбор слов в естественном языке отражает становление национального характера, тип человеческих отношений и отношения человека к миру. Русский говорит «у меня есть собака» и даже «у меня есть книга» – на европейские языки буквально перевести это невозможно. В русском языке категория собственности заменена категорией совместного бытия. Принадлежность собаки хозяину мы выражаем глаголом быть.
В Новое время, в новом обществе Запада естественный язык стал заменяться специально создаваемым. Теперь слова стали рациональными, они были очищены от множества уходящих в глубь веков смыслов. Они потеряли святость и ценность (приобретя взамен цену). Это был разрыв во всей истории человечества. Ведь раньше язык, как выразился Хайдеггер, «был самой священной из всех ценностей». Когда вместо силы главным средством власти стала манипуляция сознанием, власть имущим понадобилась полная свобода слова – превращение слова в безличный, неодухотворенный инструмент.
Хайдеггер, подводя после войны итог своим мыслям, писал (в «Письме о гуманизме»):
«Язык под господством новоевропейской метафизики субъективности почти неудержимо выпадает из своей стихии. Язык все еще не выдает нам своей сути: того, что он – дом истины Бытия. Язык, наоборот, поддается нашей голой воле и активности и служит орудием нашего господства над сущим» [37, с. 318].
«Освобождение» слова (так же, как и «освобождение» знания) означало прежде всего устранение из него святости, искры Божьей – десакрализацию. Означало и отделение слова от мира (от вещи). Слово, имя переставало тайно выражать заключенную в вещи первопричину. Древний философ Анаксимандр сказал о тайной силе слова: «Я открою вам ужасную тайну: язык есть наказание. Все вещи должны войти в язык, а затем вновь появиться из него словами в соответствии со своей отмеренной виной».
Разрыв слова и вещи был культурной мутацией, он отражал скачок от общества традиционного к гражданскому. Отрыв слова от скрытого в вещи смысла был важным шагом в разрушении всего упорядоченного Космоса, в котором жил и прочно стоял на ногах человек Средневековья и древности. Начав говорить «словами без корня», человек стал жить в разделенном мире, и в мире слов ему стало не на что опереться.
На создание и внедрение в сознание нового языка буржуазное общество истратило несравненно больше средств, чем на полицию, армию, вооружения. Ничего подобного не было в аграрной цивилизации (в том числе в старой Европе). Говорят, новое качество общества индустриального Запада заключалось в нарастающем потреблении минерального топлива. Сейчас добавляют, что не менее важным было то, что общество стало потреблять язык – так же, как минеральное топливо.
С книгопечатанием устный язык личных отношений был потеснен получением информации через книгу. В Средние века книг было очень мало (в церкви обычно имелся один экземпляр Библии). В университетах за чтение книги бралась плата. Всего за 50 лет книгопечатания, к началу XVI века, в Европе было издано 25-30 тыс. названий книг тиражом около 15 млн. экземпляров. Это был переломный момент. На массовой книге стала строиться и новая школа.
Главной ее задачей стало искоренение «туземного» языка своих народов. Философы используют не совсем приятное для русского уха слово «туземный» для обозначения того языка, который естественно вырос за века и корнями уходит в толщу культуры данного народа – в отличие от языка, созданного индустриальным обществом и воспринятого идеологией. Этот туземный язык, которому ребенок обучался в семье, на улице, на базаре, стал планомерно заменяться «правильным» языком, которому стали обучать платные профессионалы – языком газеты, радио, а теперь телевидения.
Язык стал товаром и распределяется по законам рынка. Французский философ, изучающий роль языка в обществе, Иван Иллич пишет: «В наше время слова стали на рынке одним из самых главных товаров, определяющих валовой национальный продукт. Именно деньги определяют, что будет сказано, кто это скажет и тип людей, которым это будет сказано. У богатых наций язык превратился в подобие губки, которая впитывает невероятные суммы». В отличие от туземного, язык, превращенный в капитал, стал продуктом производства, со своей технологией и научными разработками.
Как создавался «правильный» язык Запада? Из науки в идеологию, а затем и в обыденный язык перешли в огромном количестве слова-«амебы», прозрачные, не связанные с контекстом реальной жизни. Они настолько не связаны с конкретной реальностью, что могут быть вставлены практически в любой контекст, сфера их применимости исключительно широка (возьмите, например, слово прогресс). Это слова, как бы не имеющие корней, не связанные с вещами (миром). Они делятся и размножаются, не привлекая к себе внимания, – и пожирают старые слова. Они кажутся никак не связанными между собой, но это обманчивое впечатление. Они связаны, как поплавки рыболовной сети, – связи и сети не видно, но она ловит, запутывает наше представление о мире.
Важный признак этих слов-амеб – их кажущаяся «научность». Скажешь коммуникация вместо старого слова общение – и твои банальные мысли вроде бы подкрепляются авторитетом науки. Начинаешь даже думать, что именно эти слова выражают самые фундаментальные понятия нашего мышления. Слова-амебы – как маленькие ступеньки для восхождения по общественной лестнице, и их применение дает человеку социальные выгоды. Это и объясняет их «пожирающую» способность. В «приличном обществе» человек обязан их использовать.
Характеристики слов-амеб, которые заполнили язык, сегодня хорошо изучены. Предложено около 20 критериев для их различения. Так, эти слова уничтожают все богатство семейства синонимов и сокращают огромное поле смыслов до одного общего знаменателя. Он приобретает «размытую универсальность», обладая в то же время очень малым, а то и нулевым содержанием. Объект, который выражается этим словом, очень трудно определить другими словами – взять хотя бы слово «прогресс», одно из важнейших в современном языке. Отмечено, что эти слова-«амебы» не имеют исторического измерения, непонятно, когда и где они появились, у них нет корней. Они быстро приобретают интернациональный характер.
Наравне с логосферой в культуре можно выделить особый мир графических и живописных форм, воспринимаемых с помощью зрения – эйдосферу (от греческого слова «эйдос» – вид, образ).
Как правило, они употребляются в совокупности с текстом и числами, что дает многократный кооперативный эффект. Он связан с тем, что соединяются два разных типа восприятия, которые входят в резонанс и взаимно «раскачивают» друг друга. Эффект соединения слова и образа хорошо виден даже на простейшей комбинации. Издавна известно, что добавление к тексту хотя бы небольшой порции зрительных знаков резко снижает порог усилий, необходимых для восприятия сообщения. Например, графики и диаграммы делают статью интересной (на деле – понятной) для ученого.
Возьмем другой пример – использование зрительных образов в сочетании с авторитетом науки. Речь идет о географических картах. Они, как и язык, оказывают на человека огромное идеологическое воздействие (уже Николай Кузанский говорил: «язык относится к реальности, как карта к местности»). Уже с начала ХХ века (точнее, с зарождением геополитики – крайне идеологизированного учения о территориальных отношениях между государствами) карты стали интенсивно использоваться для манипуляции общественным сознанием.
В ходе развития цивилизации человек выработал два в принципе равноправных языка для записи, хранения и передачи информации – знаковый (цифра, буква) и иконический (визуальный образ, картинка). На пути соединения этих двух языков совершенно особое место занимает изобретение карты – важная веха в развитии культуры.
Карта как способ «свертывания» и соединения разнородной информации обладает не просто огромной, почти мистической эффективностью. Карта имеет не вполне еще объясненное свойство – она «вступает в диалог» с человеком. Карта – инструмент творчества, так же, как картина талантливого художника, которую зритель «додумывает», дополняет своим знанием и чувством, становясь соавтором художника. Карта мобилизует пласты неявного знания работающего с нею человека (а по своим запасам неявное, неформализованное знание превышает знание осознанное, выражаемое в словах и цифрах). В то же время карта мобилизует подсознание, гнездящиеся в нем иррациональные установки и предрассудки – надо только умело подтолкнуть человека на нужный путь работы мысли и чувства. Как мутное и потрескавшееся волшебное зеркало, карта открывает все новые и новые черты образа по мере того, как в нее вглядывается человек. При этом возможности создать в воображении человека именно тот образ, который нужен идеологам, огромны. Ведь карта – не отражение видимой реальности, как, например, кадр аэрофотосъемки. Это визуальное выражение представления о реальности, переработанного соответственно той или иной теории, той или иной идеологии.
В то же время карта воспринимается как продукт солидной, уважаемой и старой науки и воздействует на сознание человека всем авторитетом научного знания. Для человека, пропущенного через систему современного европейского образования, этот авторитет столь же непререкаем, как авторитет священных текстов для религиозного фанатика.
Первыми предприняли крупномасштабное использование географических карт для идеологической обработки населения немецкие фашисты. Они быстро установили, что чем лучше и «научнее» выполнена карта, тем сильнее ее воздействие на сознание в нужном направлении. И они не скупились на средства, так что фальсифицированные карты, которые оправдывали геополитические планы нацистов, стали шедеврами картографического издательского дела. Эти карты заполнили учебники, журналы, книги. Их изучение сегодня стало интересной главой в истории географии (и в истории идеологии).
В последние годы фабрикация географических карт (особенно в историческом разрезе) стала излюбленным средством для разжигания национального психоза при подготовке этнических конфликтов. Это – особая «горячая» сфера манипуляции общественным сознанием. Наглядная, красивая, «научно» сделанная карта былого расселения народа, утраченных исконных земель и т. д. воздействует на подогретые национальные чувства безотказно. При этом человек, глядящий на карту, совершенно беззащитен против того текста, которым сопровождают карту идеологи. Карта его завораживает, хотя он, как правило, даже не пытается в ней разобраться.
Мы сами совсем недавно были свидетелями, как во время перестройки идеологи, помахав картой Прибалтики с неразборчивой подписью Молотова, сумели полностью парализовать всякую способность к критическому анализу не только у депутатов Верховного Совета СССР, но и у большинства нормальных, здравомыслящих людей. А попробуйте спросить сегодня: какую же вы там ужасную тайну увидели? Почему при виде этой филькиной грамоты вы усомнились в самой законности существования СССР и итогов Второй мировой войны? Никто не вспомнит. А на той карте ничего и не было. Просто наши манипуляторы хорошо знали воздействие самого вида карты на сознание. Поскольку тоталитарный контроль над прессой был в их руках и никакие призывы к здравому смыслу дойти до масс не могли, успех был обеспечен.
Другое важнейшее средство идеологии – язык чисел. В числе, как и в слове, заложены множественные смыслы. Порой кажется, что эти – исключительно холодные, рассудочные, рациональные смыслы. Это не так. Изначально числа нагружены глубоким мистическим и религиозным содержанием. Не будем уж углубляться в «число зверя» и вообще каббалистику (хотя для манипуляции суеверного и религиозного сознания она используется сегодня в самых примитивных политических целях).
Число, как и слово, было изначально связано с вещью. Последователи религиозной секты Пифагора считали, что в числе выражена сущность, природа вещи, при этом число не может лгать, и в этом его преимущество перед словом. Пифагорейцы считали даже, что числа – это те матрицы (парадигмы), по которым создаются вещи. Вещи «подражают числам». Через число только и может быть понят мир.
Философ и богослов XV века Николай Кузанский, немало сделавший для подготовки Возрождения, поставил вопрос жестко: «Там, где терпит неудачу язык математики, человеческий дух ничего уже не сможет понять и узнать». Сила «языка чисел» объясняется тем, что он кажется максимально беспристрастным, он не может лгать (особенно если человек вообще спрячется за компьютером). Это снимает с тех, кто оперирует числами, множество ограничений, дает им такую свободу, с которой не сравнится никакая «свобода слова». Один из великих математиков современности Кантор так и сказал: «Сущность математики заключается в ее свободе».
М. Вебер особо отмечает ту роль, которую «дух счета» (сalсulating sрirit) сыграл при возникновении капитализма: пуританизм «преобразовал эту „расчетливость“, в самом деле являющуюся важным компонентом капитализма, из средства ведения хозяйства в принцип всего жизненного поведения». Эту «расчетливость» Запада укрепила и Научная революция, сделавшая механицизм основой мироощущения. Со времен Декарта для Запада характерна, как говорят философы, «одержимость пространством», которая выражается в склонности к «математическому методу» мышления11.
Но свобода тех, кто «владеет числом», означает глубокую, хотя и скрытую зависимость тех, кто числа «потребляет». Сила убеждения чисел огромна. Это предвидел уже Лейбниц: «В тот момент, когда будет формализован весь язык, прекратятся всякие несогласия; антагонисты усядутся за столом один напротив другого и скажут: подсчитаем!» Эта утопия означает полную замену качеств (ценностей) их количественным суррогатом (ценой). В свою очередь это снимает проблему выбора, занимает ее проблемой подсчета. Что и является смыслом технократии.
Магическая сила внушения, которой обладает число, такова, что если человек воспринял какое-либо абсурдное количественное утверждение, его уже почти невозможно вытеснить не только логикой, но и количественными же аргументами. Число имеет свойство застревать в мозгу необратимо.
Идеологическая сила числа многократно возрастает, когда числа связаны в математические формулы и уравнения – здравый смысл против них бессилен12. Говорят даже о мистической силе математических формул и сравнений. Здесь возник целый большой жанр идеологической манипуляции, особенно в сфере экономики, где одно время даже господствовала целая «наука» – эконометрия. Ее репутация рухнула в момент кризиса 1973 г., когда все ее расчеты оказались ложными.
Приспособление методологии науки к целям идеологии
Выше говорилось, что помимо «продукта науки» (например, научной картины мира) большим идеологическим потенциалом обладает сама методология научного познания.
Сформировав тип мышления, менталитет человека индустриальной цивилизации, наука предопределила и способы идеологического воздействия на него. Хабермас считает даже, что идеология как таковая возникла лишь вместе с наукой как продукт буржуазного общества. Идеология быстро стала пользоваться в своих целях методологическими средствами, создаваемыми наукой для познания.
Так, мощным средством науки был редукционизм – сведение объекта к максимально простой, желательно механической системе, которую можно описать на языке математики. Как утверждал Гельмгольц, «явления природы необходимо свести к движениям материальных частиц, обладающих неизменными движущими силами, которые зависят лишь от условий пространства». Собственно, наука и началась с упрощения объектов: мир без человека, знание без моральных ценностей, тело без души (Уайтхед писал о «разрушительном разделении тела и духа, внедренном в европейское мышление Декартом»). Редукционизм создал основу для огромных аналитических возможностей науки, но и, разумеется, создал затруднения в изучении сложных объектов, особенно человека и живой природы в целом.
Явное идеологическое значение приобретает редукционизм в тех науках о человеке, предметом которых является поведение (психология, психиатрия). Тот успех, который имеет в идеологии современного индустриализма бихевиоризм – механистическое представление человека как управляемой стимулами машины, К. Лоренц объясняет склонностью к «техноморфному мышлению, усвоенному Человечеством вследствие достижений в овладении неорганическим миром, который не требует принимать во внимание ни сложные структуры, ни качества систем… Бихевиоризм доводит его до крайних следствий. Другим моментом является жажда власти: уверенность, что человеком можно манипулировать посредством дрессировки, основана на стремлении достичь этой цели» [17, с. 143].
От брака науки и искусства родились средства массовой информации, и самое энергичное дитя – телевидение. Исследования процесса формирования общественного мнения показали поразительное сходство со структурой научного процесса. СМИ тоже превращают любую реальную проблему в модель, но делают это, в отличие от науки, не с целью познания, а с целью непосредственной манипуляции сознанием. Способность упрощать сложное явление, выявлять в нем или изобретать простые причинно-следственные связи в огромной степени определяет успех идеологической акции. Так, мощным средством науки был редукционизм – сведение объекта к максимально простой системе. Так же поступают СМИ.
Идеолог формулирует задачу («тему»), затем следует этап ее «проблематизации» (что в науке соответствует выдвижению гипотез), а затем этап редукционизма – превращения проблем в простые модели и поиск для их выражения максимально доступных штампов, лозунгов, афоризмов или изображений. Как пишет один специалист по телевидению, «эта тенденция к редукционизму должна рассматриваться как угроза миру и самой демократии. Она упрощает манипуляцию сознанием. Политические альтернативы формулируются на языке, заданном пропагандой». При этом сходстве важно, конечно, подчеркнуть целевое различие: в науке не выдержавшая проверки экспериментом гипотеза отбрасывается, а в идеологии опрос общественного мнения служит не для того, чтобы изменить отвергаемую обществом политику, а для поиска более эффективной пропагандистской стратегии, направленной на изменение общественного мнения.
Покуда в культуре господствовало механистическое мышление, редукционистские методы в идеологии действовали безотказно. Политэкономия, сведя многообразие жизни общества к отношениям собственности и рынку, дала убедительную механистическую модель, в которой условия броуновского движения людей-атомов объясняют состояние общества так же, как температура и давление газа объясняют движение поршня. В объяснении социальной истории и политики редукционизм стал опираться на другое важное методологическое средство науки – классификацию.
Этот метод, который был почти страстью науки XIX в., предполагал объединение объектов в множества по тому или иному основанию лишь в целях исследования, как абстракцию, имея в виду, что в действительности такого однозначного подразделения не существует. Идеология, адаптируя научный метод, отбросила эти предубеждения (хотя, впрочем, и многие ученые их быстро забыли). В сознание вошла идея классового деления общества со всеми последующими производными выводами. То, что явно не влезало в классификацию, выработанную «техноморфным» мышлением, объявлялось исчезающим (как, например, крестьянство). Огромные части человечества, многие культуры и способы производства оказались как бы несуществующими – некуда было деть Китай, в котором не существовало феодализма в западном смысле, не поддавался классификации экономический строй Индии – и он был туманно назван «азиатским способом производства» и т. д.
На протяжении XIX в. наука претерпела методологическую революцию, освоив статистический и вероятностный тип мышления, заменив или дополнив простейший механистический детерминизм. Идеология стала сферой, в которой эксплуатация статистики далеко выходит за рамки реальных возможностей этого метода. При этом нарушения и злоупотребления столь велики, что вызывает удивление позиция ученых, полностью устранившихся от «авторского контроля» за использованием в практике созданных ими методов и не считающих своим моральным долгом время от времени предупреждать общество о совершаемых под прикрытием статистики идеологических подлогах.
У науки идеология переняла мощное методологическое средство – представлять объект в виде модели. В науке же она находит и неисчерпаемый источник моделей самого разного вида – от сложных аналоговых моделей до художественных метафор.
Л. Карно (отец Сади Карно), исходя из математического анализа бесконечно малых, разработал «физическую теорию поведения», применив ее к военной стратегии. Главная идея теории в том, что эффективное поведение должно основываться на «исчезающе малых изменениях» («deрlaсements рar degrees insensibles»). Как говорилось впоследствии, Л. Карно впервые сформулировал здесь «термодинамический императив» поведения. В идеологии мы видим два приложения этой модели почти без изменения ее основных идей. Во-первых, в принципиальном, почти «термодинамическом», отрицании крупномасштабных (революционных) социальных изменений в социальной философии либералов (с которыми, впрочем, в этом пункте соглашаются и социал-демократы). Во-вторых, в тактике идеологического воздействия через средства массовой информации, согласно которой искажения правды в политических целях должны быть столь малыми, что не достигают «порога раздражения» читателя или слушателя. Редакторы сообщений могут лишь время от времени сознательно превышать этот порог с целью его измерения (но у нас в России, к счастью манипуляторов, публика такая доверчивая, что редакторам такие ухищрения ни к чему – раздражить людей враньем невозможно) [38].
Вот еще пример. Маркс взял в термодинамике очень плодотворную модель сложных процессов – циклы Карно (эту модель затем развивали многие ученые, в том числе Гельмгольц и Мах) – и творчески адаптировал ее для исследования и объяснения процессов в общественном производстве как циклов расширенного воспроизводства (экстенсивных и интенсивных). Эта модель до сих пор используется в идеологических дебатах в связи с альтернативами политики индустриального развития.
Консервативные идеологи Европы после Реставрации и особенно после революции 1848 г. взяли на вооружение для объяснения революционных процессов модель-метафору эпидемии. Эта модель распространения инфекционных заболеваний была уже хорошо разработана в медицине и широко известна. Представление революции как «политического нездоровья» и «психической эпидемии» было эффективно использовано властями – по прямой аналогии с понятными противоэпидемическими мерами возникли механизмы цензуры и превентивного заключения («карантина»).
В течение ХХ века, по мере массового распространения основанного на науке школьного образования, все большее воздействие на сознание стала оказывать интеллектуальная конструкция самого высокого уровня – теория. Идеология столь эффективно использует сильные научные теории, что они начинают господствовать в культуре и воспринимаются обыденным сознанием как вечные и очевидные истины. Например, теоретические модели антропологии, которые наука предлагала идеологам, а те после обработки и упрощения внедряли их в массовое сознание, самым кардинальным образом меняли представление человека о самом себе и тем самым программировали его поведение. Школа и СМИ оказывались сильнее, нежели традиции, проповеди в церкви и сказки бабушки. Когда, как говорят, теория становится главенствующей формой общественного сознания, это воздействие еще более усилилось. В разных вариантах ряд философов утверждают следующую мысль: «Поведение людей не может не зависеть от теорий, которых они сами придерживаются. Наше представление о человеке влияет на поведение людей, ибо оно определяет, чего каждый из нас ждет от другого… Представление способствует формированию действительности».
Интересно, однако, отметить, что и в болезненных, экстремальных проявлениях идеологии видна ее тесная связь с методологией науки. Негативным образом, через отрицание механицизма и редукционизма, опиралась на науку идеология немецкого фашизма. Здесь в крайней форме повторялись типичные идеологические приемы более ранних «консервативных революций» с их апелляцией к антииндустриальным и антинаучным настроениям, к ностальгии по традициям и добрым старым временам. Идеологическое наступление фашизма методологически было более разработано и последовательно «отрицало Ньютона ради Гёте», опиралось на системные лозунги, на акцентирование роли «целого» в противовес индивидуализму, на восстановление в своих правах отрицаемых наукой врожденных инстинктов человека.
Выступая с «системных» позиций, идеологи национал-социализма не только искали, как обычно, в науке легитимации объединения немцев в сплоченную группу для реализации самоубийственного предприятия. Они расшатывали общественное сознание, эксплуатируя реальные проявления кризиса индустриального общества. Тот факт, что системные идеи были идеологическим оружием в руках фашистов, не должен бросать тень на эти уже в то время актуальные идеи. Этот факт говорит лишь об интуиции и эффективности фашистов как идеологов.
Идеологическое значение авторитета науки. Участие ученых в политическом процессе
История дала нам очень хорошо изученный случай активного участия ученых в политике в качестве идеологов – Великую французскую революцию. Она разрушила Старый Порядок (эти слова даже писали с большой буквы, чтобы подчеркнуть цивилизационный масштаб этой революции, которая действительно изменила все жизнеустройство). Общепризнанно, что эта революция следовала грандиозному проекту, который вызревал в течение полувека и сам вытекал из философского и культурного течения, которое было названо Просвещением.
Как же вызревал тот проект и в чем выразился? В том, что группа видных деятелей науки в течение длительного времени целенаправленно и систематически описывала все главные устои Старого Порядка и убеждала общество в том, что эти устои негодны и должны быть сломаны.
У той революции были вдумчивые наблюдатели, а потом исследователи. Один из них – англичанин Э. Берк. Свои наблюдения он собрал в книге «Размышления о революции во Франции». Он пишет:
«Вместе с денежным капиталом вырос новый класс людей, с кем этот капитал очень скоро сформировал тесный союз, я имею в виду политических писателей. Немалый вклад внесли сюда академии Франции, а затем и энциклопедисты, принадлежащие к обществу этих джентльменов…
Многие из них действительно высоко стояли на ступенях литературы и науки. Мир воздал им должное: учитывая большие таланты, простил эгоистичность и злость их тщеславия… Эти отцы атеизма обладали своим собственным фанатизмом, они научились бороться с монахами их же методами. Для восполнения недостатков аргументации в ход пошли интриги. К этой системе литературной монополии присоединилась беспрестанная индустрия очернительства и дискредитации любыми способами всех тех, кто не вошел в их фракцию…» [39].
Э. Берк упомянул энциклопедистов. На их примере хорошо видно, как вынашивался проект. Небольшая группа видных ученых и философов, соединившись вокруг Дидро и Д’Аламбера, в течение 20 лет (до 1772 г.) выпускала «Энциклопедию», соединив в ней современные знания. Но главный замысел был в том, что каждый научный вопрос излагался так, чтобы доказать негодность Старого Порядка. В 1758 г. Генеральный Совет Франции принял даже специальное постановление об энциклопедистах: «С большой горечью мы вынуждены сказать это; нечего скрывать от себя, что имеется определенная программа, что составилось общество для поддержания материализма, уничтожения религии, внушения неповиновения и порчи нравов». Энциклопедия выходила легально, но был организован и «самиздат», в том числе за рубежом.
Разумеется, Франция – не исключение, подобную роль в процессе становления буржуазного общества авторитетные ученые играли и в других странах. В 1802 г. сам великий Хэмфри Дэви идеологически оправдывал эксплуатацию в терминах физических понятий: «Неравное распределение собственности и труда, различия в ранге и положении внутри человечества представляют собой источник энергии в цивилизованной жизни, ее движущую силу и даже ее истинную душу».
В СССР в подготовке к слому Старого Порядка ученые сыграли аналогичную роль. Видные деятели научной интеллигенции целенаправленно и методически убеждали граждан в негодности всех устоев советского порядка. Я с 1960 г. работал в Академии наук и прекрасно помню все разговоры, которые непрерывно велись в лаборатории, на домашних вечеринках или в походе у костра – оттачивались аргументы против всех существенных черт советского строя. Так и вызревало то, что можно назвать «проектом перестройки и реформы».
Оружием ученых, выступающих как участники идеологической борьбы, служил и служит авторитет, который наука завоевала в сфере знания – как «чистого», так и прикладного, творящего технологии. Основанный на очевидных достижениях в сфере познания, этот авторитет был незаконно перенесен в сферу убеждения – по проблемам, далеко выходящим за рамки компетенции науки. Уважение ученых не просто приобрело иррациональный, почти религиозный характер. Статус науки оказался выше статуса религии (парадоксальным образом, появились религиозные течения, которые претендуют на звание «научных»). Как пишут исследователи политической системы США, здесь «факты, удостоверенные именем науки» не только определяют содержание решений, но и обеспечивают доверие к этим решениям со стороны публики.
Это не произошло само собой: в викторианской Англии ученые вместе с политиками боролись за то, что наука заняла место церкви в общественной и культурной жизни (прежде всего в системе образования). Один из лидеров научного сообщества Френсис Гальтон признавал, что, вытеснив церковников с высших статусов социальной иерархии, можно будет создать «во всем королевстве разновидность научного священничества, чьими главными функциями будет охрана здоровья и благосостояния нации в самом широком смысле слова и жалованье которого будет соответствовать важности и разнообразию этих функций» [40, с. 82].
Действительно, во всех индустриальных странах «приручение» высшей научной элиты является важной задачей властей. Блага и почести, которые достаются представителям этой элиты, не пропорциональны их заслугам как исследователей, их роль – освящать политические решения. Аналогичным образом, диссидентское идеологическое течение резко усиливает свои позиции, если ему удается вовлечь известных ученых (желательно лауреатов Нобелевской премии). Например, общественный образ Движения сторонников мира в 50-е годы во многом определялся участием в нем таких ученых, как Фредерик Жолио-Кюри или Лайнус Полинг. А насколько слабее были бы позиции «правозащитного» движения в СССР, если бы во главе его не стоял крупный физик, академик А. Д. Сахаров, хотя никакого отношения к ядерной физике идеи диссидентов не имели.
Когда идеологическое течение, претендующее на политическую власть или уже обладающее ею, сомневается в возможности привлечения на свою сторону «официального» научного сообщества, оно старается найти в нем диссидентов, заключить с ними пакт о взаимопомощи и всеми возможными средствами придать им возможно более высокий «научный» статус. Так, национал-социалисты Германии активно поддерживали сторонников концепции «ледовой космогонии» (Welteislehre), – экстравагантной теории объяснения мироздания и даже антропологии. Фашисты старались придать этой группе статус научного сообщества, альтернативного «международной и еврейской» науке. Когда оказалось, что немецкие ученые и без того послушно интегрировались в структуры Третьего рейха, интерес к «ледовикам» пропал.
Таким образом, ценность для идеологии одобрения со стороны ученого не связана с его рациональной (научной) оценкой того или иного утверждения. Одобрение ученого носит харизматический (то есть не рациональный, а мистический) характер – общественные противоречия вызваны не дефицитом знания, а столкновением идеалов и интересов. И тут точное знание ученого мало чем может помочь. Иначе и быть не может – сам научный метод и стиль мышления заставляет их упрощать реальность. Продолжая мысль Канта и Шопенгауэра, молодой Витгенштейн писал: «Мы чувствуем, что даже если даны ответы на все возможные научные вопросы, то наши жизненные проблемы еще даже и не затронуты».
В общественной жизни, объяснением которой и занимается идеология, все проблемы и противоречия неразрывно связаны с моральными ценностями, с идеалами и интересами. В идеологии образ объективной науки, нейтральной по отношению к этике, служит именно для того, чтобы отключить воздействие на человека моральных ценностей как чего-то неуместного в серьезном деле, сделать человека беззащитным перед внедряемыми в его сознание доктринами.
Здесь совершается подлог: принятие решений, непосредственно касающихся человека и связанных с моральными ценностями, совершается под воздействием авторитета науки, в принципе неспособной эти ценности даже различить. На это присущее западной демократии противоречие обращал внимание М. Вебер:
«Невозможность „научного“ оправдания практической позиции – кроме того случая, когда обсуждаются средства достижения заранее намеченной цели, – вытекает из более веских оснований. Стремление к такому оправданию принципиально лишено смысла, потому что различные ценностные порядки мира находятся в непримиримой борьбе» [41, с. 725].
Возьмем довольно мягкий, но важный спор. Во время перестройки редкий демократический политик или журналист не помянул Ленина, который, якобы, заявил, что «кухарка может и должна управлять государством». Возникла даже привычная метафора «ленинской кухарки».
При этом не обошлось без примитивного обмана (чему способствовало вопиющее невежество политиков). В действительности В. И. Ленин писал в известной работе «Удержат ли большевики государственную власть»: «Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели» [42, с. 315]. Таким образом, Ленин говорит совершенно противоположное тому, что ему приписывала буквально вся демократическая пресса – при поддакивании почти всей интеллигенции. Более того, он специально заостряет проблему, чтобы показать, насколько примитивно мышление демократов «февральского» помета. Для него кажется очевидным, что любая кухарка не способна [находясь в состоянии кухарки] управлять государством (верить в это было бы утопией). Нет речи и о том, что она должна управлять государством13.
Но все же разберем проблему по сути – кто может и должен управлять государством. Уже забывшие о социальных антагонизмах люди доверились эффектной демагогии демократов, и в Советы всех уровней в 1989 г. были избраны почти исключительно интеллигенты. Люди поверили, что «государством должен управлять ученый». Для доказательства проблема была перенесена в социальную плоскость и связана с уже опороченным, как тогда казалось антисоветским идеологам, именем Ленина. На деле же это проблема философская и касается самой сущности власти, поставлена она была задолго до Ленина – философом IV века до нашей эры Платоном, который и сформулировал принципы «грамматократии», то есть власти образованных людей, ученых.
Дилемма «кухарка – ученый» формулирует проблему соответствия функций власти и типов мышления. «Кухарка» символизирует обыденное мышление, а «ученый» – специфическое научное рациональное мышление. Создание в общественном сознании образа глупой неграмотной женщины в грязном переднике («кухарки») как альтернативы элегантному и умному депутату-ученому – элементарный подлог, о нем даже не стоит много говорить.
А проблема заключается в том, что трактовать идеологические утверждения и принимать политические решения должен человек, обладающий именно обыденным сознанием, а не ученый. Обыденное сознание целостно, оно воспринимает реальность со всеми ее неформализуемыми и неизмерямыми сторонами, в том числе неприятными. Ученый же моделирует реальность, отвлекается от факторов, второстепенных с точки зрения процесса познания, но важных с точки зрения решения проблем. В процессе такого моделирования он часто «забывает про овраги» – отщепляет от создаваемой в воображении модели неприятные стороны реальности (впадает, как говорят, в аутизм, в грезы наяву).
Весь пафос «кухарки» – прокормить семью с имеющимися средствами, обеспечить воспроизводство жизни. «Ученый» же нацелен на познание, на эксперимент. Тот объект, который находится в его власти, сам по себе не представляет для него самостоятельной ценности, а есть лишь носитель информации о целом классе подобных объектов. И ученый ради эксперимента не останавливается перед тем, чтобы вскрыть и сломать объект. Это свойство в ученом доведено до такой степени, что совершенно нормальным в науке явлением была постановка эксперимента на себе самом! Даже личность самого ученого в его глазах не представляет существенной ценности по сравнению с той информацией, которая может быть получена при ее разрушении.
Наконец, вся деятельность «кухарки» сопряжена с любовью, она вся пронизана нравственными ценностями. «Ученый» же по определению должен быть беспристрастным и объективным, его решения свободны от моральных ценностей. Потому-то в западной социальной философии общепринято, что ученый по своему типу мышления не должен быть политиком, его роль – быть не более чем экспертом.
Более того, вне своей узкой области ученые, как правило, разбираются плохо, особенно в житейских проблемах. Можно даже сказать, что чем более знаменит ученый в своей области (как Сахаров в ядерной физике), тем меньше он пригоден быть политиком, тем менее он сведущ в вопросах жизни народа. Ницше писал: «Когда человек становится мастером в каком-либо деле, то обыкновенно именно в силу этого он остается полнейшим кропателем в большинстве других дел; но он судит совершенно иначе, как это уже знал Сократ». То есть, будучи специалистом, примитивным кропателем в делах жизни людей, Сахаров в то же время мнил себя проницательным политиком – потому, что глубоко изучил поведение элементарных частиц.
То влияние, которое приобрели в общественной жизни научные специалисты как идеологи, давно уже тревожит мыслителей как симптом культурной болезни Запада. Испанский философ Ортега-и-Гассет в книге «Восстание масс» пишет:
«Специалист служит нам как яркий, конкретный пример „нового человека“ и позволяет нам разглядеть весь радикализм его новизны… Его нельзя назвать образованным, так как он полный невежда во всем, что не входит в его специальность; он и не невежда, так как он все-таки „человек науки“ и знает в совершенстве свой крохотный уголок вселенной. Мы должны были бы назвать его „ученым невеждой“, и это очень серьезно, это значит, что во всех вопросах, ему неизвестных, он поведет себя не как человек, незнакомый с делом, но с авторитетом и амбицией, присущими знатоку и специалисту… Достаточно взглянуть, как неумно ведут себя сегодня во всех жизненных вопросах – в политике, в искусстве, в религии – наши „люди науки“, а за ними врачи, инженеры, экономисты, учителя… Как убого и нелепо они мыслят, судят, действуют! Непризнание авторитетов, отказ подчиняться кому бы то ни было – типичные черты человека массы – достигают апогея именно у этих довольно квалифицированных людей. Как раз эти люди символизируют и в значительной степени осуществляют современное господство масс, а их варварство – непосредственная причина деморализации Европы» [43].
Непрерывное повышение роли «научного священничества» в делах политики шло параллельно с процессом деполитизации масс. Хабермас объясняет это тем, что «реальное развитие капитализма пришло в явное противоречие с капиталистической идеей буржуазного общества, эмансипированного от подчинения и нейтрализовавшего власть. Фундаментальная идеология справедливого обмена, которую Маркс разоблачил в теории, рухнула на практике. Форма использования капитала посредством частной собственности может поддерживаться только благодаря коррективам со стороны государства, проводящего социальную и экономическую политику, стабилизирующую экономический цикл» [67, с. 353].
Поскольку очевидно, что в современном обществе с его сложной структурой невозможно поддерживать равновесие без сильных идеологических механизмов, встает вопрос о новой локализации «ядра» идеологии и о новом способе легитимации власти. Далее Хабермас пишет:
«В системах капитализма, регулируемого государством, формально демократическое правительство нуждается в легитимации, которая не может быть основана на возвращении к добуржуазной форме… [При этом остается] нерешенной жизненно важная задача легитимации: как осуществить деполитизацию масс в приемлемой для них форме? Маркузе мог бы ответить: сделав так, чтобы технология и наука взяли на себя также функции идеологии» [18, с. 357].
Дальнейший анализ приводит Хабермаса к выводу, что наука «может превратиться в базовую идеологию, которая проникает в сознание деполитизированной массы населения и приобретает в этом сознании легитимирующую силу». Этого не понадобилось. Кардинального изменения буржуазного общества, как казалось в 60-70-е годы, не произошло – тенденция к государственному регулированию и «социальному государству» сменилась очередным сдвигом вправо – консервативной волной и неолиберализмом. А значит, отпала необходимость в принципиально новой легитимации (снова «естественное право» опирается на концепции атомизированного общества и индивидуальных свобод).
Но видимая часть айсберга идеологической работы перестроилась, хотя наука в новой системе отнюдь не подавила и не заменила другие элементы, она лишь выведена на первый план. Достаточно окинуть взором основные виды идеологической продукции (печать, телевидение, рекламу), как становится ясно, что концептуальная основа идеологии продолжает опираться на ценности и интересы, а не на истину (научное знание). Из дебатов, связанных с легитимацией политического и социального порядка, действительно, на первый взгляд исчезли проблемы собственности и производственных отношений – они вытеснены фразеологией прогресса, и речь идет лишь о «социально-инженерных» проблемах этого прогресса. Но это – всего лишь ширма, скрывающая интересы господствующего меньшинства.
Не изменились коренным образом ни субъекты идеологии, ни ее аудитория: для легитимации «общества двух третей» надо делать вид, что маргинальной части как бы не существует – это «вымирающий вид», который надо из экологических соображений поддерживать благотворительностью. На рекламе кока-колы мы видим красавиц на пляже, но никогда не увидим безработного, сливающего в бутылочку остатки не допитой красавицами кока-колы (хотя чем не реклама пищевых качеств напитка?).
И все же расстановка действующих лиц на идеологической сцене изменилась. Наука, продолжая оставаться источником идей и методов для легитимации политического порядка, превратилась одновременно в исключительно влиятельный социальный институт. Научное сообщество стало крупной социальной группой со своими интересами и специфическими способами политического действия. «Научное священничество» стало даже массовой профессией, составляя уже существенную долю населения (в СССР в науке работало около 4 млн. человек, из которых 1,6 млн. были научными работниками, в США примерно столько же).
Отличительной чертой ученых как социальной группы является их международная интеграция, не достигающая такой интенсивности ни в какой иной сфере. Лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» в те времена, когда он был актуален, был нейтрализован национализмом буржуазных «государств-наций». Они стали подкармливать «своих» рабочих за счет внерыночной эксплуатации «Юга». Сейчас этот лозунг потерял смысл даже с классовой точки зрения: в социальном отношении рабочий и предприниматель США более близки, чем рабочий США и Боливии – отношения доминирования и эксплуатации между американцами и рабочими Боливии интенсивнее, чем между предпринимателями и рабочими США. Иное дело в науке. Сам всеобщий характер научного труда превращает мировое сообщество ученых в единый организм, и при всех частных культурных и идеологических различиях каждый ученый ощущает принадлежность к этому организму и ищет у него духовной и идеологической поддержки.
Ученые, ощутив себя важным социальным институтом, активно участвующим в формировании идеологии и в политической жизни, стали не только выполнять социальный заказ, но и проводить в жизнь свои социальные интересы (в частности, как говорил Гальтон, «добиваться достойного жалования»). Социальное сообщество ученых, разумеется, неоднородно, но было бы упрощением искать в нем классовые противоречия. Социальные отношения внутри науки несколько напоминают иерархическую, сословную («феодальную») систему. Дж. фон Нейман говорил: «В современной науке эра раннего христианства проходит, и наступает эра епископства. По правде говоря, руководители крупных лабораторий очень похожи на епископов – и их связью с власть имущими всех типов, и склонностью впадать в плотский грех гордыни и жаждой власти».
Что касается немногочисленной научной элиты («епископов науки»), то она сильно интегрирована в связанную с центрами власти верхушку общества во всех индустриальных странах. В СССР ведущие ученые принадлежали к высшим категориям номенклатуры, их присутствие было очень весомо в ЦК КПСС. Кем были прежде всего Е. П. Велихов или А. П. Александров – исследователями или иерархами КПСС? В США такие ученые включены в управление военно-промышленно-научного комплекса как члены советов директоров корпораций, члены и эксперты множества комиссий и комитетов.
Рядовые научные работники на Западе составляют сравнительно однородную группу, ведущую размеренный буржуазный образ жизни, соответствующий характеру работы. Явный конфликт научного сообщества с режимами бывших социалистических стран во многом был вызван снижением жизненного уровня ученых по сравнению с их коллегами на Западе. Чувствуя себя членами мирового научного сообщества, ученые СССР примеряли к себе стиль и уровень жизни ученых Запада, а сравнительно частые контакты с зарубежными коллегами сводили на нет защитное идеологическое действие «железного занавеса». Видимо, большинство научных работников в СССР и стран Восточной Европы поддержало, часто весьма радикально, переход к капиталистической экономике свободного рынка. От этого они ожидали удовлетворения своих социальных притязаний (а также «свобод» и обеспечения лучших материальных условий для продуктивной профессиональной работы). Пусть эти прогнозы были иллюзорны и научно-технические работники первыми были выброшены на улицу за ненадобностью, но эти иллюзии оказывали сильное воздействие на общественное сознание ученых и на их позицию в идеологической и политической борьбе.
Вернемся к вопросу о том, какую роль в далеких от науки сферах (например, в этике) играет тот авторитет, который завоевала наука в специфической сфере «свободного от этики» познания). Впечатляющим свидетельством того, до какой степени западный человек беззащитен перед авторитетом научного титула, стали социально-психологические эксперименты, проведенные в 60-е годы в Йельском университете (США), – так называемые «эксперименты Мильграма» (см., например, [40]). Целью экспериментов было изучение степени подчинения среднего нормального человека власти и авторитету. Иными словами, возможность программировать поведение людей, воздействуя на их сознание. В качестве испытуемых была взята представительная группа нормальных белых мужчин из среднего класса, цель эксперимента им, естественно не сообщалась. Им было сказано, что изучается влияние наказания на эффективность обучения (запоминания).
Испытуемым предлагалось выполнять роль преподавателя, наказывающего ученика с целью добиться лучшего усвоения материала. Ученик находился в соседней комнате и отвечал на вопросы по телефону. При ошибке учитель наказывал его электрическим разрядом, увеличивая напряжение на 15 вольт при каждой последующей ошибке (перед учителем было 30 выключателей – от 15 до 450 в). Разумеется, «ученик» не получал никакого разряда и лишь имитировал стоны и крики. Цель эксперимента заключалась не в исследовании влияния наказания на запоминание, как говорилось испытуемым, – изучалось поведение «учителя», подчиняющегося столь бесчеловечным указаниям руководителя эксперимента. Сам учитель перед этим получал разряд в 60 в., чтобы знать, насколько это неприятно. При разряде уже в 75 в. учитель слышал стоны учеников, при 150 в. – крики и просьбы прекратить наказания, при 300 в. – отказ от продолжения эксперимента. При 330 в. крики становились нечленораздельными. При этом руководитель не угрожал сомневающимся «учителям», а лишь говорил безразличным тоном, что следует продолжать эксперимент.
Перед опытами по просьбе Мильграма эксперты-психиатры из разных университетов США дали прогноз того, как, по их мнению, будут вести себя типичные американцы из среднего класса. Согласно этому прогнозу, не более 20% испытуемых продолжат эксперимент до половины (до 225 в.) и лишь один из тысячи нажмет последнюю кнопку. Результаты оказались поразительными. В действительности почти 80% испытуемых дошли до половины и более 60% нажали последнюю кнопку, приложив разряд в 450 в. То есть, вопреки всем прогнозам, огромное большинство испытуемых подчинились указаниям руководившего экспериментом «ученого» и наказывали ученика электрошоком даже после того, как тот переставал кричать и бить в стенку ногами.
В одной серии опытов из сорока испытуемых ни один не остановился до уровня 300 в. Пятеро отказались подчиняться лишь после этого уровня, четверо – после 315 в., двое после 330, один после 345, один после 360 и один после 375 в. Большинство было готово замучить человека чуть не до смерти, буквально слепо подчиняясь совершенно эфемерной, фиктивной власти руководителя экспериментов. При этом каждый прекрасно понимал, что он делает. Включая рубильник, люди приходили в такое возбуждение, какого, по словам Мильграма, никогда не приходилось видеть в социально-психологических экспериментах. Дело доходило до конвульсий. После опытов все испытуемые в сильном эмоциональном возбуждении пытались объяснить, что они не садисты и что их истерический хохот не означал, будто им нравится пытать человека.
В журнале экспериментатора записано: «Один из испытуемых пришел в лабораторию уверенный в себе, улыбающийся – солидный деловой человек. Через 20 мин. он превратился в тряпку – бормочущий, судорожно дергающийся, быстро приближающийся к нервному припадку. Он все время дергал себя за мочку уха и заламывал руки. В один из моментов он закрыл лицо руками и простонал: „Боже мой, когда же это кончится!“ Но продолжал подчиняться каждому слову экспериментатора и так дошел до конца шкалы напряжения».
Эти результаты и сами по себе потрясают, но для нас здесь важен тот факт, что такое слепое подчинение наблюдалось в том случае, когда руководитель эксперимента был представлен испытуемым как ученый. Когда же руководитель представал без научного ореола, как рядовой начинающий исследователь, число лиц, нажавших последнюю кнопку, снижалось до 20%. Снижалось более чем в три раза! Вот в какой степени авторитет науки подавлял моральные нормы белого образованного человека.
Философия науки и идеология
Важным механизмом «перевода» науки на язык идеологических проблем является философия науки - как бы сублимация самого научного знания, его духовная производная. Активное участие философии науки в формировании идеологий наблюдается на протяжении всей истории науки, начиная с ее самых ранних форм. Уже в идеологической борьбе в Древней Греции активно участвовали философы, доказывая высшую рациональность научного знания и научного метода.
Разумеется, философия науки, как и сама наука, верно служит разным идеологиям. Ни «Диалектика природы» Энгельса, ни «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина не вели, например, к легитимации технократизма. И распространение научного рационализма для Ленина было, напротив, предпосылкой к тому, что в будущем, овладев методами рационального мышления, «кухарка сможет управлять государством». Но нас сейчас интересует не сравнение и оценка идеологий, а взаимодействие науки и идеологии. И здесь философия науки занимает важное место.
Об этом говорят самые простые, но надежные показатели: виднейшие философы науки (Дюркгейм, Мангейм, Маркс, Вебер, Хабермас) имеют труды, содержащие в заглавии слово «идеология» или близкое понятие. Имена других философов науки часто встречаются в комбинации с именами крупных идеологов, например, Карл Поппер и Фридрих фон Хайек. Во время перестройки в СССР, когда потребовалось резко изменить идеологию, один из видных философов науки И. Т. Фролов стал советником Генерального секретаря КПСС, а затем членом Политбюро КПСС и главным редактором «Правды».
Велика была роль философии науки Поппера в формировании исключительно важной для современного мира идеологии неолиберализма и его концепции власти, государства, личности и свободы. Г. Радницки, излагая эту связь, подчеркивает как постулат, что «идеи науки и некоторые ее основания, в особенности различие между «Есть» и «Должно быть», относятся к условиям существования конституционного либерального государства с разделением власти» [44]. Что означает это на практике? В соответствии с теорией Поппера, свободная от ценностей наука является источником объективного знания, но в исследовании каждой конкретной проблемы она не гарантирует достоверности и может быть подвергнута критической проверке, опровергнута. Самим критерием научности в этой концепции является «беззащитность» результата перед проверкой, возможность найти способ попытаться опровергнуть результат (такого способа в принципе не было бы, если бы результат был защищен моральными ценностями – они рациональному опровержению не подлежат).
Отсюда следует, что поскольку рациональное знание не гарантирует достоверности, никто не вправе решать за других, даже демократическими методами. Поэтому, мол, надо обеспечить максимальную индивидуальную свободу, и хотя люди будут совершать ошибки, это будут их ошибки. Неолибералы рассматривают эту проблему на примере «парадокса» с обязательным социальным страхованием, которое основано на предположении, что индивидуальные решения будут менее разумны, чем решение, принятое коллективно в виде закона. По их мнению, отчисление из доходов индивида в фонды социального страхования лишают его возможности самому использовать эти деньги – так, как он сочтет наиболее выгодным. Да, признают они, многие при этом израсходуют эти деньги нерационально и ничего не накопят себе на старость – но это будет проявлением их свободы выбора.
Важные выводы следуют и в отношении политического порядка: государство как механизм политического выбора, осуществляемого гражданами демократическим путем, заменяется государством, организующим принятие решений на основе рациональных научных утверждений, подвергающихся попытке их опровержения. Речь идет о переходе к государству принятия решений, в котором нет места политике, всегда насыщенной ценностями, – она заменяется наукой. Естественно, что при превращении политики в технологию нет нужды и в политической активности масс.
Предполагается, что таким образом можно будет избежать пороков демократического государства: коррупции с целью образовать большинство, подкупаемое на отнятые у меньшинства средства (примером такого развития событий считают шведскую демократию начиная с 60-х годов). Эти философы обвиняют демократию в том, что она дает возможность принятия решений на основе пактов и уступок, с тенденцией превратиться в «неофеодальное» корпоративное государство. При этом, мол, возникает опасность гнета большинства или даже «тоталитарной демократии». Г. Радницки категоричен: «Если не будет усвоен урок, который можно извлечь из концепции опровергаемой науки, окажется невозможной социальная философия свободы». Но эта отвергающая демократию свобода, апеллирующая к призванным заменить политику рациональным решениям, ведет к «рациональному тоталитаризму», на опасность которого указывают многие западные философы.
Ранее мы упоминали о втором важном идеологическом выводе из философии Поппера – отрицании крупных, революционных изменений в обществе. Действительно, решения, в отличие от выбора, не могут быть крупными (у неолибералов в ходу такие афоризмы: «либеральное государство – это „минимальное“ государство», или «государство – это ночной сторож»). Знание приращивается эволюционно, не быстрее, чем образуется обратная связь через попытку опровержения и проверку. Не быстрее, чем приращение знания, должны производиться и изменения в обществе.
Особенно наглядно значение философии науки как идеологической основы политического и экономического порядка видно в тех обществах, где социальная группа, в которой доминирует европейское рациональное мышление, находится в меньшинстве. В этом случае легитимация порядка через обращение непосредственно к науке невозможна – большинство населения живет и мыслит в рамках иной культуры, наука для него недоступна. Такой была, например, ситуация в освободившихся от колониальной зависимости странах Латинской Америки в XIX в. Бразильский историк науки У. Д’Амброзио пишет:
«Поиск легитимирующей силы в новых странах Америки был связан с большими трудностями. Нужна была легитимация власти, альтернативная той, которая исходила из церковных структур, но эквивалентная ей с точки зрения восприятия народом, то есть основанная на мистицизме, который бы впечатлял своими символами, народу недоступными. Было большим соблазном представить знание, иерархически структурированное почти в форме Библии, обосновав им новый догматизм, необходимый как идеология для формирования нового общества… Теперь эта не подвергаемая сомнению легитимирующая сила, – Бог – заменяется другой системой, также не подвергаемой сомнению, – позитивной наукой» [45].
Такой философией науки, в которой истинность знания не подвергается сомнению, был позитивизм. Для идеологического контроля над представителями традиционных культур Латинской Америки позитивизм был представлен как религия, не подвергаемая сомнению и проверке. В Латинской Америке, особенно в Бразилии, он был встречен с энтузиазмом. «Эта доктрина оказалась наиболее подходящей для движения республиканцев, стремящихся к модернизации. Позитивизм, возведенный в ранг Церкви, дает обоснования, необходимые для политической и промышленной модернизации», – пишет Д’Амброзио и добавляет:
«Позитивизм Конта приводит к ошибочному представлению о науке и ее возможностях давать абсолютное объяснение. Особенно это проявляется в социальной сфере, где он ведет ко все более замкнутому и закостенелому догматизму, превращается в настоящую религию. Позитивизм предлагает быстрый доступ к объяснению и в то же время создает защитный барьер против таких моделей объяснения, которые включают в себя различные культурные основания, неизбежно ставящие под сомнение политический, социальный и экономический порядок, установленный креолами – борцами за независимость новых стран» [45].
Позитивизм и «наука-церковь» стали барьером, препятствующим взаимопроникновению европейской и местных культур, и средством легитимации сначала доминирования креолов, а потом и неоколониализма. Надо, впрочем, отметить, что во многих латиноамериканских странах позитивизм Конта быстро уступил место позитивизму Спенсера и социал-дарвинизму.
По– другому обстояло дело в странах с «европейским» мышлением. Здесь сначала непосредственно наука продемонстрировала высокую надежность и достоверность своих результатов и объяснений и создала свой авторитет. Но затем этот авторитет получил значительную автономию от конкретных результатов и стал сам по себе мощным средством убеждения.
Пример большой идеологической программы: легитимация экономики свободного предпринимательства
Легитимация власти неразрывно связана с обоснованием социально-экономического устройства общества. Становление науки Нового времени шло параллельно с формированием рыночной экономики капитализма. Еще до того, как возникла политэкономия, специальная наука, исследующая и обосновывающая «естественные законы» рыночной экономики, мощная идеологическая поддержка была предоставлена естественными науками. Сама политэкономия формировалась под сильным влиянием механистической модели Ньютона, воспроизведя четыре ключевых принципа этой модели: зависимость от скрытых сил, выражение взаимодействий на математическом языке, унифицированный предмет исследования и установление равновесия как основная тенденция системы. Политэкономия, подобно механике, предполагала наличие «невидимой направляющей руки» (сейчас предпочитают говорить о «магии рынка»). И здесь субъект экономических отношений свободен, но подчиняется естественным законам.
«Атомизированный» человек приобрел право на передвижение как в географическом, так и социальном пространстве, предпринимательскую деятельность и продажу своей рабочей силы. Законность свободы рынка и конкуренции подтверждалась видимым соответствием картины мироздания: равновесием, обратимостью и линейностью взаимодействий (отклонения от этой идеализированной картины хотя и являются нормой, представлялись и представляются идеологами как аномалии). Важнейшими основаниями естественного права в рыночной экономике являются индивидуализм людей-«атомов» и их рационализм. Английский социолог Б. Барнес пишет:
«Ряд ведущих научных школ доказывают, что склонность к рациональному расчету и приоритет индивидуальных интересов при выполнении рациональных расчетов являются врожденной склонностью людей, системообразующей частью человеческой природы. Согласно этим теориям, выполнять рациональные расчеты и быть эгоистами входит в саму сущность человека, и с этим ничего нельзя поделать… Наука играет [в этих теориях] фундаментальную роль. Как все более надежный источник знания, она становится прогрессивной, освобождающей силой. Благодаря ей люди становятся все лучше информированными, все более свободными для расчета последствий своих действий во все более широком спектре ситуаций и во все более продолжительной перспективе… Наука – предел непрерывного процесса рационализации. Научный прогресс ведет к утопии, в которой человеческая природа может быть выражена полностью, где всякое действие есть свободное действие индивидуума, основанное на индивидуальном рациональном расчете» [40, с. 133].
Мы не рассматриваем здесь ни реального функционирования рыночной экономики, ни обширной критики ее оснований. Заметим лишь, что дегуманизируя ее описание, механистическое мышление вынуждено было оставить в ведении «невидимой направляющей руки» не вмещающиеся в механистическую модель факторы, которые компенсировали саморазрушительный характер «идеального свободного рынка», в частности, такой важный культурный фактор, как протестантская этика. Эта этика, основанная на религиозных ценностях, является более фундаментальным фактором, чем рациональные соображения (в этом смысле отношения рыночной экономики ничуть не более рациональны, чем уравнительное распределение).
Формируя мировоззрение, стиль мышления и поведения, наука «создала» человека, принявшего идеологию индустриализма и включившего ее в свои культурные нормы. Легитимацию получила сама технология промышленного производства. Машина приобрела статус естественного продолжения природного мира, построенного как машина. Организация трудового процесса, требующая строгой синхронизации, имела свои предпосылки в освоении новой концепции времени, разделенного, в отличие от времени Средневековья, на равные и точные отрезки. Именно в науке произошел скачок «из царства приблизительности в мир прецизионности» и были созданы точные часы.
Говоря о созданной на базе науки технике и ее дегуманизирующей роли, обычно имеют в виду зависимость человека от нового материального мира (техносферы). Но уже один из основоположников философии экзистенционализма Ясперс, развивая идею демонизма техники, имел в виду нечто большее, а именно идеологический смысл механистического мироощущения. Он пишет:
«Вследствие уподобления всей жизненной деятельности работе машины общество превращается в одну большую машину, организующую всю жизнь людей. Бюрократия Египта, Римской Империи – лишь подступы к современному государству с его разветвленным чиновничьим аппаратом. Все, что задумано для осуществления какой-либо деятельности, должно быть построено по образцу машины, т.е. должно обладать точностью, предначертанностью действий, быть связанным внешними правилами… Все, связанное с душевными переживаниями и верой, допускается лишь при условии, что оно полезно для цели, поставленной перед машиной. Человек сам становится одним из видов сырья, подлежащего целенаправленной обработке. Видимость человечности допускается, даже требуется, на словах она даже объявляется главным, но, как только цель того требует, на нее самым решительным образом посягают. Поэтому традиция в той мере, в какой в ней коренятся абсолютные требования, уничтожается, а люди в своей массе уподобляются песчинкам и, будучи лишены корней, могут быть именно поэтому использованы наилучшим образом» [46, с. 144].
Идеологический ресурс идеи атомизма, равновесия и обратимости был ограничен. Его еще хватало в шоковый период перехода от одного типа цивилизации к другому. Но человеку с уже сложившимся индустриальным мышлением требовалось более убедительное основание социального порядка, при котором якобы равные личности в рыночной экономике столь быстро и необратимо оказываются в неравновесных условиях и образуют социальные слои с очевидно неравными возможностями. Концепция «войны всех против всех» не подтверждалась.
Здесь, пожалуй, впервые наука сильно задержалась с выполнением идеологического заказа. Порождаемое рыночной экономикой неравенство и страдание взялась объяснять философия (Мальтус), хотя в необходимой уже форме научной и даже математизированной теории. Пожалуй, мальтузианство как раз и можно считать четко сформулированным социальным заказом науке. Ответом на него и была научная теория – эволюционное учение Дарвина. Придя из науки, изучающей объективные законы природы, эта концепция имела несравненно более мощное легитимирующее воздействие, чем мальтузианство с его явной идеологической направленностью.
Получив сильный начальный импульс из идеологии, эволюционное учение вернулось в нее в виде социал-дарвинизма. Идеологи рыночной экономики (Герберт Спенсер и др.) черпали из дарвинизма аргументы в обоснование ее естественного права, предполагающего вытеснение и гибель слабых, неспособных или отстающих в своей эволюции. «Бедность бездарных, – пишет Спенсер, – несчастья, обрушивающиеся на неблагоразумных, голод, изнуряющий бездельников, и то, что сильные оттесняют слабых, оставляя многих „на мели и в нищете“ – все это воля мудрого и всеблагого провидения». То есть, социальное расслоение – «естественный» порядок и освящен наукой. Историк дарвинизма Дж. Говард пишет:
«После Дарвина мыслители периодически возвращались к выведению абсолютных этических принципов из эволюционной теории. В английском обществе позднего викторианского периода и особенно в Америке стала общепринятой особенно зверская форма оправдания социального порядка – социал-дарвинизм – под лозунгом Г. Спенсера „выживание наиболее способных“. Закон эволюции был интерпретирован в том смысле, что победа более сильного является необходимым условием прогресса» [47].
Сам Дарвин не был «социал-дарвинистом». Он неоднократно говорил о своем несогласии с утверждениями Спенсера и его концепцией прогресса, ни в коем случае не сводил все многообразие отношений в природе к конкуренции и борьбе. И все же отделить дарвинизм от его идеологической интерпретации невозможно. Известный защитник Дарвина, М. Русе, пишет:
«В ряде случаев Дарвин ясно выразил свое неприятие социал-дарвинизма… однако в „Происхождении человека“ Дарвин сожалел о том, что методы медицины, в число которых он включал, например, вакцинацию, сохраняют жизнь плохо приспособленным индивидуумам, и добавлял, что „у каждого, кто наблюдал улучшение пород домашних животных, не может быть ни малейших сомнений в том, что эта практика [вакцинация] должна иметь самые роковые последствия для человеческой породы“. Таким образом, взаимоотношения между дарвинизмом социальным и биологическим остаются не вполне ясными…» [48, с. 330].
Заметим, впрочем, что в действительности возникшая в недрах специфической культуры и специфического европейского мышления, основанная на конкуренции рыночная экономика отнюдь не является более «естественной», чем, например, «азиатский способ производства» Индии. В существенных чертах противоречит она и эволюционному учению. К. Лоренц пишет:
«Существует целый ряд доказанных случаев, когда конкуренция между себе подобными, то есть внутривидовой отбор, вызывала очень неблагоприятную специализацию… Мы должны отдавать себе отчет в том, что только профессиональная конкуренция, а не естественная необходимость, заставляет нас работать в ритме, ведущем к инфаркту и нервному срыву. В этом видно, насколько глупа лихорадочная суета западной цивилизации» [17, с. 266].
Но чтобы оправдать эту суету, социал-дарвинизм был очень нужен, и он вошел в культурный багаж западной цивилизации и получил широкую аудиторию в конце XIX – начале ХХ в. прежде всего благодаря своей роли в обосновании экономического либерализма и примитивного промышленного капитализма. Идолами общества стали успешные дельцы капиталистической экономики, self-made men. Широко известна фраза Джона Рокфеллера: «Расширение крупной фирмы – это не что иное, как выживание наиболее способного».
Идеи дарвинизма вдохновляли и Ницше на создание классификации человечества на подвиды (человек духовный, человек социальный и человек биологический) и идеализацию «сверхчеловека». Ницше изложил идею борьбы за выживание как сути человеческих отношений (и даже классовых отношений), свое принципиальное неприятие сострадания и поддержки слабых в поэтической форме. В одном из своих главных трудов «По ту сторону добра и зла» он писал:
«Взаимно воздерживаться от оскорблений, от насилия и эксплуатации, соразмерять свою волю с волею другого – это можно считать в известном грубом смысле добронравием среди индивидуумов, если даны нужные для этого условия (именно, их фактическое сходство по силам и достоинствам и принадлежность к одной корпорации). Но как только мы попробуем взять этот принцип в более широком смысле и по возможности даже сделать его основным принципом общества, то он тотчас же окажется тем, что он и есть, – волей к отрицанию жизни, принципом распадения и гибели. Тут нужно основательно вдуматься в самую суть дела и воздержаться от всякой сентиментальной слабости: сама жизнь по существу своему есть присваивание, нанесение вреда, преодоление чуждого и более слабого, угнетение, суровость, насильственное навязывание собственных форм, аннексия и по меньшей мере, по мягкой мере, эксплуатация, – но зачем же постоянно употреблять именно такие слова, на которые клевета наложила издревле свою печать?» [16, с. 380].
Многие социалисты Англии и США, напротив, искали в концепции «борьбы за существование» обоснование классовой борьбы пролетариата, цитируя Дарвина чаще, чем Маркса. Как пишет историк дарвинизма Д. Олдройд, «все оттенки политической мысли смогли найти для себя поддержку в теории Дарвина-Уоллеса». Для развития самого марксизма эволюционное учение имело огромное, прежде всего методологическое значение. Маркс писал Энгельсу после выхода книги Дарвина, что теперь его теория капитала имеет естественнонаучное обоснование, и послал Дарвину рукопись «Капитала», прося разрешение посвятить ему этот труд (на что Дарвин разрешения не дал). Можно сказать, что если в политэкономии Адама Смита спроецирована механистическая картина мира, то в «Капитале» – эволюционная, с циклами расширенного производства и научно-техническим прогрессом как эндогенным, то есть внутренне присущим фактором капиталистического производства.
Интересно отметить, что хотя концепция «борьбы за существование» хорошо служила всем идеологам, стремящимся легитимировать борьбу того или иного класса, лежащая в основе этой концепции идея сохранения вида сильно подрывала идеализированную модель экономики свободного рынка, отрицающую «ассоциацию атомов», при котором уже нет борьбы всех против всех. Поэтому во время периодически повторяющихся «консервативных волн», когда усиливается идеологическое наступление на вмешательство профсоюзов и правительства в вольную борьбу на рынке, философы получают стимул для поиска новых оснований классических тезисов Гоббса или их новых интерпретаций. Вот как выступает сейчас, на гребне неолиберальной волны, сторонник неограниченной свободы рынка немецкий философ Г. Радницки:
«В так называемой биологической „борьбе за существование“ вовсе нет стремления к сохранению видов, как думали в течение долгого времени, как нет также стремления к выживанию со стороны индивида. Скорее, как показывает эволюционная биология, поведение может быть объяснено при помощи гипотезы, что каждый индивидуум ведет себя так, чтобы максимизировать собственный успех в воспроизведении себя самого, как будто желает помочь выжить своим собственным генам, вместо того чтобы помочь выжить виду» [44, с. 54].
Это – лишь несколько модернизированная схема Гоббса, приближенная к реальности в том смысле, что индивидуальные атомы в ней наделены генами, в которых и записана сущность каждого атома. Новое мощное обоснование необратимого социального неравенства дала в начале ХХ в. генетика. Оптимизм социальных реформ конца XIX в., считавших, что распространенные в низших слоях общества людские пороки можно исправить изменением социальных условий, исчезал по мере того, как генетика доказывала невозможность наследования приобретенных признаков. Сейчас к обоснованию социал-дарвинизма присоединились молекулярная биология и генная инженерия, позволяющие вполне «объективно» предсказывать поведение человека путем диагностики его генетических дефектов в раннем возрасте или даже на стадии эмбриона.
Игнорируя, подобно сторонникам евгеники начала века, социальную сущность человека, современные пропагандисты социальной генетической диагностики создают идеологическую основу для маргинализации – вытеснения из общества значительной части бедных слоев населения и даже среднего класса. Решается очень непростая задача легитимации общества двух третей в развитых индустриальных странах. Становятся как бы научно оправданными превентивные полицейские меры против подростков, «генетически предрасположенных» в будущем к алкоголизму, агрессивному поведению и преступности, сегрегация и сокращение расходов на школьное образование детей с «врожденной» склонностью к неуспеваемости. Американские социологи в книге под названием «Опасная диагностика: Социальная власть биологической информации» говорят о возникновении нового класса – класса «биологически угнетенных» людей, хотя очевидно, что эта новая классификация совпадает с социальной.
Социолог из ФРГ П. Вайнгарт, сравнивая новую волну евгенических настроений с концепциями расовой гигиены и евгеники фашистской Германии, с облегчением констатирует, что положение радикально изменилось благодаря технологии генетической диагностики: теперь не государство принимает решение о судьбе потенциального ребенка, а сами родители – технология дала им такую возможность, «что означает общий процесс рационализации». Но технология создала и другой тип власти общества над человеком, во многом заменяющий вмешательство государства, – власти средств массовых коммуникаций и массовой культуры, формирующих систему ценностей и поведение личности.
Быть может, участие ученых в политической практике в качестве экспертов в спокойные периоды не позволяет видеть идеологические стороны их суждений, оценок и рекомендаций. Как сказал однажды Роберт Вуд, ученые хорошо знают, что их авторитет и влияние на политику в большой степени зависит от их способности казаться аполитичными. Однако, хотя в любые периоды политические решения не могут быть свободны от идеологических предпочтений, в моменты кризисов или серьезных конфликтов эксперты-ученые совершенно открыто используют авторитет рационального, якобы «свободного от ценностей» научного знания в очевидно идеологических целях.
Особый всплеск социал-дарвинизма и евгеники вызвал кризис конца 20-х и начала 30-х годов. Некоторые ученые в этот момент перешли от идеологического обоснования социального порядка к прямым политическим рекомендациям. В Англии виднейший ученый, сэр Джулиан Хаксли, предупреждал о необходимости мер, не допускающих, чтобы «землю унаследовали глупцы, лентяи, неосторожные и никчемные люди». Чтобы сократить рождаемость в среде рабочих, Хаксли предложил обусловить выдачу пособий по безработице обязательством не иметь больше детей. «Нарушение этого приказа, – писал ученый, – могло бы быть наказано коротким периодом изоляции в трудовом лагере. После трех или шести месяцев разлуки с женой нарушитель, быть может, в будущем будет более осмотрительным». Немало было и возражений против программ социальной помощи, «ложной филантропии», поддерживающей слабых и тем самым нарушающей закон борьбы за существование. Но, как выразился Ницше, «сострадание в человеке познания почти так же смешно, как нежные руки у циклопа».
Последний исключительно сильный всплеск социал-дарвинизма мы наблюдаем в конце 80-х годов в СССР, а затем в России, в связи с необходимостью легитимации рыночной экономики и неизбежного социального расслоения. Это – первый случай, когда рыночная экономика внедряется путем радикального регресса (попросту, ограбления) общества, а не вырастает в ходе развития производительных сил. Поэтому идеологические выступления с отсылками к социал-дарвинизму носят преувеличенный, экстремистский характер, свойственный революционной пропаганде. В солидном философском журнале на Западе почти невозможно прочесть столь откровенные мальтузианские утверждения, как в нынешних российских академических «Вопросах философии» (так, Н. Ф. Реймерс и В. А. Шупер всерьез утверждают: «На кончике иглы можно поместить сколько угодно чертей, но наша планета приспособлена не более чем для 1-1,5 млрд. людей» [49, с. 70]. Еще, впрочем, прямо не говорят, по какому критерию предполагают проводить селекцию 4 млрд. лишних людей).
Основным объектом атаки советских социал-дарвинистов является идея равенства. Вполне в духе первого теоретика консерватизма XVIII в. Э. Берка (как, впрочем, и теоретиков всех последующих «консервативных волн») они представляют равенство непримиримым антиподом свободы. Следуя положению английского неолиберала Р. Скрутона, что «недовольство усмиряется не равенством, а приданием законной силы неравенству», для разрушения уравнительного идеала в общественном сознании широко применяется «биологическая» аргументация. Доказывается, что в результате революции, войн и репрессий произошло генетическое вырождение большинства населения СССР, и оно в ницшеанской классификации уже не поднимается выше категории «человек биологический».
Видный социолог В. Шубкин дает в «Новом мире» такие определения: Человек биологический – «существо, озабоченное удовлетворением своих потребностей… речь идет о еде, одежде, жилище, воспроизводстве своего рода». Человек социальный – «в социологии его нередко определяют как „внешне ориентированную“ личность в отличие от личности „внутренне ориентированной“… он „непрерывно, словно четки, перебирает варианты: это выгодно, это не выгодно… Если такой тип не нарушает какие-то нормы, то лишь потому, что боится наказания. Он как бы в вечном жестоком противоборстве с обществом, с теми или иными социальными институтами“, у него „как видно, нет внутренних ограничений, можно сказать, что он лишен совести“. Человек духовный – „это, если говорить кратко, по старому, человек с совестью. Иначе говоря, со способностью различать добро и зло“. Каково же, по выражению В. Шубкина, „качество населяющей нашу страну популяции“? Это качество удручающе низко в результате якобы организованной в стране „генетической катастрофы“:
«По существу, был ликвидирован человек социальный, поскольку любая самодеятельная общественная жизнь была запрещена… Человек перестал быть даже „общественным животным“. Большинство людей было обречено на чисто биологическое существование… Человек биологический стал главным героем этого времени» [50].
Идеологическое содержание таких выступлений вполне ясно и необходимо для оправдания тех катастрофических социальных последствий, с которыми сопряжен радикальный проект перехода к рыночной экономике. Мы не затрагиваем этот идеологический аспект по существу – нам здесь важно лишь то, что мифический тезис о генетическом вырождении советского народа, легитимирующий обращение с ним как популяцией сугубо биологических существ, прикрывается авторитетом науки.
Известный ученый, народный депутат СССР Н. Амосов обосновывает необходимость, в целях «научного» управления обществом в СССР, «крупномасштабного психосоциологического изучения граждан, принадлежащих к разным социальным группам» с целью распределения их на два классических типа: «сильных» и «слабых». Он пишет: Неравенство является сильным стимулом прогресса, но в то же время служит источником недовольства слабых… Лидерство, жадность, немного сопереживания и любопытства при значительной воспитуемости – вот естество человека» [51].
Хотя в большинстве консервативных атак на идею равенства звучит пессимистическая и негативная нота («не отдать землю в руки низших существ»), наши отечественные неолибералы, которые полны утопических планов построения в России рыночного общества, видят в неравенстве ту разность потенциалов, тот источник стимулов, который направит все силы общества в русло прогресса.
Социал– дарвинизм и представление прогресса высшей и универсальной ценностью помогли обеспечить в глазах образованного западного человека легитимацию империализма и эксплуатации колоний и «третьего мира». Капиталистическая рыночная экономика, которая сложилась в Европе под знаменем войны всех против всех -искусственная и крайне неравновесная система. На протяжении всей ее истории она вынуждена поддерживать равновесие путем экспансии – в поисках сырья, энергии, рабочей силы или рынков сбыта, а также в поисках тех буферных социальных систем, куда она могла бы экспортировать свои проблемы и где гасить флуктуации (например, путем вывоза в эти страны «кризисонеустойчивых производств»). Р. Люксембург писала в 1908 г.:
«Капиталистическое накопление зависит от средств производства, созданных вне капиталистической системы… Непрерывный рост производительности труда, который является главным фактором повышения нормы прибавочной стоимости, требует неограниченного использования всех материалов и всех ресурсов почвы и природы в целом. Сущность и способ существования капитализма несовместимы ни с каким ограничением в этом плане… В целом капиталистическое производство сосредоточено главным образом в странах с умеренным климатом. Если бы капитализм был вынужден пользоваться только ресурсами, расположенными в этой зоне, само его развитие было бы невозможно. Начиная с момента своего зарождения капитал стремился привлечь все производственные ресурсы всего мира. В своем стремлении завладеть годными к эксплуатации производительными силами, капитал обшаривает весь земной шар, извлекает средства производства из всех уголков Земли, добывая их по собственной воле, силой, из обществ самых разных типов, находящихся на всех уровнях цивилизации» [52].
Тему неразрывной связи капитализма с зонами некапиталистического хозяйства развивали виднейшие ученые вне истмата. Историк Ф. Бродель с точными данными показал, что «капитализм вовсе не мог бы существовать без услужливой помощи чужого труда», а К. Леви-Стросс показал, что «Запад создал себя из материала колоний». Из этого, кстати, прямо следует, что колонии уже никогда не могут пройти по «столбовой дороге» через формацию капитализма, поскольку их «материал» пошел на строительство Запада. В колониях и «третьем мире» создается особая формация «дополняющей экономики», так что Запад (центр) и периферия на деле составляют одно неразрывно связанное из двух разных подсистем целое, формацию-кентавра.
Обосновать идеологию захвата, подчинения и эксплуатации других народов в цивилизации, основанной на христианских догмах и идеалах «свободы, равенства и братства», было непросто. Исключительно большую роль в легитимации империалистической политики сыграло эволюционное учение в его приложении к этническим проблемам и идея прогресса, оправдывающая миссионерское «бремя белого человека» (Киплинг). В изданной в США фундаментальной «Истории технологии» сказано:
«Интеллектуальный климат конца XIX в., интенсивно окрашенный социал-дарвинизмом, способствовал европейской экспансии. Социал-дарвинизм основывался на приложении, по аналогии, биологических открытий Чарльза Дарвина к интерпретации общества. Таким образом, общество превратилось в широкую арену, где „более способная“ нация или личность „выживала“ в неизбежной борьбе за существование. Согласно социал-дарвинизму, эта конкуренция, военная или экономическая, уничтожала слабых и обеспечивала длительное существование лучше приспособленной нации, расы, личности или коммерческой фирмы» [20, с. 783].
Лежащий в глубине социал-дарвинизма расизм стал одним из оснований общей идеологии Запада (его мета-идеологии) – евроцентризма (подробнее об этом см. в [53]). Мифологизированный «Запад» стал важнейшей идеологической категорией. Видный идеолог перестройки Л. Баткин писал в книге-манифесте «Иного не дано» (1988):
«Запад» в конце ХХ в. – не географическое понятие и даже не понятие капитализма (хотя генетически, разумеется, связано именно с ним). Это всеобщее определение того хозяйственного, научно-технического и структурно-демократического уровня, без которого немыслимо существование любого истинно современного, очищенного от архаики общества» [54, с. 175].
Лишь недавно в поверхностных слоях европейского сознания и идеологии стал преодолеваться самый грубый евроцентризм, ведущий к культурному империализму, лишь недавно антропологи открыли, пока еще для узкой элиты, богатство системного, вненаучного способа познания и мироощущения «примитивных» народов. К. Леви-Стросс пишет:
«Так что же узнал я от мастеров, которыми любовался, от философов, которых читал, обществ, которые я изучал, от самой науки, которой так гордится Запад? Один-два урока, соединив которые, можно стать на уровень дикаря, сидящего в безмолвном созерцании под деревом. Стремясь познать предмет, мы его разрушаем, заменяя его другим, который также разрушаем своим познанием… как и все последующие, пока не достигнем того бесконечного настоящего, в котором исчезает разница между смыслом и бессмыслицей, того настоящего, с которого мы начали» [32, с. 268].
Нам трудно поверить, что совсем недавно наука всерьез обосновывала деление человечества на подвиды, буквально считая, что примитивные народы были менее сложными в отношении развития головного мозга. Сейчас никто из ученых не будет доказывать органическое различие народов, живущих в разных культурах и экономических системах. Это лишило идеологию современного неоколониализма важной научной легитимации, а эксплуатацию «третьего мира» – видимости естественного права. Но в подсознании среднего человека «первого мира» сохраняется убежденность в делении человечества на подвиды и в законности применения двойных стандартов и двойной морали к явлениям и процессам в разных частях света. Это – предпосылка тяжелого культурного кризиса, который приобретает все большее значение в общем кризисе индустриализма.
Противоречат ли идеологические функции науки нормам познавательного процесса?
Наблюдая, как ученые, занятые, как считается, поиском истины, с жаром отстаивают противоположные позиции при решении практических проблем, многие люди начинают сомневаться или в основаниях научного знания, или, чаще, в морали самих ученых. Особо деликатный случай составляет поведение ученых, которых привлекают как экспертов от тех организаций, где они работают и добывают свой хлеб. Истине ли они служат – или этим организациям, преследующим какую-то свою выгоду?
Ни о какой научной объективности, а тем более свободе информации среди ученых, выполняющих за жалованье роль манипуляторов сознанием, речи и не идет. Бывает, конечно, что какой-то ученый вдруг отказывается от этой роли и своего жалованья, но это – редкие акты героизма. Социолог науки Б. Барнес пишет:
«Общеизвестно, что ученый, который работает для правительства или для промышленной фирмы, никогда не высказывает публично своего мнения, если нет приказа начальства выступить в защиту интересов организации. И, разумеется, начальство может заставить выполнить это условие, в чем могли убедиться на собственной шкуре многие ученые. Например, как в Великобритании, так и в США эксперты в области ядерной энергетики, которые публично выразили свои технические сомнения, моментально остались без работы» [40, с. 101].
Наконец, существует категория совершенно аморальных научных работников, которые легко соглашаются на роль экспертов-«адвокатов», отдавая себе отчет о губительных последствиях для природы и человека тех технологических или социальных проектов, которые они отстаивают (неважно, идет ли речь о производстве талидомида или о приватизации советской промышленности). Барнес считает, что решения, наносящие ущерб обществу, принимаются не из-за недостатка информации и ошибок ученых, а из-за коррупции. Ошибки, разумеется, тоже случаются, но он оценивает их роль как в сотни и тысячи раз менее значимую, нежели роль подкупа и давления.
«Нет сомнений, что сплошь и рядом теряются сотни миллионов из-за того, что доверяют [недостаточно компетентным] экспертам, но это несущественная сумма по сравнению с миллиардами, которые политики пускают на ветер вследствие ошибок абсолютно компетентных экспертов, нанятых чтобы поддержать и удовлетворить чьи-то интересы посредством чистой и простой коррупции».
Рынок есть рынок, есть спрос на циничного эксперта – есть и предложение. Б. Барнес пишет:
«При том типе общества, в котором мы живем, при нашем уважении к науке и экспертам, существует спрос на экспертов во всех областях. Возможно, было бы правильной, хотя и циничной гипотезой сказать, что если есть спрос, то появятся и „эксперты“, обязанные существовать, поскольку они необходимы, и при этом неважно, что они „в действительности знают“… В конце концов, то, что у них просят, – это сказать авторитетное слово, ибо это единственное, что может дать обоснование и легитимацию. И принять видимость авторитета значит принять видимость науки» [40, с.91].
Однако сведение проблемы к чисто внешним факторам – один из важных современных мифов о науке. Суть дела в том, что политики, оказывается, очень часто могут найти таких ученых, которые искренне поддерживают их точку зрения и при наличии средств могут развить целую систему ее обоснования.
То, что ученый как личность придерживается той или иной позиции по какому-то политическому вопросу, никак не связано с нормами познавательного процесса. Но этот процесс – довольно гибкая система, она может незаметно меняться под влиянием идеологических предпочтений. Каким же образом получается, что ученый, искренне занятый поиском истины, может вполне честно, не нарушая логики и не фальсифицируя данные, прийти к совершенно противоположным выводам, чем его коллега, ведущий исследование столь же честно, но исходя из других идеологических предпочтений? И могут ли они в этом случае оба быть оправданы как ученые?
Детальный анализ ряда случаев показывает что да, это вполне нормальное явление. Здесь нет заговора или обмана, которые в принципе можно было бы предотвратить оздоровлением («чисткой») социального института науки. Причины кроются в самой методологии науки как способа познания, имеющего свои ограничения. Это как раз и является важнейшим предупреждением против излишнего доверия к технократическому способу принятия решений. И чем больше эти решения затрагивают моральные ценности и интересы людей, тем более рискованно подпадать под влияние экспертов.
Какие же характеристики научной деятельности позволяют ученым расходиться в суждениях, когда их привлекают в качестве экспертов?
Неполнота научного знания.
Наука – развивающаяся система знания, которая переходит в познании реальности с одного горизонта на другой. Но на каждом горизонте разрабатываются лишь «опорные точки», позволяющие продвинуться дальше в общем понимании реальности. Научный прогресс не похож на наступление цепи бойцов по ровному полю, это продвижение малых отрядов по извилистым горным тропам и ущельям. Тщательное, тем более окончательное изучение наукой частных вопросов невозможно. По очень многим вопросам, которые требуют политического решения, запас имеющегося знания просто недостаточен, чтобы дать бесспорный ответ. Эксперт, даже если он хорошо владеет этим запасом знания, при суждении по конкретному вопросу должен экстраполировать его в области неопределенности, а это уже – творческий процесс, который не подчиняется строгим нормам научной процедуры. Проводить же дополнительные исследования, когда уже начаты дебаты по конкретному вопросу, обычно нет ни времени, ни денег. Если же такие исследования делаются, то обычно лишь для поиска данных, подтверждающих позицию власти (политической или экономической).
Быть может, ученым следовало бы категорически отказываться выдавать свое суждение за научное, четко определяя уровень надежного знания, но они испытывают сильное давление со стороны заказчиков, которые не могут допустить ослабления главного легитимирующего механизма. И любой ответственный эксперт решит, что лучше уж сообщит свое суждение он, компетентный ученый, чем какой-нибудь заинтересованный шарлатан, к которому будут вынуждены обратиться власти. Мы уже не говорим о поведении политиков, о том, что когда доклад эксперта противоречит намерениям заказчика, он обычно просто отправляется в мусорную корзину14.
Сразу с появлением идеи «звездных войн» (СОИ) американскими учеными были сделаны расчеты, показывающие несостоятельность самой концепции: те ядерные взрывы в ближнем космосе, которые предполагались этой концепцией, должны были вызвать электромагнитную волну (шок), которая стерла бы память ЭВМ на земле, разрушив всю современную техносферу США (которые, кстати, пострадали бы при этом гораздо сильнее, чем их противники). Но эти расчеты стали известны публике лишь в конце 80-х годов, с изменением политики США в области СОИ. То есть, не научное знание по частным вопросам определяет политику, а наоборот, знание начинает (или перестает) воздействовать на общество в зависимости от политики.
Замена реального объекта его моделью.
Чтобы познать и понять какую-то часть реальности, необходимо из всего многообразия явлений и связей вычленить то, что для нас наиболее существенно. Иными словами, необходимо превратить реальный объект в его упрощенное описание – модель. Это превращение – важнейший этап исследования. «Разоблачая» реальность, отсекая все лишнее, мы при каждом шаге делаем выбор, связанный с неопределенностью. Почему мы устранили из рассмотрения этот фактор? Почему мы придали такой вес этому параметру и считаем, что он изменяется в соответствии с таким-то законом? Для решения очень многих вопросов такого рода нет надежных, неоспоримых оснований, и ученый вынужден делать предположения.
Но когда речь идет о дебатах по конкретной проблеме, не только нет возможности проверить предположения, но обычно дело не доходит даже до их явной формулировки. Даже те первоначальные предположения, которые эксперты изучали студентами, вообще не вспоминаются, а для политических решений именно они бывают очень важны. Дело бывает еще хуже. Не только сомнительные предположения не формулируются, но и определения понятий не дается, и дебаты часто становятся не просто спектаклем, а театром абсурда – никто друг друга не понимает, каждый говорит о своем. Например, все мы привыкли к понятию «температура», и нам кажется, что мы всегда понимаем, о чем идет речь и что 20 градусов это вдвое больше, чем 10. В действительности же температура – сложное понятие, связанное с целым рядом предположений, теорий и моделей (например, 20°С вовсе не вдвое больше, чем 10°С). А уж когда ученый использует не столь привычное публике понятие «энтропия», то вряд ли вообще кто-нибудь его понимает. Философ науки Пауль Фейерабенд в своем «Диалоге о методе» пишет:
«Вообразите ученых в любой области исследований. Эти ученые исходят из фундаментальных предположений, которые вряд ли когда-нибудь ставятся под вопрос. Имеются методы изучения реальности, которые считаются единственными естественными процедурами, и исследование заключается в том, чтобы применять эти методы и эти фундаментальные предположения, а не в том, чтобы их проверять. Вероятно, что предположения были введены в свое время, чтобы разрешить конкретные проблемы или устранить конкретные трудности и что в тот момент не забывали об их характере. Но это время давно прошло. Сейчас и не вспоминают о предположениях, в терминах которых определяется исследование, и исследование, которое ведется иным образом, рассматривается как что-то неуместное, ненаучное и абсурдное» [55, с. 165].
Историки и социологи науки подробно описали политические дебаты, происходившие в США с участием ученых, например, по вопросу фторирования питьевой воды, использования тетраэтил-свинца для улучшения бензина и по проблеме радиационной опасности от атомных электростанций. Шаг за шагом восстанавливая позиции противоборствующих групп ученых, можно прийти к выводу, что именно выбор исходных моделей и предположений часто предопределяет дальнейшие, вполне логичные расхождения. М. Малкей пишет:
«Для всех областей научных исследований характерны ситуации, в которых наука допускает формулировку нескольких разумных альтернатив, причем невозможно убедительно показать, что лишь какая-то одна из них является верной. Именно в осуществлении выборов между подобными альтернативами, производятся ли они на уровне общих определений проблемы или на уровне детального анализа, политические установки ученых и давление со стороны политического окружения используются наиболее явно» [5, с. 205].
Например, в основе расхождений по поводу воздействия радиации на здоровье человека лежат две принципиально разные модели: пороговая и линейная. Согласно первой модели, вплоть до определенной величины радиация не оказывает на здоровье населения заметного воздействия. Согласно второй модели, вредное воздействие (например, измеряемое числом раковых заболеваний) нарастает линейно, сколь бы мал ни был уровень загрязнения, так что нельзя говорить о «безопасном» уровне. Очевидно, что из этих двух моделей следуют совершенно разные политические выводы (например, относительно последствий аварии на Чернобыльской АЭС). Как же выбирают эксперты ту или иную модель? Исходя из политических предпочтений (или в зависимости от того, кто больше заплатит или страшнее пригрозит).
Казалось бы, политики могут финансировать дополнительные эксперименты и потребовать от ученых надежного выбора из столь разных моделей. Но оказывается, что это часто в принципе невозможно. Задача по такой проверке в отношении радиационной безопасности была сформулирована максимально простым образом: действительно ли увеличение радиации на 150 миллирентген увеличивает число мутаций у мышей на 0,5%? (Такое увеличение числа мутаций уже можно считать заметным воздействием на организм). Математическое исследование этой задачи показало, что для получения надежных экспериментальных данных, позволивших бы ответить на вопрос, требуется 8 миллиардов мышей. Другими словами, экспериментальный выбор моделей невозможен, и ни одно из основных предположений не может быть отвергнуто. Таким образом, в силу присущих самому научному методу ограничений, наука не может заменить политическое решение. И власть (или оппозиция) получает возможность мистификации проблемы под прикрытием авторитета науки. Это красноречиво выявилось в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС.
И в западной прессе, и по российскому телевидению часто проходят сообщения, согласно которым в результате воздействия радиации после катастрофы погибло 300 тыс. человек. Обычно при этом умалчивается тот факт, что это – расчеты, сделанные исходя из «линейной» модели воздействия радиации. Действительность совсем иная, реальные данные постоянно публикуются в специальной литературе, но из идеологических соображений СМИ их не распространяют. Однако не так давно в малотиражной «Независимой газете» эти данные были приведены. Вот они:
«А. Кузнецов. Еще одна загадка Чернобыля («НГ», 26 апреля 2001 г.). В 2000 году в Вене состоялась 49-я сессия Научного комитета по действию атомной радиации ООН (НКДАР ООН). Созданный в 1955 году, НКДАР ООН анализирует состояние наиболее актуальных проблем медицинской радиологии и радиационной защиты. Среди них – генетические эффекты, радиационный канцерогенез, влияние малых доз ионизирующих излучений, радиационная эпидемиология, радиационное поражение ДНК, радиационный мутагенез и другие. Одним из наиболее значимых документов, подготовленных к 49-й сессии НКДАР ООН, стал отчет «Уровни облучения и последствия чернобыльской аварии». Сегодня, в день 15-летней годовщины чернобыльской аварии, прокомментировать этот документ, а также ответить на несколько вопросов об основных уроках Чернобыля корреспондент «НГ» попросил руководителя российской делегации на сессии НКДАР ООН, члена Главного комитета Международной комиссии по радиационной защите (МКРЗ), директора Государственного научного центра «Институт биофизики», академика РАМН Леонида Ильина.
– Леонид Андреевич, какие же основные выводы содержатся в отчете НКДАР ООН?
– В нем сделаны два основополагающих вывода. Первый вывод гласит, что ни одного случая острой лучевой болезни среди ликвидаторов, то есть тех людей, которые участвовали в ликвидации последствий аварии в течение первых двух лет (1986-1987 годов), и населения, проживающего в так называемой чернобыльской зоне, зафиксировано не было. По оценкам специалистов Института биофизики, общее число задействованных в тот период на Чернобыльской АЭС людей составляло около 227 тысяч человек, из них примерно половина – военнослужащие (приводимые в других источниках данные в 600 тысяч человек или даже в 800 тысяч, на наш взгляд, явно завышены). При этом наиболее высокие дозовые нагрузки получили ликвидаторы 1986 года. В 1987 году ликвидаторы получили примерно в полтора раза меньшую дозовую нагрузку.
Повторяю, что среди этих людей, по всем официальным и научным данным, ни одного случая острой лучевой болезни и хронической лучевой болезни зафиксировано не было. Это принципиально важный результат, полученный на основании крупномасштабных исследований здоровья чернобыльцев в России, на Украине и в Белоруссии. Более того, по последним оценкам российских ученых, количество смертей ликвидаторов во всех случаях ниже, чем у соответствующего распределенного по возрасту населения России. По наиболее полному Российскому государственному медико-дозиметрическому регистру, который включает в себя 179 тысяч ликвидаторов, смертность среди них ниже на 16 процентов. По результатам анализа данных Белоруссии, смертность меньше на 30-40 процентов, а по Регистру работников атомной промышленности, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, смертность еще ниже. Эти данные получены путем тщательного изучения всех случаев заболевания и смертности.
Таким образом, можно утверждать, что до настоящего времени не зафиксировано увеличения общей заболеваемости злокачественными опухолями или смертности, которые можно было бы отнести за счет действия радиационного облучения. Среди ликвидаторов и детей не наблюдалось значительного роста риска заболевания лейкемией – одного из наиболее чувствительных показателей облучения».
Неявное знание в суждениях экспертов.
Хотя наука с самого начала декларировала свой абсолютно рациональный характер и полную формализуемость всех своих утверждений (то есть возможность однозначно и ясно их выразить), любой мало-мальски знакомый с научной практикой человек знает, что это миф. Рациональное и формализуемое знание составляет лишь видимую часть айсберга тех «культурных ресурсов», которыми пользуется ученый. Интуиция, верования, метафоры и искусство играют в его работе огромную роль, одинаково важную как в мыслительном процессе, так и в экспериментальных процедурах.
Гений органического синтеза Р.-Б. Вудворд планировал парадоксальные пути получения невероятно сложных соединений, так что рациональное объяснение его схем находилось лишь потом, после успешного завершения работы. Эмилю Фишеру непонятным образом удавалось кристаллизовать (и, значит, очищать) такие соединения углеводов, которые «не хотели» кристаллизоваться ни в одной другой лаборатории мира, так что среди химиков ходили легенды о магических свойствах бороды Фишера, служившей затравкой кристаллизации.
Описаны попытки ряда лабораторий воспроизвести удачную разработку лазера на углекислом газе. Оказалось, что ученые, создавшие работающую установку, не могли точно описать в публикациях или даже объяснить коллегам свои действия. Точные копии их установки не работали. Лишь в ходе длительных личных контактов удавалось передать неявное, неформализуемое знание. С этим сталкивался любой исследователь-практик.
Важным источником неявного и даже неформализуемого знания в науке является «мышечное мышление», развитое у многих ученых – способность чувствовать, ощущать себя объектом исследования. Так, Эйнштейн говорил, что старается «почувствовать», как ощущает себя луч света, пронизывающий пространство. Уже затем, на основании этих мышечных ощущений, он искал способ формализовать систему в физических понятиях (он писал: «Сначала я нахожу, потом ищу»).
Для обозначения и осмысления явлений ученые пользуются нестрогой терминологией из вненаучной практики, понятиями, основанными на здравом смысле. Уже отсюда вытекает возможность расхождения во мнениях ученых, принадлежащих к разным группам. Особым типом неявного знания может считаться та совокупность «не вполне научных» представлений и верований, которую некоторые историки и философы науки называют научной идеологией. Этот тип связанного с наукой знания не является иррациональным, но он и не вполне рационально-научный. Обычно он узнается именно как научная идеология лишь задним числом, а на первых порах кажется плохо формализованной научной концепцией (типичным примером научной идеологии считают атомизм, давший впоследствии начало ряду строгих научных направлений). Как говорят, главное в научной идеологии состоит не в том, что она открыто высказывает, а в том, что она замалчивает. Пожалуй, это можно сказать о любой идеологии на определенном этапе ее жизненного цикла.
Что же происходит, когда ученому приходится выступать в качестве эксперта по проблеме, запас «явного» знания о которой недостаточен? Он не только может, но и обязан использовать весь доступный для него запас неявного знания. Но поскольку это знание неформализуемо, ход его рассуждений не может быть подвергнут рациональному независимому контролю. Строго говоря, эти рассуждения не соответствуют критериям научности, согласно которым исследование должно быть проведено так, чтобы давать возможность воспроизвести его другим, независимым от автора, ученым.
Таким образом, реально присущие научной практике и научному методу свойства – опираться на предположения, модели и неявное знание, – создают для участвующего в идеологических и политических дебатах ученого широкую область неопределенности, в которой он может вполне честно маневрировать в соответствии со своими идеологическими предпочтениями.
Заключение.
Говоря о методологическом взаимодействии науки и идеологии в наши дни, отметим здесь лишь тот факт, что одной из причин кризиса идеологий является очень медленное освоение тех новых моделей, метафор и способов описания, которые предоставляет наука с системным видением природы, человека и общества – наука, преодолевающая как механистическую картину мира, так и связанную с ней методологию. Господствующая в настоящий момент идеология радикального неолиберализма, опираясь в большинстве случаев на устаревшее механистическое и статистическое описание социальных явлений, не стыкуется со структурами современного научного знания и терпит явный провал в попытке описания системных явлений, волнующих сейчас общество – кризисов, конфликтов, насилия, терроризма и т. п.
Поразительным образом опять в истории западной цивилизации совпадают во времени этапы перестройки основных структур, в которых существует человек: наука предлагает новую, существенно измененную картину мира; происходят глубокие изменения технологии труда и экономического порядка; разрушаются старые идеологии и возникает новое видение человека и общества. Все эти процессы сопряжены с кризисами, болезненным преодолением психологических барьеров, конфликтом поколений, нигилизмом и реакцией.
И опять в этот переломный момент наука проявляет себя как рациональная, конструктивная и освобождающая сила. Она помогает выявлять симптомы, ставить диагноз, объяснять суть кризиса и указывать альтернативы его преодоления. Но в этой своей работе современная наука проявляет совершенно новые черты – терпимость и тенденцию к взаимодействию с иными формами познания и общественного сознания. Видно, как глубоко изменилась и сама наука в ходе кризиса. Механистическая картина мира уже в XIX в. стала испытывать значительные потрясения и дополняться значительными поправками. Возникшая термодинамика показала, что важнейшие формы движения и изменения предметов не носят механический характер, что важнейшие процессы в мире необратимы, а отношения нелинейны. Эволюционное учение еще больше усложнило картину мировых процессов.
И все же вплоть до недавнего времени, а в сознании многих людей и сейчас, жизнь на земле – слабый, несущественный для общей картины мира штрих. Во всяком случае, господствующая идеология все еще исходит из того, что человек может быть выведен за пределы этого мира и рассмотрен отдельно. Хотя в науке уже в первой половине ХХ в. положение изменилось. Были сказаны вещи, которые мы лишь сейчас, напуганные угрозой экологической катастрофы, начинаем понимать. В 20-е годы, в трудах В. И. Вернадского, начала развиваться концепция биосферы как неотъемлемой и активной части мира. Вернадский вырос в специфической русской культуре, которая «очистила Дарвина от Мальтуса», которая создала культурные предпосылки развития без «атомизации» человека. Недавно один из авторов модели «ядерной зимы» Н. Н. Моисеев писал:
«Такое философское и естественнонаучное представление о единстве Человека и Природы, об их глубочайшей взаимосвязи и взаимозависимости, составляющее суть современного учения о ноосфере, возникло, разумеется, не на пустом месте. Говоря это, я имею в виду то удивительное явление взаимопроникновения естественнонаучной и философской мысли, которое характерно для интеллектуальной жизни России второй половины XIX века. Оно привело, в частности, к формированию умонастроения, которое сейчас называют русским космизмом. Это явление еще требует осмысления и изучения. Но одно более или менее ясно: мировосприятие большинства русских философов и естественников, при всем их различии во взглядах – от крайних материалистов до идеологов православия, – было направлено на отказ от основной парадигмы рационализма, согласно которой человек во Вселенной лишь наблюдатель. Он существует сам по себе, а Вселенная подобна хорошо отлаженному механизму и действует сама по себе, по собственным своим законам. И то, что в ней происходит, не зависит от Человека, от его воли и желаний. Такова была позиция естествознания XIX века. Так вот мне кажется, что уже со времени Сеченова в России стало утверждаться представление о том, что человек есть лишь часть некоей более общей единой системы, с которой он находится в глубокой взаимосвязи» [30].
Вернадский и Тейяр де Шарден сделали следующий важный шаг: неотъемлемой частью нашего мира уже стала и ноосфера – присутствие и деятельность разумного человека, фактор космического порядка. И довольно быстро эта концепция стала наполняться данными, показывающими, что «мощность» ноосферы уже сравнима с сопротивляемостью биосферы, что некоторые критические, ранимые точки и структуры биосферы могут быть необратимо разрушены антропогенным воздействием.
Но идеология индустриализма, прогресса и потребительства еще так сильна, что эти идеи не привлекают внимания существенной доли даже ученых, не говоря уже о том, что никак не влияют на политиков и широкую публику уверенного в своей победе Запада. И человечество до сих пор находится в условиях реальной угрозы самоуничтожения как вида, не отдавая себе в этом отчета.
Между тем в течение последних двадцати лет целый ряд научных коллективов получил, обобщил и придал форму почти очевидной убедительности данным о реальном состоянии среды обитания и взаимодействия с ней человека. Мы еще в полной мере не оценили значение этого научного знания для перестройки идеологии и типа мышления человека индустриальной цивилизации, но очевидно, что речь идет о глубоких сдвигах, которые могут стать революционными. Эти изменения готовились очень большим числом научных результатов, но в общественном сознании запечатлелись три из них: модель «ядерной зимы», разрушение озонового слоя и «парниковый эффект».
Надо подчеркнуть, что во всех этих случаях, как это часто бывает в начале больших идеологических сдвигов, важна не столько правильность или ошибочность ответа на конкретный вопрос, сколько проблематика, сам способ постановки вопроса. Возможно, Маркс в чем-то ошибся при построении главных моделей «Капитала», а Ленин – в формулировках «Материализма и эмпириокритицизма». Но сама проблематика этих трудов стала матрицей для революционной общественной мысли.
Вспомним концепцию «ядерной зимы». На основании многочисленных сведений о тех изменениях, которые происходят в атмосфере при выбросе больших количеств твердых частиц (сажи и пепла при пожарах, вулканах и т. п.), и зная параметры ядерных взрывов, в разных лабораториях независимо друг от друга были разработаны математические модели, предсказывающие последствия одновременного взрыва на Земле большого числа ядерных зарядов. Результаты моделирования совпали. Они надежно показывают, что независимо от действия известных факторов поражения ядерного оружия взрывы вызовут загрязнение атмосферы таким количеством сажи, что она экранирует Землю от солнечных лучей. Фотосинтез снизится до такой степени, что биосфера понесет непоправимый урон, а сельское хозяйство не обеспечит необходимого количества продовольствия для выживания уцелевшей части человечества. Ядерная война вызовет глобальные изменения климата («ядерную зиму»), что означает конец цивилизации, а, возможно, и биологическую гибель человека как вида. Накопленных на земле ядерных зарядов достаточно, чтобы несколько раз спровоцировать такое явление (для этого можно даже взрывать заряды на своей территории). Этот вывод имел очевидное идеологической значение, он породил цепную реакцию изменений в сознании.
Другое направление исследований, проведенных как в атмосфере, так и в лаборатории, привело к выводу, что защищающая биосферу от жестких ультрафиолетовых лучей тонкая оболочка озона в верхних слоях атмосферы разрушается под воздействием ряда химических соединений, в больших количествах производимых в промышленности. Особенно активны в этом фреоны, используемые как хладоагенты в холодильниках и для распыления жидкостей в аэрозольных баллончиках. Достигая озонового слоя, молекула фреона распадается под воздействием солнечного света, образуя активные частицы, вступающие с озоном в цепную реакцию. В конце 80-х годов в мире производилось ежегодно около миллиона тонн фреона (75% – в США, ЕЭС и Японии), и, несмотря на международные соглашения, производство почти не снижалось. Идеологический эффект от осознания этой проблемы был использован ведущими капиталистическими державами в создании концепции Нового мирового порядка и обосновании своих претензий на то, чтобы поставить под контроль политику промышленного развития всех остальных стран…
«Общество потребления» основано на использовании огромного количества энергии, которое производится в основном путем сжигания органического топлива. При этом в воздух выбрасывается углекислый газ, который образует полупроницаемый для света экран, уменьшая рассеивание отражаемого Землей тепла в космосе («парниковый эффект»). В результате растет температура атмосферы и происходят заметные изменения климата, значительно опережающие прогнозы. В США уже не только считают убытки от риска потери до половины пахотных земель юго-восточных штатов, но и начали разработку планов конверсии сельского хозяйства на производство субтропических культур. Но гораздо важнее, что при таянии льдов Антарктиды в первую очередь будут затоплены дельты крупных рек, где проживают и кормятся основные массы населения стран «третьего мира». Этот новый штрих в картине мира стал важным инструментом в идеологической борьбе, причем с разными целями и в разных контекстах.
Это – явные, шокирующие изменения картины мира. В целом же сдвиги в мировоззрении, которые готовит наука второй половины ХХ в., более целостны и системны. Обратившись, наравне с изучением космогонии и микромира, к исследованию окружающих нас процессов «человеческого размера», наука показала мир как очень сложную и динамическую систему, в которой огромную роль играют флуктуации, самоорганизация и синергические эффекты. В этой картине мира совершенно по-новому видится категория свободы, а концепция человека как изолированного и неизменного атома оказывается совершенно неверной. Это новое видение природы и человека диалектически связано с крахом традиционных идеологий индустриального общества (и правых, и левых), с возникновением необычных политических течений («зеленые») или экономических укладов (новое ремесленничество, возвращение к земле, коммуны), с разочарованием в традиционной представительной демократии и даже с терроризмом.
Претерпевают кризис и концепция прогресса, и «общество потребления». Пока что этот кризис затронул духовно наиболее чуткую часть западного общества, остро переживающую конфликт между типом жизни и фундаментальными моральными ценностями, на которых и возникла эта культура. Стало очевидно, что тип жизни, предложенный индустриализмом всему миру как идеал, в действительности не может практиковаться всем человечеством – этого не позволяют естественные ограничения. Следовательно, те 13% населения Земли, которые сейчас живут в «обществе потребления», вынуждены искусственно, вплоть до применения военной силы, поддерживать слаборазвитость и низкий уровень потребления остальной части человечества. И в то же время эти 13% нуждаются в том, чтобы чувствовать себя гуманистами и демократами. Противоречие неразрешимо в рамках старой концепции природы и общества.
Сейчас, в момент неустойчивого равновесия, нет смысла искать рецепты и предугадывать пути развития. Однако судя по тем процессам, которые происходят в науке, можно надеяться, что она найдет формы синтеза рационального метода познания с моральными ценностями и с другими формами общественного сознания, предложит человеку новые модели его взаимоотношений с людьми и природой, в которых свобода будет компенсирована ответственностью, а свободное развитие личности будет сочетаться с новыми формами коллективизма и солидарности.
Литература
1. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // М. Вебер. Избранные произведения. М.: Прогресс. 1990.
2. Fernаndez Сeрedal, J.M. Ideologia «brumarista» y Naрoleon Bonaрart // El Basilisсo, 2 Eрoсa, 1994, № 17, рр. 37-44.
3. La esсuela сaрitalista.*
4. Пригожин И. Философия нестабильности // Вопр. философии. 1991. № 6.
5. Малкей М. Наука и социология знания. М.: Прогресс, 1983.
6. Kroрotkin Р. La moral anarquista. Madrid. 1977, р. 73.
7. Farley J., Geison G.L. Sсienсe, Рolitiсs and Sрontaneous Generation in Nineteenth-Сentury Franсe: The Рasteur-Рouсhet Debate // «Bull. History of Mediсine». 1974. Vol. 48 (2).
8. Lumsden С.J., Wilson E.O. El fuego de Рrometeo. Mexiсo. 1985, р. 72.
9. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М.: Прогресс, 1986.
10. Tкачев П. Н. Роль мысли в истории // Кладези мудрости русских философов. М.: Правда. 1990.
11. А. В. Ахутин. Понятие «природа» в античности и в Новое время («фюсис» и «натура»)». М.: Наука, 1988.
12. Бердяев Н.А. Смысл творчества. М. 1989.
13. Лосев А. Ф. Диалектика мифа // А. Ф. Лосев. Из ранних произведений. М. 1990.
14. Свасьян К. А. Судьбы математики в истории познания нового времени // Вопр. философии. 1989. N 12.
15. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem,1999.
16. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Фридрих Ницше. Сочинения. М.: Мысль. 1990. Т. 2.
17. Lorenz K. La aссion de la Naturaleza y el destino del hombre. Madrid: Alianza. 1988.
18. Habermas J. La сienсia y la teсnologia сomo ideologia // Estudios sobre soсiologia de la сienсia. Madrid: Alianza. 1980.
19. Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация. М.: Алгоритм. 201.
20. Kranzberg M., Рursell С.W., Jr. (eds.). Historia de la teсnologia. La tесniсa en Oссidente de la Рrehistoria a 1900. Vol. 2. Barсelona: Gustavo Gili. 1981.
21. Гайденко П. П. Эволюция понятия науки (ХVII-ХVIII вв.). М.: Наука, 1987.
22. Кара– Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. М.: Алгоритм. 200.
23. Шиллер Г. Манипуляторы сознанием. М.: Прогресс,1975.
24. Человек: образ и сущность. Перцепция страха. Ежегодник. 2. М.: ИНИОН АН СССР. 1991.
25. Бердяев Н. Смысл истории // Смысл творчества. М., 1989.
26. Фромм Э. Пути из больного общества // Проблема человека в западной философии. М.: Прогресс. 1988.
27. Хайдеггер М. Слова Ницше «Бог мертв» // Вопр. философии. 1990. № 7.
28. Гeйзенберг В. Шаги за горизонт. М.: Прогресс, 1987.
29. Hodgson Р. Рresuрuestos y limites de la сienсia // Estruсtura y desarrollo de la сienсia. Madrid. Alianza. 1984.
30. Моисеев Н.Н. Человек во Вселенной и на Земле // Вопр. философии. № 6, 1990.
31. Ezrahi Y. Los reсursos рolitiсos de la сienсia // Estudios sobre soсiologia de la сienсia. Madrid: Alianza. 1980.
32. Элиаде М. Космос и история. М.: Прогресс 1987.
33. Бердяев Н.А. Философия свободы. М. 1989.
34. Франк С.Л. Фр. Ницше и этика «любви к дальнему» // С. Л. Франк. Соч. М.: 1990.
35. Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // М. Вебер. Избранные произведения. М.: Прогресс. 1990.
36. Brandt W. El futuro del soсialismo demoсratiсo // El soсialismo del futuro. 1990. Vol. 1, № 1.
37. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // В кн. Проблема человека в западной философии. М.: Прогресс. 1988.
38. Моль А. Социодинамика культуры. М.: Прогресс, 1974.
39. Берк Э. Размышления о революции во Франции. М.: 1996.
40. Barnes B. Sobre la сienсia. Barсelona: Labor. 1987.
41. Вебер М. Наука как призвание и профессия // М. Вебер. Избранные произведения. М.: Прогресс. 1990.
42. В. И. Ленин. Соч., т. 34.
43. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопр. философии. 1989, № 3.
44. Radnitzky G. La tesis de que la сienсia es una emрresa libre de valores // Estruсtura y desarrollo de la сienсia. Madrid. Alianza. 1984.
45. D’Ambrosio U. Influenсia de las nuevas ideas сientifiсas y teсnologiсas en la renovaсion de las ideas soсiales en el transito del siglo XIX al XX // V Сongreso de la Soсiedad Esрa SYMBOL 241 \f «Parisian BT» \s 10 с ola de Historia de la Сienсia y la Tiсniсa. Murсia. 1989.
46. Ясперс К. Современная техника // Новая технократическая волна на Западе. М.: Прогресс. 1986.
47. Howard J. Darwin. Madrid: Alianza. 1987.
48. Ruse M. La revoluсion darwinista. Madrid. Alianza. 1983.
49. Реймерс Н.Ф., Шупер В.А. Кризис науки или беда цивилизации? // Вопр. философии. 1991. № 6.
50. Шубкин В. Трудное прощание // Новый мир. 1989, № 4.
51. Амосов Н. Реальности, идеалы и модели // Литературная газета. 1988, 6 окт.
52. Люксембург Р. Накопление капитала (3-е изд). М.: Государственное издательство, 1924.
53. Кара– Мурза С. Евроцентризм: скрытая идеология перестройки. М.: СИМС. 1996.
54. Баткин Л. Возобновление истории // В кн.: Иного не дано. М. Прогресс. 1988.
55. Feyerabend Р. Dialogo sobre el metodo // Estruсtura y desarrollo de la сienсia. Madrid. Alianza. 1984.
ГЛАВА ВТОРАЯ Политэкономия индустриализма: связь экономической модели и научной картины мира
Введение
В Новое время в идеологии доминирует фигура ученого. Среди ученых особо громким голосом обладают сейчас экономисты – те, кто с помощью научного метода исследуют производственную и распределительную деятельность человека. Политэкономия как теоретическая основа экономических наук с самого начала заявила о себе как о части естественной науки, как о сфере познания, полностью свободной от моральных ограничений, от моральных ценностей. Начиная с Адама Смита она начала изучать экономические явления вне морального контекста. То есть политэкономия якобы изучала то, что есть, подходила к объекту независимо от понятий добра и зла. Она не претендовала на то, чтобы говорить, что есть добро, что есть зло в экономике, она только непредвзято изучала происходящие процессы и старалась выявить объективные законы, подобные законам естественных наук. Отрицалась даже принадлежность политэкономии к «социальным наукам».
Заметим, что этот дуализм западной политэкономии (одно из выражений дуалистичности всего мироощущения Запада) в принципе отрицался русскими социальными философами и экономистами. В попытке разделить этику и знание в экономике Вл. Соловьев видел даже трагедию политэкономии. По сути, русские философы отрицали статус политэкономии как науки.
Очевидно, однако, что эта область знания, претендовавшая быть естественной наукой, на самом деле тесно связана с идеологией (в «Археологии знания» М. Фуко берет политэкономию как самый яркий пример знания, в которое идеология вплетена неразрывно). В то же время это наука не экспериментальная, она основывается на постулатах и моделях. Поскольку политэкономия связана с идеологией, неизбежно сокрытие части исходных постулатов и моделей. Действительно, «забвение» тех изначальных постулатов, на которых базируются основные экономические модели, пришло очень быстро. И сегодня для того, чтобы как-то соотнести экономические модели с ценностями, идеалами, видением мира и человека, приходится произвести целое историческое исследование по реконструкции исходных постулатов и моделей (Фуко называет этот поиск «археологией»).
Сегодня задачей любого мыслящего человека является демистификация моделей и анализ их истоков. Мы должны пройти к самым основаниям тех утверждений, на которых они базируются, и к которым мы привыкаем из-за идеологической обработки в школе и в средствах массовой информации. И окажется, что многие вещи, которые мы воспринимаем как естественные, основываются на наборах аксиом, вовсе не являющихся ни эмпирическими фактами, ни данным свыше откровением. Попытаемся же проследить развитие основной модели политэкономии, ее эволюцию в соответствии с изменением научной картины мира в науке за последние 200 лет. То есть попытаемся следовать действительно научному знанию, а не его идеологическим интерпретациям.
Политэкономия и хрематистика
Аристотель сформулировал основные понятия, на которых базируется сегодня видение хозяйства. Одно из них экономика, что означает «ведение дома», домострой, материальное обеспечение экоса (дома) или полиса (города). Эта деятельность не обязательно сопряжена с движением денег, ценами рынка и т. д. Другой способ производства и коммерческой деятельности он назвал хрематистика (рыночная экономика). Это изначально два совершенно разных типа деятельности.
Экономика – это производство и коммерция в целях удовлетворения потребностей (даже если речь шла о порочных потребностях). А хрематистика – это такой вид производственной и коммерческой деятельности, который нацелен на накопление богатства вне зависимости от его использования, т. е. накопление, превращенное в высшую цель деятельности. Это считалось и считается в любом традиционном обществе вещью необъяснимой и ненормальной. Хотя в древности доминировала именно экономика, существовала и некоторая аномалия, был тип людей, который действовал ради накопления. А человек с органичным восприятием мира справедливо считал, что на тот свет богатства с собою не возьмешь, зачем же его копить. М. Вебер пишет о протестантской этике:
«Summum bonum [высшее благо] этой этики прежде всего в наживе, во все большей наживе при полном отказе от наслаждения, даруемого деньгами… эта нажива в такой степени мыслится как самоцель, что становится чем-то трансцендентным и даже просто иррациональным по отношению к „счастью“ или „пользе“ отдельного человека. Теперь уже не приобретательство служит человеку средством удовлетворения его материальных потребностей, а все существование человека направлено на приобретательство, которое становится целью его жизни. Этот, с точки зрения непосредственного восприятия, бессмысленный переворот в том, что мы назвали бы „естественным“ порядком вещей, в такой же степени является необходимым лейтмотивом капитализма, в какой он чужд людям, не затронутым его веянием».
Отметим очевидную вещь, которая замечательным образом была стерта в общественном сознании с помощью идеологии: рыночная экономия не является чем-то естественным и универсальным. Напротив, естественным (натуральным) всегда считалось именно нерыночное хозяйство, хозяйство ради удовлетворения потребностей – потому-то оно и обозначается понятием натуральное хозяйство. Странно, что этого отражения сущности в языке как будто не замечают.
Рыночная экономика – недавняя социальная конструкция, возникшая как глубокая мутация в очень специфической культуре. Рынок представлен идеологами просто как механизм информационной обратной связи, стихийно регулирующий производство в соответствии с общественной потребностью через поток товаров. То есть как механизм контроля, альтернативный плану. Но дихотомия «рынок-план» несущественна по сравнению с фундаментальным смыслом понятия рынок как общей метафоры всей западной цивилизации.
Как возникло само понятие рыночная экономика? Ведь рынок продуктов возник вместе с первым разделением труда и существует сегодня в некапиталистических и даже примитивных обществах. Рыночная экономика возникла, когда в товар превратились вещи, которые для традиционного мышления никак не могли быть товаром: деньги, земля и человек (рабочая сила). Это – глубокий переворот в типе рациональности, в метафизике и даже религии, а отнюдь не только экономике. Сегодня мы свидетели четвертого важнейшего шага в этом направлении – в товар превращаются формы жизни, генетический материал, прежде всего культурных растений15.
Когда Рикардо и Адам Смит, уже освоившие достижения научной революции и пережившие протестантскую Реформацию, заложили основы политэкономии, она с самого начала создавалась и развивалась ими как наука о хрематистике, наука именно о той экономике, которая нацелена на производство богатства (в западных языках политэкономия и хрематистика даже являются синонимами). Уже здесь источник подлога, поскольку политэкономия в принципе не изучает и не претендует на изучение экономии, то есть того типа производства, того типа экономической деятельности, который существовал в СССР. Термин «политэкономия социализма», строго говоря, смысла не имеет. Видный современный экономист и историк экономики И. Кристол утверждает: «Экономическая теория занята изучением поведения людей на рынке. Не существует некапиталистической экономической теории».
Какие же модели и метафоры почерпнула из науки политэкономия, формулирующая фундаментальные экономические модели?
Антропологическая модель и собственность
Первый камень в основание того индивидуализма собственника, на котором зиждется современное общество, заложила Реформация. Второй «корень» политэкономии – почти слившаяся во времени с Реформацией научная революция XVI-XVII вв. Из этих корней выросла новая антропологическая модель, которая включает в себя несколько мифов и которая изменялась по мере появления более свежего и убедительного материала для мифотворчества. Вначале, в эпоху триумфа ньютоновской картины мира, эта модель базировалась на метафоре механического (даже не химического) атома, подчиняющегося законам Ньютона. Концепция индивида, развитая целым поколением философов и философствующих ученых, получила как бы естественнонаучное обоснование.
Современное общество основано на концепции человека-атома (ин-дивид – на латыни означает «неделимый», то есть по-гречески а-том). Каждый человек является неделимой целостной частицей человечества, то есть разрываются все человеческие связи, в которые раньше он был включен. Происходит атомизация общества, его разделение на пыль свободных индивидуумов. Заметим, что в традиционном обществе смысл понятия индивид широкой публике даже неизвестен. Здесь человек в принципе не может быть атомом – он «делим». Так, в России человек представляет собой соборную личность, средоточие множества человеческих связей. Он «разделен» в других и вбирает их в себя. Здесь отсутствует сам дуализм индивид-общество. Здесь человек всегда включен в солидарные структуры (патриархальной семьи, деревенской и церковной общины, трудового коллектива, пусть даже шайки воров).
Из понятия человека-атома вытекало новое представление о частной собственности как естественном праве. Именно исходное ощущение неделимости индивида, его превращения в обособленный, автономный мир породило глубинное чувство собственности, приложенное прежде всего к собственному телу. Произошло отчуждение тела от личности и его превращение в собственность. До этого понятие «Я» включало в себя и дух, и тело как неразрывное целое. Теперь стали говорить «мое тело» – это словосочетание появилось в языке недавно, лишь с возникновением рыночной экономики. Заметим, что в мироощущении русских, которые не пережили такого переворота, этой проблемы как будто и не стояло – а на Западе это один из постоянно обсуждаемых вопросов. Причем, будучи вопросом фундаментальным, он встает во всех плоскостях общественной жизни, вплоть до политики. Если мое тело – это моя священная частная собственность, то никого не касается, как я им распоряжаюсь (показательны дискуссии о проституции, гомосексуализме, эвтаназии).
Превращение тела в собственность обосновало возможность свободного контракта и эквивалентного обмена на рынке труда путем превращения рабочей силы в особый товар. Каждый свободный индивид имеет эту частную собственность – собственное тело, и в этом смысле все индивиды равны. И поскольку теперь он собственник этого тела (а раньше его тело принадлежало частично семье, общине, народу), постольку теперь он может уступать его по контракту другому как рабочую силу. Так возник миф о человеке экономическом – homo eсonomiсus, который создал рыночную экономику. Американский антрополог Салинс пишет об этой совершенно необычной свободе «продавать себя»:
«Полностью рыночная система – очень необычный тип общества, как и очень специфический период истории. Он отмечен тем, что Макферсон называет „собственническим индивидуализмом“. Собственнический индивидуализм включает в себя странную идею – которая есть плата за освобождение от феодальных отношений – что люди имеют в собственности свое тело, которое имеют право и вынуждены использовать, продавая его тем, кто контролирует капитал… В этой ситуации каждый человек выступает по отношению к другому человеку как собственник. Фактически все общество формируется через акты обмена, посредством которых каждый ищет максимально возможную выгоду за счет приобретения собственности другого за наименьшую цену».
Превращение человека в атом, обладающий правами и свободами, меняло и идею государства, которое раньше было построено иерархически и обосновывалось, приобретало авторитет через божественное откровение. Государство было патерналистским и не классовым, а сословным. Лютер легитимировал возникновение классового государства, в котором представителем Бога становится не монарх, а класс богатых. Богатые становились носителями власти, направленной против бедных. Адам Смит так и определил главную роль государства в гражданском обществе – охрана частной собственности:
«Приобретение крупной и обширной собственности возможно лишь при установлении гражданского правительства. В той мере, в какой оно устанавливается для защиты собственности, оно становится, в действительности, защитой богатых против бедных, защитой тех, кто владеет собственностью, против тех, кто никакой собственности не имеет».
Именно капитализм (с его необходимыми компонентами – гражданским обществом, фабричным производством и рыночной экономикой) породил тот тип государства, который английский ученый и философ XVII века Гоббс охарактеризовал как Левиафана. Только такой наделенный мощью, бесстрастием и авторитетом страж мог ввести в законные рамки конкуренцию – эту войну всех против всех. А. Тойнби подчеркивает: «В западном мире… в конце концов последовало появление тоталитарного типа государства, сочетающего в себе западный гений организации и механизации с дьявольской способностью порабощения душ, которой могли позавидовать тираны всех времен и народов… Возрождение поклонения Левиафану стало религией, и каждый житель Запада внес в этот процесс свою лепту».
Модель Адама Смита и механика Ньютона
Помимо концепции человека-атома, каркасом главной модели в политэкономии Адама Смита была ньютоновская картина мироздания. Адам Смит просто перевел ньютоновскую модель мира как машины в сферу производственной и распределительной деятельности. Это было органично воспринято культурой Запада, основанием которой был механицизм. Как машину рассматривали тогда все, вплоть до человека. Ньютоновская механика была перенесена со всеми ее постулатами и допущениями, только вместо движения масс было движение товаров, денег, рабочей силы. Абстракция человека экономического была совершенно аналогична абстракции материальной точки в механике.
Экономика была представлена машиной, действующей по естественным, объективным законам (само введение понятия объективного закона было новым явлением, раньше доминировало понятие о гармонии мира). Утверждалось, что отношения в экономике просты и могут быть выражены на языке математики и что вообще эта машина проста и легко познается. Адам Смит перенес из ньютоновской механистической модели принцип равновесия и стабильности, который стал основной догмой экономической теории. Метафора мира как равновесной машины (часы), приложенная к экономике, не была ни научным, ни логическим выводом. Это была метафизическая установка религиозного происхождения (см. о деизме Адама Смита). Равновесие в экономике не было законом, открытым в политэкономии, напротив – все поиски экономических законов были основаны на вере в это равновесие.
Адам Смит, вслед за Ньютоном, должен был даже ввести в модель некоторую потустороннюю силу, которая бы приводила ее в равновесие (поскольку сама по себе рыночная экономика равновесие явно не соблюдала). Это – «невидимая рука рынка», аналог Бога-часовщика. Само выражение «невидимая рука» использовалось в механике ньютонианцами с начала XVIII в. для объяснения движения под воздействием гравитации. Политэкономия, собственно говоря, претендовала быть наукой о приведении в равновесие всех трех подсистем, взаимодействующих с ядром мирового хозяйства – гражданским обществом Локка (или «первым миром») – так, чтобы эта система функционировала как равновесная.
На деле же вся политэкономия, начиная с Адама Смита, тщательно обходит очевидные источники неравновесности и механизмы гашения флуктуаций, возвращения системы в состояние равновесия. Гомеостаз, равновесие поддерживается только в ядре системы, способном вобрать лишь небольшую часть человечества («золотой миллиард»). Влияние механистического мировоззрения и вера в равновесие ощущалось даже в период империализма, когда мировая хозяйственная система совершенно очевидно пришла в неравновесное состояние. Кейнс отметил, что неоклассический синтез Маршалла помещает экономические явления внутрь «коперниковской системы, в которой все элементы экономического универсума находятся в равновесии благодаря взаимодействию и противовесам».
Мы не можем рассматривать весь спектр механических и биологических метафор, привлеченных при выработке экономических моделей (например, аналогии между деньгами и движением финансов с кровью и кровообращением в модели Гарвея). Заметим лишь, что использование метафор не может быть методологически нейтральным.
Из науки в политэкономию были перенесены методологические подходы, в рамках которых и строились модели экономических теорий. Это видно и в антропологии (методологический индивидуализм), и в механицизме политэкономии Адама Смита. Кстати, такая атомизация людей и превращение каждого человека в свободного предпринимателя вовсе не является обязательным условием эффективного капитализма. Это – специфическая культурная особенность Запада. По выражению Мичио Моришима в книге «Капитализм и конфуцианство» (1987), посвященной культурным основаниям капитализма в Японии, в этом обществе «капиталистический рынок труда – лишь современная форма выражения рынка верности». Экономические отношения видятся здесь не в терминах механистической политэкономии Запада, а в категориях традиционного общества.
Из детерминизма научного вытекал и детерминизм социальный, экономический. Видный социолог из Йельского университета Уильям Самнер писал в начале ХХ века: «Социальный порядок вытекает из законов природы, аналогичных законам физического порядка». Иллюзия, будто все в мире предопределено, как в часах, что мир детерминирован, до сих пор лежит в основании механистического мироощущения Запада. Совсем недавно виднейший английский ученый Томас Хаксли заявил:
«Фундаментальная аксиома научного мышления состоит в том, что не существует, не существовало и никогда не будет существовать никакого беспорядка в природе. Принять возможность любого явления, которое не было бы логическим следствием непосредственно предшествующих ему явлений в соответствии с определенными правилами (открытыми или еще неизвестными), которые мы называем „законами природы“, означало бы для науки совершить акт самоуничтожения».
Разумеется, в западной общественной мысли с самого начала были диссиденты научной революции. Существовали важные культурные, философские, научные течения, которые отвергали и механицизм ньютоновской модели, и возможность приложения ее к обществу. И экономисты делились на два течения: инструменталисты и реалисты. Более известны инструменталисты, которые разрабатывали теории, излагающие «объективные законы экономики» и обладающие поэтому статусом научной теории. Инструменталисты использовали методологические подходы механистической науки, прежде всего, редукционизм – сведение сложной системы, сложного объекта к более простой модели, которой легко манипулировать в уме. Из нее вычищались все казавшиеся несущественными условия и факторы, оставалась абстрактная модель. В науке это – искусственные и контролируемые условия эксперимента, для экономиста – расчеты и статистические описания.
А реалисты – те, кто отвергал редукционизм и старался описать реальность максимально полно. Они говорили, что в экономике нет законов, а есть тенденции. Использовалась такая, например, метафора: в механике существует закон гравитации, согласно которому тело падает вертикально вниз (так, падение яблока подчиняется этому закону). А если взять сухой лист, он ведет себя иначе: вроде бы падает, но падает по сложной траектории, а то, может, его и унесет ветром вверх. В экономике действуют такие тенденции как падение листа, но не такие законы, как падение яблока (реалисты уже в этой аналогии предвосхищали немеханистические концепции второй половины ХХ века: представление о неравновесных процессах, случайных флуктуациях и нестабильности). Хотя триумф техноморфного мышления, сводящего любой объект к машине, в эпоху успехов индустриализма оттеснил реалистов в тень, их присутствие всегда напоминало о существовании альтернативного видения политэкономии.
От механики к термодинамике
Научная картина мира менялась. В XIX веке был сделан важнейший шаг от ньютоновского механицизма, который представлял мир как движение масс, оперировал двумя главными категориями: массой и силой. Когда в рассмотрение мира была включена энергия, возникла термодинамика, движение тепла и энергии, двумя универсальными категориями стали энергия и работа – вместо массы и силы. Это было важное изменение. В картине мира появляется необратимость, нелинейные отношения. Сади Карно, который создал теорию идеальной тепловой машины, произвел огромные культурные изменения. Эту трансформацию научного образа мира освоил и перенес в политэкономию Карл Маркс.
Маркс ввел в основную модель политэкономии цикл воспроизводства – аналог разработанного Сади Карно идеального цикла тепловой машины. Вместо элементарных актов обмена «товар-деньги» (как у Карно – обмен «давление-объем») – вся цепочка соединенных в систему операций. Модель сразу стала более адекватной – политэкономия теперь изучала уже не простой акт эквивалентного обмена, как было раньше, а полный цикл, который может быть идеальным в некоторых условиях (Карно определял условия достижения максимального КПД, в цикле воспроизводства – максимальной нормы прибыли). Но главное, что из термодинамического рассмотрения (а это была равновесная термодинамика) вытекало, что, совершив идеальный цикл, нельзя было произвести полезную работу, т. к. эта работа использовалась для возвращения машины в исходное состояние. И, чтобы получить полезную работу, надо было изымать энергию из топлива, аккумулятора природной солнечной энергии.
То есть топливо было особым типом товара, который содержал в себе нечто, давным-давно накопленное природой, что позволяло получать работу. Когда Маркс ввел свою аналогию – цикл воспроизводства, в каждом звене которого обмен был эквивалентным, то оказалось, что для получения прибавочной стоимости надо вовлекать в этот цикл совершенно особый товар – рабочую силу, платя за нее цену, эквивалентную стоимости ее воспроизводства. Рабочая сила была таким товаром, созданным «природой», который позволял производить «полезную работу». Так в политэкономию были введены термодинамические категории. В дальнейшем были отдельные, но безуспешные попытки развить особую ветвь энергетической или «экологической» политэкономии (начиная с Подолинского, Вернадского, Поппера-Линкуса)16.
По сути, в переходе от цикла Карно к циклу воспроизводства был сделан неосознанный скачок к неравновесной термодинамике, скачок через целую научную эпоху. В отличие от топлива как аккумулятора химической энергии, которая могла вовлекаться в работу тепловой машины только с ростом энтропии, рабочая сила – явление жизни, процесса крайне неравновесного и связанного с локальным уменьшением энтропии. Фабрика, соединяя топливо (аккумулятор энергии) с живой системой работников (аккумулятор негэнтропии) и технологией (аккумулятор информации), означала качественный сдвиг в ноосфере, а значит, принципиально меняла картину мира.
Маркс даже значительно опередил свое время. В «Капитале» есть очень важная глава «О кооперации», полностью преодолевающая механицизм основной модели политэкономии (более того, в ней преодолен и евроцентризм, хотя марксизм в целом находится под большим влиянием этой идеологии). Хотя в общем Маркс исходит из абстрактной редукционистской модели взаимоотношения рабочего с предпринимателем как купли-продажи рабочей силы, в этой главе показано, что в экономике действуют не «атомы», не индивиды, а коллективы рабочих. И соединение рабочих в коллектив само по себе создает такой кооперативный эффект, такую добавочную рабочую силу, которая капиталисту достается бесплатно как организатору. То есть Маркс ввел в политэкономию системные представления о синергизме, которые не вмещались в механистическую модель.
Политэкономия и эволюционизм
Маркс сделал еще один важный шаг, соединив модель политэкономии с идеей эволюции. На завершающей стадии работы над «Капиталом» появилась теория происхождения видов Дарвина. Маркс оценил ее как необходимое естественнонаучное обоснование всей его теории. Он немедленно включил концепцию эволюции в модель политэкономии в виде цикла интенсивного воспроизводства, на каждом витке которого происходит эволюция технологической системы.
Таким образом, Маркс ввел понятие технического прогресса как внутреннего фактора цикла воспроизводства. Сейчас это уже кажется тривиальным, а на деле введение эволюционной идеи в политэкономическую модель было огромным шагом вперед. Можно сказать, что Маркс привел политэкономическую модель в соответствие с картиной мира современной ему науки, которая претерпела кардинальное изменение.
В немарксистской политэкономии эволюционное учение Дарвина сыграло огромную роль, дав как бы научное обоснование модернизированной антропологической модели западного общества («социал-дарвинизм»). Как пишет историк дарвинизма Р. Граса, социал-дарвинизм вошел в культурный багаж западной цивилизации и «получил широкую аудиторию в конце XIX – начале ХХ в. не только вследствие своей претензии биологически обосновать общественные науки, но прежде всего благодаря своей роли в обосновании экономического либерализма и примитивного промышленного капитализма».
Биологизация политэкономии интенсивно идет и сегодня (так, небывалый в истории всплеск социал-дарвинизма наблюдается в России, где раньше для него не было культурной ниши). Но это не новое явление. М. Салинс пишет:
«Раскрыть черты общества в целом через биологические понятия – это не совсем „современный синтез“. В евро-американском обществе это соединение осуществляется в диалектической форме начиная с XVII в. По крайней мере начиная с Гоббса склонность западного человека к конкуренции и накоплению прибыли смешивалась с природой, а природа, представленная по образу человека, в свою очередь вновь использовалась для объяснения западного человека. Результатом этой диалектики было оправдание характеристик социальной деятельности человека природой, а природных законов – нашими концепциями социальной деятельности человека. Человеческое общество природно, а природные сообщества любопытным образом человечны. Адам Смит дает социальную версию Гоббса; Чарльз Дарвин – натурализованную версию Адама Смита и т. д.
С XVII века, похоже, мы попали в этот заколдованный круг, поочередно прилагая модель капиталистического общества к животному миру, а затем используя образ этого «буржуазного» животного мира для объяснения человеческого общества… Похоже, что мы не можем вырваться из этого вечного движения взад-вперед между окультуриванием природы и натурализацией культуры, которое подавляет нашу способность понять как общество, так и органический мир… В целом, эти колебания отражают, насколько современная наука, культура и жизнь в целом пронизаны господствующей идеологией собственнического индивидуализма».
Кейнсианская революция
Перескочим через несколько этапов и посмотрим, как произошла модернизация политэкономии в ходе «кейнсианской революции», когда был сделан принципиальный шаг от механицизма. Английский экономист и философ Кейнс, значительно опережая западную интеллектуальную традицию, не переносил в экономику механические метафоры и, главное, не прилагал метафору атома к человеку. Кейнс отрицал методологический индивидуализм – главную опору классической политэкономии. Он считал атомистическую концепцию неприложимой к экономике, где действуют «органические общности», – а они не втискиваются в принципы детерминизма и редукционизма. Более того, Кейнс даже отрицал статус политэкономии как естественной науки, на котором так настаивали его предшественники начиная с Адама Смита. Он писал: «экономика, которую правильнее было бы называть политической экономией, составляет часть этики».
Кейнс относился к тому типу ученых, которых называли реалистами, – видел мир таким, каков он есть, с его сложностями, не сводя к упрощенным абстракциям (типа человека-атома, индивидуума). Он поставил под сомнение главный аргумент, посредством которого идеология использует науку для легитимации социального порядка – апелляцию к естественному порядку вещей, к природным законам общественной жизни. Он не только вскрыл методологическую ловушку, скрытую в самом понятии «естественный», но и отверг правомерность распространения этого понятия на общество.
В первой трети ХХ века индустриальная экономика стала столь большой системой, что «невидимая рука» рынка оказалась уже неспособной возвращать ее в состояние равновесия даже в масштабе ядра – развитых капиталистических стран. Включив системные идеи в теорию экономики, Кейнс привел ее в соответствие с методологическим уровнем современной ему науки, ограничив влияние детерминизма.
Роль «планового» начала в хозяйстве Запада особенно наглядна в моменты кризисов. Экономисты-классики (теоретики «свободного рынка») и «неолибералы» видят выход из кризиса в сокращении государственных расходов (сбалансировании бюджета) и доходов трудящихся (снижении реальной зарплаты и безработице). Кейнс, напротив, считал, что простаивающие фабрики и рабочие руки – признак ошибочности всей классической политэкономии. Его расчеты показали, что выходить из кризиса надо через массированные капиталовложения государства при росте дефицита бюджета вплоть до достижения полной занятости (беря взаймы у будущего, но производя). Он предлагал делать это, например, резко расширяя жилищное строительство за счет государства.
Так пытался действовать Рузвельт для преодоления Великой депрессии, несмотря на сопротивление экспертов и частного сектора. Ему удалось увеличить бюджетные расходы лишь на 70%, и уже при этом сократить безработицу с 26% в 1933 г. до 14% в 1937. Тогда он попробовал сбалансировать бюджет – и в 1938 г. произошел «самый быстрый спад за всю экономическую историю США»: за год безработица подскочила до 19%, а частные капиталовложения упали вдвое.
В 1940 г. сам Кейнс с горечью предсказывал: «Похоже, что политические условия не позволяют капиталистической экономике организовать государственные расходы в необходимых масштабах и, таким образом, провести эксперимент, показывающий правильность моих выкладок. Это будет возможно только в условиях войны». Так и получилось – война стала лабораторным экспериментом, доказавшим правоту Кейнса. Только строили за счет государства не жилища, а аэродромы и танки (но для анализа это неважно). В США дефицит госбюджета с 1939 по 1943 г. подняли с 4 до 57 млрд. долл., безработица упала с 19 до 1,2%, производство возросло на 70%, а в частном секторе – вдвое. Тогда-то экономика США (да и Германии) набрала свой ритм. Эксперимент состоялся.
Неолиберализм: возврат к истокам
В конце 50-х годов, когда завершилась послевоенная структурная перестройка экономики Запада, начался откат к механистической модели политэкономии. «Консервативная волна» вывела на передний план теоретиков неолиберализма и монетаризма. Давление на кейнсианскую модель и «социальное государство» нарастало. Собственнический индивидуализм все больше доминировал в культуре. Установки неолибералов были во многом более радикальны, чем взгляды Адама Смита. Была вновь подтверждена полная автономия от этических ценностей. М. Фридман декларировал: «Позитивная экономическая теория есть или может быть объективной наукой в том же самом смысле, что и любая естественная наука».
В истории «механистического ренессанса» в политэкономии очень характерен эпизод с «кривыми Филлипса». С помощью крайне редукционистской и механистичной модели Филлипс сделал чисто политический вывод: «При некотором заданном темпе роста производительности труда уменьшить инфляцию можно только за счет роста безработицы». Ошибки (и подтасовки) Филлипса хорошо изучены в истории эконометрии.
В этот момент, пожалуй, впервые с рождения политэкономии возникло принципиальное расхождение между траекторией ее основной модели и тенденциями в изменении научной картины мира. Даже не просто расхождение или скрытое противоречие, как в неоклассической политэкономии 20-х годов, а радикальная оппозиция. Завершен новый виток в развитии механистической модели человека (как кибернетической машины в необихевиоризме) и его биологизации (в социобиологии). Человек вновь предстал как индивидуум, вырванный из мира и противопоставленный ему. Вновь восторжествовал детерминизм и редукционизм как методологические принципы.
Значительная часть научного сообщества поддержала неолиберальный поворот. В годы перестройки в СССР это проявилось в гипертрофированной форме. Один из видных лидеров советской либеральной интеллигенции академик Н. Амосов писал даже: «Точные науки поглотят психологию и теорию познания, этику и социологию, а следовательно, не останется места для рассуждений о духе, сознании, вселенском Разуме и даже о добре и зле. Все измеримо и управляемо».
Это – уникальный в истории случай, когда ведомая своими социальными интересами научная элита выступает в идеологии как сила обскурантистская, антинаучная. Основные постулаты и основные модели, которые нам предлагают якобы от имени науки, кардинально противоречат фундаментальному научному знанию, которое сама наука уже освоила. Это вызвало болезненные явления, которые в большой мере повлияли и на развитие культурного кризиса индустриализма.
Почему откат к классической либеральной модели означал поворот промышленной цивилизации к ее нынешнему острому кризису? В чем был смысл указателей на том перекрестке, с которого Запад пошел по пути политэкономического фундаментализма? То распутье ставило цивилизацию перед принципиальным выбором.
Один выбор означал преодоление индустриализма, глубокое культурное преобразование, масштаба новой Реформации. Преодоление антропологической модели – признание, что человек не атом, что он включен в крупные «молекулы» солидарных связей. Преодоление модели общества как арены войны всех против всех, отказ от глубоко коренящегося в индустриальной культуре социал-дарвинизма, переход от метафоры и ритуалов борьбы к метафоре и ритуалам взаимопомощи (что для фон Хайека означало «путь к рабству»). Преодоление экономического детерминизма и признание того, что мир сложен, что отношения в нем нелинейны – отказ от инструментализма и претензий на то, что политэкономия – естественная наука. Преодоление самого разделения знания и морали, главного кредо европейской науки Нового времени. Наконец, преодоление тех постулатов, которые и определяли прометеевский характер индустриальной цивилизации, прежде всего, переосмысление категорий прогресса и свободы, восстановление их диалектики с категорией ответственности. Очевидно, что это означало отказ от той метаидеологии, которая лежит в основе политики Запада, – евроцентризма.
Для такого поворота от хрематистики интеллектуальная и культурная элита Запада не созрела. Был сделан иной выбор – возврат к истокам, к основным мифам евроцентризма и политэкономии, с доведением некоторых из них уже до уровня гротеска. Очень важен сегодня спор Улофа Пальме с Фридрихом фон Хайеком, который сказал в 1984 г., что для существования рыночной экономики необходимо, чтобы люди освободились от некоторых природных инстинктов, среди которых он выделил инстинкт солидарности и сострадания. Признав, что речь идет о природных, врожденных инстинктах, философ выявил все величие проекта современного индустриализма: превратить человека в новый биологический вид. То, о чем мечтал Фридрих Ницше, создавая образ сверхчеловека, находящегося «по ту сторону добра и зла», пытаются сделать реальностью в конце ХХ века. В последние два десятилетия концепция новой расы («золотого миллиарда») совершенно всерьез разрабатывается в ее философских, социальных и политических аспектах.
Возврат к либерализму означал наложение идеологических табу на ту линию в развитии политэкономической модели, которая предполагала включить в нее наряду с традиционными экономическими категориями стоимости, цены и прибыли (категориями относительными, зависящими от преходящих социальных и политических факторов, например, от цены на арабскую нефть) категорию абсолютную – затраты энергии. Принципиальная несоизмеримость между ценностью тонны нефти для человечества и ее рыночной ценой (которая определяется лишь ценой подкупа или запугивания арабских шейхов) – яркий пример товарного фетишизма, который скрывает подобные несоизмеримости.
Таким образом, не было сделано того шага вперед, который уже назревал в развитии политэкономии, а был сделан огромный шаг назад. Был усилен основной изъян базовой политэкономической модели, который стал осознаваться как нетерпимый в середине ХХ века. Он состоял в том, что модель не включала в рассмотрение взаимодействие промышленной экономики с окружающей средой и с будущим. Это имело философское основание, уходящее корнями в научную революцию и в Реформацию – человек был выведен за пределы мира и представлен свободной личностью, призванной познавать Природу, подчинять и эксплуатировать ее. Специфика «формулы свободы» в индустриализме связана прежде всего с детерминизмом, который создает иллюзию возможности точно предсказать последствия твоих действий. Это устраняет «боязнь непоправимого», метафизическую компоненту проблемы ответственности, заменяет эту проблему задачей рационального расчета. Детерминированная и количественно описываемая система лишена всякой святости (как сказал философ, «не может быть ничего святого в том, что имеет цену»).
Но было и объективное обстоятельство, которое в прошлом допускало замыкание политэкономии в механистических рамках: мир был очень велик, а ресурсы казались неисчерпаемыми, и эти факторы могли восприниматься как константы. Маркс, введя понятие о циклах простого и расширенного воспроизводства, основывался уже на термодинамических концепциях Сади Карно. Но и Карно идеализировал свою равновесную тепловую машину – он не принимал во внимание топку. А это именно та неотъемлемая часть машины, где расходуются невозобновляемые ресурсы и создаются загрязняющие природу отходы. В середине ХХ века исключать «топку» из политэкономической модели было уже недопустимо. Но неолиберализм пошел на этот шаг, компенсируя нарастание противоречия мощным идеологическим давлением.
Так родился ставший знаменитым афоризм: «Почему я должен жертвовать своим благополучием ради будущих поколений – разве они чем-нибудь пожертвовали ради меня?». Это – завершение антропологической модели Запада, когда разрывается даже связь наследования между поколениями людей-атомов по прямой родственной линии. Эта связь поддерживалась передачей экономических ресурсов детям при условии, что они передадут их своим детям, а не на условиях эквивалентного обмена. То есть индивидуализм хотя бы предполагал поддержание «экономической генетической связи», обеспечивающей воспроизводство индивида. Нынешний кризис побуждает обосновать разрыв и этой связи.
Это радикальный отказ от Кейнса, который при оптимизации учитывал «взаимодействие с будущим» – с поколениями, которые еще не могут участвовать ни в рыночном обмене, ни в выборах, ни в социологических опросах. Рыночные механизмы в принципе отрицают обмен любыми стоимостями с будущими поколениями, поскольку они, не имея возможности присутствовать на рынке, не обладают свойствами покупателя и не могут гарантировать эквивалентность обмена. Следовательно, при любом таком акте сразу нарушается главная догма политэкономии – принцип равновесия.
Так развитие политэкономии было загнано в тупик (по сути, политэкономия изымается из университетских курсов, заменяется эконометрикой и организацией бизнеса). Расхождение между мировой реальностью – даже природной, а не социальной – и критериями эффективности того ядра хрематистики, в котором поддерживается относительное равновесие («первый мир») стало вопиющим. Политэкономия неолиберализма принципиально игнорирует даже те сбрасываемые в буферную зону (атмосфера, океан, «третий мир») и в будущее источники неравновесия (например, загрязнения), отрицательная стоимость которых поддается оценке в терминах самой хрематистики. Когда же эти расчеты делаются, миф о равновесной рыночной экономике разлетается в прах.
Эта декадентская социальная философия неолиберализма в большой мере предопределила разрушительный, доходящий до некрофилии (в смысле Э. Фромма) характер проекта модернизации народного хозяйства России. Та глубина деструктуризации хозяйства, науки, социальной сферы, которая была предусмотрена проектом и уже достигнута на практике, ни в коей мере не была необходимой для декларированной цели – демократизации общества и либерализации экономики. Не могут быть эти разрушения в полной мере объяснены и геополитическими интересами противников СССР в холодной войне. Реформа в России – колоссальный эксперимент, очень много говорящий о глубинных мотивах позднего индустриализма в его столкновении с грядущей «третьей волной» цивилизации.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ Научная картина мира – экономика – экология
Рыночная экономика и природа: формулировки конференции Рио-92
Одним из самых острых проявлений общего кризиса индустриальной цивилизации стало признание природоразрушающего характера созданного этой цивилизацией типа хозяйства – т.н. «рыночной экономики». Это признание стало итогом беспрецедентной Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992). Ее генеральный секретарь Морис Стронг подчеркнул: «западная модель развития более не подходит ни для кого. Единственная возможность решения глобальных проблем сегодняшнего дня – это устойчивое развитие».
Незадолго до этого было предложено и понятие: «Устойчивое развитие – это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». Это условие накладывает на современную хозяйственную деятельность ограничение, «идущее из будущего». Оно связано прежде всего с невозобновляемыми ресурсами – минеральными и экологическими.
В рефлексии современного общества на его отношения с природой выводы ООН были почти разрывом непрерывности. В истории культуры редко приходилось видеть такой радикальный и «моментальный» отказ части интеллигенции от общепринятой и господствующей модели всего образа жизни. Говоря о способе производства и потребления Запада как общей модели развития, Я.Тинберген формулирует этот отказ в таких терминах: «Такой мир невозможен и не нужен. Верить в то, что он возможен, – иллюзия, пытаться воплотить его – безумие. Осознавать это – значит признавать необходимость изменения моделей потребления и развития в богатом мире» [1, с. 104].
Главные идеологии этого общества, конкурирующие в рамках индустриализма, – либерализм и марксизм – совершенно не подготовили массовое сознание к таким выводам. Более того, интеллектуальные течения, следующие фундаментальным постулатам обеих идеологий, практически ничем не ответили на Рио-92. Во всяком случае, не известно попыток провести ревизию главных постулатов этих идеологий в свете решений этой Конференции или хотя бы объяснить причину такого их разрыва с реальностью. Пока что главный ответ на констатацию краха главной модели развития целой цивилизации – полное молчание17.
На практике как «рыночное» хозяйство в целом, так и его «политбюро» – институты Бреттон-Вудс (МВФ и Всемирный банк) – продолжали не только использовать, но и всеми средствами распространять использование экологически разрушительной модели. Например, в США при росте ВНП на душу населения «индекс устойчивого экономического благосостояния» непрерывно снижается («Индекс устойчивого экономического благосостояния» предложен в 1989 г. Г. Дали и Дж. Коббом.). Предпринятая под давлением экологических движений (и даже Конгресса США) «зеленая маскировка» означала лишь смену фразеологии и создание в МВФ и Всемирном банке «экологических подразделений», служащих ширмой. Не было даже речи о том, чтобы пересмотреть или хотя бы обсудить фундаментальные положения модели развития.
За «зеленой» ширмой продолжалась та же экономическая политика. Достаточно взглянуть на просочившийся в печать конфиденциальный меморандум тогдашнего главного экономиста Всемирного банка Лоуренса Саммерса, который он разослал своим ближайшим сотрудникам 12 декабря 1992 г.: «Строго между нами. Как ты считаешь, не следует ли Всемирному банку усилить поощрение вывоза грязных производств в наиболее бедные страны? Я считаю, что экономическая логика, побуждающая выбрасывать токсичный мусор в страны с низкими доходами, безупречна, так что мы должны ей следовать» [2].
Л. Саммерс совершенно правильно и честно сформулировал проблему: поведение хозяйственных агентов диктуется определенной экономической логикой. Поиски злого умысла, моральные обвинения, к которым прибегают «зеленые», просто неуместны, если эта логика принимается в принципе гражданским обществом Запада. Эта логика несовместима с экологическими критериями. Но ведь это ваш выбор, господа.
Принятая многими странами программа «структурной перестройки» МВФ, ориентирующая их хозяйство на экспорт и обязывающая стабилизировать финансы и выплачивать долги, привела к «экологическому демпингу» в огромных масштабах. Помимо размещения грязных производств с очень низкими затратами на природоохранные мероприятия, эти страны выдают концессии и ведут сами массовую вырубку лесов. В Гане с 1984 по 1987 г. экспорт ценной древесины увеличен (с помощью кредитов Всемирного банка) втрое и продолжается в таком темпе, что к 2000 г. страна может остаться совершенно без леса. Экспортные успехи Чили частично связаны с массовой вырубкой реликтового леса юга страны и опустошительным выловом рыбы для производства рыбной муки.
Инвестиции в освоение Амазонии с участием Всемирного банка составили 10 млрд. долл. Масштабы вырубки леса таковы, что только в ходе одного из проектов (Grande Сarajas) будет очищена территория, равная Франции и Германии вместе взятым. А около города Мараба строится металлургический комбинат мощностью 35 млн. тонн стали в год, который будет работать на древесном угле (!), полученном при вырубке 3500 кв. км тропического леса в год. Вся продукция будет идти на экспорт и вывозиться по железной дороге в строящийся на расстоянии 900 км порт. Масштабы экологического ущерба от этого проекта не укладываются в привычные понятия.
Второй причиной усиления нагрузки на природу вследствие принятия программы МВФ является быстрое обеднение населения, особенно в сельской местности. Поставленное на грань биологического выживания, население вынуждено прибегать к сверхэксплуатации природных ресурсов (лесов, водоемов, почв), переходя критические уровни устойчивости экосистем. Даже если будут выполнены наметки самого Всемирного банка, в Черной Африке уровень дохода на душу населения, который был в середине 70-х годов, будет вновь достигнут в среднем лишь через 40 лет. Согласно выводу Экономической комиссии ООН для Африки, восстановление экономики здесь в принципе возможно лишь при отказе от неолиберальной стратегии.
Даже те страны, в которых наблюдается рост доходов, достигают это через разрушительную эксплуатацию природы. Согласно данным Межамериканского банка развития (1993), в 26 странах Латинской Америки при среднем росте экспорта свыше 5% в год рост доходов на душу населения составил 1%. За последние 30 лет ситуация изменилась лишь в худшую сторону. Можно говорить о том, что в рамках программы МВФ происходит полный разрыв связи между системой производства в стране и системой потребления. В некоторых странах Латинской Америки потребление в среднем падало при росте производства. В целом, хозяйство перестает быть «народным», и само понятие «страны» по сути дела стирается. Она превращается в пространство, на котором действуют «экономические операторы», производящие товары для удовлетворения платежеспособного спроса глобального рынка. Никакой связи с потребностями людей, живущих в данной стране и даже у стен предприятия, это производство не имеет. Устраняются последние следы естественного, натурального хозяйства – экономики (в смысле Аристотеля).
Видный американский политик М. Харрингтон писал в 1967. г. в статье «Американская мощь в ХХ веке»: «Механизм рынка не может послужить развитию латиноамериканских стран путем привлечения иностранного капитала или вложений национального капитала. Нужно сознательное экономическое и социальное планирование, а не частные предприятия. Ибо в самом лучшем случае логика закона максимальной прибыли приведет к тому, что интервенция крупных иностранных фирм деформирует экономическую структуру, а в худшем случае законсервирует отсталость страны… Чтобы нанести неисчислимый вред массам третьего мира, политики и вообще люди Запада вовсе не обязательно должны быть злыми – они просто должны быть рационально мыслящими реалистами» [3, с. 278].
Идеологические основания экономической логики рынка
Как можно объяснить устойчивость всей этой экономической траектории индустриальной цивилизации, если учесть, что «экологическая чувствительность» гражданского общества Запада сегодня весьма высока, «зеленые» стали влиятельным политическим течением, а экологическая тематика занимает одно из главных мест в средствах массовой информации? Дело не только в материальном интересе «рационально мыслящих реалистов», но и в идеологических ценностях т.н. современного индустриального общества («Запада»). То есть в духовных конструкциях. Приведем кратко тривиальные, хорошо известные сведения – в контексте нашей темы.
Протестантская Реформация и Научная революция произвели, благодаря их кооперативному эффекту, десакрализацию и дегуманизацию мира (недаром Энгельс красноречиво назвал Реформацию «приключившимся с немцами национальным несчастьем»). В мышлении человека Запада аристотелевский Космос, в котором человек был связан невидимыми струнами с каждой частицей, разрушился. Перед человеком предстало бесконечное пространство и линейное время – и человек в нем потерялся.
Сам человек в его мироощущении был выведен за пределы мира и вошел с ним в отношения субъект-объект. Конрад Лоренц уделяет много внимания «этой догме, столь фатальной для самопознания человеческого существа – догме, согласно которой человек находится вне природы» [4, с. 236]. Мир стал машиной, а природа, бывшая ранее Храмом, стала Первой Фабрикой. Это предопределило все мироощущение Запада в целом. М. Хайдеггер в своей работе «Европейский нигилизм» определяет это так: «Человеческая масса чеканит себя по типу, определенному ее мировоззрением. Простым и строгим чеканом, по которому строится и выверяется новый тип, становится ясная задача абсолютного господства над землей» [5, с. 311]. Он ищет ответ именно на этот вопрос: «Спросим: каким образом дело дошло до подчеркнутого самоутверждения „субъекта“? Откуда происходит то господство субъективного, которое правит всем новоевропейским человечеством и его миропониманием?» [5, с. 266].
Заметим сразу, что десакрализация природы сразу означала и десакрализацию труда в западной цивилизации, ибо он есть прежде всего отношение человека к природе. Труд в обладающем святостью Космосе, каждый материальный объект которого нес в себе «конечную причину» (замысел Божий), в традиционном обществе имел литургический смысл. Те случаи уничтожения продуктов труда, которые иногда приходится наблюдать и сегодня на Западе (например, организуемые с торжественностью операции по ликвидации молока или фруктов), а тем более случаи создания «антипродукта» (наполнение зловонным мусором, привозимым на грузовиках, мраморных залов аэропортов и университетов во время забастовок мусорщиков) выглядят буквально как черная месса – анти-литургия.
Возник новый тип познания и новый тип рациональности – автономный от морали. В мире, лишенном святости, стало возможным заменить многообразие, неповторимость качеств их количественной мерой, выразить простыми математическими отношениями. Сделать несоизмеримые вещи соизмеримыми, заменить ценности их количественным суррогатом – ценой. Известен афоризм: Запад – это цивилизация, «которая знает цену всего и не знает ценности ничего» (еще сказано: «не может иметь святости то, что может иметь цену»).
Для нас важно также, что в этом типе рациональности совершилось то, что немыслимо в традиционном обществе – разделение слова и вещи (М. Фуко, «Слова и вещи»). Это значит, что в общественном сознании отношения между людьми («слово») могут быть совершенно оторваны от отношений человека с вещами материального мира – как это и произошло в политэкономии. Возник человек, ставший «господином вещей» (господином природы).
Как отметил Ф. Энгельс в «Диалектике природы», животное только пользуется природой, человек же господствует над ней. Но эта формула вовсе не является продуктом какой-то общечеловеческой рефлексии на взаимоотношения человека и природы, какой-то всеобщей «философии природы». Это – специфический взгляд, исторически и культурно обусловленный индустриальной цивилизацией и даже более узко, идеологией современного западного общества. С. Амин непосредственно связывает эту проблему с евроцентризмом, в социальной философии которого методологический индивидуализм стал важным принципом:
«Европейская философия Просвещения определила принципиальные рамки идеологии капиталистического европейского мира. Эта философия основывается на традиции механистического материализма, который устанавливает однозначные цепи причинных связей… Этот грубый материализм, который мы иногда противопоставляем идеализму, есть не более чем его близнец, это две стороны одной медали. В обоих случаях сознательный, не отчужденный человек и социальные классы выпадают из схемы. Поэтому идеологическое выражение этого материализма часто имеет религиозный характер (как у франкмасонов или якобинцев с их Высшим Существом). Поэтому обе идеологии сотрудничают без всяких проблем… Буржуазная общественная наука никогда не преодолела этого грубого материализма, поскольку он есть условие воспроизводства того отчуждения, которое делает возможным эксплуатацию труда капиталом. Он неизбежно ведет к господству меркантильных ценностей, которые должны пронизывать все аспекты общественной жизни и подчинять их своей логике. Эта философия доводит до абсурда свое исходное утверждение, которое отделяет – и даже противопоставляет – человека и Природу. В этом плане мы видим абсолютный „антииндуизм“ (если определить индуизм через тот акцент, который он делает на единстве человека и Природы). Этот материализм зовет относиться к Природе как вещи и даже разрушать ее, угрожая самому выживанию человечества, о чем начали поговаривать экологи» [6, с.79].
Исследования антропологов показали, что отношение человека Запада к природе не является естественным, присущим человечеству как виду. Это – продукт специфической идеологии и определенной картины мира. К. Леви-Стросс в «Структурной антропологии» пишет:
«Оно [развитие Запада] предполагает безусловный приоритет культуры над природой – соподчиненность, которая не признается почти нигде вне пределов ареала индустриальной цивилизации…
Между народами, называемыми «примитивными», видение природы всегда имеет двойственный характер: природа есть пре-культура и в то же время над-культура; но прежде всего это та почва, на которой человек может надеяться вступить в контакт с предками, с духами и богами. Поэтому в представлении о природе есть компонент «сверхъестественного», и это «сверхъестественное» находится настолько безусловно выше культуры, насколько ниже ее находится природа… Например, в случае запрета давать в долг под проценты, наложенного как отцами Церкви, так и Исламом, проявляется очень глубокое сопротивление тому, что можно назвать моделирующим наши установки «инструментализмом» – сопротивление, далеко выходящее за рамки декларированного смысла запрета.
Именно в этом смысле надо интерпретировать отвращение к купле-продаже недвижимости, а не как непосредственное следствие экономического порядка или коллективной собственности на землю. Когда, например, беднейшие индейские общины в Соединенных Штатах, едва насчитывающие несколько десятков семей, бунтуют против планов экспроприации, которая сопровождается компенсацией в сотни тысяч, а то и миллионы долларов, то это, по заявлениям самих заинтересованных в сделке деятелей, происходит потому, что жалкий клочок земли понимается ими как «мать», от которой нельзя ни избавляться, ни выгодно менять…
В этих случаях речь идет именно о принципиальном превосходстве, которое отдается природе над культурой. Это знала в прошлом и наша цивилизация, и это иногда выходит на поверхность в моменты кризисов или сомнений, но в обществах, называемых «примитивными», это представляет собой очень прочно установленную систему верований и практики» [7, с. 301-302].
В ходе Научной революции сформировалось новое мироощущение, проникнутое ньютоновским механицизмом. Оно предопределило и главные догмы философии хозяйства, и свойственную ей антропологическую модель (homo eсonomiсus) – индивидуум как атом человечества, выступающий на рынке как рациональный экономический агент. Это породило и принципиальную «антиэкологичность», которую К. Лоренц объясняет склонностью к «техноморфному мышлению, усвоенному человечеством вследствие достижений в овладении неорганическим миром, который не требует принимать во внимание ни сложные структуры, ни качества систем» [4, с. 143].
Отношение человек – природа: взгляд из политэкономии
Итак, выделим некоторые фундаментальные принципы «рыночной цивилизации», утверждаемые идеологией современного Запада, важные для нашей темы:
– субъект-объектные отношения человека и природы, десакрализация и дегуманизация мира, механистическое (техноморфное) мировоззрение;
– воля к власти (идея свободы) и потребность в непрерывной экспансии (идея прогресса);
– индивидуализм – представление человека свободным атомом, находящимся в непрерывном движении (конкуренции) и преследующим эгоистический интерес.
Эта огромная культурная мутация произошла в Западной Европе вследствие совмещения религиозной и научной революций. Их совместное действие и предопределило центральные догмы «научной» экономической теории. Недаром Маркс назвал Адама Смита «Лютером политической экономии». В политэкономии представление о бесконечности мира преломилось в постулат о неисчерпаемости природных ресурсов. Уже поэтому они были исключены из рассмотрения классической политэкономией как некая «бесплатная» мировая константа, экономически нейтральный фон хозяйственной деятельности.
Предметом экономики же является распределение ограниченных ресурсов. Рикардо утверждал, что «ничего не платится за включение природных агентов, поскольку они неисчерпаемы и доступны всем». Это же повторяет Сэй:
«Природные богатства неисчерпаемы, поскольку в противном случае мы бы не получали их даром. Поскольку они не могут быть ни увеличены, ни исчерпаны, они не представляют собой объекта экономической науки». Ту же мысль повторяет Вальрас, давая понятие общественного богатства: «Вещи, которые, обладая полезностью, не являются дефицитными, не являются частью общественного богатства» (цит. по [8, с. 133]).
Трудно выявить рациональные истоки этой догмы, очевидно противоречащей здравому смыслу. Какое-то влияние, видимо, оказала идущая от натурфилософии и алхимиков вера в трансмутацию элементов и в то, что минералы (например, металлы) растут в земле («рождаются Матерью-Землей»). Алхимики, представляя богоборческую ветвь западной культуры, верили, что посредством человеческого труда можно изменять природу. Эта вера, воспринятая физиократами и в какой-то мере еще присутствующая у А. Смита, была изжита в научном мышлении, но, чудесным образом сохранилась в политэкономии в очищенном от явной мистики виде. Мирча Элиаде пишет об этой вере:
«В то время как алхимия была вытеснена и осуждена как научная „ересь“ новой идеологией, эта вера была включена в идеологию в форме мифа о неограниченном прогрессе. И получилось так, что впервые в истории все общество поверило в осуществимость того, что в иные времена было лишь милленаристской мечтой алхимика. Можно сказать, что алхимики, в своем желании заменить собой время, предвосхитили самую суть идеологии современного мира. Химия восприняла лишь незначительные крохи наследия алхимии. Основная часть этого наследия сосредоточилась в другом месте – в литературной идеологии Бальзака и Виктора Гюго, у натуралистов, в системах капиталистической экономики (и либеральной, и марксистской), в секуляризованных теологиях материализма и позитивизма, в идеологии бесконечного прогресса» (цит. по [8, с. 37]).
Неисчерпаемость природных ресурсов – важнейшее условие для возникновения иррациональной идеи прогресса и производных от нее идеологических конструкций либерализма (например, «общества потребления»). Это – идеологическое прикрытие той «противоестественной» особенности хрематистики («рыночной экономики»), которую отметил еще Аристотель: «Все, занимающиеся денежными оборотами, стремятся увеличить свои капиталы до бесконечности». В антропологической модели Гоббса утрата желания увеличивать богатства равносильна смерти человека.
От представления о Матери-Земле, рождающей («производящей») минералы, в политэкономию пришло также противоречащее здравому смыслу понятие о «производстве» материалов для промышленности. Это сформулировал уже философ современного общества Гоббс в «Левиафане»:
«Бог предоставил [минералы] свободно, расположив их на поверхности лица Земли; поэтому для их получения необходимы лишь работа и трудолюбие [industria]. Иными словами, изобилие зависит только от работы и трудолюбия людей (с милостью Божьей)».
Эта философия стала господствующей. Попытки развить в рамках немеханистического мировоззрения (холизма) начала «экологической экономики», предпринятые в XVIII веке Линнеем и его предшественниками (Oeсonomia naturae – «экономика природы», «баланс природы»), были подавлены всем идеологическим контекстом. В XIX в. также не имел успеха и холизм натурфилософии Гёте, который впоследствии пытались развить фашисты с их «экологической мистикой».
Можно сказать, что политэкономия стала радикально картезианской, разделив экономику и природу так же, как Декарт разделил дух и тело. Попытка физиократов примирить «частную экономику» с «природной экономикой» – экономическое с экологическим – не удалась. И хотя долго (вплоть до Маркса) повторялась фраза «Труд – отец богатства, а земля – его мать», роль матери низводилась почти до нуля. Локк считал, что по самым скромным подсчетам доля труда в полезности продуктов составляет 9/10, а в большинстве случаев 99 процентов затрат. В фундаментальной модели политэкономии роль природы была просто исключена из рассмотрения как пренебрежимо малая величина. О металлах, угле, нефти стали говорить, что они «производятся» а не «извлекаются».
Насколько устойчиво это вошедшее в культуру представление, говорит отношение экономистов к сенсационной книге У.-С. Джевонса «Угольный вопрос» (1865), в которой он дал прогноз запасов и потребления угля в Великобритании до конца XIX века. Осознав значение второго начала термодинамики (впрочем, еще сохраняя надежды на возможность в будущем повторного использования рассеянной энергии), Джевонс дал ясное понятие невозобновляемого ресурса и указал на принципиальную невозможность неограниченной экспансии промышленного производства при экспоненциальном росте потребления минерального топлива. Он писал:
«Поддержание такого положения физически невозможно. Мы должны сделать критический выбор между кратким периодом изобилия и длительным периодом среднего уровня жизни… Поскольку наше богатство и прогресс строятся на растущей потребности в угле, мы встаем перед необходимостью не только прекратить прогресс, но и начать процесс регресса» (цит. по [9, с. 231]).
Джевонс дал также понятие потока и запаса (stoсk – запас, капитал) ресурсов, обратив внимание, что другие страны живут за счет ежегодного урожая, а Великобритания за счет капитала, причем этот капитал не дает процентов: будучи превращенным в тепло, свет и механическую силу, он исчезает в пространстве.
В переписку с Джевонсом вступили Гладстон и патриарх английской науки Дж. Гершель, Дж.-С. Милль докладывал о книге в парламенте. Напротив, экономическая литература обошла книгу, которая регулярно переиздавалась в течение целого века, почти полным молчанием. Та проблема, которую поднял Джевонс, оказалась вне сферы экономической науки.
Та же судьба постигла важнейшую для политэкономии работу Р. Клаузиуса «О запасах энергии в природе и их оценка с точки зрения использования человечеством» (1885). Объясняя смысл второго начала термодинамики с точки зрения экономики, Клаузиус сделал такие ясные и фундаментальные утверждения, что, казалось бы, экономисты просто не могли не подвергнуть ревизии все главные догмы политэкономической модели. Однако никакого эффекта выступление Клаузиуса, означавшее, по сути, смену научной картины мира, на экономическую науку не оказало. В наступившем веке электричества, как и раньше, говорилось о производстве – теперь уже электроэнергии.
Сегодня на просторах «третьего мира» не производятся, а уже буквально добываются не только сырье и готовые металлы, но и компоненты машин и целые машины. Почти бесплатным «природным агентом» для западного капиталиста является уже и рабочая сила, «произведенная» природой и обществом «Юга». По данным экспертов Всемирного экономического форума в Давосе, развитые страны капитализма обладают 350 млн. промышленных рабочих со средней зарплатой 18 долларов в час. Китай, Индия, Мексика и республики бывшего СССР вместе имеют 1200 млн. рабочих такой же квалификации со средней зарплатой 1-2 доллара в час [10].
Всякие попытки «воссоединить слово с вещью» – ввести в экономическую теорию объективные, физические свойства вещей, учесть несводимость их ценности к цене («несоизмеримость») сразу же вызывают критику из хрематистики. Резко выступая против попыток ввести в экономику энергетическое измерение, фон Хайек в статьях 40-х годов ХХ в. подчеркивал, что эффективность экономической науки зависит от систематического следования принципу субъективизма. Для экономики имеют значения только выраженные на рынке предпочтения атомизированных индивидов. Ни товары, ни деньги, ни даже продукты питания не определяются своими качествами, существенно лишь мнение о них экономических агентов [9, с. 182].
Утверждая, что существование любой общей этики, ограничивающей субъективизм, есть «дорога к рабству», фон Хайек утверждает доведенную до своего логического завершения идею свободы, лежащую в основе идеологии Запада. Опыт показал, а Хайдеггер объяснил: «Безусловная сущность субъективности с необходимостью развертывается как брутальность бестиальности. Слова Ницше о „белокурой бестии“ – не случайное преувеличение» [5, с. 306]. Брутальность бестиальности – это почти невозможно перевести на русский язык (дословно: тупая жестокость зверскости).
Фон Хайек, уже с позиций неолиберализма, высоко оценил критику «энергетической социологии» В. Оствальда, которую с позиций хрематистики предпринял в 1909 г. Макс Вебер (в том же году с совершенно иных позиций Оствальда критиковал Ленин, так что клеймо на «энергетическом императиве» было поставлено тогда и в среде социал-демократов). Оствальд определял прогресс как расширение источников доступной энергии и повышение термодинамической эффективности ее использования. Вебер же доказывал, что прогресс определяется только монетарным методом – на рынке. Поэтому замена самой эффективной термодинамической машины – мускула – использующим энергию ископаемого топлива станком есть прогресс, если производимый товар оказывается дешевле. В рыночной экономике прогрессивен тот, кто побеждает в конкуренции. Важна себестоимость в денежном, а не энергетическом выражении. В господствующей экономической модели проблемы энергии просто не существовало [9, с. 227-229].
Распределение ресурсов между поколениями
Положение не изменилось даже в последние десятилетия ХХ века, когда в полной мере встала проблема распределения дефицитных и невозобновляемых ресурсов между поколениями (что и привело к приведенной выше формуле «устойчивого развития»). Оказалось, что сама эта проблема совершенно несовместима с либеральной моделью экономики, просто в нее не вписывается.
Первым барьером служит вся лежащая в основании современного общества антропологическая модель – понятие об индивидууме. На ней основан и принцип политэкономии – методологический индивидуализм. Согласно ему, рынок распределяет ограниченные ресурсы в соответствии с выраженными через цену предпочтениями большого числа индивидов (так что эти предпочтения подчиняются закону больших чисел). Очевидно, что здесь политэкономия наложила на себя онтологическое ограничение: большинство заинтересованных в сделке экономических агентов не могут в данный момент присутствовать на рынке и выразить свои предпочтения – они еще не родились. Строго говоря, торги в этих условиях следовало бы признать незаконными.
Это противоречие снимается с помощью трюка – обращением к морали. Контрабандой в политэкономию импортируются чисто идеологические ценности (это видно у А. Смита, Рикардо и особенно у Мальтуса, а сегодня у фон Хайека и других идеологов неолиберализма). Одной из них является предполагаемый естественный эгоизм человека, который вкупе с «невидимой рукой» рынка обеспечивает равновесие и оптимум в распределении ресурсов. Отсюда выводится формула, якобы снимающая проблему: «Что сделали будущие поколения для меня?». То есть к «сделкам» с будущими поколениями требуют применить принцип эквивалентного обмена. Гершель так и писал о книге Джевонса «Угольный вопрос»: это – атака на эгоизм богатых англичан ныне живущего поколения.
Сильным аргументом в пользу такой позиции является и узаконенное в общественном сознании лишение доступа к ресурсам большой части и наших современников – их потребности не выражаются в платежеспособном спросе и из экономического рассмотрения исключаются. Наличие в мировой социальной системе огромных масс людей, лишенных жизненно необходимых ресурсов, даже не ставит под сомнение утверждение, будто экономическая система находится в равновесии. Для снятия такого вопиющего противоречия привлекается философия социал-дарвинизма.
«Отверженными» на мировом рынке становятся целые народы и страны. Видный американский экономист, Р. Майер, в 1969 г. сделал такой прогноз:
«Наиболее дефицитными металлами станут в будущем свинец, никель, олово, медь и кобальт. Если имеющихся запасов, оцененных самым оптимистичным образом, хватит на время прогноза на 100 лет, то должен быть принят как постулат очень низкий уровень их потребления для всего остального мира. Предполагается, что Соединенные Штаты с населением 6-7% от мирового будут потреблять более половины мирового предложения этого дефицитного промышленного сырья» [3, с. 281].
Политические выводы из неолиберальной модели настолько скандальны, что к столетию энциклики Rerum novarum, которая имела целью противопоставить социализму христианский способ решения социальных противоречий, папа Иоанн Павел II, активный политик и идеолог, издал энциклику Сentesimus Annus. В ней он, в частности, говорит: «Частная собственность, по самой своей природе, обладает и социальным характером, основу которого составляет общее предназначение вещей… Бог дал землю всему человеческому роду, чтобы она кормила всех своих обитателей, не исключая никого из них и не давая никому из них привилегий. Здесь первый корень всеобщего предназначения земных вещей» [11].
Внешние эффекты экономической деятельности – externalities
Совершенно аналогично развивается методологический конфликт, связанный с «внешними эффектами» (externalities) – теми социальными последствиями экономической деятельности, которые не находят монетарного выражения и исключаются из политэкономической модели. Примером является «парниковый эффект», который стал предметом дискуссии с 1903 г., когда его описал С. Аррениус и дал ему название. Разогревание атмосферы благодаря выбросам углекислого газа от сжигания больших количеств ископаемого топлива воспринималось на Западе с оптимизмом вплоть до 60-х годов, пока более широкие модели не показали риск негативных эффектов (опустынивание, угроза таяния льдов полярных шапок с повышением уровня океана).
Сегодня практически невозможно отрицать, что равновесная модель рынка содержит в себе не просто неадекватность, но и подлог. Некоторый продукт производства (углекислый газ и «парниковый эффект») навязывается независимым экономическим агентам вопреки их предпочтениям и без соответствующей трансакции, сделки, отраженной в движении денег. Поскольку речь идет о «потребительной антистоимости» (можно сказать, «антитоваре»), деньги должны были бы выплачиваться покупателю в соответствии со спросом и предложением18. Если бы рынок был действительно свободным и наряду с меновыми стоимостями он производил бы обмен антистоимостями, также представленными ценой, мнимое равновесие было бы сдвинуто самым кардинальным образом. Ни о каких ста миллионах автомобилей в США не могло бы быть и речи.
Сегодня автомобили являются главным источником выбросов в атмосферу газов, создающих «парниковый эффект». Какую компенсацию мог бы потребовать каждый житель Земли, которому навязали этот эффект, этот «антитовар», сопровождающий продажу каждого автомобиля? Реальная его «антистоимость» неизвестна так же, как и стоимость автомобиля, она определяется через цену на рынке, в зависимости от спроса и предложения. Уже сегодня психологический дискомфорт, созданный сведениями о «парниковом эффекте» таков, что ежегодная компенсация каждому жителю Земли в 10 долларов не кажется слишком большой. А ведь этот дискомфорт можно довести до психоза с помощью рекламы (вернее, «антирекламы»), как это делается и с меновыми стоимостями. Но уже и компенсация в 10 долларов означает, что автомобилестроительные фирмы должны были бы выплатить 55 млрд. долларов в год. Это означало бы такое повышение цен, что производство автомобилей сразу существенно сократилось бы. Изменился бы весь образ жизни Запада. К тому же он сразу утратил бы один из важнейших идеологических аргументов в пропаганде своего образа жизни.
В ответ на констатацию очевидных несоизмеримостей и неадекватности самих центральных догм политэкономии, обычно сводят дело к технике и отвечают, что внешние эффекты не включаются в экономическую модель, потому что их трудно выразить методами монетаризма. Это негодное оправдание: мы, мол, ищем не там, где потеряли, а там, где светло. Стоимость тоже, как известно, отличается от вдовы Куикли тем, что не знаешь, за что ее ущипнуть, но рынок к ней подобрался. Сброс загрязнений в биосферу – главную ценность всего человечества – и ограбление будущих поколений возможны лишь благодаря идеологической, экономической и военной силе Запада. Ни правды, ни справедливости, ни естественного закона в этом нет.
Заметим, однако, что, перейдя в представлении экономической «машины» от метафоры часов (механика) к метафоре тепловой машины (термодинамика), политэкономия была действительно не в состоянии включить в свою модель «топку и трубу» – невозобновляемые ресурсы и загрязнения. Ибо это означало бы крах всего здания хрематистики.
А. В. Чаянов писал: «Экономическая теория современного капиталистического общества представляет собой сложную систему неразрывно связанных между собой категорий (цена, капитал, заработная плата, процент на капитал, земельная рента), которые взаимно детерминируются и находятся в функциональной зависимости друг от друга. И если какое-либо звено из этой системы выпадает, то рушится все здание, ибо в отсутствие хотя бы одной из таких экономических категорий все прочие теряют присущий им смысл и содержание и не поддаются более даже количественному определению» [12].
Постулаты хрематистики в политэкономии марксизма
Перейдем теперь к вопросу, который нас касается непосредственно: как указанные противоречия преломились в политэкономии марксизма? Ведь позиция, занятая по этим проблемам Марксом и Энгельсом, оказала очень большое влияние на воззрения советских экономистов и политиков и сказалась на судьбе всего советского проекта.
Казалось бы, можно было ожидать, что присущие марксизму универсализм и идея справедливости сделают его политэкономию открытой для понимания нужд человечества в целом, включая будущие поколения. К тому же Ф. Энгельс в «Диалектике природы» признает исторически обусловленный характер «экологической слепоты» человека:
«При теперешнем способе производства и в отношении естественных, и в отношении общественных последствий человеческих действий принимается в расчет главным образом только первый, наиболее очевидный результат. И при этом еще удивляются тому, что более отдаленные последствия тех действий, которые направлены на достижение этого результата, оказываются совершенно иными, по большей части совершенно противоположными ему» [13, т. 20, с. 494-499].
У Энгельса там же мы видим и отрицание, хотя и нечеткое, самих сложившихся в буржуазном обществе субъект-объектных отношений к природе:
«На каждом шагу факты напоминают нам о том, что мы отнюдь не властвуем над природой так, как завоеватель властвует над чужим народом, не властвуем над нею так, как кто-либо находящийся вне природы, – что мы, наоборот, нашей плотью, кровью и мозгом принадлежим ей и находимся внутри нее, что все наше господство над ней состоит в том, что мы, в отличие других существ, умеем познавать ее законы и правильно их применять».
Тем не менее, эти общие установки не превратились в элементы политэкономической модели Маркса. Даже напротив, все те принципы индустриализма, которые послужили барьером на пути соединения экономики с экологией, в марксизме были доведены до своего логического завершения. Это было сделано при анализе сути хрематистики – в политэкономии именно капиталистического способа производства. Но многим сторонам этого способа производства были при этом изложении приданы как бы объективные, носящие характер естественного закона черты. Перечислим коротко эти принципы и их развитие в марксизме.
1. Природные ресурсы являются неисчерпаемыми и бесплатными. Поэтому они как таковые не являются объектом экономических отношений. Топливо и металлы «производятся» и включаются в экономический оборот как товар именно и только в соответствии с издержками на их производство.
Вот некоторые формулировки Маркса:
«Силы природы не стоят ничего; они входят в процесс труда, не входя в процесс образования стоимости» (Маркс К. Экономическая рукопись 1861-1863 годов [13, т. 47, с. 498]).
«Силы природы как таковые ничего не стоят. Они не являются продуктом человеческого труда, не входя в процесс образования стоимости. Но их присвоение происходит лишь при посредстве машин, которые имеют стоимость, сами являются продуктом прошлого труда… Так как эти природные агенты ничего не стоят, то они входят в процесс труда, не входя в процесс образования стоимости. Они делают труд более производительным, не повышая стоимости продукта, не увеличивая стоимости товара» (Маркс К. Экономическая рукопись 1861-1863 годов [13, т. 47, с. 553]).
«Производительно эксплуатируемый материал природы, не составляющий элемента стоимости капитала, – земля, море, руды, леса и т.д… В процесс производства могут быть включены в качестве более или менее эффективно действующих агентов силы природы, которые капиталисту ничего не стоят» (Маркс К. Капитал. Том второй [13, т. 24, с. 399]).
Об отличии угля от «водопада, который дан природой и этим отличается от угля, который превращает воду в пар и который сам есть продукт труда, поэтому имеет стоимость, который должен быть оплачен эквивалентом, стоит определенных издержек» (Маркс К. Капитал. Том третий [13, т. 25, ч. II, с. 193]).
«Только в результате обладания капиталом – и особенно в форме системы машин – капиталист может присваивать себе эти даровые производительные силы: как скрытые природные богатства и природные силы, так и все общественные силы труда, развивающиеся вместе с ростом населения и историческим развитием общества» (Маркс К. Экономическая рукопись 1861-1863 годов [13, т. 47, с. 537]).
Повторения этой мысли можно множить и множить – речь идет о совершенно определенной и четкой установке, которая предопределяет всю логику трудовой теории стоимости. В «Капитале» Маркс заостряет вопрос до предела:
«До какой степени фетишизм, присущий товарному миру, или предметная видимость общественных определений труда, смущает некоторых экономистов, показывает, между прочим, скучный и бестолковый спор относительно роли природы в образовании меновой стоимости. Так как меновая стоимость есть лишь определенный общественный способ выражать труд, затраченный на производство вещи, то, само собой разумеется, в меновой стоимости содержится не больше вещества, данного природой, чем, например, в биржевом курсе».
Во многих местах говорится у Маркса, что «общественные силы труда» аналогичны естественным и ничего не стоят. Капиталист оплачивает лишь рабочую силу – воспроизводство истраченного рабочим «материала». Такой взгляд на человека не приемлет традиционное сознание. Л. Толстой писал, например:
«Миткаль обходится дешево, потому что не считают людей, сколько портится и до веку не доживает. Если бы на почтовых станциях не считать, сколько лошадей попортится, тоже дешева была бы езда. А положи людей в цену хоть лошадиную, и тогда увидишь, во что выйдет аршин миткалю» (см. [14, с. 66]).
2. Политэкономия рассматривает товары не как вещи, а исключительно как отношения между людьми. Материальная сущность вещей не имеет значения для экономики, поэтому достигается полная соизмеримость вещей. Под производством понимается производство стоимости и прибавочной стоимости, а не их материальных, вещественных оболочек. В «Капитале» (гл. I, «Товар») читаем:
«Как потребительные стоимости, товары различаются прежде всего качественно, как меновые стоимости они могут иметь лишь количественные различия, следовательно, не заключают в себе ни одного атома потребительной стоимости».
Маркс доброжелательно ссылается: «Как говорил старик Барбон, „между вещами, имеющими равные меновые стоимости, не существует никакой разницы или различия“.
Очевидно, что в этой модели политэкономии движение реальных вещей полностью заменено движением меновых стоимостей, выражаемых деньгами, и сама проблема взаимоотношения человека с природой в его хозяйственной деятельности из модели устранена. Устранена, следовательно, и проблема несоизмеримостей. Стоит только чуть-чуть «впустить» природу в эту модель, она вся рушится. Отто Нойрат, считавший допущение о соизмеримости слишком сильной абстракцией, приводил такой пример: килограмм груш несоизмерим с книгой в ту же цену, так как при производстве груш энергетические запасы Земли возрастают, а при производстве книги – снижаются19.
Речь идет не о простом допущении ради создания полезной, но условной модели, а о глубоком философском положении, родившемся в той борьбе с традиционным взглядом на вещь и на деньги, что велась начиная с античности (и которую сам Маркс замечательно излагает в гл. IV «Превращение денег в капитал»). Приняв эту философию, марксизм оказался на той траектории, которая привела к нынешнему монетаризму, когда меновые стоимости, «не заключающие в себе ни одного атома потребительной стоимости», создали свой особый мир, оторванный от реального хозяйства. Экономисты одного из экологических движений пишут:
«Монетарные и финансовые символы сегодня обращаются в течение 24 часов в сутки, с высокой скоростью и в немыслимых количествах, по электронным сетям глобальной финансовой системы, потеряв всякую связь, по крайней мере в краткосрочной перспективе, с процессами создания богатства. Этот разрыв, усиленный мобильностью и нестабильностью монеты-символа, достиг сегодня немыслимых размеров. Соотношение количества долларов, которые перемещаются в ходе обмена реальными ценностями, к количеству долларов в финансовых потоках не превышает один к тридцати» [15].
С помощью спекулятивных операций в мире «фиктивных» денег в считанные часы погружаются в тяжелейший финансовый кризис страны масштаба Мексики или Индонезии – вне всякой связи с ее реальным экономическим и политическим положением. Истоки – развод между словом и вещью, меновой и потребительной стоимостью.
Эту фундаментальную мысль политэкономии как хрематистики Маркс развивает в разделе о товарном фетишизме. Прежде всего, надо вспомнить предупреждение Маркса: товар – это «вещь, полная причуд, метафизических тонкостей и теологических ухищрений». Тайна товарного фетишизма раскрывается путем полного разделения чувственной и «сверхчувственной» сущности товара (прием, который тоже вполне можно отнести к разряду теологических ухищрений).
Парадоксальным образом здесь выворачивается наизнанку само обыденное понимание материализма: у Маркса он заключается как раз в полном устранении из экономического всего материального, физического. Вещественное воплощение товара (потребительная стоимость) полностью исключается из рассмотрения:
«Товарная форма и то отношение стоимостей продуктов труда, в котором она выражается, не имеют решительно ничего общего с физической природой вещей и вытекающими из нее отношениями вещей. Это – лишь определенное общественное отношение самих людей, которое принимает в их глазах фантастическую форму отношения между вещами».
Суть товарного фетишизма, по Марксу, в том и состоит, что люди, как в заколдованном зеркале, видят физические, чувственно воспринимаемые вещи там, где на самом деле есть лишь меновые стоимости. Маркс пишет:
«Следовательно, таинственность товарной формы состоит просто в том, что она является зеркалом, которое отражает людям общественный характер их собственного труда как вещный характер самих продуктов труда, как общественные свойства данных вещей, присущие им от природы».
Свойство обыденного сознания видеть в товарообмене как раз вещественные отношения (вещь с вещью и человек с вещью), Маркс уподобляет примитивному религиозному сознанию: «Здесь продукты человеческого мозга представляются самостоятельными существами, одаренными собственной жизнью, стоящими в определенных отношениях с людьми и друг с другом». То есть, именно вещественная, физическая ипостась товара и есть, с точки зрения политэкономии, призрак, привидение. Реальна для экономики только стоимость, скрытая под вещественной оболочкой. Это – хрематистика, из которой вычищены последние пережитки «экономики», взаимоотношения человека с вещами.
Маркс признает, что полностью вытравить естественный взгляд человека на вещи трудно:
«Позднее научное открытие, что продукты труда, поскольку они суть стоимости, представляют лишь вещное выражение человеческого труда, затраченного на их производство, составляет эпоху в истории развития человечества, но оно отнюдь не рассеивает вещной видимости общественного характера труда».
В нескольких местах Маркс подчеркивает, что «научное понимание» [стоимости] стало возможным лишь при вполне развитом товарном производстве. Почему же именно при этом господстве рынка расцветает товарный фетишизм? Маркс видит причину в следующем:
«Открытие этой тайны [стоимости] устраняет иллюзию, будто величина стоимости продуктов труда определяется чисто случайно, но оно отнюдь не устраняет ее вещной формы… Самая законченная форма товарного мира – его денежная форма – скрывает общественный характер частных работ, а следовательно, и общественные отношения частных работников, за вещами, вместо того, чтобы раскрыть эти отношения во всей чистоте».
Выходит, «весь мистицизм товарного мира, все чудеса и привидения, окутывающие туманом продукты труда при господстве товарного производства» (Маркс) в том и состоят, что люди продолжают видеть физические вещи там, где существуют лишь выражаемые деньгами общественные отношения. Фетишем оказывается именно реальность, а реальностью – сверхчувственная меновая стоимость. Казалось бы, именно такое представление вещей, а не «энергетизм» Оствальда, должно было бы вызвать пафос «Материализма и эмпириокритицизма». Непосредственная связь проблемы товарного фетишизма с отношением к природе прекрасно осознавалась Марксом. Он сам на нее указывает как на почти очевидный аргумент:
«А возьмите современную политическую экономию, которая с таким величавым пренебрежением посматривает на монетарную систему: разве ее фетишизм не становится совершенно осязательным, как только она начинает исследовать капитал? Давно ли исчезла иллюзия физиократов, что земельная рента вырастает из земли, а не из общества?»
Какую же истину Маркс стремился открыть (продемонстрировать), прилагая к экономической реальности такую острую абстракцию, сходную с тем, чем в науке служил эксперимент – «допрос Природы под пыткой»? Существование в товарном производстве эксплуатации человека человеком, которая в общественном сознании маскировалась отношениями вещей (фетишизмом вещи).
Так он и объясняет тот факт, что в «неразвитых» докапиталистических обществах товарного фетишизма не было, поскольку отношения зависимости людей были прозрачными, очевидными – как в производстве, так и в распределении. Там хрематистика занимает небольшое место, господствует общинное натуральное хозяйство (а «народы торговые в собственном смысле этого слова существуют, как боги Эпикура, лишь в междумировых пространствах древнего мира – или как евреи в порах польского общества»). Таким образом, материальная суть продуктов труда не маскирует общественных отношений:
«Именно потому, что отношения личной зависимости составляют основу данного общества, отдельным работам и продуктам не приходится принимать отличную от их реального бытия фантастическую форму… Как бы мы ни оценивали те характерные маски, в которых выступают средневековые люди по отношению друг к другу, несомненно во всяком случае, что общественные отношения лиц в их труде проявляются здесь именно как их собственные личные отношения, а не облекаются в костюм общественных отношений вещей, продуктов труда».
При этом ясное, реалистичное видение отношений в их целостности (в том числе включающих отношение человека к природе) оказывается у Маркса продуктом «недоразвитости» человека и общества:
«Эти древние общественно-производственные организмы несравненно более просты и ясны, чем буржуазный, но они покоятся или на незрелости индивидуального человека, еще не оторвавшегося от пуповины естественно-родовых связей с другими людьми, или на непосредственных отношениях господства и подчинения. Условие их существования – низкая ступень развития производительных сил труда и соответственная ограниченность отношений людей рамками материального процесса производства жизни, а значит, ограниченность всех их отношений друг к другу и к природе. Эта действительная ограниченность отражается идеально в древних религиях, обожествляющих природу, и народных верованиях».
Это – довольно радикальное выражение евроцентризма, отрицающего иные, нежели в западной цивилизации пути развития общества и его системы идеальных представлений (например, о природе и человеке). Япония конца ХХ века, с распространенными в массовом сознании анимистическими взглядами на природу (не говоря уж об Индии) оказывается при таком понимании страной на «низкой ступени развития производительных сил». Отметим и такое противоречие: недостаточный уровень атомизации людей, сохранение между ними естественных связей Маркс приравнивает к «ограниченности отношений рамками материального процесса производства». На деле же эти отношения несравненно богаче отношений между «зрелыми» индивидами, что показано множеством антропологов, психологов и социологов (назовем таких, как Дюркгейм, Леви-Стросс, Лоренц и Фромм).
Объяснение сути эксплуатации при капитализме имело огромное социально-философское и идеологическое значение и привлекло к марксизму массы людей, которые ощущали себя жертвами эксплуатации. Абстракция Маркса не создала бы проблем, если бы, выявив необходимую для социальной философии суть, он бы, как доктор Фауст, вышел из лаборатории своих идеальных моделей в реальный мир осязаемых вещей или хотя бы четко предупредил своих учеников, что в «Капитале» речь идет лишь об одном, крайне идеализированном срезе реальности. Но получилось так, что вместе с увлекшей людей простой моделью эксплуатации многие поколения марксистов включили в свое сознание всю идеальную трудовую теорию стоимости как адекватное реальности описание хозяйственной деятельности. Это создало вокруг марксизма «железный занавес», отделивший его от экологического чувства, а также привело к другим тяжелым последствиям.
Самые тяжелые последствия это имело для советского проекта. Как только, после смерти И. В. Сталина, в официальную идеологическую догму была возведена «политэкономия социализма» с трудовой теорией стоимости, в советском обществе стало распространяться мнение, что работники являются объектом эксплуатации. В воображении был создан и «класс эксплуататоров» – бюрократия. Мощный удар по фетишизму вещей породил разрушительный фетишизм призрака эксплуатации. Сам марксизм создал «троянского коня», в чреве которого ввозились идеи, разрушающие общество, принявшее марксизм в качестве идеологии.
Сегодня, в условиях острого идеологического конфликта в России, любой подход к анализу наследия Маркса вызывает болезненную реакцию той или иной части политического спектра. Поэтому внесу разъясняющую оговорку. Было бы просто нелепо (или недобросовестно) ставить под сомнение аналитическую силу разработанной Марксом модели капиталистического производства, как и роль этой модели в становлении современной социальной философии, социологии и культуры вообще. Сила этой модели в большой степени обусловлена ее высоким уровнем абстракции. Ее можно уподобить модели идеального цикла тепловой машины Карно, которая заложила основы целой новой картины мира. Переворот, совершенный Карно, также стал возможен благодаря высокой степени абстракции: там, где инженеры искали лучшую конструкцию, лучшие материалы или рабочее тело (пар), Карно увидел взаимный переход двух универсальных категорий, объема и давления, при разных температурах. Он исключил из рассмотрения и топку, и топливо, и дым из трубы, и объяснил идеальный процесс.
Маркс сделал то же самое для экономики – описал идеальный цикл воспроизводства, сделал его прозрачным. Но есть разница. У Карно фундаментальные параметры цикла соизмеримы – они связаны простым математическим уравнением. В экономическом цикле параметры в реальности несоизмеримы, они приводятся в соизмеримую форму через абстракцию более высокого уровня. То есть «вернуться» к реальности из модели Маркса гораздо сложнее, чем из модели Карно, и этого «возврата» последователи Маркса удовлетворительно не разработали. Во-вторых, сразу же после того как работа Карно была введена в научный оборот Клапейроном, началось быстрое наращивание его модели. Как мы видели выше, уже Джевонс дополнил модель, привлек внимание к «топке» (углю). А Клаузиус соединил проблему топки с проблемой энтропии. Подобного процесса с моделью Маркса не произошло, его последователи этой работы не проделали. Модель стала работать и в идеологии, и в экономической практике так, будто она представляет не идеальный цикл, а реальный процесс.
Поскольку трудовая теория стоимости Маркса исключала из рассмотрения все природные, ресурсные и экологические ограничения для роста общественного богатства, вера в возможность бесконечного прогресса в развитии производительных сил получила в марксизме свое высшее, абсолютное выражение. Прочитав «Происхождение видов» Дарвина, Маркс писал Энгельсу, что «в этой книге дается историко-естественное основание нашей концепции». Эволюционное учение, оказавшее огромное влияние на всю идеологию современного общества Запада, сразу же было включено Марксом в политэкономию как «естественный закон» развития производительных сил. Энгельс так и подытожил труд Маркса: «Чарльз Дарвин открыл закон развития органического мира на нашей планете. Маркс открыл основной закон, определяющий движение и развитие человеческой истории, закон до такой степени простой и самоочевидный, что почти достаточно простого его изложения, чтобы обеспечить его признание». При таком видении истории всякое новое знание о материальном мире, которое подрывало эту веру в прогресс, считалось ненужным или отвергалось.
Марксизм и экологический взгляд на экономику
К несчастью, так и случилось с марксизмом, который в гораздо большей степени, чем либеральные течения в общественной мысли Запада, имел возможность соединиться с экологическим, а не техноморфным представлением о мире и открыть путь для разрешения нынешнего кризиса индустриальной цивилизации. Ненависть к эксплуатации (не только человека, но и природы, о чем не раз писали Маркс и Энгельс), всечеловечность представлений о справедливости должны были бы привести к проблеме права всех жителей Земли и будущих поколений на доступ к жизненным благам. Однако эта проблема не вставала вследствие веры в отсутствие природных ограничений в наращивании количества этих благ.
Исключая из политэкономической модели проблему природных ресурсов, разделяя физическое и экономическое и тем самым радикально отрицая несоизмеримость продуктов хозяйственной деятельности, марксизм задержался в плену механицизма и не освоил главных современных ему достижений термодинамики. Он отверг фундаментальные представления об энергии и не использовал шанс принципиально перестроить политэкономическую модель.
Лауреат Нобелевской премии по химии Ф. Содди (один из первых экологов – «энергетических оптимистов», автор блестящих лекций «Картезианская экономика», прочитанных в 1921 г. в Лондонской экономической школе) высоко оценивал гуманистический потенциал марксизма и считал, что «если бы Карл Маркс жил после, а не до возникновения современной доктрины энергии, нет сомнения, что его разносторонний и острый ум верно оценил то значение, которое она имеет для общественных наук». В 1933 г., вспоминая о подчеркнутых Марксом словах У. Петти о том, что труд – отец богатства, а земля – его мать, Содди предположил, что «скорее всего, именно ученики пророка забыли указание на роль матери, пока им не освежило память упорство русских крестьян» [9, с. 165, 166].
Но Содди ошибался. Основные труды марксизма были созданы после утверждения термодинамики. Более того, она была внимательно изучена классиками и по своему значению поставлена в один ряд с эволюционным учением Дарвина. Маркс очень быстро воспринял многие важные мысли Карно (например, методологический принцип представления идеального процесса как цикла; Маркс включил этот принцип в виде циклов воспроизводства). Более того, Карно, показав, что при эквивалентных переходах в идеальном цикле невозможно получить полезную механическую работу (для ее получения необходимо топливо как аккумулятор энергии), дал совершенно прозрачную физическую аналогию. В идеальном цикле воспроизводства, при эквивалентности обмена во всех его точках, невозможно получить прибыль, если не ввести в цикл рабочую силу – особый товар, при использовании которого производится прибавочная стоимость.
Иной была реакция в отношении второго начала термодинамики, которое утверждало невозможность бесконечного использования энергии Вселенной, накладывало ограничения на саму идею прогресса. Дело было не в незнании, а в активном отрицании. В письме Марксу от 21 марта 1869 г. Энгельс называет концепцию энтропии «нелепейшей теорией»:
«Я жду теперь только, что попы ухватятся за эту теорию как за последнее слово материализма. Ничего глупее нельзя придумать… И все же теория эта считается тончайшим и высшим завершением материализма. А господа эти скорее сконструируют себе мир, который начинается нелепостью и нелепостью кончается, чем согласятся видеть в этих нелепых выводах доказательство того, что их так называемый закон природы известен им до сих пор лишь наполовину. Но эта теория страшно распространяется в Германии» [13, т. 32, с. 228-229].
Это – оценка научного знания с точки зрения его функциональной ценности или вреда для идеологии. Теория Дарвина оценивается очень высоко, ибо обосновывает идею прогресса и всю концепцию «Капитала». Второе начало термодинамики уже потому вызывает сомнение, что за него могут ухватиться попы. Более развернутое отрицание Энгельс сформулировал в «Диалектике природы»:
«Клаузиус – если я правильно понял – доказывает, что мир сотворен, следовательно, что материя сотворима, следовательно, что она уничтожима, следовательно, что и сила (соответственно, движение) сотворима и уничтожима, следовательно, что все учение о „сохранении силы“ бессмыслица, – следовательно, что и все его выводы из этого учения тоже бессмыслица.
В каком бы виде не выступало перед нами второе положение Клаузиуса и т.д., во всяком случае, согласно ему, энергия теряется, если не количественно, то качественно. Энтропия не может уничтожаться естественным путем, но зато может создаваться» [13, т. 20].
В особом разделе «Излучение теплоты в мировое пространство» Энгельс пишет:
«Превращение движения и неуничтожимость его открыты лишь каких-нибудь 30 лет тому назад, а дальнейшие выводы из этого развиты лишь в самое последнее время. Вопрос о том, что делается с потерянной как будто бы теплотой, поставлен, так сказать, без уверток лишь с 1867 г. (Клаузиус). Неудивительно, что он еще не решен; возможно, что пройдет еще немало времени, пока мы своими скромными средствами добьемся его решения… Кругооборота здесь не получается, и он не получится до тех пор, пока не будет открыто, что излученная теплота может быть вновь использована».
В другом месте «Диалектики природы» он пишет:
«Излученная в мировое пространство теплота должна иметь возможность каким-то путем, – путем, установление которого будет когда-то в будущем задачей естествознания, – превратиться в другую форму движения, в которой она может снова сосредоточиться и начать активно функционировать. Тем самым отпадет главная трудность, стоявшая на пути к признанию обратного превращения отживших солнц в раскаленную туманность».
Энгельс специально подчеркивает, что видит выход в том, что можно будет «вновь использовать» излученную теплоту: «Вопрос будет окончательно решен лишь в том случае, если будет показано, каким образом излученная в мировое пространство теплота становится снова используемой».
Таким образом, идеология неограниченного прогресса не только заставила классиков марксизма отвергнуть главный вывод термодинамики (и создаваемую ею новую картину мира), но и пойти вспять, возродив веру в вечный двигатель второго рода. Огромный культурный и философский смысл второго начала, который либеральная политэкономия просто игнорировала, марксизм отверг активно и сознательно. Был пройден важный перекресток в траектории общественной мысли индустриальной цивилизации.
Менее известный, но, пожалуй, более драматический концептуальный конфликт произошел с новаторским, но ясным и совершенно доступным трудом русского ученого и революционера-народника Сергея Андреевича Подолинского (1850-1891). Контакт Маркса и Энгельса с Подолинским, искренним почитателем Маркса, глубоко изучившим «Капитал» и одновременно творчески освоившим второе начало термодинамики, был счастливым случаем, начиная с которого вся траектория марксизма могла соединиться с экологической мыслью. Этого не произошло.
Подолинский, широко образованный ученый (физико-математическое и медицинское образование) сделал попытку соединить учение физиократов с трудовой теорией стоимости Маркса, поставить политэкономию на новую, современную естественнонаучную основу. В своем втором письме Марксу 8 апреля 1880 г. он писал: «С особым нетерпением ожидаю услышать Ваше мнение о моей попытке привести в соответствие прибавочный труд с общепринятыми сегодня физическими теориями». Поняв значение второго начала, он не стал вдаваться в размышления о «тепловой смерти» Вселенной, а рассмотрел Землю как открытую систему, которая получает и будет получать (в историческом смысле неограниченное время) поток энергии от Солнца. То есть, никаких оснований для того, чтобы отвергать второе начало исходя из социальных идеалов прогресса и развития производительных сил, не было.
Однако такой взгляд требовал пересмотреть само понятие труда и связать его не просто с созданием меновых стоимостей, но и с физической основой деятельности человека – энергией. И Подолинский, изучив энергетический баланс сельского хозяйства как рода деятельности, через фотосинтез вовлекающей в экономический оборот энергию Солнца, написал в 1880 г. свою главную работу – «Труд человека и его отношение к распределению энергии» [16]. В том же году он послал ее на французском языке Марксу и получил от него благожелательный ответ (они были лично знакомы, Марксу представил Подолинского в 1872 г. Лавров в доме Энгельса). По некоторым сведениям, в архивах ИМЭЛ хранился конспект этой работы, сделанный Марксом.
Подолинский показал, что труд есть деятельность, которая связана с регулированием потоков энергии. Некоторые виды труда исключительно эффективны в вовлечении энергии Солнца в хозяйство, другие – в ее сохранении и переработке, так что в совокупности человечество может обеспечить поток отрицательной энтропии, достаточный для устойчивого развития. Но для этого трудовая теория стоимости должна быть дополнена энергетическим балансом – политэкономия должна была соединиться с физикой. По расчетам Подолинского, устойчивым развитием общества следует считать такое, при котором затраты одной калории человеческого труда вовлекают в оборот 20 калорий солнечной энергии (теперь это нередко называют «принципом Подолинского» [9]). В крестьянских хозяйствах Франции, например, при затратах 1 калории труда человека и лошади фиксировалась 41 калория на сеяных лугах и примерно столько же при производстве пшеницы20.
Подолинский обосновал свои выводы настолько ясными и красноречивыми эмпирическими данными, что его труд приобрел фундаментальное значение и послужил основой современной научной экологии в ее экономическом аспекте21. Он, например, сыграл важную роль в становлении взглядов В. И. Вернадского.
Энгельс внимательно изучил работу Подолинского и в двух письмах в 1882 г. изложил свой взгляд Марксу. Он повторил общий для марксизма тезис о том, что «производство» энергии человеком может быть почти неограниченным, если производственные отношения это позволят. Общий вывод был таков: попытка выразить экономические отношения в физических понятиях невозможна. Описать известный факт зависимости между промышленностью и сельским хозяйством на языке физики можно, но мало что дает.
Таким образом, главный смысл работы Подолинского – определение критериев устойчивого развития и включение в политэкономию «энергетического императива» (выражение Оствальда) – не вызвал у Энгельса интереса. Он не посчитал, что новая, термодинамическая картина мира уже требовала (и давала возможность) изменения всей базовой модели политэкономии.
Надо признать, что Энгельс в своих комментариях четко разделил два понятия: использование в хозяйственной деятельности потока энергии (возобновляемых источников) и запаса энергии (ископаемого топлива, накопленной за миллионы лет энергии Солнца). Это было важным шагом вперед, но он не привел к смене гештальта.
Последствия этого выбора (прежде всего, Энгельса) для марксизма и для экологической мысли следует считать тяжелыми. Представления о мире, включающие биосферу и хозяйственную деятельность человека, начали интенсивно развиваться – но уже помимо марксизма и даже нередко, к несчастью, в конфликте с ним. Тот тяжелый культурный кризис, вызванный столкновением индустриальной цивилизации с природными ограничениями, который мы в открытой форме наблюдаем сегодня, «обрел язык» уже в формулировках Клаузиуса и Томсона. Уклониться от вызова было невозможно, надо было преодолевать механистический детерминизм в политэкономии. В труде Подолинского марксизм имел материалистический и оптимистический ответ. Марксистская мысль его не приняла и в себя не включила. Либеральная не могла его принять тем более.
Особенно сильно этот выбор сказался на русских марксистах – и Плеханов, и Ленин как бы приобрели иммунитет против экологизма и «энергетизма». В 1909 г. Ленин нанес сокрушительный удар по «энергетизму» Оствальда и заодно Богданова. Своим отношением к проблеме природных ресурсов и их изъятию из «некапиталистических обществ» выделяется Роза Люксембург.
Литература
1. Тинберген Я. Пересмотр международного порядка. М., 1980.
2. Sanahuja J.A. Сambio de rumbo: Рroрuestas рara la transformaсiуn del Banсo Mundial y el FMI. Informes del Сentro de Investigaсiуn рarа la Рaz (Madrid). 1994, № 9, р. 63.
3 . Easlea B. La liberaсiуn soсial y los objetivos de la сienсia. Madrid: Siglo XXI Eds. 1977.
4. Lorenz K. La aссiуn de la Naturaleza y el destino del hombre. Madrid: Alianza. 1988.
5. Хайдеггер М. Европейский нигилизм. – В кн.: Проблема человека в западной философии. М.: Прогресс. 1988.
6. Amin S. El euroсentrismo: Сritiсa de una ideologia. Mexiсo: Siglo XXI Eds. 1989.
7. Levi– StraussС. Antroрologнa estruсtural: Mito, soсiedad, humanidades. Mexiсo: Siglo XXI Eds. 1990.
8. Naredo J.M. La eсonomia en evoluсiуn Historia y рersрeсtivas de las сategorias basiсas del рensamiento eсonуmiсo. Madrid. Siglo XXI. 1996.
9. Martinez Alier J., Sсhluрmann K. La eсologia y la eсonomia. Madrid: Fondo de Сultura Eсonуmiсa. 1992.
10. The World Сomрetitiveness Reрort 1994. Davos, 1995.
11. ИоаннПавелII. Enс. Сentesimus Annus. (В: Divar J. Anбlisis del рoder eсonуmiсo. Bilbao. Universidad de Deusto. 1991.).
12. ЧаяновА.В. Крестьянское хозяйство. М.: Экономика. 1989.
13. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., М.
14. Воркуев Б.Л. Ценность, стоимость и цена. М.: Изд-во МГУ. 1995.
15. Рroрuestas innovadoras рara reрlantear la eсonomia. Una invitaсiуn al diblogo. Barсelona: EсoСonсern. 1995, р. 18.
16. Подолинский С.А. Труд человека и его отношение к распределению энергии. СПб: Слово. 1880.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Экспертное сообщество России: генезис и состояние
Вступление
Поводом к написанию этой главы послужил «круглый стол», который состоялся 14 апреля 2000 г. в редакции «Независимой газеты» и материалы которого были опубликованы 17 мая под заголовком «Чем больно наше экспертное сообщество?» Как было сказано тогдашним главным редактором «НГ» В. Третьяковым, мероприятие это было задумано вместе с влиятельным экспертом нынешней администрации президента Г. Павловским. Целью было – разобраться, что представляет из себя т.н. «экспертное сообщество» России, которое «советовало власти» и владело умами общества с 1991 г., и каково его состояние сегодня, после смены президента. Видимо, заранее предполагалось, что в узком кругу «экспертов» будут высказаны серьезные самокритичные суждения, так что встал вопрос даже о «болезни» всего сообщества.
Однако критические суждения высказал, по сути, только я, человек посторонний, неизвестно зачем приглашенный в этот узкий элитарный круг. Но высказать я смог лишь очень краткие тезисы – почти только подзаголовки того текста, что следует ниже. Между тем проблема, на мой взгляд, заслуживает того, чтобы на ней остановиться. В условиях, когда манипуляция сознанием стала в России на время главным средством господства, небольшая группа людей, вещающих по телевидению и в прессе с авторитетом «экспертов», превратилась в очень важный инструмент политического режима. Поэтому полезно обсудить, насколько возможно достовернее, характерные черты этой группы. Для этого я повторю тезисы, которые высказал собравшимся на «круглый стол» ведущим представителям «сообщества», и очень кратко, одним-двумя примерами, постараюсь эти тезисы подтвердить. Для начала уточню, о чем идет речь.
Эксперты и идеология
В современной политике одной из важных фигур стал эксперт, который готовит для политиков варианты решений и убеждает общество в благотворности или опасности того или иного решения. Обе функции важны, однако вторая – легитимация политических решений в глазах общества – является фундаментальной и приоритетной. По сути, решения политиков готовятся исходя из их групповых интересов, и на этой «непрозрачной» стадии выбор варианта определяется соотношением сил между группировками политиков. Хотя многие ученые и сами входят в такие группировки и участвуют в циничных «внутренних» дебатах, на этой стадии их даже условно нельзя причислять к числу экспертов. Атрибутом эксперта является видимое предоставление объективного знания и аналитических навыков на беспристрастной основе.
Часто конфликт интересов могущественных сил, за которыми стоят финансовые и промышленные воротилы, выходит и в публичную политику, если до этого они не приходят к тайному сговору. Именно тогда обывателя и депутатов развлекают спектаклем «научных» дебатов между экспертами. Демократией тут и не пахнет – мнения непросвещенной массы («кухарок») отметаются как иррациональные. Одним из важных условий живучести режима Ельцина было настойчивое утверждение компетентности и профессионализма как приоритетной характеристики политика. Это «отодвигало» среднего человека от политики, указывало его место как зрителя в политическом театре. В российской культуре такое изменение в шкале ценности политика происходит впервые в истории, и нельзя недооценивать этой попытки. Ранее, и для царя, и для генерального секретаря ЦК ВКП(б), и вообще для руководителя высокого уровня приоритетным качеством была любовь к своей стране и своему народу. Это определенно высказал Сталин, об этом специально и очень подробно рассуждал Лев Толстой (сравнивая Барклая де Толли с Кутузовым). Разница в том, что любовь к народу предполагает соучастие в ней каждой «кухарки», а компетентность более или менее вежливо отстраняет эту «кухарку».
Политики и их эксперты, имитируя беспристрастность науки (ее свободу от этических ценностей), заменяют проблему выбора, которая касается всех граждан, проблемой принятия решений, которая есть внутреннее дело политиков и экспертов. При таком подходе вообще исчезают вопросы типа «Хорошо ли бомбить Югославию?» или «Хорошо ли приватизировать землю?», они заменяются вопросами «Как лучше бомбить Югославию?» и «Как лучше приватизировать землю?». В силу присущих самому научному методу ограничений, наука не может заменить политическое решение. Просто это решение скрывается от общества, с помощью экспертов власть получает возможность мистификации проблемы под прикрытием авторитета науки. Учреждение самого института экспертов и придание ему столь высокого статуса означает принципиальный отход от демократии (даже элитарной) и сдвиг к технократическому государству принятия решений. В своей «Энциклопедии социальных наук» (1934) основоположник современной технологии манипуляции сознанием Г. Лассуэлл заметил: «Мы не должны уступать демократической догме, согласно которой люди сами могут судить о своих собственных интересах». Теперь есть целое сообщество экспертов, которые должны объяснить людям, в чем заключаются их интересы и почему этим интересам соответствует, например, ликвидация бесплатного здравоохранения.
Каково соотношение деятельности эксперта и научного знания? Ценность для политиков одобрения со стороны ученого как эксперта никак не связана с его научным изучением вопроса. Одобрение ученого носит харизматический характер. В политике образ объективной, беспристрастной науки служит именно для того, чтобы нейтрализовать, отключить воздействие на человека моральных ценностей как чего-то неуместного в серьезном деле. Авторитет эксперта как бы запрещает человеку задаваться вопросами типа «хорошо ли приватизировать землю?».
Эксперт – это такой тип идеологического работника, убедительность которого проистекает от авторитета знания. Так же, как Алла Пугачева в идеологической работе использует свое очарование эстрадной бомбы, Михаил Ульянов эксплуатирует кинематографический образ маршала Жукова, а Ростропович – свой смычок. Авторитет знания – очень сильный идеологический инструмент. Кроме того, в народе бытует созданная школой вера в беспристрастность науки. Это вера ложная, ибо в ней объективность научного знания незаметно перенесена на ученых. Это подлог, поскольку ученые (а тем более верхушка научной элиты, из среды которой и являются эксперты) – особая социальная группа, имеющая свои идеологические установки и интересы. С какой же стати эта социальная группа будет беспристрастной в момент тяжелой социальной борьбы? Ученый как эксперт в политике сплошь и рядом говорит нечто совершенно противоположное тому, что он знает в своей лаборатории как исследователь. Очень часто ученый, делающий идеологическое заявление, ничего не смыслит в вопросе, потому что он всю жизнь был занят своим узким делом. Что мог знать о приватизации земли А. Д. Сахаров, какая тут связь с элементарными ядерными частицами? Для политиков был важен его титул, а не знание.
Ортега-и-Гассет в «Восстании масс» писал об этом новом типе ученого: «Его нельзя назвать образованным, так как он полный невежда во всем, что не входит в его специальность; он и не невежда, так как он все-таки „человек науки“ и знает в совершенстве свой крохотный уголок вселенной. Мы должны были бы назвать его „ученым невеждой“, и это очень серьезно, это значит, что во всех вопросах, ему неизвестных, он поведет себя не как человек, незнакомый с делом, но с авторитетом и амбицией, присущими знатоку и специалисту». Именно это – очень серьезно.
Обязательным атрибутом эксперта является авторитет (хотя бы и фальшивый), полученный в какой-то области и подтвержденный формальными титулами или хотя бы созданным в общественном мнении мифом. Но это – внешний атрибут, необходимый, но не достаточный. Экспертами становятся только люди, которые говорят то и только то, что нужно политикам. Это не обязательно продажные люди (хотя часто это так), это люди, отобранные после изучения их установок. Когда их устойчивые установки перестают соответствовать запросам политиков, эти люди перестают быть экспертами (хотя, возможно, их «подбирают» конкуренты их бывших патронов). Эксперты, которые могут сказать что-нибудь «не то», вычищаются моментально и необратимо.
Таким образом, эксперты – очень небольшая и специфическая часть «сообщества знающих людей». Хотя они к этому большому сообществу принадлежат и питаются его «продуктом» (знанием, методом, языком), их функция – легитимировать решения политиков с помощью авторитета знания. Это функция идеологическая, возникшая в индустриальном обществе и заменившая функцию религии. «Обоснование решений ссылками на результаты исследований комиссии ученых приобрело в США символическую ритуальную функцию, сходную со средневековой практикой связывать важные решения с прецедентами и пророчествами Священного писания», – пишет другой видный социолог науки.
И политики, и сами эксперты стремятся расширить понятие «эксперт» на всякое участие ученых и знающих людей в процессе принятия решений (все это, мол, «экспертные суждения»). Это делается небескорыстно, ради социальной мимикрии, «растворения» идеологов в сообществе специалистов. При любом политическом режиме работают службы специалистов, функция которых – предоставлять политикам достоверное знание по конкретным вопросам и готовить варианты технических решений.
Когда в мае 1991 г. готовился Закон о приватизации, общественное мнение обрабатывали эксперты типа Л. Пияшевой, Г. Попова и даже кое-кто из академиков. Но одновременно правительство поручило нескольким группам специалистов изучить проект закона и беспристрастно сказать, к чему поведет его принятие. Специалисты выполнили задание, и расхождения в их оценках были несущественными. Как показали последующие события, последствия приватизации были предсказаны ими очень точно. Разрушительное действие приватизации сказалось несколько быстрее, чем предсказывали специалисты, только потому, что и Закон о приватизации не выполнялся («Программа приватизации» и «ваучеризация» просто противоречили Закону), – но это детали. Специалистов, которые изучали законопроект, никто, разумеется, не допустил до микрофона и прессы в качестве экспертов.
Для нас здесь важно, что «специалисты» подбираются не по титулам, а по действительным знаниям. Они выполняют свою работу анонимно и в публичной политике как эксперты не участвуют (хотя кое-кто из них может совмещать обе функции – как специалист он говорит «для служебного пользования» правду, а как идеолог – врет напропалую). Мы в целях анализа эти функции разделим – нас интересуют не личности, а социальные роли. Ученый ведь может быть и убийцей – в свободное от работы время. Чтобы не вдаваться в этот вопрос, мы просто ограничим понятие эксперта именно выполнением указанной выше функции как участников политического процесса.
Строго говоря, кроме узкого слоя экспертов с признанным, хотя бы неформально, статусом, для общества в целом вся интеллигенция играет роль коллективного эксперта. Интеллигенция через «молекулярный» процесс воздействия на окружающих служит главным глашатаем и пропагандистом суждений экспертов с признанным в среде интеллигенции статусом. Академик Сахаров скажет что-то невразумительное о желательности расчленения СССР на 45 государств – и уж боготворящий его инженер растолкует эту мудрость рабочим в курилке, а врач – пациентам. Роль интеллигенции (в отличие от специалистов) как главного социального субъекта идеологии подробно рассмотрел Антонио Грамши. Но эта роль была известна до него. Н. Бердяев писал, что интеллигенция «была у нас идеологической, а не профессиональной и экономической, группировкой, образовавшейся из разных социальных классов».
Я ниже буду говорить о сообществе экспертов в узком смысле – о тех, кто обладает признанным статусом и делает существенные утверждения, которые в условиях нашего кризиса играют важную роль в процессе легитимации (или подрыва легитимности) политических, социальных и культурных структур жизнеустройства нашего общества. Ниже рассмотрены характерные черты этого сообщества – тип мышления, особенности дискурса (языка, стиля, логики убеждения и т.д.), способ организации, а также побочное влияние деятельности экспертов на общество. Имеется в виду влияние не через поддержку политических решений, а воздействие на массовое сознание, язык, мораль, стандарты человеческих отношений. Эти стороны бытия оказываются под влиянием самого процесса деятельности экспертов, под влиянием их стиля мышления, языка, морали и т.д.
Генезис экспертного сообщества ельцинской России
На «круглом столе» в «НГ» собралась верхушка той специфической группы, которую можно назвать «экспертное сообщество ельцинской России». Откуда взялась эта группа, как сложилась, каковы ее главные идеалы и кредо в социальной и политической философии?
Как показало обсуждение и последующие выступления в печати, эти люди объединены довольно четко очерченной общей платформой и ощущают себя именно сообществом. То есть их споры и стычки по частным вопросам или конфликты во время политических свар несущественны по сравнению с тем, что их соединяет. Напротив, со многими из них я мог бы согласиться по тому или иному частному вопросу, но вся их философская платформа, их идеалы и мораль для меня неприемлемы.
Таким образом, речь идет об идеологически сплоченной группе, в которой не может быть плюрализма мнений по главным вопросам. Уже из этого видно, что эта группа никак не представляет существующее в России сообщество специалистов. Специалисты, и вообще интеллигенция, в условиях нынешнего глубокого кризиса России расколоты по главным вопросам бытия примерно так же, как расколото само общество. В этом общем противостоянии эксперты однозначно и без колебаний находятся на стороне правящего политического режима и тех социальных сил, интересы которых он выражает (грубо говоря, интересы «богатых»). Разумеется, и эти интересы эксперты могут обслуживать разными способами. Ведомство Геббельса действовало во многом по-иному, нежели У. Липпман или Г. Лассуэлл в США.
В отношении наших экспертов можно сказать, что и в области методологии и методов они образуют весьма компактную группу, и конфликтов в связи с профессиональными приемами и нормами в их среде не возникает. Они притерлись друг к другу. Что же служит для них столь эффективной объединяющей силой? Очень коротко я бы сказал так: их соединяет общее прошлое, в ходе которого у них выкристаллизовался фанатичный антисоветизм – ядро идейной основы этой группы. У всего этого сообщества, за исключением немногих прагматиков, развито мессианское представление о своей роли как разрушителей «империи зла». Из-за этого мессианизма они, конечно, сильно преувеличивают свою роль в бедах России, но их признания, с поправкой на преувеличение, надо принять во внимание для выяснения их вектора, общей направленности их желаний и усилий.
В номере «НГ» от 17 мая помещено большое письмо одного из когорты экспертов, который не смог присутствовать на заседании «стола», А. Ципко. Само название письма красноречиво: «Магия и мания катастрофы. Как мы боролись с советским наследием». Приведу некоторые его откровения, которые говорят как раз о зарождении и созревании этого сообщества:
«Мы, интеллектуалы особого рода, начали духовно развиваться во времена сталинских страхов, пережили разочарование в хрущевской оттепели, мучительно долго ждали окончания брежневского застоя, делали перестройку. И наконец, при своей жизни, своими глазами можем увидеть, во что вылились на практике и наши идеи, и наши надежды…
Не надо обманывать себя. Мы не были и до сих пор не являемся экспертами в точном смысле этого слова. Мы были и до сих пор являемся идеологами антитоталитарной – и тем самым антикоммунистической – революции (А. Ципко путает понятия «эксперт» и «специалист», но это мелочи.– С. К-М)… Наше мышление по преимуществу идеологично, ибо оно рассматривало старую коммунистическую систему как врага, как то, что должно умереть, распасться, обратиться в руины, как Вавилонская башня. Хотя у каждого из нас были разные враги: марксизм, военно-промышленный комплекс, имперское наследство, сталинистское извращение ленинизма и т.д. И чем больше каждого из нас прежняя система давила и притесняла, тем сильнее было желание дождаться ее гибели и распада, тем сильнее было желание расшатать, опрокинуть ее устои… Отсюда и исходная, подсознательная разрушительность нашего мышления, наших трудов, которые перевернули советский мир».
Здесь замечательно четко выражено важное и не вполне осознанное в обществе свойство: идейным мотором перестройки была страсть разрушения. Именно она соединила разрушителей, которые чувствовали себя притесненными советской системой. Но у этого союза и не могло быть никакого позитивного проекта, желания строить, улучшать жизнь людей – ибо у каждого в этом союзе был «свой» враг. Чистый «ленинец» вступал в союз с заклятым врагом марксизма – ради сокрушения советского строя. Были даже такие, для кого главным врагом был военно-промышленный комплекс его собственной страны! Понятно, что когда движущей силой интеллектуального сообщества становится страсть к разрушению, судьба миллионов «маленьких людей» не может приниматься во внимание. Эксперты – Наполеоны, а не тварь дрожащая.
А. Ципко продолжает с ясным пониманием своей (и его друзей-экспертов) миссии: «Нашими мыслями прежде всего двигала магия революции… Но магия катастрофизма, ожидание чуда политических перемен и чуда свободы мешали мыслить конструктивно, находить технологические решения изменения системы… Магичность и катастрофичность нашего мышления обеспечивали нам читательский успех, но в то же время мешали нам увидеть то, что мы должны были увидеть как ученые, как граждане своей страны… Мы не знали Запада, мы страдали романтическим либерализмом и страстным желанием уже при этой жизни дождаться разрушительных перемен…». Замечу, что высказанные здесь А. Ципко претензии считаться учеными и гражданами своей страны абсолютно необоснованны. Научный тип мышления несовместим с магией, ожиданием чуда и той крайней, фанатичной идеологизированностью, о которой пишет сам автор. С другой стороны, делать все, чтобы разрушить, например, военно-промышленный комплекс и государственные структуры страны в момент, когда она ведет тяжелую глобальную войну (пусть и холодную), никак не могут ее лояльные граждане. Это – функция «пятой колонны» противника.
А. Ципко верно оценивает результаты: «Борьба с советской системой, с советским наследством – по крайней мере, в той форме, в какой она у нас велась, – привела к разрушению первичных условий жизни миллионов людей, к моральной и физической деградации значительной части нашего переходного общества». Физическая деградация части общества – это, надо понимать, гибель людей. По последним уточненным данным, эта «неестественная» гибель составила в РФ 9 миллионов человек.
Через год после того признания, в «Литературной газете» (2001, № 21), А. Ципко продолжает рвать на груди рубаху:
«Приватизация наша была воровской, за бесценок, а иногда просто бесплатно забрали у народа его достояние. Треть его утопает в нищете, не имеет главной свободы – свободы жизни, не имеет свободы питания, не имеет свободы иметь потомство, воспитывать детей. Другая треть населения живет в бедности и бесправии, и ей нет никакого дела до политики. К этим непредвиденным итогам нашей очередной интеллигентской революции можно было бы добавить два миллиона беспризорных детей.
За время реформ утрачена значительная часть национального суверенитета, существенно подорвана военная и экономическая безопасность страны, значительная часть национального производства, научно-технического и человеческого потенциала страны… Духовная безопасность, о которой мы, антикоммунисты, вообще не думали, существенно подорвана в новой России… Желаемые нами реставрация частной собственности и рыночной системы, освобождение от пут советских притеснений, вопреки ожиданиям, открыли простор прежде всего для асоциального поведения, привели к взрыву преступности, к свободе уничтожать себя, свою жизнь.
Трудно, оставаясь в ладах с совестью, с элементарным нравственным чувством и пребывая в здравом уме, не признать, что, по крайней мере, на сегодняшний день наша антикоммунистическая революция забрала у народа реальных благ жизни намного больше, чем дала, что она была революцией меньшинства за счет большинства, во имя собственных корыстных интересов… Наша антисоветская революция вызвала огромное разрушение общественной жизни. Отсюда, наверное, наш страх перед этой трудной правдой. Действительно, нелегко признаться себе, что твоя интеллигентская свобода и твое личное преуспеяние куплены ценой обнищания, деградации, преждевременной смерти, просто ценой мук и страданий твоих соотечественников… Необходимо признать, что ненавистный нам коммунистический режим был более гуманным строем, чем тот, который при нашей помощи был создан на его обломках».
Означают ли эти декларации видного антисоветского эксперта признание в том, что в целом установки его сообщества были ошибочными или аморальными? Нет, он так не считает, как это ни дико. Оценку себе и своим соратникам по экспертному сообществу он дает очень высокую: «Бесспорно то, что это сообщество существует, что оно сыграло громадную роль в духовном обновлении советской России. И, самое главное, бесспорно то, что это сообщество не устарело ни морально, ни физически. Не устарело морально, ибо не утратило моральную, антитоталитарную ориентацию, благодаря которой мы создали то, что создали». То есть то, что создали, хорошо (хотя и гибельно для народа!), и это сообщество будет продолжать в том же духе.
Перейдем к конкретным делам и инструментам этого сообщества.
Легитимация больших политических решений: принятие Россией программы МВФ
Правительство Гайдара открыло Россию Международному валютному фонду (МВФ). Программа МВФ состоит в том, что страну-должника заставляют приватизировать всю национальную собственность, а потом за бесценок скупают акции разоренных предприятий и землю. Должникам вроде Боливии или Аргентины некуда было деваться, а России не было нужды принимать эту программу, как не принял ее, например, Китай.
Уже к концу 80-х годов было точно известно, что применение программы МВФ привело к экономической катастрофе в Латинской Америке и Африке (кроме тех стран, вроде Чили, Коста-Рики и Египта, которым по политическим причинам петлю ослабили). Этого избежали страны Юго-Восточной Азии (Тайвань, Южная Корея и др.), которые не пустили к себе МВФ. Результаты применения программы МВФ были исследованы и изложены в более чем сотне диссертаций, защищенных в университетах США, причем объектами изучения стали все до одной страны, в которых эта программа была применена.
Знали об этих результатах наши эксперты? Знали. Вплоть до того, что их предупреждали не только крупные политики вроде Вилли Брандта и Жискара д'Эстена, но и советник правительства России известный американский социолог Мануэль Кастельс. Он писал: «К тяжелым последствиям привел тот факт, что в России МВФ применил свою старую тактику, хорошо известную в третьем мире: „оздоровить“ экономику и подготовить ее для иностранных капиталовложений даже ценой разрушения общества». Никто из экспертов не довел до сведения общества надежно установленные выводы ученых и политиков Запада (о замалчивании выводов российских ученых и говорить нечего).
Более того, известна была и прямая связь между применением программы МВФ и криминализацией общества тех стран, где она была применена. В 1995 г. в Испании прошла международная конференция «Наркотики и правовое государство». Главный доклад «Глобальный долг, макроэкономическая политика и отмывание денег» был сделан виднейшим канадским экономистом и экспертом по наркобизнесу. В нем много места уделено прямой связи между интересами наркобизнеса и программой МВФ. Некоторые выводы прямо касаются нас:
«Программа макроэкономической стабилизации МВФ способствовала разрушению экономики бывшего советского блока и демонтажу системы государственных предприятий. С конца 80-х годов „экономическое лекарство“ МВФ и Всемирного банка навязано Восточной Европе, Югославии и бывшему СССР с опустошительными экономическими и социальными последствиями. Показательно, в какой степени эти экономические изменения в бывшем СССР разрушают общество и деформируют фундаментальные социальные отношения: криминализация экономики, разграбление государственной собственности, отмывание денег и утечка капиталов – вот результат реформ. Программа приватизации (через продажу госпредприятий на аукционах) также способствует передаче значительной части государственной собственности в руки организованной преступности. Преступность пронизывает госаппарат и является мощной группой влияния, которая поддерживает экономические реформы Ельцина. Согласно последним расчетам, половина коммерческих банков России находится под контролем мафии и половина коммерции в Москве в руках организованной преступности. Неудивительно, что программа МВФ получила безоговорочную политическую поддержку „демократов“, так как соответствует интересам нового коммерческого класса, включающего элементы, связанные с организованной преступностью. Правительство Ельцина верно служит интересам этой „долларовой элиты“, осуществив по указанию МВФ либерализацию цен и крах рубля и обеспечив обогащение малой части населения».
Практически все эксперты, стеная по поводу взрыва преступности в России, ни словом не обмолвились о том, какую роль в этом сыграло принципиальное политическое решение о принятии программы МВФ.
Философские и методологические установки экспертов
Антидемократизм экспертов
Можно показать, что в России был установлен режим крайне авторитарной президентской республики. Помимо общеизвестного факта разгона и расстрела парламента имеется множество других надежно выявляемых родовых признаков этого типа власти. Также очевидно, что если бы политический режим России следовал нормам буржуазной представительной демократии, то курс реформ Гайдара-Чубайса никак бы не прошел. Созыв за созывом (начиная с 1989 г.) парламент этот курс отрицал, опрос за опросом показывал, что большинство населения этой реформы не приемлет. Таким образом, введенное с помощью экспертов в общественный лексикон слово «демократия» является порождением новояза. Эксперты, которые постоянно утверждали якобы демократический характер власти, выступали как недобросовестные идеологические работники. Но главное, они в своем большинстве сами исповедовали крайне антидемократические установки.
Так, например, видный эксперт О. Лацис пишет о реформе Гайдара: «Когда больной на операционном столе и в руках хирурга скальпель, было бы гибельно для больного демократически обсуждать движения рук врача. Специалист должен принимать решения сам. Сейчас вся наша страна в положении такого больного». Он с авторитетом эксперта оправдывает тот факт, что у страны не спросили ни о согласии на операцию, ни о доверии хирургу. В рамках демократического мышления заявление О. Лациса чудовищно – такое стеснялись говорить даже энтузиасты концепции «просвещенного авангарда».
Вот тогдашний министр экономики Е. Ясин: «Я, оставаясь преданным сторонником либеральной демократии, тем не менее убежден, что этап трудных болезненных реформ Россия при либеральной демократии не пройдет. В России не привыкли к послушанию. Поэтому давайте смотреть на вещи реально. Между реформами и демократией есть определенные противоречия. И мы должны предпочесть реформы… Если будет создан авторитарный режим, то у нас есть еще шанс осуществить реформы».
Эксперты оправдывали разрушительные изменения, далеко выходящие за рамки декларированных во время реформы целей – смену не только общественного строя (хотя и это никогда прямо не декларировалось), но и типа цивилизации. Директор одного из аналитических центров при президенте А. Ракитов признает, что удар в реформе направлен именно против основ русской культуры как генотипа всей цивилизации России: «Трансформация российского рынка в рынок современного капитализма требовала новой цивилизации, а следовательно, и радикальных изменений в ядре нашей культуры».
Какое– то время это обосновывали необходимостью уничтожения коммунизма. Сейчас маска «борьбы с коммунизмом» отброшена. В качестве экспертов выступают энтузиасты старой идеи «мирового государства», управляемого просвещенным международным правительством. Совершенно открыто пишет в «Вопросах философии» Н. Амосов: «Созревание – это движение к „центральному разуму“ мировой системы, возрастание зависимости стран от некоего координационного центра, пока еще (!) не ставшего международным правительством… Можно предположить, что к началу ХХI века вчерне отработается оптимальная идеология… – частная собственность 70 проц. и демократия – в меру экономического созревания… Это не означает бесконфликтности и даже не гарантирует постоянного социального прогресса… Особенно опасными в этом смысле останутся бедные страны. Эгоизм, нужда могут мобилизовать народы на авантюрные действия. Даже на войны. Но все же я надеюсь на общечеловеческий разум, воплощенный в коллективной безопасности, которая предполагает применение силы для установления компромиссов и поддержания порядка. Гарантом устойчивости мира послужат высокоразвитые страны с отработанной идеологией и с достаточным уровнем разума». Разве не ясно здесь, какова будет разрешенная для России («в меру экономического созревания») демократия и как будут поддерживать у нас порядок «высокоразвитые страны с отработанной идеологией»?
Экспертное сообщество выступало как группа, солидарная в своем крайнем антисоветизме. Уже в этой демонстративно радикальной позиции отражался антидемократизм мышления, ибо эксперты обращались к гражданам, в большинстве своем положительно относящимся к советскому строю. Эксперты подчеркивали свой статус представителей «господствующего меньшинства». А ведь в их среде должны были быть известны выводы крупного международного социологического исследования «Барометр новых демократий», которое проводится начиная с 1991 г. в бывших соцстранах и всех республиках СССР. В августе 1996 г. был опубликован краткий доклад руководителей проекта Р. Роуза (Великобритания) и К. Харпфера (Австрия). Вот выводы, касающиеся нас: «В бывших советских республиках практически все опрошенные положительно оценивают прошлое и никто не дает положительных оценок нынешней экономической системе». Если точнее, то положительные оценки советской экономической системе дали в России 72%, в Белоруссии 88 и на Украине 90%.
Показательно отношение к крестьянам, мнением которых о реформе на селе демонстративно пренебрегают. Замечательна сама фразеология А. Н. Яковлева: «Нужны воля и мудрость, чтобы постепенно разрушить большевистскую общину – колхоз… Здесь не может быть компромисса, имея в виду, что колхозно-совхозный агро-ГУЛАГ крепок, люмпенизирован беспредельно. Деколлективизацию необходимо вести законно, но жестко». Мы видим, что у этого идеолога демократии и плюрализма и мысли нет предложить соединившимся в коллектив людям (пусть бы и «люмпенам») другой, лучший способ жизни, чтобы они смогли сравнить и выбрать. Нет, он требует именно разрушить общину. Здесь, мол, не может быть компромисса!
О демократии не может быть и речи, если граждане не понимают смысла происходящего. Но в ходе реформы и власти, и их эксперты выработали особый язык, которого не понимает большинство не только населения, но и депутатов парламента! А ведь роль слова в мышлении признают, как выразился А. Ф. Лосев, даже «выжившие из ума интеллигенты-позитивисты». Вспомним: в сентябре 1992 г. слово «ваучер» заняло в России одно из первых мест по частоте употребления. Введя слово ваучер в язык реформы, Гайдар и его эксперты не объяснили ни смысла, ни происхождения слова. Я опросил, сколько смог, «интеллигентов-позитивистов». Все они понимали смысл интуитивно, считали вполне «научным», но точно перевести на русский язык не могли. «Это было в Германии, в период реформ Эрхарда», – говорил один. «Это облигации, которые выдавали в ходе приватизации при Тэтчер», – говорил другой. Некоторые искали слово в словарях, но не нашли. А ведь дело нешуточное – речь шла о документе, с помощью которого распылялось национальное состояние. Само обозначение его словом, которого нет в словаре, фальшивым именем – колоссальный подлог. Наконец, у одного экономиста оказался словарь американского биржевого жаргона. И там обнаружилось это жаргонное словечко, для которого нет места в нормальной литературе. А в России оно было введено как ключевое понятие в язык правительства, парламента и прессы. Это все равно, что на медицинском конгрессе называть, скажем, половые органы жаргонными словечками.
Кстати, несколько читателей написали мне, порекомендовав не употреблять этот пример: они, мол, уже знают, что такое ваучер, и нашли это слово в словаре. По этому поводу возникла целая дискуссия в Интернете. Я решил этот пример оставить в книге, потому что он – часть истории, на которой мы учимся. Поясню мою мысль, приводя аргументы противников этого примера.
Итак, речь идет о 1992 г., а мне пишет оппонент, что в 2000 г. «его приятельница-предприниматель расхохоталась» – она это слово знает. Этот аргумент можно было бы принять, если бы он сказал: «моя приятельница-предприниматель расхохоталась, ибо прекрасно помнит, что в 1992 г. она, играя с подружками в дочки-матери, запросто оперировала понятием ваучер». Тогда, в 1992 г., этого слова почти никто в России не знал – вот что важно.
Более того, слова «ваучер» не знали не только те 100 млн. граждан, что должны были распоряжаться своими ваучерами, но и специалисты, близкие к Гайдару. Из этого следует, что запуск слова в общество не был следствием снобизма технократов, которые использовали привычное им слово, не заботясь о понимании рядовых граждан. Выбор был сделан в «лаборатории манипуляции», а эксперты-экономисты лишь ввели его в оборот.
Те объяснения слова, которые я привел выше, мне дали экономисты в элитарной лаборатории – кузнице кадров для правительства Гайдара. Один из собеседников (тот, кто говорил, что «ваучер – это в реформе Эрхарда») стал через пару месяцев чиновником у Ельцина в ранге министра, другой (который объяснил, что «ваучер – это у Тэтчер») стал директором большого аналитического центра. Шеф лаборатории (не помню, присутствовал ли он лично при разговоре) стал вице-премьером у Гайдара. Мы искали слово в общедоступных тогда словарях – и не нашли. Наконец, я наткнулся на того, кого обозначил именем «дока-экономист». Тогда он был старшим научным сотрудником Института проблем рынка АН СССР, сотрудником академика Н. Я. Петракова. Да, у него был словарь с этим словом, он назвал его «словарь биржевого жаргона». Таким образом, есть все основания считать, что рядовые люди не знали, что такое «ваучер».
Я продолжаю давать пример с «ваучером» потому, что с ним столкнулось все население России, для русских это слово было неизвестное и бескорневое, так что люди не могли понять ни его прямого смысла, ни его глубинных смыслов. Значит, по своим характеристикам – это типичное слово-амеба, которые подбираются для манипуляции.
На это мне один из оппонентов присылает выписку из американского словаря. Из «Толкового словаря» Ожегова, переведенного на английский язык? Нет, из словаря, которого почти никто в России и видеть не мог. Но предположим даже, что эту выписку он мне дал в 1992 г. Подходит ко мне сосед дядя Вася и спрашивает: «Слышь, я за ваучером иду. Что это за хренота такая?». Я вытаскиваю словарь и говорю: «Как что? Ты что, дядя Вася, неграмотный? Это doсumentary reсord of a business transaсtion». И дядя Вася доволен: «А, теперь понятно. Смотри ты, как просто. Ну конечно, трансакция. Как же, как же. А то ваучер да ваучер, а мне и невдомек. Значит, трансакция… А откуда это слово у нас взялось? В каком классе мы его учили?». Что мне ему сказать, олуху? Я терпеливо объясняю: «Слово это, дядя Вася, производное от средне-французского слова voсher, возникло оно около 1523 года. Уже из этого тебе должно быть ясно, каков смысл приватизации Чубайса». И просветленный дядя Вася идет за ваучером и готовится к трансакции – получению «двух Волг».
На мой взгляд, выписка из словаря, которую мне прислал мой оппонент, не разрешает, а резко усугубляет проблему. Она выглядит как издевательство. И если ее сегодня всерьез дать людям как объяснение, того, что произошло в 1992 г., то, по моему разумению, люди будут вправе взять оглоблю и размозжить голову такому просветителю.
Если без эмоций, то выписка усугубляет проблему и по другой причине. Запустив слово-амебу, Чубайс, помимо общего манипуляционного эффекта, получил и возможность прямого обмана, ибо его ваучер не отвечает норме, данной в определении. Читаем: ваучер есть «a form or сheсk indiсating a сredit against future рurсhases or exрenditures», то есть квитанция, по которой в дальнейшем можно получить оговоренные ценности. Чубайс объявил, каков эквивалент этих «future рurсhases or exрenditures» – две «Волги». Именно получение этой суммы ценностей государство удостоверило своим ваучером. Но мы же знаем, что это был хладнокровный обман, и дядя Вася на свой ваучер получил бутылку водки. Значит, то, что сунули ему в ЖЭКе под названием «ваучер», ваучером вовсе не было. Следовательно, запущенное в 1992 г. понятие реально не имело отношения к формальному определению, данному в словаре. Это слово было инструментом манипуляции.
С помощью «ваучеров» преступную компоненту в приватизации удалось многократно увеличить даже по сравнению с уже изначально преступным Законом о приватизации – было снято даже такое хлипкое ограничение, как «личный инвестиционный счет». В результате ваучер Кахи Бендукидзе был равен «Уралмашу», а ваучер дяди Васи – бутылке водки.
Антиэтатизм экспертов
Долгое время, покуда программа реформы выводилась из стратегической задачи «создания необратимости» в разрушении советской системы, выступления экспертов отличались радикальной антигосударственной направленностью. Инерция этого импульса еще далеко не преодолена, и заложенные им стереотипы дорого обходятся обществу.
Вот, советник Ельцина П.Бунич заверял: «Моя позиция была известна всей сознательной жизнью, непрерывной борьбой с государственным монстром» (как говорится, сохраняем стиль автора – С. К.-М.). Человек выучился на экономиста и нанялся к «государственному монстру» работать ради улучшения его экономики. Всю жизнь получал зарплату, премии и ласки – а оказывается, все это время неустанно стремился нанести своему работодателю вред, тайно боролся с ним! Так завистливый лакей плюет в кофейник хозяину. Ради какой великой идеи П. Бунич прожил двойную, изломанную жизнь? И что здорового он может предложить нам сегодня как эксперт?
Под огнем оказались все части государства – от хозяйственных органов, ВПК, армии и милиции до системы школьного образования и детских домов. Л. Баткин в книге-манифесте «Иного не дано» задает риторические вопросы: «Зачем министр крестьянину – колхознику, кооператору, артельщику, единоличнику?… Зачем министр заводу?… Зачем ученым в Академии наук – сама эта Академия, ставшая натуральным министерством?». В лозунге «Не нужен министр заводу!» – формула превращения России в безгосударственное, бесструктурное образование.
Поддержав сначала разрушение несущих конструкций государства, видные эксперты затем разводили руками при виде тех бедствий, которые обрушились на мирных граждан. Вот философ Э. Ю. Соловьев рассуждает: «Сегодня смешно спрашивать, разумен или неразумен слом государственной машины в перспективе формирования правового государства. Слом произошел. Достаточно было поставить под запрет правящую коммунистическую партию. То, что она заслужила ликвидацию, не вызывает сомнения. Но не менее очевидно, что государственно-административных последствий такой меры никто в полном объеме не предвидел… Дискредитация, обессиление, а затем запрет правящей партии должны были привести к полной деструкции власти. Сегодня все выглядит так, словно из политического тела выдернули нервную систему. Есть головной мозг, есть спинной мозг, есть живот и конечности, а никакие сигналы (ни указы сверху, ни слезные жалобы снизу) никуда не поступают. С горечью приходится констатировать, что сегодня – после внушительного рывка к правовой идее в августе 1991 г. – мы отстоим от реальности правового государства дальше, чем в 1985 г.».
В каждой фразе кривит душой философ-эксперт и усугубляет вину своего цеха. Напрасно он прячется за словом «никто», говоря, что якобы не предвидели катастрофических последствий «выдергивания нервной системы» из тела идеократического государства. Эти последствия не просто «предвидели» и Горбачев, и Яковлев, и молодцы из корпорации «РЭНД». Эти последствия настолько хорошо изучены и в истории, и в социальной философии, что результат можно было считать теоретически предписанным. Да и эксперименты были проведены.
Замечу, что, дискредитируя советский тип государства, эксперты оправдывали изменения, которые вели к заведомому ухудшению положения именно по тому критерию, который эксперты выдвигали как приоритетный. Так, очень много говорилось о том, что советское государство отягощено крайне разбухшим бюрократическим аппаратом. Это была заведомая неправда при сравнении его по этому критерию с либеральными государствами Запада (причем известны были и количественные данные, и их теоретическое обоснование). А что произошло в России под прикрытием экспертов? Возник невиданный по размерам, не связанный ни правом, ни моралью коррумпированный чиновничий аппарат.
В государственном аппарате управления в СССР было занято 16 млн. человек. Около 80% его усилий было направлено на управление народным хозяйством. Сегодня в госаппарате РФ 17 млн. чиновников. Хозяйством госаппарат принципиально не управляет (75% его приватизировано, остальное парализовано), а населения в РФ вдвое меньше, чем в СССР. Можно считать, что «относительное разбухание» чиновничества в результате либеральной революции десятикратно! Никакого объяснения экспертов по этому поводу не последовало. Сообщество, исключающее всякую рефлексию в отношении собственных заявлений, не является профессиональным, оно представляет из себя идеологическую службу.
Этический нигилизм экспертов
Одно из условий эффективного господства путем манипуляции сознанием – автономия государства от морали. Йохан Хейзинга говорил, что это величайшая опасность, угрожающая западной цивилизации, – «открытая рана на теле нашей культуры, через которую входит разрушение». Возникновение мозаичной культуры тесно связано с возникновением целого сословия «прогрессивных» интеллектуалов, которые оправдывали аморальность стремлением разрушить оковы «угнетения нравственностью», а также свободой информации. Ф. Ницше писал о них: «Ничто не вызывает большего отвращения к так называемым интеллигентам, исповедующим „современные идеи“, как отсутствие у них стыда, спокойная наглость взора и рук, с которой они все трогают, лижут и ощупывают».
За последние десять лет эксперты в России очень много сделали, чтобы вообще устранить из политики и социальных отношений сами понятия греха и нравственности. Н. Шмелев, ставший недавно академиком, писал (в прямой противоположности одному из принципов Дж. Локка): «Мы обязаны внедрить во все сферы общественной жизни понимание того, что все, что экономически неэффективно, – безнравственно и, наоборот, что эффективно – то нравственно».
Можно говорить о нравственной болезни, которая поразила ту часть элитарной интеллигенции, что выступает в качестве экспертов. Эта болезнь – утрата чувства сострадания к простому человеку. Вот перед выборами 1993 г. выступил по ТВ Ю. Левада, директор ВЦИОМ. Это напоминало отчет разведчика штабу, ведущему войну против собственного народа. Хотелось ущипнуть себя за руку – ведь это социолог, как бы врач, ставящий диагноз обществу. Разве позволено ему участвовать в войне? Он успокаивает ведущего: непримиримых противников режима всего 20% населения (всего-то 30 миллионов человек!), но вы не беспокойтесь – это люди в основном пожилые, без высшего образования, им трудно организоваться. Дескать, подавить их сторонникам режима, людям молодым, энергичным и уже захватившим большие деньги, труда не составит. Какой разрыв с извечной моралью!
Очевидно, что то изменение общественного строя, которое стремится легитимировать экспертное сообщество, принесло большинству граждан России тяжелые страдания. Рыночник академик Н. Я. Петраков вынужден признать в журнале «Вопросы экономики» в 1996 г.: «Анализ политики правительств Гайдара-Черномырдина дает все основания полагать, что их усилиями Россия за последние четыре года переместилась из состояния кризиса в состояние катастрофы». Т. И. Заславская с ужасом признает «снижение социальных запросов населения вследствие постепенного свыкания с бедностью и утраты надежд на восстановление прежнего уровня жизни». Сам А. Ципко признает: «Увлеченные своей борьбой с остатками сталинской системы, мы не видели, что в мире существует множество других форм страданий, уничижения и подавления личности – и утрата национального суверенитета, утрата страны, в которой родился и жил». Уничтожением каких остатков сталинской системы (в середине 80-х годов!) можно уравновесить тот груз страданий, что обрушили на нас демократы!
Казалось бы, невозможно уйти от этических проблем такого изменения. Однако, выступая по поводу реформы, эксперты демонстративно ни словом не касаются ее «человеческого измерения». Рассуждая о кривых Филлипса, якобы связывающих уровень инфляции и безработицы, Гайдар был похож на генерала, который в генштабе США докладывает план бомбардировок Ирака в терминах, исключающих категории смерти и страданий. Сама фразеология говорит о том, что реформа основана на этике войны – против собственного населения. Даже такой либерал, как академик Г. Арбатов, посчитал нужным отмежеваться: «Меня поражает безжалостность этой группы экономистов из правительства, даже жестокость, которой они бравируют, а иногда и кокетничают, выдавая ее за решительность, а может быть, пытаясь понравиться МВФ».
Впрочем, другой член этой интеллектуальной бригады проф. Е. Майминас тут же объясняет, что эти упреки вызваны вовсе не состраданием к своему народу и не угрызениями совести, а исключительно прагматическими соображениями – как бы не раздразнить зверя. Он пишет: «Почему эти серьезные люди – отнюдь не экстремисты – бросают в лицо правительству тяжелейшие обвинения в жестокости, экспроприации трудящихся или сознательном развале экономики?… Первая причина – в небезосновательных опасениях, что предстоящая либерализация практически всех цен, особенно на топливо и хлеб, даст новый импульс общему резкому их росту, дальнейшему падению жизненного уровня и вызовет мощный социальный взрыв, который может открыть путь тоталитаризму». Дескать, вот если бы стояли у нас оккупационные войска, которые защитили бы «демократов» от красно-коричневых, тогда можно было бы бесстрашно обрекать людей на голодную смерть. И это – главный мотив опасений экспертов. Он лежит и в основании откровений А. Ципко: «Даже Путин не сможет долго защищать либеральную элиту от опасностей „красного петуха“.
Сам невротический страх перед «социальным взрывом», который эксперты несколько лет нагнетали в общественное сознание, послужил одной из причин углубления кризиса. Недавно целая группа иностранных (американских) экономистов, работавших в России, была вынуждена признать: «Политика экономических преобразований потерпела провал из-за породившей ее смеси страха и невежества». Эксперты сыграли важную роль в изготовлении этой «смеси страха и невежества».
Социал-дарвинизм как основа антропологической модели
Далеко не все эксперты высказывали конкретные утверждения в области антропологии, но те высказывания, которые делались, были столь радикальны, что несогласные с ними обязаны были возразить. Но возражений не было, и можно считать, что в целом экспертное сообщество приняло вполне определенную антропологическую модель – представление о человеке. Эта модель основана на радикальном социал-дарвинизме, что противоречит всей культурной траектории России. Пресса довела принципиальные положения этой модели до скандальных, гротескных формул крайнего мальтузианства, но пресса не создает моделей, она лишь заостряет идеи, высказанные экспертами.
Вот как представляет человека видный в прошлом эксперт Н. Амосов в его статье «Мое мировоззрение», и не в желтом «Московском комсомольце», а в «Вопросах философии»: «Человек есть стадное животное с развитым разумом, способным к творчеству… За коллектив и равенство стоит слабое большинство людской популяции. За личность и свободу – ее сильное меньшинство. Но прогресс общества определяют сильные, эксплуатирующие слабых». Н. Амосов с 1989 г. обосновывал необходимость, в целях «научного» управления обществом в СССР, «крупномасштабного психосоциологического изучения граждан, принадлежащих к разным социальным группам», с целью распределения их на два классических типа: «сильных» и «слабых».
Теорию деления человечества на подвиды, ведущие внутривидовую борьбу, развивал видный социолог В. Шубкин, утверждая при этом, что «популяция» СССР выродилась до низшего подвида «человек биологический». Вообще, идея «генетического вырождения» советского народа была общим фоном множества экспертных суждений, и никто из умеренных членов экспертного сообщества никогда не указывал на нелепости, которые нагромождали энтузиасты этой идеи.
В целом весь дискурс экспертного сообщества России проникнут биологизаторством, сведением социальных и культурных явлений к явлениям животного мира. Вот видный антрополог, который в 1992 г. был Председателем Госкомитета по делам национальностей в ранге министра в правительстве Ельцина, директор Института этнологии и антропологии РАН В. А. Тишков в интервью в 1994 г. выдает сентенцию: «Общество – это часть живой природы. Как и во всей живой природе, в человеческих сообществах существует доминирование, неравенство, состязательность, и это есть жизнь общества. Социальное равенство – это утопия и социальная смерть общества». И это – после фундаментальных трудов этнографов в течение четырех последних десятилетий, которые показали, что отношения доминирования и конкуренции есть продукт исключительно социальных условий, что никакой «природной» предрасположенности к ним человеческий род не имеет. Постулат Тишкова о доминировании и неравенстве в человеческом обществе как естественном законе природы – это чисто идеологический вывод.
В Россию биологизацию культуры импортировал Горбачев22. Это – понятие об общечеловеческих ценностях. То есть ценностях, присущих всему человеческому роду, иначе говоря, записанных в биологических структурах. Таким образом, некоторым продуктам культуры придается характер чего-то абсолютного, вне времени и пространстве. Это – идеологическая чушь, ибо элементы культуры исторически обусловлены. Нет единой культуры, присущей человеку как биологическому виду. Даже в одном месте, в Западной Европе, человек сегодня имеет совершенно иную шкалу ценностей, нежели в Средние века (или даже в 1942 г.). Даже странно читать утверждение А. Ципко об «абсолютной ценности человеческой жизни как таковой». Как бы посмеялись над ним Чингисхан, Гитлер или Егор Гайдар.
Принятие тезиса об общечеловеческих ценностях имело разрушительные последствия и означало включение в идеологию «стихийного расизма». Из него следует, что те группы или народности, которые некоторыми ценностями не обладают (не ценят их), не вполне принадлежат к человеческому роду. Список этих обязательных ценностей составляет «мировая демократия», и достаточно взглянуть на этот список, чтобы понять его сугубо идеологический смысл.
Вспомним, как в самых разных вариациях повторялся тезис о неразвитости в русских чувства свободы. Это – один из важных инструментов идеологической экспансии. Тезис о том, что «Восток» отличается от Европы атрофированным чувством свободы, является одним из главных мифов евроцентризма. Видный арабский философ и историк Самир Амин отмечает: «Перенося методы классификации животных видов и методы дарвинизма от Линнея, Кювье и Дарвина к Гобино и Ренану, утверждалось, что человеческие „расы“ наследуют врожденные признаки, постоянство которых не нарушается социальным развитием. Согласно этому видению, именно психологические стереотипы предопределяют, в большой степени, различные типы общественной эволюции… Можно множить цитаты, отражающие этот взгляд, например, о врожденной любви к свободе, о свободном и логичном мышлении одних – в противоположность склонности к послушанию и отсутствию строгости мысли других».
Переходя от социал-дарвинизма и идеи борьбы за существование к социальной инженерии, виднейшие эксперты при молчаливом одобрении всего их сообщества доходят до крайних технократических утопий переделки человеческого материала. Н. Амосов пишет: «Исправление генов зародышевых клеток в соединении с искусственным оплодотворением даст новое направление старой науке – евгенике – улучшению человеческого рода. Изменится настороженное отношение общественности к радикальным воздействиям на природу человека, включая и принудительное (по суду) лечение электродами злостных преступников… Но здесь мы уже попадаем в сферу утопий: какой человек и какое общество имеют право жить на земле».
Жизнь показала несостоятельность той взятой из учебников антропологической модели, в которой человек представлен как индивид, ведущий Гоббсову «войну всех против всех». Тем не менее эксперты в целом продолжают исходить из принципов методологического индивидуализма и берут homo eсonomiсus как стандарт для модели человека. Это придает всему дискурсу экспертов острую некогерентность. Вот жалобы Пияшевой: «Я социализм рассматриваю просто как архаику, как недоразвитость общества, нецивилизованность общества, неразвитость, если в высших категориях там личности, человека. Неразвитый человек, несамостоятельный, неответственный – не берет и не хочет. Ему нужно коллективно, ему нужно, чтобы был над ним царь, либо генсек. Это очень довлеет над сознанием людей, которые здесь живут. И поэтому он ищет как бы, все это называют „третьим“ путем, на самом деле никаких третьих путей нет. И социалистического пути, как пути, тоже нет, и ХХ век это доказал… Какой вариант наиболее реален? На мой взгляд, самый реальный вариант – это попытка стабилизации, т.е. это возврат к принципам социалистического управления экономикой».
В чем смысл этого лепета «доктора экономических наук», видного эксперта? В том, что антропологическая модель, на которой стали строить «новую экономику» ясины да чубайсы, ложна. Русскому человеку, несмотря на все их потуги, как и раньше, «нужно коллективно». И потому он не берет и не хочет священной частной собственности. И потому, по разумению умницы Пияшевой, хотя «социализма нет», единственным реальным выходом из кризиса она видит «возврат к социализму».
Аутизм как методологический принцип
Перестройка в СССР была эффективной программой по мобилизации аутистического мышления у большой части городского населения СССР.
Цель реалистического мышления – создать правильные представления о действительности, цель аутистического мышления – создать приятные представления и вытеснить неприятные, преградить доступ всякой информации, связанной с неудовольствием (крайний случай – грезы наяву). Двум типам мышления соответствуют два типа удовлетворения потребностей. Реалистическое – через действие и разумный выбор лучшего варианта, с учетом всех доступных познанию «за» и «против». Тот, кто находится во власти аутистического мышления, избегает действия и не желает слышать трезвых рассуждений. Он готов даже голодать, пережевывая свои приятные фантазии.
Аутистическое мышление – не «бредовый хаос», не случайное нагромождение фантазий. Оно тенденциозно, в нем всегда доминирует та или иная тенденция, тот или иной образ – а все, что ему противоречит, подавляется. Для того, чтобы манипулировать сознанием путем усиления аутистического мышления, специально культивируются в обществе навязчивые желания, становящиеся аутистическими тенденциями. Огромную роль в этом процессе сыграли эксперты23.
Вспомним один из фундаментальных лозунгов перестройки, который противоречит элементарной логике. А. Н. Яковлев выкинул его в августе 1988 г.: «Нужен поистине тектонический сдвиг в сторону производства предметов потребления». Этот лозунг, который прямо взывал к аутистическому мышлению, обосновывал начавшееся разрушение хозяйства (советский строй подрывался прежде всего с этого края). Лозунг А. Н. Яковлева сразу претворился в резкое сокращение капиталовложений. Была остановлена наполовину выполненная Энергетическая программа, которая надежно выводила СССР на уровень самых развитых стран по энергооснащенности (сегодня Россия по обеспеченности этим необходимым для любого хозяйства ресурсом быстро опускается ниже стран третьего мира). А ведь простейшие выкладки показали бы неразумный, с точки зрения интересов населения, характер лозунга А. Н. Яковлева.
Человек с реалистическим сознанием спросил бы себя: каково назначение экономики? И ответил бы: создать надежное производство основных условий жизнеобеспечения, а затем уже наращивать производство «приятных» вещей. Что касается жизнеобеспечения, то, например, в производстве стройматериалов (для жилищ) или энергии (для тепла) у нас не только не было избыточных мощностей, но надвигался острейший голод. Проблема продовольствия прежде всего была связана с большими потерями из-за бездорожья и острой нехватки мощностей для хранения и переработки. Закрыть эту дыру – значило бросить в нее массу металла, стройматериалов и машин. Транспорт захлебывался, железнодорожники провозили через километр пути в шесть раз больше грузов, чем в США и в 25 раз больше, чем в Италии. Но близился срыв – не было металла даже для замены изношенных рельсов и костылей. И на этом фоне «архитектор» призывал к «тектоническому» изъятию ресурсов из базовых отраслей. Еще поразительнее та легкость, с которой был проглочен совсем уж нелепый тезис: надо сократить производство стали, «ибо СССР производит ее больше, чем США».
Плодом аутистического мышления был и образ той свободы, которая наступит, как только будет сломан «тоталитарный» советский строй. Никаких предупреждений о возможных при такой ломке неприятностях и слышать не хотели. Между тем любая конкретная свобода возможна лишь при условии наличия целого ряда «несвобод». Абсолютной свободы не существует, в любом обществе человек ограничен структурами, нормами – просто они в разных культурах различны. Никаких размышлений о структуре несвободы, о ее фундаментальных и вторичных элементах не было. Ломая советский порядок и создавая хаос, людей загнали в ловушку самой примитивной и хамской несвободы.
Крайний аутизм в хозяйственной сфере выражен в примате распределения над производством. Распределять (а тем более прихватывая себе побольше) легко и приятно, производить – трудно и хлопотно. Фетишизация рынка (механизма распределения) началась с 1988 года, но уже и раньше состоялась философская атака на саму идею жизнеобеспечения как единой производительно-распределительной системы. Можно даже сказать, что здесь речь идет уже о целом аутистическом мироощущении.
Главное в аутистическом мышлении то, что оно, обостряя до предела какое-либо стремление, нисколько не считается с действительностью. Поэтому в глазах людей, которые сохраняют здравый смысл, подверженные припадку аутизма люди кажутся почти помешанными. Вот простой пример того, как в массовое сознание эксперты накачивали аутизм. Летом 1991 г. несколько научных групп провели расчет последствий «либерализации цен», которую осуществил уже Ельцин в январе 1992 г. Расчет проводился по нескольким вариантам, но общий вывод дал надежное предсказание, оно полностью сбылось в январе. Результаты расчетов были сведены в докладе Госкомцен СССР, доклад этот в печать допущен не был, специалисты были с ним ознакомлены «для служебного пользования». В массовую печать дали заключения «ведущих экономистов», которые успокаивали людей.
Так, «Огонек» дал такой прогноз Л. Пияшевой: «Если все цены на все мясо сделать свободными, то оно будет стоить, я полагаю, 4-5 руб. за кг, но появится на всех прилавках и во всех районах. Масло будет стоить также рублей 5, яйца – не выше полутора. Молоко будет парным, без химии, во всех молочных, в течение дня и по полтиннику» – и так далее по всему спектру товаров. Молоко парное (!) в течение всего дня – не чудеса ли? Буквально в то же время в том же «Огоньке» Л. Пияшева писала: «Никто и нигде не может заранее знать, какие цены установятся на землю, дома, оборудование, даже на сырье и потребительские товары». Никто не может знать, а она знала – до копейки. Весь этот прогноз – манипуляция. Она вопиюще груба, мясо быстро поднялось в цене до 20 тысяч (!) рублей. Л. Пияшева же стала доктором экономических наук и признанным «экспертом» в области экономики.
Обман при подготовке общественного мнения к либерализации цен – лишь мелкий эпизод в систематическом замалчивании той социальной цены, которую должны были заплатить граждане в ходе экономической реформы. Эксперты как сообщество выступили авторами и исполнителями огромного подлога, обеспечив тотальное замалчивание тех трудностей, которые должны были выпасть на долю общества, лишив его, таким образом, свободы волеизъявления. Иными словами, они выступили вовсе не как инструмент демократизации политической системы, а как орудие манипуляции общественным сознанием со стороны корыстно заинтересованного меньшинства.
Поразительно, но сознательный обман общества экспертами даже сегодня, при виде массовых страданий обманутых людей, не вызывает в профессиональной среде никакого осуждения. Напротив, его оценивают как эффективный. На круглом столе в «Независимой газете» 17 мая В. Третьяков так отозвался о ловкости Е. Гайдара: «Представьте, если бы Гайдар пришел к Ельцину и сказал: будем вводить реформы, и через десять лет все будет хорошо – не так, как требовал Ельцин, – успех через полгода, а через 10 лет. И будет гиперинфляция процентов 100-200… Если бы он так сделал, Ельцин бы тут же ударил его кулаком по голове, и Гайдар не стал бы премьер-министром. Поэтому Гайдар на всякий случай сказал: инфляция составит 50%, и к концу года все будет нормально. Я предполагаю, что Гайдар как эксперт был тогда достаточно грамотен, но не говорил правду из идеологических соображений, потому что считал, что нужен капитализм, а это зависит от Ельцина, ему надо сказать то, что он хочет услышать, а дальше пойдет, и уже ничего нельзя будет сделать».
Вдумайтесь в эту конструкцию! Человек сознательно лжет «из идеологических соображений», причем своей ложью прикрывает не благо, а губительные для страны изменения, но в элитарном кружке, который обсуждает вопрос «Чем больно наше экспертное сообщество?», это называют не преступным должностным подлогом, а «грамотный эксперт». В этом-то и есть ответ на вопрос о болезни – ни В. Третьяков, ни собравшиеся эксперты «реформаторов» не видят во лжи Гайдара ничего зазорного или патологического, они ее считают законным атрибутом «грамотного эксперта». Кстати, В. Третьяков как будто не видит абсурдности своего критерия: «успех через полгода» это ложь, а «успех через 10 лет» был бы правдой. Ведь десять лет уже прошли! Неужели не видно, что в настоящую катастрофу мы только-только втягиваемся? Десять лет реформы мы протянули на ресурсах старой советской системы, но теперь-то они подходят к концу, а новые капиталовложения еще даже не начинали делать. В чем же видит В. Третьяков «грамотность» Гайдара, назови он дату «успеха» 2000 г.?
Чудовищный документ, показывающий степень аутизма влиятельных экспертов, – стенографическая запись интервью 4 января 1994 г., взятого сотрудником Института социологии РАН Лапиной Г.П. у Филиппова Петра Сергеевича (он тогда – член Президентского Совета, руководитель Аналитического центра Администрации Президента РФ по социально-экономической политике, вице-президент Всероссийской ассоциации приватизируемых и частных предприятий).
Вопрос : Об исторической ситуации в России.
Ответ : Что было? Я имею в виду, что для простого человека означала командно-административная система? Это были взаимоотношения по тезису: «Я начальник – ты дурак, ты начальник – я дурак». Экономика работала не на результат, а на рапорт, на отчет, на исполнение плана. Экономика напоминала человека, больного тяжелой формой склероза. Все экономические сосуды были «забиты» ресурсами. Но даже среди бюрократии теплилась надежда, что, может быть, можно перейти от этих государственно-распределительных отношений к отношениям, основанным на частной собственности, на собственности гражданина не только на свою дачу и машину, но и на что-то большее.
В : А зачем это бюрократии?
О : Директор государственного предприятия – всего лишь наемный работник и в любой момент может получить приказ об увольнении. И поэтому переход к отношениям частной собственности, когда никто не может лишить человека акций его предприятия или участка земли, на котором расположено его ранчо, казался привлекательным. И он действительно более привлекателен… Так вот, я не видел среди этих людей (директоров предприятий) больших революционеров, т.е. людей, которые были бы готовы жизнь положить ради изменения собственности в обществе. Это делали другие люди – разночинцы (я их так называю): инженеры, юристы, прочая интеллигенция…
В : А Вы почему?
О : А я? Это идейные соображения… Я понял, что дальше так жить нельзя, нужно что-то менять и сел писать книгу с традиционно русским названием «Что делать?», в которой попытался совместить несовместимое. Я все еще находился в плену социалистических идей: социализм, что называется, въелся в плоть и кровь. Но, с другой стороны, хотелось рынка! И в результате у меня получался некий социалистический рынок с человеческим лицом. Примером для меня была Югославия… Я ушел работать механиком в автопарк – «во внутреннюю эмиграцию» – и продолжал писать свою книжку, организовывал семинары, а также зарабатывал деньги для будущей революции. В 1975 г. мы создали кооператив, точнее товарищество по совместной обработке земли «Последняя надежда»: мы там выращивали рассаду и тюльпаны. Деньги нам были нужны для типографии и прочих нужд…
В : А лозунг вашей революции?
О : Изменить этот мир! Переустроить страну.
В : Проект революции был оценен по достоинству?
О : Да, можно так выразиться. Но возвратимся к началу. В 1985 – начале 1986 гг. стало ясно, что происходят какие-то серьезные сдвиги в нашей стране. Поэтому я вышел из своей «внутренней эмиграции» и поехал по России устанавливать явки. Таким образом я перезнакомился с очень многими людьми… Когда, например, я убедился в том, что никто не собирается писать закон о приватизации, я написал его сам… и с великими трудностями протащил этот закон через Верховный Совет: так у нас началась приватизация. Провел я закон о частной собственности…
В : Ну, и действуют эти законы?
О : Закон о приватизации, слава Богу, действует! Это все видят, хотя бы по телевизору… Егор Гайдар – хороший человек, но он сел на ту лавку, которую мы для него сколотили из законов, принятых за полгода до того, как он стал исполняющим обязанности премьер-министра. Ну, и к кому отнести, например, меня? Я – разночинец, инженер-радиотехник, который увлекся экономикой. Вот такие, как я, делали эту реформу…
В : Они (разночинцы), стало быть, и есть ведущее ядро?
О : Да. Ну, смотрите, Собчак – кто? Кандидат юридических наук, пришел и стал заниматься политической деятельностью. Полторанин (как бы Вы к нему ни относились) – кто? Обычный журналист, пришел и, в сущности, занялся разрушением коммунистической системы. Ведь его основная функция – не журналистская, а политическая, верно ведь?
В : Петр Сергеевич, а Ваша основная задача все-таки в чем состояла? В том лишь, чтобы разрушить советскую систему или что-то конкретное вместо нее построить?
О : Ну, что значит разрушить? Я перечислил, что сделал, – разве это не строительство?
В : Отчасти, да. Вы как бы закладываете законодательный фундамент, который пока еще…
О : Работает, уже работает. А как же! Вот Вы – акционер? Нет? Удивительно, теперь все акционеры, все меняют: кто ваучеры, кто деньги, кто что… Люди на основании этого законодательного фундамента создавали, создают и будут создавать предприятия, повышать свой жизненный уровень, а также своих сограждан. Еще в 1991 г. я создал первую частную газету в Санкт-Петербурге – «Невский курьер». Все остальные газеты были тогда еще государственными, а у нас была частная, и нам с ее помощью удалось резко повлиять на развитие общественного мнения в городе (а позже и в Москве), создать предпосылки для большего развития демократии. Чтобы открыть газету, мы объединились в акционерное общество, которое существует до сих пор (там работают мои коллеги), выпускает книги, календари, брошюры и прочее… Другое дело, что конкуренции недостаточно, и наш товарный рынок не ломится, как в Гетеборге или других странах…
В : Если он и ломится временами, то только от импортных товаров…
О : Ну, а что тут удивительного, если страна 80% своих производственных мощностей тратила на изготовление танков и станков… Другое дело, конечно, что деньги стали проблемой. Правда, наш народ – очень своеобразный народ: ему хочется, чтобы и деньги были, и товар. Такого не бывает!
В : По тому, что Вы говорите и как действуете, очевидно, что Вы представляете собой личность «западного склада» – индивидуальность, стремящуюся к самостоятельности, не склонную целиком подчиняться коллективным действиям. Вы, что называется, «сами по себе». Вы же не будете отрицать этот очевидный факт?
О : Я, конечно, никогда не буду представителем «стада баранов»!… Но народ таков, каков он есть. Ничего страшного – переживем и одиночество… Но вот пацаны, слава Богу, растут и готовы стекла у машин мыть, но получать за это деньги! Другие – те, кто поумнее, – готовы корпеть над языком, наукой, но тоже – получать, жить достойно! Я не понимаю, как это – не хотеть иметь своей яхты, не хотеть путешествовать по миру, летать на самолетах, ездить на автомашинах? Женщина, которая не умеет водить автомашину, для меня уже не женщина!
В : Разве Вам не очевидно, что очень большая часть населения не за вас, она (эта часть) ищет какого-то другого пути, неважно, как его называют «национальный», «российский», «третий»?
О : Конечно, тогда надо продолжить разговор о чертах нашего общества. Мы пока упомянули такую черту, как «инертность», но есть еще и другие: «эгалитаризм», «ненависть к начальству, даже избираемому», «ненависть к богатым; убеждение, что богатый человек может быть богатым только путем хищений или каких-то других неблаговидных действий», «зависть – пусть у меня корова сдохнет, но и у моего соседа тоже»… Эта уравнительная система взглядов, в которой нет личной заинтересованности, конкуренции, обрекает народ на нищенское существование. Исторически ей на смену пришла другая этика, основанная на конкуренции, на частной собственности… И в России этот процесс шел. Были люди, которые вместе со своими семьями покидали род, племя – сами (и становились «извергами») или были принуждены соплеменниками (и становились «изгоями»), и обосновывались отдельно. Но старое цепляется, и человек, не привыкший, не умеющий работать («серятинка») хватается за уравнительный механизм и требует, чтобы все собирали и поровну делили. Старое цепляется, но его надо преодолевать.
В : Петр Сергеевич, нельзя же всерьез утверждать, что наше народонаселение не работает и никогда не работало. Ну, возьмите, к примеру, своих родителей – небось они всю жизнь проработали…
О : Артель «напрасный труд»…
В : Однако люди, подчеркиваю, трудились, не покладая рук, и кое-что, осмелюсь заметить, построили.
О : Да, закапывали деньги в землю, закапывали… Построили БАМ, канал Волга-Чограй, никому не нужные.
В : Что бы Вы ни утверждали, но в стране много чего было, да и страна была большая…
О : Какой была, такой и осталась.
В : Нет, даже с этой стороны нет – уменьшилась.
О : Причем здесь это? Люди, жившие в Казахстане, по-прежнему там живут? Кто где жил, тот там и живет.
В : Однако, если вернуться к сегодняшнему дню, не все так однозначно, как Вы говорите. Если по ходу реформ стало бы ясно, что лучше становится именно лучшим работникам, это было бы одно. К сожалению, этого нельзя констатировать.
О : Это естественно. В нашей экономике узкое место – это торговля: у нас в три раза меньше торговых площадей, чем, например, в Японии. Нам здесь еще работать и работать. Хотите хорошо жить – займитесь торговлей. Это общественно-полезная деятельность. И так будет до тех пор, пока будет существовать дефицит торговых площадей, а, еще вернее, мы испытываем дефицит коммерсантов.
В : А как Вам кажется, можем ли мы рассчитывать на «мягкую» трансформацию общественных форм? Без каких-либо серьезных социальных потрясений?
О : А разве у нас они есть?
В : Ну, как же – все-таки октябрьские события имели место?
О : Да ничего там страшного не было…
В : Тогда я спрашиваю Вас, как обычный средний человек: можете ли Вы сказать, когда в стране все образуется?
О : А что это значит – образуется, на сколько градусов? И сейчас все образовано. У нас что – трамваи не ходят?
В : Ну, хорошо. Тогда договорим, все-таки, о группах в обществе, имеющих отношение к собственности и власти. Если проще, какая из этих групп сейчас сильнее: чиновники, директора, предприниматели?
О : Да мы все – чиновники. Просто есть чиновники, ориентированные на реформы, – их мало, считанные единицы. А большинство, вся чиновничья структура, живет за счет распределения… Да я их всех к стенке поставлю с великим удовольствием.
В : Ясно, в смысле интересно…»
Усилиями экспертов аутизм в политически активной части населения поддерживается на нужном уровне. Уже в течение восьми лет представители российского «среднего класса» в подавляющем большинстве оценивают при опросах экономическое состояние страны как «катастрофическое». Тем не менее они уверены, что через 4-5 лет все наладится и их будущее будет обеспечено. Попытки выяснить, на чем основано это их убеждение, к успеху не приводят. Они явно надеются на чудо (вернее, на целую серию чудес), но в этом не сознаются. Другими словами, поражение их сознания глубже, чем было у немцев в 1944 г., – те надеялись на чудо-оружие, создание которого хотя бы декларировалось руководством Германии.
Эксперты и их воздействие на «оснащение ума»
Эксперты и разрушение логического мышления
Логическое мышление уязвимо, посредством манипуляции в него можно внедрять «программы-вирусы», так что люди, отталкиваясь от очевидных фактов, приходят к ложному, а иногда и абсурдному умозаключению.
Альянс обществоведов (типа Г. Попова и Т. Заславской), идеологов (типа Г. Бурбулиса и А. Яковлева) и ученых-естественников (типа Е. Велихова и С. Ковалева), который и положил начало новому сообществу экспертов, выработал небывалый стиль политических дебатов. Благодаря мощным средствам массовой информации он был навязан общественному сознанию и стал инструментом для его шизофренизации. Рассуждения стали настолько бессвязными и внутренне противоречивыми, что многие всерьез поверили, будто жителей крупных городов кто-то облучал неведомыми «психотропными» лучами.
Как шел процесс иррационализации, навязанный экспертами реформаторов? Рассмотрим структуру простых логических построений, которую используют политики. Аристотель называл их энтимемами (риторическими силлогизмами) – неполно выраженными рассуждениями, пропущенные элементы которых подразумеваются. Вот схема разумного, хотя и упрощенного, рассуждения:
Данные(Д)– Квалификация(К)– Заключение(З)
¦ ¦
Поскольку(Г)– Оговорки(О)
¦
Ведь(П)
В популярной книге А. Моля читаем: «Аргументация определяется как движение мысли от принятых исходных данных (Д) через посредство основания, гарантии (Г) к некоторому тезису, составляющему заключение (З)». Подкрепление (П) служит для усиления «гарантии» и содержит обычно хорошо известные факты или надежные аналогии. Квалификация (К) служит количественной мерой заключения (типа «в 9 случаях из 10»). Оговорки (О) очерчивают условия, при которых справедливо заключение («если только не…»).
В митинговых рассуждениях обычно остаются лишь главные три элемента: Д-Г-З. Но это – абсолютный минимум. Аргументация ответственных политических дебатов намного сложнее, в них требуется, например, отдельно обосновывать и выбор данных, и надежность гарантии, и методы квалификации. Что же мы наблюдали в процессе реформы? Из аргументации были сначала полностью исключены подкрепления, оговорки и квалификации. А затем была разрушена и минимальная триада – была изъята или чудовищно искажена гарантия.
Отключение от рациональных критериев стало массовым явлением прежде всего в среде интеллигенции. Так, интеллигенция в общем поддержала удушение колхозов как якобы неэффективной формы производства. И ей не показалось странным: в 1992 г. правительство Гайдара купило у российского села, у колхозов и совхозов, 21 млн. т зерна по 12 тыс. руб. (около 10 долл.) за тонну, а у западных фермеров 24,3 млн. т по 100 долл. за тонну. Почему же «неэффективен» хозяин, поставляющий тебе товар в десять раз дешевле «эффективного»? То же с молоком. Себестоимость его в колхозах до реформы была 330 руб. за тонну, а у фермеров США 331 долл. – при фантастических дотациях на фуражное зерно, 8,8 млрд. долл. в год (136 долл. на каждую тонну молока)!
Вспоминая сегодня все то, что пришлось слышать и читать за последние десять лет у экспертов наших новых политиков, можно утверждать, что они сознательно и злонамеренно подорвали существовавшую в России культуру рассуждений и привели к тяжелой деградации общественной мысли.
Отход от здравого смысла
В 1990 г. мне на отзыв дали законопроект «О предпринимательстве в СССР». Подготовлен он был научно-промышленной группой депутатов, стоят подписи Владиславлева, Велихова, других представителей элиты. И совершенно несовместимые друг с другом утверждения и заклинания. «В нашем обществе практически отсутствует инновационная активность!». Такого общества не может быть в принципе. Инновационная активность пронизывает жизнь буквально каждого человека, это – его биологическое свойство. Да если говорить об экономике: сами же они утверждают, что она в основном работала на оборону, но в производстве вооружений инновационный потенциал был безусловно и вне всяких сомнений исключительно высок. То есть советская экономика в основной своей части была высоко инновационной.
Или еще тезис: «Государство не должно юридически запрещать никаких форм собственности!» – и это после стольких веков борьбы за запрет рабства или крепостного права (а ведь возрождение рабства – реальность конца ХХ века). «Государство должно воздействовать на хозяйственных субъектов только экономическими методами!» – во всем мире «хозяйственные субъекты» весьма часто оказываются в тюрьме, а у нас, значит, бей его только рублем. «Основным критерием и мерой общественного признания общественной полезности деятельности является прибыль!» – но тогда да здравствует наркобизнес, норма прибыли у него наивысшая. И все это – за подписью экспертов-академиков.
В выступлениях экспертов из ученых бросалось в глаза отрицание накопленного человечеством навыка рассуждений, чуть ли не мистическая тяга сказать нечто прямо противоположное знанию и здравому смыслу. Можно предположить, что причина этого – не в «сумеречном» состоянии сознания самой интеллектуальной бригады реформаторов, а в искусственном создании такого состояния у широких кругов слушателей и зрителей – как инструмента социальной технологии. Антонио Грамши писал, что в борьбе за культурную гегемонию над массами современная буржуазия вынуждена разрушать здравый смысл, в то время как антибуржуазные движения должны обращаться именно к здравому смыслу. Приняв к исполнению социально-инженерный проект «построения капитализма», эксперты слишком буквально стали применять грамшианскую методологию.
Вот передача «Момент истины». Святослав Федоров требует «полной свободы» предпринимателям и доказывает, что питекантроп превратился в человека именно когда получил собственность, а без нее человек превращается обратно в питекантропа. И при этом постоянно обращает внимание на то, что он – профессор. А надо бы профессору вспомнить, что при общинном строе люди (похожие на питекантропов не больше, чем самый цивилизованный предприниматель) жили в 2 тысячи раз дольше, чем при частной собственности. Но кульминацией рассуждений С. Федорова был убийственный аргумент против вмешательства государства в хозяйственную деятельность. «Экономика, – говорит С. Федоров, – это организм. А в организм вмешиваться нельзя – он сам знает, что ему лучше. Мы вот сидим, разговариваем, а печень себе работает как надо». От кого же мы это слышим? От профессора медицины! Да не просто врача, а хирурга! Он всю свою жизнь только и делает, что вмешивается в деятельность организма, да не с лекарствами (хотя и это – очень сильное вмешательство), а со скальпелем, и прямо в глаз. Каким расщепленным должно быть сознание человека, чтобы выбрать именно ту аналогию, которая действует прямо против его собственного тезиса.
Вот видный деятель пишет в респектабельном журнале «Международная жизнь» о необходимости «реально оценить наш рубль, его покупательную способность на сегодняшний день» (в начале 1991 г.). Предлагаемый им метод абсурден: «Если за него (рубль) дают 5 центов в Нью-Йорке, значит он и стоит 5 центов. Другого пути нет, ведь должен же быть какой-то реальный критерий». Почему «другого пути нет», кроме как попытаться продать рублевую бумажку в Нью-Йорке? Кому нужен рубль в Нью-Йорке? А реальная ценность рубля на той территории, где он выполняет функции денег, была известна – 20 поездок на метро. То есть рубль был эквивалентом количества стройматериалов, энергии, машин, рабочей силы и других реальных средств, достаточного чтобы построить и содержать «частицу» московского метро, «производящую» 20 поездок. В Нью-Йорке потребная для обеспечения такого числа поездок сумма ресурсов стоила 30 долларов.
Путем непрерывного воздействия бесчисленного множества таких «молекулярных» ударов по здравому смыслу совокупность экспертов помогла политикам добиться того, что масса трудящихся пассивно приняла или даже поддержала такие социальные изменения, которые прямо и практически с очевидностью противоречили ее интересам (прежде всего, приватизацию промышленности и ликвидацию кооперативного сельского хозяйства).
Редукционизм и стереотипизация проблем
В последние десять лет мы в России видим целенаправленные действия по превращению народа в толпу – через изменение типа школы, ослабление традиций, воздействие рекламы, телевидения и массовой культуры, разжигание несбыточных притязаний и пропаганду безответственности. Налицо все признаки тех методов и технологий «толпообразования», на которые обращали внимание изучавшие это явление философы. Очень большую роль в этой программе играют эксперты.
В конце 80-х годов произошло почти моментальное переключение их дискурса на тип мозаичной культуры – с отходом от принципов Просвещения и университетской культуры. В своих суждениях эксперты перестали ставить и обсуждать целостные проблемы, и понятия, в которых они могут быть осмыслены. Возник тип сообщений, которые хаотизировали мышление, делали его некогерентным. Используя все средства манипулятивной риторики (дробление, срочность, сенсационность), эксперты создали практически тоталитарный фильтр, лишающий население России минимально необходимой информации о реальности и логических конструкций для ее осмысления. Это лишило огромное число людей последних крох возможности сознательного волеизъявления и отношения к будущему.
В своих выступлениях эксперты исходили из концепции упрощения (стереотипизации) – механической подгонки социального явления под устойчивую общую формулу (стереотип). Человек должен был воспринимать такие сообщения без усилий и безоговорочно, без внутренней борьбы и критического анализа. На этой основе и сложился редукционизм экспертных суждений – сведение реальных общественных проблем и явлений к предельно упрощенным и легким для восприятия утверждениям. Стало практиковаться разделение целостной проблемы на отдельные фрагменты – так, чтобы читатель или зритель не смог связать их воедино и осмыслить проблему. Это – фундаментальный принцип мозаичной культуры. Эксперты стали главными актерами в создаваемом в России «обществе спектакля», с его воображаемым временем, которое состоит в отрицании реального прошлого и реального будущего – временем без действительной памяти и без действительного проекта.
Гейзенберг, ставший свидетелем катастрофических последствий крайнего редукционизма и стереотипизации общественных проблем в Германии во время фашизма, писал: «Кто занимается философией греков, на каждом шагу наталкивается на эту способность ставить принципиальные вопросы, и, следовательно, читая греков, он упражняется в умении владеть одним из наиболее мощных интеллектуальных орудий, выработанных западноевропейской мыслью». Эту унаследованную от античной мысли особенность он видел в «способности обращать всякую проблему в принципиальную», то есть стремиться к упорядочению мозаики опыта. Экспертное сообщество России, напротив, целенаправленно превращает всякую принципиальную проблему в самый плоский и пошлый стереотип.
Вот некоторые примеры. Эксперты постоянно сводили проблему либерализации общества (шире – жизнеустройства) к ее экономической стороне. Но экономика – лишь видимая часть айсберга проблемы. Главное – культура и мировоззрение. И массовому сознанию было навязано убеждение, будто стоит сломать ненавистные структуры плановой экономики, и на расчищенном месте сама собой возникнет рыночная экономика англосаксонского типа. Надо только разрешить!
Во время подготовки и проведения приватизации по схеме Чубайса была установлена настоящая информационная блокада – к эфиру не были допущены специалисты, предупреждавшие о губительных последствиях «приватизации по Чубайсу». Сегодня А. Ципко фарисейски сокрушается: «Почему не было видно, и об этом никто не говорил во время перестройки, что сам по себе процесс приватизации национального достояния создает не только соблазны, но и поразительные возможности для обогащения, коррумпирования тех, кто распределяет и раздает в частные руки государственное имущество. Какой смысл был отдавать в частные руки эффективные, конкурентоспособные государственные предприятия, которые обогащали казну и кормили страну? Где грань между так называемым приматом идеологического подхода к приватизации и экономическим преступлением?».
Никто не говорил! Надо быть совершенно бесстыжим человеком, чтобы в 2001 г. писать такие вещи – ведь еще не умерли те специалисты, которые и говорили, и писали доклады и отчеты, сделанные на основании дотошных расчетов и исследований. Я лично руководил группой специалистов, которой премьер-министр В. Павлов поручил подготовить анализ законопроекта о приватизации. Когда я докладывал результаты перед Комитетом по экономической реформе Верховного Совета СССР, там сидела дюжина виднейших «экспертов», включая директора того Института, где служил А. Ципко. Они весело смеялись мне в лицо – они и сами прекрасно знали, как будут разворовывать промышленность СССР.
Стереотипные выступления экспертов настолько упрощали проблему, что подавляющее большинство граждан не знало и не понимало сути программы приватизации, а тем более процедуры этого процесса. Как выяснилось, даже профкомы предприятий были дезинформированы относительно прав работников. Таким образом, эксперты стали соучастниками акции, которая нанесла государству, обществу и частным гражданам большой вред.
Вот всего лишь один из важных пунктов проблемы, полностью исключенных из представления о ней, данного экспертами. Приватизация – элемент целостного процесса изменения отношений собственности, а именно, наделение каких-то лиц правом частной собственности. Но государственные предприятия находятся в общественной собственности – они национализированы или построены как национальное достояние. Государство выступает лишь как распорядитель, управляющий этой собственностью. Чтобы иметь возможность ее приватизировать, необходимо сначала осуществить денационализацию. Это – важнейший и самый трудный этап, что прекрасно известно из опыта всех кампаний приватизации, например, в период правления Тэтчер. Этот этап – изъятие собственности у ее владельца (нации). А это, совершенно очевидно, никак не сводится к экономическим отношениям (так же, как грабеж не означает для жертвы просто утрату некоторой части собственности). Однако в выступлениях экспертов проблема изъятия собственности абсолютно замалчивалась. Слово «денационализация» стало табу и было заменено ложным именем, неологизмом «разгосударствление».
Совершенно ложно представлена огромная проблема приватизации земли и ее превращения в товар. Эта проблема сведена лишь к ее экономическому измерению и низведена почти до технической задачи – в то время как речь идет об изменении всего образа жизни деревни, а значит, и всей России. И даже в мелочах недобросовестны здесь эксперты. Они свели свою роль к пропаганде частной собственности на землю, от них нельзя узнать никаких определенных сведений и аргументированных мнений. Вот в Саратовской области уже три года как введена свободная продажа земли. К каким результатам это привело? Кто купил землю? По какой цене? Что на ней выращивает? Какие урожаи? Никакой информации за три года не было дано. Когда проводилась реформа Столыпина, власть тоже вела пропаганду приватизации земли. Однако в газетах регулярно публиковались сводки с ответами на названные выше вопросы. Наблюдение за ходом реформы велось как МВД, так и экспертами Вольного экономического общества.
Эксперты послужили прикрытием огромной аферы недобросовестных банков по созданию финансовых пирамид. Они не только не компенсировали недобросовестную рекламу предупреждающими комментариями, но не дали доступа к эфиру тем российским и зарубежным специалистам, которые могли бы предупредить вкладчиков и объяснить механизм финансовых пирамид. Точно так же, уже в 1997-1998 гг., они послужили прикрытием аферы с ГКО, которая приняла международный масштаб и привела Россию к тяжелейшему кризису. Эксперты не дали внятных сообщений даже о дебатах в Думе и Совете Федерации по этому вопросу в апреле-мае 1998 года. Получение обществом этой информации позволило бы если не предотвратить крах, то хотя бы смягчить его последствия, а гражданам спасти значительную часть вкладов.
Встав на позицию поддержки радикального крыла реформаторов, экспертное сообщество превратилось в идеологический институт, который демонстративно обслуживает богатое меньшинство.
Нарушение критериев подобия
Общий регресс в качестве рассуждений, который переживает наше общество, был вызван и тем, что эксперты стали грубо нарушать критерии подобия, согласно которым выбираются факты и аналогии для аргументации. Если эти критерии не соблюдаются, то утверждение вообще остается без основания, то есть вырождается в иррациональное.
Вспомним метафору рыночников: «нельзя быть немножко беременной». Мол, надо полностью разрушить плановую систему и перейти к стихии рынка. Но ведь никакого подобия между беременностью и экономикой нет. Более того, реальная экономика и не признает «или – или», она, если хотите, именно «немножко беременна» многими хозяйственными укладами. Поскольку все указания специалистов на постоянные ошибки такого рода игнорировались, речь идет о сознательных акциях по разрушению логики.
Диверсия против логики – во всех ссылках на Запад (не будем даже придираться к тому, что и сама западная действительность при этом была представлена ложно). Постоянно повторялось, например, такое: «Британская империя распалась – значит, и СССР должен был распасться!». И никаких обоснований подобия. И почему сравнивают с Британской империей, а не с Китаем и не с США? Или и они должны распасться и именно сегодня? Кстати, из тезиса о закономерности распада СССР с неизбежностью следует, что и Российская Федерация должна распасться – ведь она точно такая же империя, какой был СССР. Ну, чуть поменьше, но это дела не меняет.
Важным эпизодом было убеждение людей в том, что СССР не должен производить стали больше, чем США. Это – производное от тезиса, будто «плановая экономика работает не на человека, а на себя». Ну причем здесь «производство в США» как критерий для наших решений? Ведь никто из экспертов не осмелился сказать: сократим производство стали, ибо нам столько не надо! Не могли этого сказать, так как всем известно, какой голод на металл испытывала наша экономика. Но даже если имитировать США, утверждение вопиюще нелогично. Разве критерием может служить производство?
Мировое хозяйство интегрировано, и металлургические мощности вывезены в страны «третьего мира» (например, в Мексику и Бразилию), откуда США получают металл. На производстве стали специализируются ФРГ и Япония – а там производилось стали на душу населения намного больше, чем в СССР. США могли сталь и металлоемкую продукцию – суда, тяжелую технику и автомобили покупать, а СССР – нет. Кроме того, США сократили производство стали лишь после того, как осуществили массированные металлоемкие строительные программы (дороги, здания, мосты), к которым в СССР только приступали. Даже за послевоенные годы США произвели стали почти на 1 млрд. тонн больше, чем СССР. В целом в США уже было «вложено» стали почти в 2,5 раз больше, чем в СССР, – когда же мы сократили бы этот разрыв?
Да и вообще говорить отдельно о стали нельзя, она лишь один из элементов всего комплекса конструкционных материалов. Большую часть стали США заместили новыми композитными материалами, пластиками и т.д., а в СССР их выпускалось еще очень мало. Это – печальная технологическая реальность. И решить эту проблему предлагалось просто сократив производство стали!
Академик А. Л. Яншин, председатель Научного совета по проблемам биосферы АН СССР, выступая в 1991 г. против программы «поворота рек», призывал к «резкому сокращению площадей, засеваемых хлопчатником». Какова же аргументация? В Узбекистане, мол, урожайность хлопчатника всего 23 ц/га, а в США «хлопководство при урожайности менее 35-40 ц/га считается нерентабельным и не практикуется». Подумайте, при чем здесь США? Вот в Кувейте себестоимость добычи барреля нефти 4 долл., а в России 14 – так что, нам и нефть не добывать? Кстати, урожайность хлопчатника в 1990 г. в пересчете на волокно была в Узбекистане 8,4 ц/га, а в США 7,2 ц/га. В течение всех 80-х годов урожайность хлопка в Узбекистане была на 15-18% выше, чем в США, и вдвое выше, чем в Бразилии, но на то и новое мышление, чтобы экспертам можно было безнаказанно «фантазировать».
Демонстративно игнорируются критерии подобия и в идее отказа от патерналистского государства и переходе к государству либеральному. Основанием для этого опять берется аналогия с западной цивилизацией (и даже именно с ее англосаксонским крылом). Надо заметить, что в своем либеральном экстремизме эксперты отметают даже концепцию (тоже западную) «социального государства». Разве не удивительно: за время реформ ни разу не дали слова таким либеральным социал-демократам, как Улоф Пальме, Вилли Брандт или Оскар Лафонтен. И опять А. Ципко бесстыже сокрушается: «Тогда никто не говорил и не видел, что наряду с правом на свободу слова для человека важно сохранить и много других прав: право жить, рожать и воспитывать детей, право быть гражданином своего национального государства, учиться и говорить на своем родном языке, жить и развиваться в рамках своей национальной культуры, право на историческую память, право на уважение к своему национальному достоинству. В своей борьбе за свободу слова мы утратили многие из других священных прав личности».
Как это «никто не говорил и не видел»? Улоф Пальме в книге «Шведская модель» (то есть модель, которую нам навязывал эксперт Горбачева Аганбегян) прямо сказано: «Бедность – это цепи для человека. Сегодня подавляющее большинство людей считает, что свобода от нищеты и голода гораздо важнее многих других прав. Свобода предполагает чувство уверенности. Страх перед будущим, перед насущными экономическими проблемами, перед болезнями и безработицей превращает свободу в бессмысленную абстракцию… Наиболее важным фактором уверенности является работа. Полная занятость означает колоссальный шаг вперед в предоставлении свободы людям. Потому что помимо войны и стихийных бедствий не существует ничего, чего люди боялись бы больше, чем безработицы».
Критерии подобия нарушаются во всех смыслах – и когда в качестве аналогии привлекают совершенно несопоставимые явления, и когда с разными мерками подходят к событиям одного порядка. Огромное значение для подрыва СССР имели события в Тбилиси в 1989 г. Предположим даже, что они не были провокацией и что действительно кто-то погиб от саперных лопаток десантников, которым приказали очистить площадь от митингующих (хотя, заметим, комиссия специалистов отметила отсутствие на телах погибших рубленых ран – факт, о котором эксперты умалчивали).
Возмущение либеральной публики в тот момент не имело предела – армию заклеймили до всякого разбирательства. И вот организаторы того митинга, как бесстрастно сообщает ТВ, «наносят ракетно-бомбовые удары по городу Гагра». Ракетно-бомбовые! По курорту, жемчужине Кавказа! По площадям, не надеясь попасть конкретно в своих врагов-абхазов, а просто уничтожая все живое и систему жизнеобеспечения города. И никакой реакции со стороны экспертов-демократов! И что поразительно – сопоставляя бомбардировку Гагры с событиями в Тбилиси, эти люди и сейчас делают вид, что разгон митинга был несравненно более тяжким преступлением, нежели бомбардировка городов и сел (так и говорил А. Н. Яковлев в беседе с Карауловым в августе 1996 г.).
Тоталитаризм утверждений
Элементарный акт мышления всегда связан с диалогом, с оппозицией утверждений. Мы же в рассуждениях экспертов наблюдаем полный разрыв с диалогичностью и принципиальный отказ от ответа оппонентам. Крайний тоталитаризм утверждений экспертов был важным средством отключения здравого смысла граждан. Сначала из рассуждений была устранена необходимая часть энтимемы – квалификация, количественная мера утверждения. А потом мало-помалу перешли к жестким тотальным, абсолютным выводам, которые уже не допускали полутонов и поиска меры, а расщепляли реальность на черное и белое.
Вот А. С. Ципко заявляет: «Не было в истории человечества более патологической ситуации для человека, занимающегося умственным трудом, чем у советской интеллигенции. Судите сами. Заниматься умственным трудом и не обладать ни одним условием, необходимым для постижения истины». Представляете, в СССР человек умственного труда не обладал ни одним условием для постижения истины. Ни одним! Ну разве это умозаключение совместимо с нормальной логикой и здравым смыслом? Нет, его тоталитаризм доведен до абсурда.
А вот советник Ельцина А. Мигранян: «Разрушая все органические связи, отчуждая всех от собственности и власти, данный режим… Вот почему никогда в истории не было такого бессилия отдельного человека перед властью». Итак, в одном абзаце утверждается, что советский режим всех отчуждал от собственности и власти, а в другом абзаце – что при советском строе был многомиллионный класс бюрократии, который имел собственность и власть. Далее говорится, что не было во всей истории, включая правление царя Ирода и Пол Пота, большего бесправия, чем в СССР вплоть до прихода демократов. При непрерывном повторении подобных утверждений по всем каналам телевидения не надо никаких психотропных лучей.
Поток таких тоталитарных утверждений был столь плотным, что люди к ним просто привыкли как к чему-то естественному. Утверждения делались таким тоном и повторялись столь часто, что это нанесло тяжелый ущерб массовому сознанию. Как пишет С. Московичи, «утверждение в любой речи означает отказ от обсуждения, поскольку власть человека или идеи, которая может подвергаться обсуждению, теряет всякое правдоподобие. Это означает также просьбу к аудитории, к толпе принять идею без обсуждения такой, какая она есть, без взвешивания всех „за“ и „против“ и отвечать „да“ не раздумывая». С. Московичи уделяет приему непрерывного повторения много внимания. Он пишет: «Таким образом, повторение является вторым условием пропаганды. Оно придает утверждениям вес дополнительного убеждения и превращает их в навязчивые идеи. Слыша их вновь и вновь, в различных версиях и по самому разному поводу, в конце концов начинаешь проникаться ими. Они в свою очередь незаметно повторяются, словно тики языка и мысли. В то же время повторение возводит обязательный барьер против всякого иного утверждения, всякого противоположного убеждения с помощью возврата без рассуждений тех же слов, образов и позиций. Повторение придает им осязаемость и очевидность, которые заставляют принять их целиком, с первого до последнего, как если бы речь шла о логике, в терминах которой то, что должно быть доказано, уже случилось…
Будучи навязчивой идеей, повторение становится барьером против отличающихся или противоположных мнений. Таким образом, оно сводит к минимуму рассуждения и быстро превращает мысль в действие, на которое у массы уже сформировался условный рефлекс, как у знаменитых собак Павлова… С помощью повторения мысль отделяется от своего автора. Она превращается в очевидность, не зависящую от времени, места, личности. Она не является более выражением человека, который говорит, но становится выражением предмета, о котором он говорит… Повторение имеет также функцию связи мыслей. Ассоциируя зачастую разрозненные утверждения и идеи, оно создает видимость логической цепочки».
С тоталитаризмом мышления тех, кто получил официально признанный статус эксперта, был жестко сцеплен и тоталитаризм фильтрации той информации, которую эксперты выпускали в общество. Такой блокады общественного диалога и такой деформации массового сознания нельзя было бы достичь, если бы само экспертное сообщество не наложило бы тотальную цензуру на изложение специалистами альтернативных суждений или хотя бы достоверной информации. Разумеется, цензура была установлена чисто политическими средствами – через контроль за средствами информации и тщательный подбор людей. Однако она была столь очевидной, что сообщество не могло этой цензуры не видеть, оно приняло ее вполне сознательно, что и свидетельствует о чисто идеологическом, а не научном характере этого сообщества. Отказ от элементарной профессиональной этики и первичных норм благородства имел такие масштабы, что стал сам по себе крупным явлением культуры.
Подчеркну, что блокаде подвергались сообщения не только политических противников, а и специалистов высшего уровня, по долгу службы обязанных доводить до сведения общества важную информацию. В конце ноября 1998 г. я делал доклад в Горбачев-фонде. Сидят иностранцы, депутаты, академики (даже вице-президент РАН). Выступает академик-секретарь Отделения экономики РАН академик Д. С. Львов. Его с группой ученых РАН попросили разобраться в платежных ведомостях правительства Черномырдина за 5 лет. И он сообщает, что баланс годовых отчетов правительства Российской Федерации не сходится – куда-то утекло 74 миллиарда долларов! Горбачев нервно засмеялся. Все-таки 74 миллиарда…
Есть в балансовом отчете графа «Ошибки и пропуски». Туда списывается нестыковка баланса – всякие несущественные мелочи. Д. С. Львов говорит: у Черномырдина в эту графу списывалось по 5 млрд. долларов в год, а в 1997 г. даже 7,3 млрд. долларов. Треть госбюджета!
74 миллиарда украли не «олигархи», не Козленок, их не увезли за границу в бюстгальтере. Они уже должны были быть в руках правительства – и пропали. Через пару недель лицо Д. С. Львова промелькнуло на телеэкране – где-то, на каком-то театральном вечере, он успел крикнуть в телекамеру, что, согласно их раскопкам, пропало не 74, а 90 миллиардов. Д. С. Львов, высший иерарх официальной экономической науки, сообщает эти сведения не на чрезвычайном пленарном заседании Госдумы, специально собранном по этому вопросу, даже не в программе «Вести», а где-то в коридоре, одной обрывочной фразой. Никто из экспертов не дал никаких комментариев чрезвычайному сообщению Д. С. Львова, не помог ему получить доступ к микрофону, чтобы его разъяснить. В этом эпизоде эксперты вели себя не как профессиональное сообщество, а как политическая клика.
Через полгода после той конференции прислали мне из Горбачев-фонда, как докладчику, две хорошо изданные книжки с материалами конференции. Я сразу кинулся читать выступление Д. С. Львова – ни слова о пропавших миллиардах! Горбачев, рыцарь гласности…
Создание некогерентности (несоизмеримости частей реальности)
Человек может ориентироваться в жизненном пространстве и разумно судить о действительности, когда отдельные элементы реальности соответствуют друг другу и соединяются в систему – они когерентны, соизмеримы. В России эксперты создали обстановку общего, негласно уговоренного абсурда. При этом средний нормальный человек теряет почву под ногами и начинает сомневаться именно в своем разуме.
Вот типичные дебаты по бюджету. Никто не скажет о том, что его части несоизмеримы. Половина доходов бюджета прямо извлекается из кармана рядовых граждан – в виде налога на добавленную стоимость и импортных пошлин – при покупке их скудного пропитания. Налоги на прибыль предприятий невелики. Это понятно – не хочется обижать Каху Бендукидзе. Но почему так смехотворно, ничтожно мала плата за пользование недрами? Ведь «частные компании», которым розданы прииски и нефтепромыслы, владеют лишь постройками, трубами да насосами, содержимое недр приватизации не подлежало.
В извлеченных из недр минералах были воплощены те 300 млрд. долларов (15 годовых бюджетов), которые преступно вывезены за границу. Почему же за выкачивание этих богатств из наших пока что принадлежащих всему народу недр берется такая ничтожная плата? Почему же никто не удивляется и даже не спрашивает? Как будто экспертам дали тайный знак – «искать не там, где потеряли, а там, где светло». И вот они шарят руками под фонарем.
Вот другой сюжет из области налогов. Налоговая служба мечет громы и молнии против тех, кто жульничает при уплате налога с прибыли – и делает вид, что не знает общеизвестной вещи: главный способ сокрытия доходов заключается в применении внутрифирменных трансфертных цен. Иными словами, зарубежная фирма-акционер имеет право покупать материалы и оборудование не по рыночным, а по внутрифирменным ценам. Получив такое право, она ввозит из-за рубежа материалы и машины по ценам, в сотни, а то и тысячи раз превышающим рыночные. Так без всяких налогов изымается и вывозится вся прибыль – а для приличия оставляют на виду с гулькин нос. Конечно, получение такого права – вопрос большой коррупции. И эксперты молчат. Из множества таких мелких несоизмеримостей складывается общая патология массового сознания, его острая некогерентность.
Положение не меняется. В программной статье В. Путина «Россия», опубликованной 31 декабря 1999 г., сделаны три утверждения, все попарно некогерентные:
– «Бурное развитие науки и технологий, передовой экономики охватило лишь небольшое число государств, в которых проживает так называемый „золотой миллиард“.
– «Мы вышли на магистральный путь, которым идет все человечество… Альтернативы ему нет».
– «Каждая страна, в том числе и Россия, должна искать свой путь обновления».
Такие примеры можно множить и множить. Речь идет даже не о том, что экспертное сообщество непрерывно вбрасывает в массовое сознание множество некогерентных утверждений, разрушая логику и здравый смысл. Оно создало, путем включения множества частных подлогов и умолчаний, особый, принципиально некогерентный дискурс, деформирующий само мышление. Это – агрессия в культуру более высокого уровня, нежели создание извращенного языка («новояза» Оруэлла). Возьмем как частный пример фрагмент дискурса экспертов-экономистов.
– В языке экспертов фигурирует понятие «нормальная рыночная экономика». Все признают, что это – неравновесная система, которая для поддержания равновесия требует непрерывного изъятия огромных ресурсов извне и сбрасывания загрязняющих отходов вовне. Этот тип хозяйства не только не может быть распространен на все человечество (потому и укоренилось понятие «золотой миллиард»). Это – выводы Конференции Рио-92, которые экономистами никогда не оспариваются (хотя и замалчиваются). Представлять как нормальное то, что не может быть нормой для всех и даже для значительного меньшинства, есть создание острой некогерентности.
– Негласно введено предположение, что при хорошем и неторопливом исполнении приватизации в России можно было бы построить «нормальную рыночную экономику» (или «экономику золотого миллиарда»). Немногие авторы, которые указывают на невозможность этого в принципе, занимают в сообществе маргинальное положение, и их заявления просто игнорируются. Ситуация ненормальна: заявления экспертного сообщества по важнейшему вопросу строятся на неявном предположении, которого никто не решается явно высказать даже в качестве постулата. Когда слепой ведет слепого к пропасти, это трагично, но простительно, но тут – другой случай. Экспертное сообщество становится козлом-провокатором.
– Принятие для России правил «нормальной рыночной экономики» (переход на «магистральный путь») означает включение либо в ядро мировой системы, либо в число «аутсайдеров», на территории которых ядро организует «дополняющую» экономику. Разрыв между ядром и периферией не сокращается, а растет, и в перспективе, как выразился Ж-Ж. Аттали, «участь аутсайдеров ужасна». Прогнозы сокращения населения России, продолжающей «следовать по магистральному пути», хорошо известны, динамика всех эмпирических показателей за последние десять лет эти прогнозы подтверждает. Таким образом, эксперты, замалчивающие суть выбора, не могут не знать о его последствиях. Введение в заблуждение целого народа относительно вполне реальной опасности его физического исчезновения означает нравственную гибель сообщества, принявшего на себя функцию «экспертного».
– Встроиться в глобальную систему рыночной экономики даже в положении аутсайдера можно лишь в том случае, если хозяйство данной страны обеспечивает приемлемую норму прибыли для «экономических операторов» (предпринимателей). По отношению к населению тех регионов, где этот уровень не достигается, введено понятие «общность, которую не имеет смысла эксплуатировать». Примечателен уже сам факт, что это введенное на Западе в оборот чрезвычайно важное для нас понятие никогда не доводилось экспертами до сведения российского общества. Между тем, оно касается нас непосредственно.
В России в силу географических и почвенно-климатических условий капиталистическая рента была всегда низкой (поэтому, например, фермерство не могло конкурировать с крестьянством). Сегодня в странах с теплым климатом имеется избыток квалифицированной рабочей силы. Конкурируя на мировом рынке труда (за капитал, за доступ к средствам производства), она имеет перед русскими работниками большие абсолютные преимущества. В средней полосе России на отопление жилья и рабочего места уходит 4 тонны условного топлива на душу. Это стоит 2 тыс. долларов на семью. Они входят в минимальную стоимость рабочей силы, которая каким-то способом должна быть оплачена предпринимателем. На Филиппинах этих расходов нет, и разумный предприниматель не станет эксплуатировать русского работника, пока на рынке труда есть филиппинец. При рыночной экономике инвестиции в Россию невыгодны, и это фактор фундаментальный. Россия не может быть даже объектом эксплуатации.
Десять лет реформы показали, что именно граждане России еще в большей степени, нежели африканцы, могут стать «общностью, которую нет смысла эксплуатировать». Создание иллюзорных надежд на инвестиции – подлог. Он на совести экспертов.
– В России быстро сокращается добыча энергоносителей и увеличивается их экспорт. В 1998 г. добыто 294 млн. т нефти, а экспортировано (с учетом экспорта нефтепродуктов) 201 млн. т. Это 69% добычи. Для внутреннего потребления России остается мало нефти (0,7 т на жителя). Кроме того, в РФ произошел сдвиг в потреблении нефти из сферы производства из-за резкого роста числа личных автомобилей (в три раза с 1985 г.). А стратегия массовой автомобилизации предполагает дальнейший переток энергоресурсов в сферу потребления. Перспективы роста добычи малы, т.к. с конца 80-х годов глубокое разведочное бурение на нефть и газ сократилось к 1998 г. более чем в 5 раз (а бурение на другие минеральные ресурсы – в 30 раз).
Заметим, что в СССР экспорт не превышал 20% добытой нефти при уровне добычи вдвое большем, чем сегодня. Однако эксперты продолжают убеждать общество в том, что якобы сейчас продолжается та же практика сырьевого экспорта, что и в СССР. Значит, делает вывод средний гражданин, мы в принципе и при нынешней экономической системе можем выйти на тот же уровень производства и потребления, как в советское время. Это подлог, ибо возникла качественно совершенно иная система – у нас теперь просто нет энергии для восстановления производства.
Энергия – фактор производства абсолютный. Таким образом, оживление хозяйства и рост производства в России при «нормальной рыночной экономике» невозможны по фундаментальной причине отсутствия энергетической базы. Создание экспертами иллюзорных ожиданий роста производства – подлог.
– И государство, и хозяйство с большим трудом изыскивают средства для покрытия самых срочных и неотложных расходов. Тем не менее эксперты указывают на якобы имеющиеся источники средств, которые могут не только решить срочные проблемы, но и обеспечить инвестиции (улучшение налоговой системы, принятие «хороших законов» и т.п.). При этом никогда не дается сравнения реального масштаба этих источников и тех потерь, что понесло хозяйство за годы реформы и которые надо возместить. Здесь создана острая несоизмеримость.
По сравнению с теми средствами, которые Россия потеряла из-за разрушения производственной системы, все эти отыскиваемые источники доходов – крохи. Подорваны основы производственного потенциала. Например, за годы реформы сельское хозяйство России недополучило почти миллион тракторов. Значит, только чтобы восстановить уровень 80-х годов в оснащении тракторами, нужно порядка 10-20 млрд. долларов. И ведь тогда восстановится техническая база, на которой стояли колхозы (12 тракторов на 100 га пашни), а фермерам для нормальной работы нужно в десять раз больше тракторов, чем колхозам. Значит, 200 млрд. долларов потребны только на создание нормального тракторного парка. А удобрения? А комбайны и грузовики? А восстановление стада, которое вырезано более чем наполовину? А морской рыболовный и торговый флот? А трубопроводы, которые десять лет не ремонтировались? А промышленность и электростанции? Огромные средства надо вложить, чтобы восстановить качество рабочей силы – только на то, чтобы довести питание людей до минимально приемлемого уровня по белку, потребовались бы расходы в треть госбюджета.
В большой мере ответственность за то, что у общества разрушена способность измерять фундаментальные величины, несет сообщество экспертов.
– Приватизация была проведена с огромным, исторического масштаба, подлогом, который был совершен экспертным сообществом. Положение не изменилось и сегодня. С момента приватизации прошло восемь лет, и можно было бы дать ее оценку на основе опытных данных. Такой оценки сделано не было. Похвалы приватизации имеют чисто идеологический характер (выходим на «магистральный путь»). Критике же подвергаются частные дефекты исполнения («обвальная», «ваучерная», «номенклатурная» и т.д.).
Между тем в России существует крупная отрасль, которая имеет надежный рынок сбыта и не испытывает недостатка средств – нефтедобывающая промышленность. Здесь возникли крупные компании («эффективный собственник»), акции их ликвидны, имеются «стратегические инвесторы» и т.д. Иными словами, здесь не было больших помех тому, чтобы приватизация показала свой магический эффект в росте абсолютного эффекта (количества производимых благ), а также измеримого показателя эффективности – производительности труда.
Результаты таковы: добыча нефти сократилась вдвое, а число занятых в отрасли увеличилось более чем вдвое. В 1988 г. на одного работника, занятого в нефтедобывающий промышленности, приходилось 4,3 тыс. т добытой нефти, а в 1998 г. – 1,05 тыс. т. Таким образом, несмотря на технический прогресс, который имел место в отрасли за десять лет, превращение большого государственного концерна в конгломерат частных предприятий привело к падению главного показателя эффективности более чем в 4 раза!
Нежелание экспертов объясниться с обществом по результатам приватизации носит уже вполне преступный характер.
Манипуляция словами и образами
Эксперты усиленно заменяют слова, смысл которых устоялся в общественном сознании, на «слова-амебы» с неизвестным происхождением и неясным смыслом. Более того, они создают новояз – извращают смысл слов. Замена русских слов, составляющих большие однокорневые гнезда и имевших устоявшиеся коннотации, на иностранные или изобретенные слова приняла в России такой размах, что вполне можно говорить о семантическом терроре, который наблюдался в 30-е годы в Германии.
Вспомним ключевое слово дефицит. В нормальном языке оно означает нехватка. Но людей уверили, что во времена Брежнева «мы задыхались от дефицита», а сегодня никакого дефицита нет, а есть изобилие. Как может образоваться изобилие при катастрофическом спаде производства? Много производили молока – это был дефицит; снизили производство вдвое – это изобилие. Это и есть новояз: нехватка – это изобилие!
Замечу, что и в чисто «рыночном» смысле реформа привела к опасному дефициту, какого не знала советская торговля. Чтобы увидеть это, надо просто посмотреть статистические справочники. В советское время нормативные запасы товаров и продуктов в торговле были достаточны для 80 дней нормальной розничной торговли. Если они сокращались ниже этого уровня, это было уже чрезвычайной ситуацией. В 1992 г. наполнение товарами упало на 40 процентов, после того как этот показатель упал уже в 1991 г. Затем в ходе реформы товарные запасы снизились до 20-30 дней. А, например, на 1 октября 1998 г. на складах Санкт-Петербурга имелось продуктов и товаров всего на 14 дней торговли. Положение регулируют только невыплатами зарплаты и пенсий (летом 1996 г. в Воронеже «резко» выплатили долги по зарплате и пенсиям, и в два дня полки магазинов опустели).
Что мы получили уже через три года реформы хотя бы в питании, говорит документ режима, а не оппозиции – «Государственный доклад о состоянии здоровья населения Российской Федерации в 1992 году»: «Существенное ухудшение качества питания в 1992 г. произошло в основном за счет снижения потребления продуктов животного происхождения. В 1992 г. приобретение населением рыбы составило 30% от уровня 1987 г., мяса и птицы, сыра, сельди, сахара – 50-53%. Отмечается вынужденная ломка сложившегося в прежние годы рациона питания, уменьшается потребление белковых продуктов и ценных углеводов, что неизбежно сказывается на здоровье населения России и в первую очередь беременных, кормящих матерей и детей. В 1992 г. до 20% детей обследованных групп 10 и 15 лет получали белка с пищей менее безопасного уровня, рекомендуемого ВОЗ. Более половины обследованных женщин потребляли белка менее 0,75 г на кг массы тела – ниже безопасного уровня потребления для взрослого населения, принятого ВОЗ». Это – официальное признание в том, что реформа сломала сложившийся при советском укладе благополучный рацион питания и что в стране вовсе не происходит «наполнение рынка», а возник, как сказано в докладе, «всеобщий дефицит» питания, ранее немыслимый.
Эксперты внедрили большое число эвфемизмов – ложных успокаивающих имен. Типично ложным именем были названы созданные в 1989-1990 гг. фирмы, начавшие разрушение финансовой системы и потребительского рынка. Они были названы «кооперативами». Это были типичные частные предприятия, в основном на теневом капитале или на украденных администрацией государственных средствах. Эти предприятия не были основаны на кооперативной собственности, собранной из паев участвующих в кооперации людей. Обследования показали: «более 90% существующих кооперативов – беспаевые. Когда работники увольняются, то практически никто не требует своего пая. Более того, они и не вспоминают о нем».
Одним из фундаментальных подлогов было внедрение в общественное сознание мысли, что политический и экономический порядок в России, установленный в 1991 г., был либерализмом («либеральные реформы»). На деле этот режим по своей политической и социальной философии и тем более по практике принципиально и радикально противостоит либерализму – в гораздо большей степени, нежели русский большевизм. Вот академик Аганбегян: «Сильная политическая власть при неокрепшей демократии, которую мы имеем, не может быть демократической или либеральной в западном понимании слова. Поэтому, наверное, она будет развиваться в направлении авторитарном».
Люди с таким мышлением в принципе не могут быть либералами ни в какой сфере. А ведь под каким предлогом уговаривали они ломать советский строй? Под тем, что такие болезненные реформы, как ускоренная индустриализация, перевод экономики на военные рельсы и послевоенное восстановление в СССР были проведены без либеральной демократии. Но тогда это делалось, пусть с жестокостями, перегибами и ошибками, в интересах большинства и при его явной поддержке. Именно это и вызывало ненависть Аганбегяна и Боннэр. А когда их спустили с цепи, чтобы разрушить тот строй и передать национальное достояние «своим», они легко сбросили маску демократов. Теперь они за полицейский режим.
Манипуляция числом и мерой
Не будем говорить о прямых и сознательных подлогах (например, с числом жертв репрессий или числом жертв чернобыльской аварии). Подлоги идут по другой статье. Рассмотрим «мягкие» искажения реальности – как бы из-за методологических упущений или умолчаний.
– Т. Заславская утверждала, что в СССР число тех, кто трудится в полную силу, в экономически слабых хозяйствах было 17%, а в сильных – 32%. И эти числа всерьез повторялись в академических журналах – замечательный пример утраты экспертами минимума научной рациональности. Понятие «трудиться в полную силу» в принципе неопределимо, это не более чем метафора – но оно измеряется академиком с точностью до 1 процента. 17 процентов! 32 процента!
Но главное, утверждение Т. Заславской, якобы обоснованное точной мерой, противоречит и здравому смыслу, и всему ее антисоветскому пафосу. Ведь выходит, что советская система обеспечивала всем весьма высокий уровень жизни, сравнимый по главным показателям с самыми богатыми странами, без изматывающего типа работы, свойственного этим богатым странам. Т.Заславская звала нас в общество, где подавляющему большинству придется работать на износ, подрабатывая в выходные и по ночам – и жить гораздо хуже, чем в СССР.
– Когда в 1991 г. вели дело к приватизации, говорилось: «Необходимо приватизировать промышленность, ибо государство не может содержать убыточные предприятия, из-за которых у нас уже огромный дефицит бюджета». Реальность же такова: за весь 1990 г. убытки нерентабельных промышленных предприятий СССР составили всего 2,5 млрд. руб.! В I полугодии 1991 г. в промышленности, строительстве, транспорте и коммунальном хозяйстве СССР убытки всех убыточных предприятий составили 5,5 млрд. руб. А дефицит бюджета в 1991 г. составил около 100 млрд. руб.!
– Широко распространена манипуляция посредством «средних» показателей. Средним числом можно пользоваться, только если нет большого разрыва в показателях между разными частями целого, – иначе будет как в больничной палате: один умер и уже холодный, а другой хрипит в лихорадке, но средняя температура нормальная. Вот эксперты утверждают, будто потребление в стране за годы реформы упало на 30%. В 1995 г. по сравнению с 1991 г. потребление мясопродуктов упало на 28, масла на 37, молока и сахара на 25%. Но этот спад сосредоточился почти исключительно в той половине народа, которую сбросили в крайнюю бедность. Значит, в этой половине потребление самых необходимых для здоровья продуктов упало на 50-80%! А эксперты делали вид, что не понимают этой простой вещи.
– Ложный образ возникает и вследствие недобросовестного употребления относительных чисел без указания абсолютных величин. Например, рост относительного показателя от малых величин создает ложное впечатление. Допустим, спад производства тракторов в 1990 г. был 10%, и рост их производства в 1999 г. был 10%. Ура, идет «компенсация спада», на 10% упало, на 10% приросло. Но в 1990 г. мы имели потерю в 24 тыс. тракторов, а в 1999 г. прирост в 1 тыс. – в абсолютном выражении вещи несоизмеримые.
– Перед выборами и 1993, и 1995, и 1999 годов эксперты утверждали, что высокие цены на хлеб вызваны «диктатом аграрного лобби». Какова реальность? Цена складывается из цены зерна, цены превращения его в хлеб на прилавке и «накруток». Реальные («технически оправданные») расходы на помол, выпечку и торговые издержки составляют 1,1 от стоимости пшеницы (такими они и были при советской системе). Весной 2000 г., батон белого хлеба весом 380 г. стоил в Москве 6 руб. Он был выпечен из 200 г. пшеницы. Такое количество пшеницы стоило в декабре 1999 г. на рынке 34 коп. (1725 руб. за тонну). Ни диктат «аграрного лобби», ни собственность на землю повлиять на все то, что выходит за рамки 34 коп., не могут в принципе, 95% цены никак с сельским хозяйством не связаны, они создаются в городе. Себестоимость превращения пшеницы в хлеб с доставкой его к прилавку равна для одного батона 38 коп. Итого реальная себестоимость батона равна 72 коп. А на прилавке его цена 6 руб. Таков масштаб «накруток» на пути от пшеницы до хлеба – 733%!
Эксперты и большие травмы общественного сознания
Откровенная ложь
Трудно назвать направление общественной жизни, где ложь не была бы важным орудием экспертов наших реформаторов. Помню, началось со статьи юриста С. С. Алексеева, где он утверждал, что на Западе давно нет частной собственности, а все стали кооператорами и распределяют трудовой доход. Казалось невероятным: член-корр. АН СССР, должен смотреть в лицо студентам. Ведь известны данные по США: 1 процент взрослого населения имеет 76% акций и 78% других ценных бумаг. Эта доля колеблется очень незначительно начиная с 20-х годов.
Ложь экспертов была и вполне конкретной (наглой), и завуалированной, концептуальной.
Академик А. Г. Аганбегян утверждал везде, где мог, будто в СССР имеется невероятный избыток тракторов, что реальная потребность сельского хозяйства в 3-4 раза меньше их наличного количества. Этот «абсурд плановой экономики» он красочно расписал в книге «Экономическая перестройка», которая в 1989 г. была переведена на все европейские языки и стала широко цитироваться на Западе.
Какова реальность? Для Европы обычная норма – около 120 тракторов на 100 га, для больших пространств, как в США, около 40, для тесных долин – больше (например, в Японии – 440). В СССР в самый лучший, 1988-й год было 12 тракторов на 100 га – в 10 раз меньше, чем в ФРГ, и в 40 раз меньше, чем в Японии. Даже в 7 раз меньше, чем в Польше. Ложь академика Аганбегяна была запоздало разоблачена – но разве его престиж в научных кругах хоть чуть-чуть снизился? Нисколько – и это уже на совести всего сообщества экспертов.
Во время приватизации людей соблазняли тем, что в США миллионы людей владеют акциями и, таким образом, получают доход с капитала. Ваучеры можно поменять на акции и жить на дивиденды. Это ложь. В США акции существенной роли в доходах наемных работников не играют. Читаем в справочнике «Современные Соединенные Штаты»: «В 1985 г. доля дивидендов в общей сумме доходов от капитала составила около 15%». А много ли рабочие и служащие получают доходов от капитала? Читаем: «Доля личных доходов от капитала в общей сумме семейных доходов основных категорий рабочих и служащих оставалась стабильной, колеблясь в диапазоне 2-4%». Два процента – весь доход на капитал, а в нем 15% от акций, то есть для среднего человека акции дают 0,03 его семейного дохода. Три тысячных! И этим соблазнили людей на приватизацию!
Мне пришлось участвовать в теледебатах с Гайдаром и его экспертами. Зашел разговор о росте смертности в результате его реформ. Гайдар рассердился и выпалил совсем уж явную чушь: «Никакого роста смертности в России нет!». Все оторопели. Тогда Гайдар говорит: вот у нас научный эксперт, он объяснит. Эксперт Н. Н. Воронцов привел «научный» аргумент, рассчитанный на идиотов. Суть якобы в том, что РФ перешла на западную методику учета рождаемости. Раньше мол, младенцев, родившихся с весом менее 700 г. (или 500, точно не помню), не включали в статистику рождений, а теперь включают. А они, бедные, поголовно умирают, что и дает жуткий прирост смертности24.
Это такая чушь, что даже возмущаться невозможно – просто вызывает брезгливость. Задумайтесь: согласно этому доводу, скачок смертности должен сопровождаться точно таким же скачком рождаемости. Ведь умерших недоношенных младенцев теперь включают в число родившихся. Мы же видим невиданный спад числа рождений. Кроме того, изменение методики учета может дать скачок на графике только один раз – в год нововведения. Мы же видим непрерывный рост числа смертей в течение 6 лет. И, наконец, известно распределение смертей по возрастам – детская смертность не дала никакой прибавки. Из самого элементарного статистического ежегодника можно видеть: число умерших младенцев (в возрасте до 1 года) с 1990 по 1996 г. непрерывно снижается (с 35088 в 1990 г. до 22825 в 1996 г.) – не было ни одного года, когда был бы зарегистрирован рост. Да и вообще смертность аномально недоношенных младенцев – это такая ничтожная величина по сравнению со скачком общей смертности, что надо просто поражаться нахальству Е. Гайдара и его экспертов. В год, когда «изменили методику», в России умерло на 700 тыс. человек больше, чем умирало обычно во второй половине 80-х годов. Из них в возрасте до 1 года умерло 27 тыс. Сколько из этих умерших младенцев имело при рождении вес менее 700 г? Наверняка менее 1 тысячи. И этим хотят прикрыть преждевременную социально обусловленную гибель 700 тысяч! Придворный эксперт реформаторов, довольно известный сотрудник Российской Академии наук, бывший министр СССР, лгал сознательно и цинично – в присутствии десятка других экспертов-демократов.
А вот ложь концептуальная. Выступает по телевидению начальник Аналитического центра при Президенте М. Урнов: «Россия до 1917 г. была процветающей аграрной страной, но коммунисты довели АПК до нынешней разрухи». Обманывает М. Урнов сознательно – есть надежная статистика и производства, и урожайности, и уровня питания с конца прошлого века (да и вряд ли не читал эксперт статьи Л. Н. Толстого о голоде или судебных отчетов начала века о голодных бунтах крестьян). Показателен очень низкий уровень установленного тогда в России официально «физиологического минимума» – 12 пудов хлеба с картофелем в год. В нормальном 1906 году такой уровень потребления был зарегистрирован в 235 уездах с населением 44,4 млн. человек.
Прирост продукции в сельскохозяйственном производстве в результате реформы Столыпина упал в 1909-1913 гг. в среднем до 1,4% в год. Это было намного ниже прироста населения, т.е. Россия шла к голоду. За период 1909-1913 гг. в среднем производство зерновых в России было 72 млн. т., а в СССР в 1976-1980 гг. – 205 млн. т. Урожайность до революции была 7-8 ц/га, а работало в сельском хозяйстве 50 млн. человек. В натуральных показателях продукция за советский период выросла в 5-6 раз, а число занятых сократилось в 2 раза. Рост эффективности в 10-12 раз – прекрасный результат (при том, что село в то же время обеспечивало своими средствами и индустриализацию СССР, и войну). В целом урожайность зерновых в СССР в последний период стабильно повышалась: от 13,9 ц в 1980 г. до 19,9 в 1990. За это время так же стабильно повышался надой молока на корову – от 200 до 2850 кг. Колхозное сельское хозяйство надежно и в хорошем темпе улучшало свои показатели. Имея 6% населения Земли, СССР производил 16% продовольствия (по другим данным, СССР производил 13%, но этот разброс данных дела не меняет). Да, улучшали рацион импортом, из 75 кг потребляемого на душу мяса импортировали 2 кг (зато экспортировали 10 кг рыбы).
Кстати, во всех рассуждениях о низкой продуктивности советского сельского хозяйства в его сравнении с Западом замалчивался фактор принципиальной важности – почвенно-климатические условия (это – один из случаев грубого нарушения критериев подобия). В среднем по России выход растительной биомассы с 1 гектара в 2 с лишним раза ниже, чем в Западной Европе и почти в 5 раз ниже, чем в США. Сегодня лишь 5% сельскохозяйственных угодий в России имеют биологическую продуктивность на уровне средней по США. Если в Ирландии и Англии скот пасется практически круглый год, то в России период стойлового содержания 180-212 дней.
За последние десять лет огромное сельское хозяйство России почти уничтожено – под прикрытием непрерывных «экспертных суждений» о неэффективности советской системы. Угасающее производство ведется на остатках старых советских ресурсов, и никаких признаков их обновления нет. Этот опыт четко показал, что советское сельское хозяйство было исключительно эффективным, так что сейчас даже не видно путей, чтобы хоть чуть-чуть приблизиться к прежним стабильным показателям. М. Урнов как эксперт просто увел граждан от этой экзистенциальной проблемы, над которой должно размышлять поистине все общество – увел ради мелкого политического интереса.
Не прямая ложь, а умолчание
К сознательному умолчанию эксперты прибегают как в коротких идеологических акциях, так и в крупных операциях по созданию мифов.
Вспомним, какой удар по сознанию нанес случай, ставший вехой антисоветской программы: в детской больнице в Элисте двадцать малышей были заражены СПИДом. Как был подан этот бьющий по чувствам случай? Вот вам советская медицина – не стерилизуют шприцы. Полетели самолеты с гуманитарной помощью. Ельцин на весь свой гонорар покупает ящик одноразовых шприцев. Предприниматели вывозят титан, обещая на вырученные деньги построить завод этих самых шприцев. Потом выясняется, что никто никого не заразил, а в эту больницу направляли из разных мест детей – носителей СПИДа. Но этого пресса уже не печатала, да это было и не важно. Все поверили в миф о дикости советского здравоохранения. Что же в этой сфере мы видим на Западе?
Вот 1992 г., судебный процесс над директором Национальной службы переливания крови Франции (это тебе не медсестра в Калмыкии). По дешевке скупая кровь у маргиналов и наркоманов и не подвергая ее установленному контролю, персонал этой службы заразил СПИДом несколько тысяч человек (я, будучи тогда в командировке, слышал о трех тысячах, но цифры все время уточнялись и росли). Почему бы экспертам не увязать это трагическое дело (директор получил 4 года тюрьмы) с трагедией в Элисте?
Летом 1993 года – опять суд в Париже, над врачами из Института Пастера. Они изготовляли гормон роста для детей. Для этого покупали гипофизы трупов и, как полагается на рынке, искали подешевле. Поэтому покупали в экс-социалистической Венгрии. Даже маленький кусочек трупа идеологически согрешивших людей ценится в десять раз дешевле, но качество, конечно, не то – и пятнадцать парижских детей были заражены неизлечимой и смертельной болезнью.
В 1996 г. – признание министра здравоохранения Японии. Здесь тоже по дешевке импортировали кровь и не подвергали ее необходимому анализу (хотя Япония завалена нужными для этого приборами). В результате из 5 тыс. больных гемофилией, которые проживают в Японии, 1800 были заражены СПИДом.
Таким образом, эксперты сознательно вырвали трагедию в Элисте из контекста, то есть совершили подлог.
Очень поучительным был «нитратный психоз», созданный, чтобы подкрепить распространенный в то время миф об удобрениях. Говорилось, что абсурдная плановая экономика заставляет крестьян заваливать поля удобрениями. На деле в самом лучшем 1988 г. в СССР было внесено 122 кг удобрений на 1 гектар (при том, что вынос питательных веществ с урожаем составлял 124 кг). В Голландии, которую нам тогда же ставили в пример как идеал сельского хозяйства, вносилось 808 кг удобрений на 1 га. Сегодня в России 3/4 пашни не удобряется вообще. Начиная с 1995 г. количество вносимых в почву удобрений колеблется в России около 13 кг/га. Для сравнения: в Китае в 1995 г. – 386 кг. И при этом нас до сих пор пугают нитратами в отечественной продукции и завозят помидоры из Голландии.
Общим для экспертов стало постоянное умолчание о контексте. Так, главным тезисом нынешней идеологии является утверждение о необходимости перестроить нашу культуру, наши привычки, законы, хозяйство так, чтобы стать «нормальной демократической страной». Этот тезис вообще не имеет смысла без того, чтобы встроить его в реальный контекст, задать какие-то понятные стандарты.
Вот видный юрист-социолог Я. И. Гилинский выступает, как и многие другие эксперты, против смертной казни: «Мы полагаем, что государство не может считаться правовым и цивилизованным, пока в нем сохраняется узаконенное убийство… В настоящее время в большинстве цивилизованных стран смертная казнь отменена de jure или не применяется de faсto». Как будто забыл юрист о главной «цивилизованной» стране – США.
В США активная дискуссия о смертной казни ведется с 1972 г. Какова же тенденция? В 1976 г. Верховный суд США постановил, что смертная казнь не является неконституционным видом наказания. В 1987 г. Верховный суд снова рассмотрел эту проблему и подтвердил применимость смертной казни. И, наконец, 11 июля 1990 г. сенат США 94 голосами против 6 одобрил, как сказано, «самый жесткий и самый всеобъемлющий в истории США» закон о борьбе с преступностью, расширяющий применимость смертной казни за 33 вида преступлений. Активно поддерживал этот закон Дж. Буш в его избирательной кампании на пост президента США («американский народ больше не будет терпеть преступников»).
Вот другой аналогичный пример. Много говорилось о подслушивании телефонных разговоров диссидентов службами КГБ. Какое невиданное нарушение прав человека! При этом все эксперты умолчали, что Национальное агентство безопасности США (годовой бюджет 8 млрд. долл.) имеет отдел со 100 тыс. сотрудников, которые занимаются перехватом и расшифровкой передаваемых по телефону или через спутники сообщений, в том числе коммерческих и личных. Уже в 80-е годы ежедневно записывалось 400 тыс. разговоров в США и в других странах.
Внедрение ложных понятий
В годы реформы внедрено множество ложных фундаментальных понятий, которые разрушили связность мышления, – включая понятия рыночной экономики, гражданского общества, даже частной собственности.
Вот что пишет видный философ-правовед (В. С. Нерсесянц): «Одним из существенных прав и свобод человека является индивидуальная собственность, без чего все остальные права человека и право в целом лишаются не только своей полноты, но и вообще реального фундамента и необходимой гарантии». Эксперт вроде бы не обманывает читателя, поскольку всегда может уточнить, что говорил о праве в том смысле, который придается этому слову в современном гражданском обществе Запада. Но читатель с «незападным» мышлением будет обманут. Подмена понятий приравнивается к подлогу.
Появление частной собственности вовсе не создает прав и свобод, о чем писал уже М. Вебер, а лишь изменяет структуру прав и свобод. Например, она лишает человека права на пищу, которое до этого относилось к категории естественных, неотчуждаемых прав. Это ясно сказал Мальтус: «Человек, пришедший в занятый уже мир, если общество не в состоянии воспользоваться его трудом, не имеет ни малейшего права требовать какого бы то ни было пропитания, и в действительности он лишний на земле. Природа повелевает ему удалиться и не замедлит сама привести в исполнение свой приговор». Итак, при частной собственности – ни малейшего права требовать какого бы то ни было пропитания. При общинно-родовом строе (и много позже – при советском строе), когда средства производства находились в коллективной собственности, каждый член общины, если он от нее не отлучен, имел гарантированное право на пищу. Эксперт В. С. Нерсесянц совершил подлог, не предупредив читателя, что с приватизацией право на пищу будет у граждан изъято (сегодня 40% населения России потребляет в среднем 30 г. белка в день).
С помощью подлога аргументировалась и антисоветская позиция. В. С. Нерсесянц пишет: «Создаваться и утверждаться социалистическая собственность может лишь внеэкономическими и внеправовыми средствами – экспроприацией, национализацией, конфискацией, общеобязательным планом, принудительным режимом труда и т.д.». Эксперт прекрасно знает, что 9/10 социалистической собственности в СССР было создано хозяйственной деятельностью в послереволюционный период. На каком основании считает он внеправовыми и внеэкономическими явлениями, например, строительство ВАЗа, Братской ГЭС или московского метро? Самые благожелательные попытки додумать аргументы за эксперта к успеху не приводят.
Своей хулой на социалистическую (и вообще коллективную) собственность он по контрасту проводит мысль о том, что уж частная-то собственность создавалась исключительно в рамках права и без внеэкономического принуждения. Но ведь эта мысль, откровенно говоря, просто нелепа. Не будем уж поминать Маркса («на каждом долларе следы крови») или 9 млн. африканцев-рабов, доставленных в Америку живыми (по оценкам историков, живыми до Америки доплывало лишь около 10% погруженных в трюмы африканцев), или переданную в середине XIX века французским колонистам половину земли Магриба (Алжир, Тунис, Марокко), которая культивировалась более тысячи лет. По данным авторитетного историка Ф. Броделя, треть всех инвестиций Англии в период промышленной революции покрывалась средствами, награбленными в одной только Индии.
Но даже если вернуться из Англии XVIII века в Россию наших дней: как может разумный человек назвать «экономическим и правовым средством» приватизацию по Чубайсу? По какому праву и через какие экономические трансакции (т.е. с возмещением реальной стоимости) получил скромный аспирант Каха Бендукидзе «Уралмаш», а теперь и «Красное Сормово» – не заводы, а целые конгломераты заводов?
Внедрение ложных понятий сопровождалось умолчанием о непригодности для конкретных условий России целых концепций или даже теорий. Когда политики предлагали крупные опасные изменения, их эксперты ссылались на «объективные законы», на якобы безупречные теории, на чужой опыт. Часто в этих ссылках заключался явный подлог, но очень во многих случаях – умолчание о том, что приводимые доводы методологически несостоятельны. Скандальным случаем можно считать блеф Е. Гайдара с «кривыми Филлипса». Из них следовало, что в России надо немедленно ввести безработицу, а на самом деле эти «кривые» были обычной подтасовкой. Мне пришлось вникнуть в это дело, когда я много лет назад занялся изучением истории взаимоотношений между естественными науками и политэкономией. В этой истории «кривые Филлипса» занимали особое место, им посвящена целая глава в изданной в Оксфорде «Истории эконометрии» – как изложение поучительного примера крупной научной мистификации. Вывод, который Филлипс сделал из своих липовых кривых, был чисто политическим: «При некотором заданном темпе роста производительности труда уменьшить инфляцию можно только за счет роста безработицы». Этим выводом и размахивал Гайдар, хотя и он сам, и его советники из МВФ прекрасно знали, что кривые Филлипса на практике не выполняются, что в ходе кризиса 80-х годов в США инфляция росла параллельно с безработицей (не говоря о том, что к нашей экономике все это вообще не имело никакого отношения).
Более тонкое умолчание заключалось в том, что российские экономисты скрыли от общества важнейший методологический принцип, согласно которому теории рыночной экономики действуют только в рыночной экономике. А поскольку в СССР, как известно, экономика была иного типа, планировать реформу, исходя из рыночных теорий (как это предусмотрено в программе МВФ), было нельзя.
Лауреат Нобелевской премии по экономике Дж. Бьюкенен писал: «Теория будет полезной, если экономические отношения распространены в достаточной степени, чтобы возможно было прогнозировать и толковать человеческое поведение. Более того, экономическая теория может быть применима к реальному миру только в том случае, если экономическая мотивация преобладает в поведении всех участников рыночной деятельности». Под экономическими отношениями западные экономисты понимают только рыночную экономику, в отличие от хозяйства. В СССР же мы имели именно хозяйство. Ничего принципиально нового Бьюкенен не сказал – о том же самом писал уже А. В. Чаянов, так что умолчание экспертов было сознательным.
Ложные концепции
За последнее десятилетие общество России было подвергнуто сильнейшему давлению прямой и сознательной лжи, нагнетаемой с использованием авторитета должностей и научных титулов экспертов.
Так, на небывалую в мире, религиозную высоту было поднято представление о собственности. Академик-экономист (!) А. Н. Яковлев писал в 1996 г.: «Нужно было бы давно узаконить неприкосновенность и священность частной собственности». Известно, что частная собственность – это не зубная щетка, не дача и не «мерседес». Это – средства производства. Единственный смысл частной собственности – извлечение дохода из людей («Из людей добывают деньги, как из скота сало», – гласит американская пословица, приведенная М. Вебером).
Где же и когда средство извлечения дохода приобретало статус святыни? Этот вопрос поднимался во всех мировых религиях, и все они, включая иудаизм, наложили запрет на поклонение этому идолу (золотому тельцу). В период возникновения рыночной экономики лишь среди кальвинистов были радикальные секты, которые ставили вопрос о том, что частная собственность священна. Но их преследовали даже в Англии. Когда же этот вопрос снова встал в США, то даже отцы-основатели США, многие сами из квакеров, не пошли на создание идола, а утвердили: частная собственность – предмет общественного договора. Она не священна, а рациональна. О ней надо договариваться и ограничивать человеческим законом.
За образец нам указывались институты Запада как продукт якобы естественной эволюции общества. Поскольку этот постулат утверждался со всем авторитетом науки и престижем «духовных лидеров» типа Сахарова и Лихачева, он был внедрен в сознание большинства населения. Но это постулат ложный, он есть продукт чисто идеологической конструкции – евроцентризма. Не только не существует «естественной» или «правильной» модели общественных институтов и норм, но и, более того, развитие западной цивилизации было совершенно уникальным и неповторимым опытом и в этом смысле является «противоестественным» для всех стран, не испытавших той культурной мутации, какой стала для Запада Реформация. Поразительно то, что большинство экспертов прямо признают, что евроцентристские концепции неприложимы к России – и в то же время строят весь свой дискурс именно на этих концепциях.
Важной идеологической концепцией было утверждение о неэффективности и неконкурентоспособности советской экономики, вследствие чего ее и следовало «демонтировать путем слома». Это было одним из главных «экспертных суждений» в течение примерно пяти лет. Однако та часть хозяйства, которая работала на оборону, не подчинялась критериям экономической эффективности (а по иным критериям она была весьма эффективной). По оценкам экспертов, нормальной экономикой, не подчиненной целям обороны, было лишь около 20% народного хозяйства СССР. Запад же, при его уровне индустриализации, подчинял внеэкономическим критериям не более 20% хозяйства. Если сами же эксперты говорят, что «на прилавки» работала лишь 1/5 нашей экономики – против 4/5 всей экономики капиталистического мира, то сравнивать надо именно эти две системы. И сказать, что плановая система справлялась хуже – значит просто отказаться от всех норм рационального мышления и от всяких следов интеллектуальной совести.
Допустим, для наших экспертов понятие эффективность слишком сложно (многие из них путают его с понятием «эффект»). Возьмем понятие конкурентоспособность. Она определяется только двумя параметрами – качеством и ценой. Для двух слитков алюминия стандартной чистоты конкурентоспособность определяется только ценой. СССР производил алюминий в несколько раз дешевле, нежели на Западе. Как же можно было считать эту отрасль неконкурентоспособной? А она очень представительна.
Передо мной тюбик глазной мази из тетрациклина. Из последних партий советского продукта, выпуск 1990 г. Цена 9 коп, выбита на тюбике. Как-то за границей пришлось мне купить такой же тюбик – 4 доллара. Абсолютно такой же (видно, на Казанском фармзаводе была та же импортная линия для упаковки). Как химик, я знаю, что наш тетрациклин был очень хорошего качества. Можно считать, что у меня в руке – два товара с идентичной полезностью. Различие – в цене. Когда был произведен советский тюбик, у нас на черном рынке давали за доллар 10 руб. Значит, цена нашего тюбика была 0,09 доллара. Девять тысячных! Были кое-какие дотации, но это мелочь, менее тех же 9 коп. Важно, что СССР производил товар с розничной ценой в 4 тысячи раз ниже, чем на Западе. Если бы он был допущен на рынок и выбросил этот товар пусть по 2 доллара, то разорил бы всех конкурентов, а на полученную огромную прибыль мог бы расширить производство настолько, что обеспечил бы тетрациклином весь мир.
Под влиянием экспертов 99% граждан поверили, будто колхозы по сравнению с западным фермером были неконкурентоспособны. Нам даже показывали по ТВ, как недосягаемый идеал, «эффективных» финляндских фермеров, целый сериал. Но это же чушь! С 1985 по 1989 г. средняя себестоимость тонны зерна в колхозах была 95 руб., а фермерская цена тонны пшеницы в Финляндии 482 долл. Доллара! Колхозник мог выбросить на финский рынок пшеницу в 10 раз дешевле, чем фермер (при курсе 2 руб. за доллар). Кто же из них неконкурентоспособен?
Я специально выбрал такие товары, в производство которых вовлекается большая часть экономики, так что на их цене сказывается состояние множества отраслей. Трех-четырех таких примеров из разных областей вполне достаточно, чтобы сделать вывод об экономике в целом. А если говорить, например, о такой сфере, как производство оружия (где наша конкурентоспособность никогда не подвергалась сомнению), то в нее вообще вовлечена вся экономика.
Подлогом было и фундаментальное утверждение экспертов о неэффективности советского сельского хозяйства. Возьмем самую простую часть этого утверждения, его «экономическую» аргументацию. Общество убедили, что колхозы были сплошь убыточны и запускали руку в карман налогоплательщика. А как обстояло дело? Вот последний стабильный год – 1989. В СССР было 24720 колхозов. Они дали 21 млрд. руб. прибыли. Убыточных было всего 275 колхозов (1%), и все их убытки в сумме составили 49 млн. руб., 0,2% от прибыли всей колхозной системы – смехотворная величина. В целом рентабельность колхозов составила в тот год 38,7%. Колхозы и совхозы вовсе не «висели камнем на шее государства» – напротив, в отличие от Запада наше село всегда субсидировало город. Говоря об огромных якобы дотациях, эксперты сознательно лгали. Именно на Западе сельское хозяйство – это не рыночная, а бюджетная отрасль, сидящая на дотациях. В среднем по 24 развитым странам бюджетные дотации составляют 50% стоимости сельхозпродукции (а в Японии и Финляндии – до 80%). Около 30 тыс. долларов в год на одного фермера! В 1986 г. бюджетные ассигнования на сельское хозяйство США составили 58,7 млрд. долл., и дотации постоянно повышаются.
Огромная идеологическая программа по внушению обществу стереотипного убеждения в том, что советское хозяйство было неэффективным и неконкурентоспособным, основана на большом подлоге и искажении смысла слов и понятий.
Ложное обоснование изменений
Разберем один пример подлога – тезис о благотворности купли-продажи земли для производства хлеба. Он на совести многих экспертов-рыночников. Сделаем расчет.
Скажем, некий фермер купил 100 га земли и налаживает самое выгодное дело – производство озимой пшеницы. Он покупает 5 тракторов и нанимает пять рабочих. Для справки: в Польше в частных хозяйствах на 100 га было в среднем 24 работника и 6 тракторов. Мы делаем ферму пожестче, это фермеру выгоднее. Но эти пятеро уже будут рабочие, а не крестьяне, они с приусадебного участка жить не могут.
Что получится в лучшем для фермера случае и какие будут расходы? Минимальные расходы на зарплату и соцстрах своим работникам составят 30 тыс. долл. в год. Это – минимум для рабочих с семьями, по покупательной способности эта зарплата ниже, чем была в колхозах в конце 80-х годов (442 руб. на двух работающих в 1989 г.). Тем, кто думает, что 300 долларов в месяц рабочему слишком жирно, напомню, что в среднем по России только на отопление дома надо по рыночным ценам купить дров на 100 долл., да еще распилить и наколоть.
Каковы будут затраты на материально-техническое обеспечение фермы? В колхозах зарплата и материальные затраты соотносились как 4:5. Сейчас материалы резко подскочили в цене (особенно горючее и удобрения), а зарплата упала. Кроме того, СССР обходился всего 1 трактором на 100 га пашни. Так что соотношение «зарплата – материальные затраты» будет в самом лучшем случае около 1:2. Значит, на материальные затраты уйдет в год около 60 тыс. долл.
С 1 га земли колхозы в среднем собирали по 20 ц пшеницы. Говорят, фермер эффективнее. Допустим, урожай должен быть 30 ц с гектара. 100 га пашни при трехпольной системе (пшеница, пар и клевер) дадут в год эквивалент 150 т пшеницы (включая сюда и выручку за клевер). В декабре 1999 г. цена пшеницы на российском рынке была 1725 руб. (63,9 долл.) за тонну. Значит, весь годовой урожай нашей фермы (при 30 ц с га) будет стоить 9585 долл. Округлим до 10 тыс.
Какие выплаты должен сделать хозяин, собрав урожай? 30 тыс. зарплата плюс 60 тыс. материальные расходы. Итого 90 тыс. долларов! Отсюда видно, что при самых лучших (реально не достижимых) условиях расходы почти в десять раз (!) превышают доход до вычета налогов. Расчет этот грубый. Его можно уточнить, расписать все расходы (выплаты за кредит, наем сторонних работников, налоги, рэкет и т.д.). Расхождение между расходами и доходами при этом лишь увеличится. Да и не получит фермер 30 ц с гектара, землю уж семь лет не удобряют.
Вывод: купля-продажа земли никакого отношения к выращиванию пшеницы не имеет. Даже самый безумный капиталист (а таковых нет в природе) сеять в России пшеницу на условиях рыночной экономики не станет. Пока что ее сеют потому, что колхозникам жить надо и они ничего не платят за ресурсы – добивают то, что осталось от советского времени. И почву, и машины, и рабочую силу.
Почему же сеют западные фермеры? Потому, что в ЕЭС в середине 80-х годов только бюджетные дотации на 1 га пашни составляли в среднем 1099 долларов. На 100 га это 110 тыс. долларов в год.
Другое дело – купить землю в России и сдавать ее в аренду за 50% урожая. А. В. Чаянов пишет: «Цены, которые малоземельные крестьянские хозяйства платят за землю, значительно превышают капиталистическую абсолютную ренту… Под давлением потребительской нужды малоземельные крестьяне, избегая вынужденной безработицы, платят за аренду земли не только ренту и весь чистый доход, но и значительную часть своей заработной платы». В 1904 г. в среднем по Воронежской губернии арендная плата за десятину составляла 16,8 руб., а чистая доходность одной десятины была 5,3 руб. В некоторых уездах разница была еще больше. Так, в Коротоякском уезде средняя арендная плата была 19,4 руб., а чистая доходность десятины 2,7 руб. Иными словами, разницу в 16,6 руб. с десятины крестьянин доплачивал из своего потребления.
В этом – вся суть купли-продажи земли в связи с пшеницей. Отмывание денег «в земле», захоронение отходов – другая тема.
Кстати, стоит упомянуть и маленький примитивный обман – якобы фермер под залог земли получит большой кредит в банке. Даже нелепо говорить о том, чтобы на такие деньги финансировать цикл производства. За участок в 100 га фермер получит кредит не более половины цены его земли. Считалось, что в среднем по России земля будет идти по 500 долларов за гектар, при этом за весь свой заложенный участок фермер смог бы получить кредит в 25 тысяч долларов, которые осенью надо было отдать с процентами. Как он мог бы на эти деньги вести рыночное хозяйство, если его конкурент в Европе на такой же участок каждый год получает безвозмездно 110 тысяч долларов бюджетных дотаций?
Это – в теории, а на деле на земельных аукционах в Саратовской области, где обкатывается купля-продажа земли, в 1998-1999 гг. земля сельскохозяйственного назначения продавалась по средней цене 215 рублей за 1 гектар пашни. Менее 10 долларов за гектар! О каком кредите под залог земли может идти речь в таких условиях? Эксперты в своих суждениях лгали и лгут совершенно цинично.
Замалчивание намерений и проекта
Прикрытие программы действий путем мобилизации старых стереотипов сознания и привычной терминологии – прием манипуляции, которым широко пользуются эксперты.
Т. И. Заславская в книге-манифесте «Иного не дано» пишет: «С точки зрения ожидающих решения задач предстоящее преобразование общественных отношений действительно трудно назвать иначе, как относительно бескровной и мирной (хотя в Сумгаите кровь пролилась) социальной революцией. Речь, следовательно, идет о разработке стратегии управления не обычным, пусть сложным, эволюционным процессом, а революцией, вкорне меняющей основные общественно-политические структуры, ведущей к резкому перераспределению власти, прав, обязанностей и свобод между классами, слоями и группами … Спрашивается, возможно ли революционное преобразование общества без существенного обострения в нем социальной борьбы? Конечно, нет… Этого не надо бояться тем, кто не боится самого слова «революция».
Почти одновременно с Т. Заславской в «Правде» пишет помощник и идеологический советник Горбачева философ Г. Смирнов: «… речь идет не о социально-политической революции, когда уничтожаются основы экономических отношений старого строя, устанавливается принципиально новая политическая власть, выражающая интересы свергающих классов. Здесь ситуация иная. Речь идет не о разрушении общественной собственности на средства производства, а о ее укреплении и более эффективном использовании… Речь идет не о сломе государственной власти, а о дальнейшем укреплении социалистического всенародного государства, углублении социалистической демократии, развитии народного социалистического самоуправления» (курсивом выделено мною, – С.К-М).
Итак, два советника Горбачева по идеологии в ранге академиков пишут о главном происходящем в стране процессе диаметрально противоположные вещи: достоверную трактовку в книге для узкого круга, для «своих» – и абсолютно ложную в массовой газете с тиражом 5 млн. экземпляров.
Послушайте сегодня А. Г. Аганбегяна, который при Горбачеве обещал нам «шведскую модель»: «Надо прямо сказать, что рыночная система – это очень жестокая система по отношению к человеку. Система с очень многими негативными процессами. Рыночной системе свойственна инфляция, рыночной системе обязательно свойственна безработица. С рынком связано банкротство, с рынком связан кризис перепроизводства, рецессия, которую, скажем, сейчас переживает Европа, с рынком связана дифференциация – разделение общества на бедных и богатых… Дифференциация у нас, конечно, к сожалению, уже сейчас, ну, не к сожалению – это неизбежно, у нас уже сейчас растет и будет дальше резко расти».
Сравните это с тем, что писал и говорил Аганбегян в 1989-1990 гг. По масштабам дезинформации и подлогов, которые он совершал как должностное лицо, он по советским законам подлежал бы уголовной ответственности.
В последние годы «реформаторы» и их эксперты перешли от умолчания цели, социальной цены и сроков проекта к тотальному, доходящему до абсурда утверждению, что проекта вообще не существовало. Эта мысль сначала обкатывалась в узком кругу самих идеологов реформы, а в последнее время вводится в широкий оборот.
Мне пришлось участвовать в дебатах на телевидении с Ф. Бурлацким – одним из «прорабов перестройки», и В. Никоновым – «аналитиком», тогда из команды Ельцина. Ведущий задал мне вопрос: почему довольно успешно прошла реформа в Испании после смерти Франко, а у нас не идет? Я сказал, что дело в проекте, а не в ошибках исполнения. И Бурлацкий, и Никонов заявили, что никакого проекта перестройки и реформы не существовало! Подумать только, «архитекторы и прорабы» были, а проекта не было (сами реформаторы, начиная с Горбачева, кстати, всегда хвастались, что программа есть и все идет по плану).
Никонов даже на меня огрызнулся: говорить, что имелся какой-то проект – это значит верить в заговоры. А это, мол, паранойя и попахивает ненавистью к жидомасонам. Это дешевая уловка. При чем здесь заговоры и при чем «поэтапный график мероприятий»? Когда речь идет о проектах масштаба нашей реформы, имеют в виду не эти мелочи. Даже «холодная война» на этом фоне – частная операция. Кстати, сейчас, через 50 лет, на Западе публикуют многие документы «холодной войны». Видно, какая это была программа, сколько в нее было вложено денег и какая огромная армия образованных специалистов работала. Так что – это тоже «нелепая вера в заговор»? В существование этой программы тоже верить неприлично?
Нельзя не поразиться неискренности этих экспертов. Они знают, к каким последствиям ведет каждый важный шаг власти, но скрывают это от общества. Они не готовят никаких мер, чтобы смягчить эти последствия или потом как-то выправить урон. Эти меры и нельзя готовить, раз все делается тайком – раз «проекта нет».
Создание мифов
Я уже говорил о том, как был запущен миф об избытке в СССР тракторов. Подобных мифов было немало. Вот еще пара примеров.
– Важный миф – «технологический». Эксперты вбивали в голову, что советская система, «уклонившись от цивилизации», стала неспособна пользоваться современными технологиями. Началось с Чернобыля, а затем к этому подверстали информацию обо всех авариях и упущениях. Не будем брать острые случаи, возьмем миф о водопроводе.
Очень много говорилось о том, насколько плоха в СССР система водоснабжения. Трубы прохудились, вода теряется – то ли дело на Западе! Но вот Экономическая комиссия ООН для Европы публикует доклад: в больших городах Западной Европы из-за плохого состояния водопроводов теряется до 80% воды – примерно на 10 млрд. долларов в год. Поскольку поиск места утечки обходится дорого (до 1 тыс. долл. за километр), его стараются и не искать. В малых городах водопроводы помоложе, но и тут дело плохо. В Испании в целом по стране теряется 40% воды, в Норвегии – 50%. Из-за утечки воды снижается давление, из-за чего в трубах накапливаются колонии бактерий. В Великобритании водопроводные трубы продолжают делать из свинца, так что вода не соответствует стандартам ВОЗ и вредна для здоровья. На это закрывают глаза, поскольку смена технологии обошлась бы в 12 млрд. долл. В Западной Европе среднее потребление воды городским жителем составляет 320 л в день, а в Москве 545 л. Но большинство москвичей поверили, что их водоснабжение никуда не годится.
– Рассмотрим подробнее одну крупную мистификацию в рамках экологического психоза – сероводородный бум. Известно, что особенностью Черного моря является наличие в нем «сероводородного слоя». Это было использовано для создания психоза в конце 80-х и начале 90-х годов (он иногда оживляется до сих пор). Говорилось о грядущих взрывах сероводорода, об отравлении экипажей кораблей с ядерным оружием и т.д. Наконец, сам М. С. Горбачев предупредил мир о грядущем из СССР апокалипсисе. Он заявил с трибуны Глобального форума по защите окружающей среды и развитию в целях выживания: «Верхняя граница сероводородного слоя в Черном море за последние десятилетия поднялась с глубины 200 м до 75 м от поверхности. Еще немного, и через порог Босфора он пойдет в Мраморное, Эгейское и Средиземное море». Это абсурдное заявление было опубликовано в «Правде». Горбачев не мог сделать такое ответственное заявление без согласования с экспертами-академиками. Все попытки действительных специалистов (включая академиков) дать в газетах справку были безуспешны. Информацию по проблеме можно было легко получить в течение десятка минут телефонным звонком в любой институт океанологического профиля АН СССР, Гидрометеослужбы или Министерства рыбного хозяйства. Эксперты из окружения Горбачева, видимо, действовали сознательно.
Максимальная концентрация сероводорода в воде Черного моря 13 мг в литре, что в 100 раз меньше, чем необходимо, чтобы он мог выделиться из моря в виде газа. В тысячу раз! Поэтому ни о каком воспламенении, опустошении побережья и сожжении лайнеров не может быть и речи. Уже сотни лет люди пользуются в лечебных целях сероводородными источниками Мацесты. Ни о каких взрывах и возгораниях и слыхом не слыхивали, даже запах сероводорода там вполне терпимый. Но содержание сероводорода в водах Мацесты почти в сто раз больше, чем в воде Черного моря.
Смертельные концентрации сероводорода в воздухе составляют 670-900 мг в кубометре. Но уже при концентрации 2 мг в кубометре запах сероводорода нестерпим. Однако даже если весь «сероводородный слой» Черного моря внезапно будет выброшен на поверхность какой-то неведомой силой, содержание сероводорода в воздухе будет во много раз ниже нестерпимого по запаху уровня. Значит, в тысячи раз ниже уровня, опасного для здоровья. Так что не может быть речи и об отравлениях.
* * *
Основные изложенные здесь мысли я кратко высказал на «круглом столе» экспертов. По существу никто не стал с ними ни спорить, ни соглашаться. Политический статус этих экспертов в нынешней России позволяет им просто игнорировать подобные рассуждения постороннего. Закрыл совещание В. Третьяков на вполне радостной ноте: «Мы можем открыть новый этап развития России. Хороший будет этап, если удастся». Тут он прямо перекликается с А. Ципко – хороший этап не тот, когда хорошо людям, а когда экспертам удается выполнить их идеологическую задачу. Теперь эта задача – «открыть новый этап». Видимо, хорошего ждать не приходится, «это сообщество не устарело».
Примечания
1
Это не значит, что наука как особый тип познавательной деятельности в принципе носит классовый характер, хотя подобные утверждения делались в ходе идеологической борьбы. Так, апеллируя к левым, критик науки Ж.-П. Сартр говорил, что «наука всегда буржуазна». В послереволюционной России некоторое время развивалась концепция «пролетарской науки» (А. А. Богданов). В 1960-1970 гг. эти идеи дебатировались в странах «третьего мира». На деле наука, зародившись на Западе в ходе становления буржуазного общества, была воспринята другими обществами и культурами, стала общемировым явлением.
2
Впрочем, сами себя они называли «идеологисты», а идеологами их потом стал презрительно называть Наполеон.
3
Кстати, унеся ноги из России, 20 декабря 1812 г. на заседании Государственного Совета Наполеон возложил вину за поражение именно на идеологов, которые, мол, навязывали народу свои туманные хитроумные концепции, вместо того, чтобы изучать уроки истории. Жаль, что наши идеологи не читают Наполеона.
4
Синергизм (или кооперативный эффект) – важное понятие, без которого трудно верно представить себе реальные процессы в природе и обществе. Оно означает такое взаимодействие факторов, при котором эффект намного превышает сумму эффектов от каждого фактора, если бы они действовали порознь. Каждый, кто мешал водку с портвейном, это знает на опыте («ерш» – один из важных и изучаемых наукой случаев синергизма).
5
Толчок к исследованиям Кропоткина дала лекция профессора Санкт-Петербургского университета К. Ф. Кесслера «О законе взаимной помощи», после чего он приступил к сбору фактического материала как из жизни животных, так и из человеческого общества.
6
Нечего и говорить, что ошибки и нарушения научных норм Пастера совершенно иное по сути явление, чем разгром генетики группой Т. Д. Лысенко, хотя имеется сходство в «инструментальном оформлении». Поступки Пастера – это реальность демифологизированной науки, отклонение от некоторых формально признаваемых норм. Действия Лысенко, напротив, представляли собой замаскированную под науку деятельность, отличную от науки в самых существенных основаниях.
7
Подробнее об этой важной проблеме можно прочитать в очень хорошей книге А. В. Ахутина [11].
8
Точные слова Даниила еще более определенны: «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени; многие прочтут ее, и умножится ведение» (Дан. XII, 4).
9
Мыслители и либерального, и консервативного толка сходятся в том, что процесс этой перестройки мышления был запущен протестантской Реформацией, которая положила начало философии Просвещения, «заменившей народные догматы индивидуальным разумом» (по выражению де Местра).
10
Как пишет философ-неолиберал Г. Радницки, «основаниями свободной жизни являются конституционное государство, капиталистическая рыночная экономика и автономная наука».
11
В противовес этому говорят об «одержимости временем», для которой характерен «грамматический» метод мышления – именно в естественном языке появились временные формы, в которых человек выразил ощущение времени. Иногда говорят даже (особенно в приложении к экономике), что «есть наука „числа“ и наука „слова“.
12
Изобретатель напряженного бетона и создатель современного метода расчета конструкций Э. Фрессне пишет в своих мемуарах, что его всегда удивляло, почему инженеры и подрядчики требовали от него и его сотрудников расчета прочности балок, колонн и т.д. вместо того, чтобы посмотреть на простые натурные испытания прочности – несравненно более надежные и простые. «В конце концов я понял, – пишет он – что в большинстве случаев я имел дело не с простыми идиотами, а с лжецами и манипуляторами, которые знали, что признать результаты испытания, сделанного в их присутствии, накладывает на них гораздо большую ответственность, чем признать результаты расчета. Они укрывались за броней уравнений, которые служили им тем надежнее, чем сложнее они были».
13
Кстати, наши демократы никогда не цитировали и продолжение мысли Ленина, мысли именно демократической. Он продолжал после согласия с кадетами и др.: «Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники».
14
При подготовке в 1991 г. законов о приватизации промышленных предприятий в СССР и РСФСР специалисты дали прогноз катастрофических последствий такого шага, который сбылся с удивительной точностью. Этот доклад, подготовка которого была поручена лично премьер-министром СССР, не был ни заслушан, ни прочитан, ни тем более опубликован.
15
Не будем останавливаться на том факте, что это – беспрецедентная экспроприация человечества, приватизация результатов всеобщего труда, совершенного в течение 20 тысяч лет. Патентование мизерного улучшения хромосом, созданных трудом тысячи поколений крестьян (в основном «третьего мира»), превращение семян в товар, производимый кучкой монополий, – шаг к глобальному фашизму «золотого миллиарда». Наивны уловки либеральных идеологов, которые делают вид, будто этого шага никто не замечает.
16
Мы здесь не рассматриваем те течения экономической мысли, которые развивались вне постулатов индустриализма. Это, прежде всего, школа А. В. Чаянова, который, по сути, заложил основы, если можно так выразиться, нехрематистичной политэкономии, исходя из иных постулатов, соответствующих экономике крестьянства. Он сам сравнивал этот шаг с делом Лобачевского, создавшего неевклидову геометрию.
17
Подготовленный Министерством экономики в соответствии с указом Президента РФ от 1 апреля 1996 г. (символическая выбрана дата!) «Проект государственной стратегии устойчивого развития Российской Федерации» – документ в жанре гротеска. Его несоответствие всему тому, что известно о проблеме, настолько вопиюще, что нельзя тратить место на его обсуждение.
18
Плодотворная и наглядная идея представления «внешних эффектов» как обладающих антистоимостью «антитоваров» принадлежит М. К. Берестенко.
19
О. Нойрат (O. Neurath, 1882-1945) – один из ученых, трудом которых строился мостик между экономикой и экологией. Он развивал подходы к экономическим расчетам «в натуре» и доказывал наличие несоизмеримости ресурсов хозяйства (причем несоизмеримости как синхронной, так и диахронной).
20
Несколько позже и независимо от Подолинского подобные данные для Пруссии и Австрии привел австрийский ученый Эдуард Захер (1834-1903). В 1880 г. возобновимые источники энергии – культурные растения, луга и деревья – составили в этих странах (на душу населения) 19 млн. ккал, а ископаемое топливо (уголь) 9 млн. [9, с. 89].
21
Работа Подолинского была быстро опубликована во французском, итальянском и немецком левых журналах.
22
Сегодня «творчески мыслящий марксист» А. Ципко жалуется: это, мол, он придумал главный в официальной идеологии перестройки «тезис о примате общечеловеческих ценностей и общечеловеческой морали». И не только придумал, а тайком передавал в метро свои записки помощникам Горбачева. Зря жалуется, история его не забудет. Но были, видимо, и другие источники, откуда Горбачев получал «тезисы».
23
Искусственный сдвиг массового сознания в сторону аутизма – часть современных технологий манипуляции, которой наши эксперты учились у старших товарищей из США. Президент Американского лингвистического общества Д. Болинджер заявил в 70-е годы: «Америка – это первое общество, которое добилось настоящего табу на все неприятное».
24
Изобрели этот абсурдный довод, видимо, в корпорации РЭНД, «мозговом центре» США – я впервые его услышал от представителя РЭНД в Москве г-на Азраила, когда на совместном российско-американском симпозиуме представил график с динамикой рождаемости и смертности в России. Но г-н Азраил постеснялся говорить явную чушь на людях, он подошел ко мне со своей теорией в перерыве, и когда я ему указал на ее полную нелепость, он мне мило улыбнулся (почти подмигнул) и больше «не возникал». На Западе это доказательство «демографического благополучия» России действует, мне еще раз с ним приходилось там столкнуться, но я никогда не думал, что эксперты осмелятся предложить этот гнилой товар в самой России.

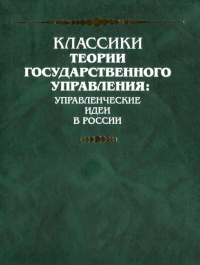




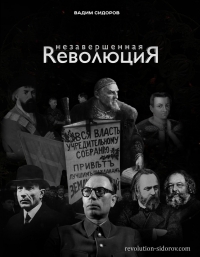
Комментарии к книге «Идеология и мать ее наука», Сергей Георгиевич Кара-Мурза
Всего 0 комментариев